Владимир Брюханов Заговор графа Милорадовича
Моим товарищам по защите Белого Дома России 19–21 августа 1991 года —
в память о несбывшихся надеждах«И все так же, не проще,
Век наш пробует нас —
Можешь выйти на площадь,
Смеешь выйти на площадь,
Можешь выйти на площадь,
Смеешь выйти на площадь
В тот назначенный час?!
Где стоят по квадрату
В ожиданьи полки —
От Синода к Сенату,
Как четыре строки?!»
Александр Галич. Петербургский романс. 22 августа 1968 годаПредисловие
В ХХ веке наша страна являлась полигоном для проведения самых разнообразных социальных экспериментов. Сейчас это как бы общепризнанный факт — независимо от того, кто и как относится к авторам экспериментов, к их мотивам и практике воплощения их идей. Между тем, далеко не столь общепринятым является понимание того, что все эксперименты проходили не только не на голом месте, но были как бы естественным развитием экспериментов, осуществленных в России много раньше.
В настоящее время в историографии дореволюционного периода в значительной степени продолжают господствовать легенды, созданные несколькими поколениями российской интеллигенции еще второй половины ХIХ и начала ХХ вв.
Наиболее характерной чертой тогдашних интеллигентов, до сего времени имеющих славу гуманистов и эрудитов, было их вопиющее невежество.
Знаменитый сборник «Вехи», вышедший в 1909 году, поразил тогдашнюю интеллигенцию обвинением ее в верхоглядстве. Многим это обвинение показалось незаслуженным и клеветническим. На самом же деле «Вехи» были значительно более сильным свидетельством всеобщего невежества, нежели предполагали сами авторы — высокообразованные Н.А.Бердяев, С.Н.Булгаков, М.О.Гершензон, А.С.Изгоев, Б.А.Кистяковский, П.Б.Струве и С.Л.Франк, поскольку неопровержимо демонстрировали дремучее невежество и самих авторов.
И «Вехи», и другие их произведения наглядно показывают, что никто из них не был даже знаком с идейным наследием ХVIII века — в противном случае эти критики революционного экстремизма легко бы нашли аналогии того же рода, что приводятся нами в нижеследующем ВВЕДЕНИИ к данной работе. Струве, например, прекрасно владел экономической историей России с самого конца ХVIII века, но мало что знал о более ранних временах; его экскурс в историю воцарения Анны Иоанновны, приведенный ниже, был для него нетипичным исключением.
Но среди политиков начала ХХ века были и подлинные эрудиты в российской истории — в том числе В.О.Ключевский, пытавшийся в 1905–1907 гг. подключиться к политике, а среди прочих — кадет П.Н.Милюков, меньшевик Г.В.Плеханов и большевик М.Н.Покровский. Все они претерпели жесточайший крах в своей практической деятельности. Эти примеры подчеркивают беспомощность тогдашних идеологов.
Никто, разумеется, не должен требовать от ученого историка маршировки по улицам во главе вооруженных отрядов или митинговой агитации, но хоть на разумные советы эрудитов можно было бы рассчитывать? Увы, ничего подобного ни от них, ни от нескольких десятков других великолепных историков тогда дождаться было невозможно.
Редкостное для него озарение посетило Милюкова лишь за неделю до Октябрьского переворота. Выступая в Совете Республики, Милюков сравнил Ленина с крупнейшим идеологом славянофилов И.В.Киреевским: «Дворянин Ленин — подлинный портрет дворянина Киреевского, когда утверждает, что из России придет новое слово, которое возродит обветшавший Запад и поставит на место старого западного доктринерского социализма новый социализм, направляющий действия голодающих масс, который физической силой заставит человека ломать двери социального рая».
Увы, к этому моменту сам Милюков полностью утратил политическое влияние, а образовательный уровень его слушателей просто не позволил им понять, о ком и о чем шла речь. Большинство газет, излагая это выступление, выпустили непонятное место, а присутствовавший американец Джон Рид по созвучию фамилий решил, что Милюков почему-то сравнил Ленина с Керенским.
Невежество тогдашних россиян — и образованных идеологов, и широчайшей публики — было не столько их виной, сколько бедой. В России относительно недолгие периоды либерализма и гласности постоянно прерывались полосой жесточайших преследований любой политической оппозиции: политики, действовавшие неправедно, не могли допускать разоблачений собственных деяний и собственных помыслов. Никакие блага свободы, дарованной сверху, не гарантировали их сохранения впоследствии, что настраивало наиболее скептичных россиян на мрачный лад.
Вот как, например, прокомментировал всеобщую эйфорию, охватившую дворян после убийства Павла I, посол в Лондоне граф С.Р.Воронцов в письме к сыну — известному позднее М.С.Воронцову: «Современное положение страны есть лишь не более чем временное облегчение от тирании, и наши соотечественники похожи на римских рабов во время сатурналий, после которых они опять становились рабами».
Подобная точка зрения была в ту пору достаточно распространенной. Примерно тогда же, в 1802 году, знаменитый реформатор российских законов М.М.Сперанский в записке, предварявшей начало этих реформ, констатировал: в России есть «два состояния: рабы государевы и рабы помещичьи. Первые называются свободными только в отношении ко вторым. Действительно же свободных людей в России нет, кроме нищих и философов».
Результатом отсутствия свободы и гласности и стала вопиющая историческая, а следовательно — и политическая безграмотность россиян, ибо не было возможностей для формирования прочной идейной и духовной преемственности.
Даже сегодня события двадцатилетней и даже десятилетней давности нередко остаются тайной за семью печатями — настолько прочно они были похоронены в свое время.
То же происходило и с различными общественными идеями: если они не были общеупотребительны, то через несколько лет от них не оставалось и следа; через десятилетия забывались и общеупотребительные.
Так в России было почти всегда: новое поколение начинало свое духовное формирование едва ли не на пустом месте, и по-иному быть не могло — предшественники не могли делиться собственным идейным наследием, т. к. это грозило вполне реальными репрессиями.
Вот несколько разнообразных примеров из далекого прошлого:
1) В конце царствования Екатерины II видные идеологи А.Н.Радищев и Н.И.Новиков едва не потеряли головы за деяния, которые не были бы расценены даже как проступки в начале того же царствования. За что они пострадали — тогда не знал почти никто, а сейчас знают очень немногие.
2) Вплоть до 1905 года в подцензурной печати невозможно было даже упоминать об обстоятельствах смерти Петра III и Павла I, а второй из них до момента своего восшествия на престол в 1796 году ничего не мог узнать о судьбе первого — его собственного отца, погибшего за 34 года до того.
3) Через несколько лет после казни декабристов юные Герцен и Огарев дали клятву хранить верность якобы пострадавшему в декабре 1825 года великому князю Константину Павловичу — получить более точные и достоверные сведения о прошедших событиях им было просто неоткуда.
4) В конце царствования Николая I к смертной казни (замененной каторгой и последующей солдатчиной) был приговорен один литератор (Достоевский) за то, что в кругу друзей зачитал вслух письмо другого литератора (Белинского) к третьему (Гоголю).
5) Почти за четыре десятилетия до 1917 года народоволец Н.А.Морозов высказывался против созыва Учредительного Собрания на основе всеобщего избирательного права, справедливо считая, что революционерам невозможно получить поддержки такого форума. Разогнать Учредительное Собрание, если оно не поддержит победивших революционеров, предложил и Г.В.Плеханов на Втором Съезде РСДРП в 1903 году — об этом в 1909 году напомнили авторы «Вех». Сторонники же Учредительного Собрания в конце 1917 года наивно игнорировали столь ясные, но забытые предупреждения.
Если этого мало, то можно продолжать до бесконечности.
В целом гражданские свободы всех классов и сословий России в течение полутора веков до 1917 года постепенно расширялись. Например, еще в декабре 1801 года право покупки земель было даровано и купцам, и государственным крестьянам — почти половине населения тогдашней России; дворяне имели его и раньше. В определенном смысле наши тогдашние соотечественники, о которых написаны приведенные строки Воронцова и Сперанского, имели больше прав, чем современные россияне — и на что же ушло два века?!
Но по-настоящему полная гласность в прессе практиковалась в России только с октября 1905 по начало 1917 года. Иностранцы поражались тому, насколько вольно вела себя российская печать даже во время Мировой войны, когда во всех демократических странах свирепствовала цензура. Тем более ужасной оказалась последующая катастрофа.
Перелом случился в феврале 1917, когда царское правительство в течение последних пяти дней своего существования препятствовало публикации сведений о событиях, происходивших в столице, совершенно дезориентировав, таким образом, общественное мнение читающей публики.
Сразу после падения царизма принудительным образом закрылись газеты Союза Русского Народа. Мало кто тогда понял, что это — начало конца свободного слова, а прежние читатели черносотенной «Земщины», за неимением более подходящего, переключились на «Правду».
С этого времени и выяснилось, что весь идейный багаж российских политиков, достигнутый в высокоинтеллектуальных спорах сторонников монистического взгляда на историю с адептами философского идеализма, не может сослужить им никакой практической службы. В годы, последовавшие за 1917, всех их оптом и в розницу отправили на свалку истории.
Трагедией тогдашних интеллигентов стали не только их незавидные судьбы. Еще большей и их, и нашей трагедией стало то, что все эти люди просто не поняли, что и почему с ними произошло. Это и предопределило исход их и отчасти наших жизненных путей.
Ничего не поняли ни изгнанники, бредущие по дорогам разоренной России, ни эмигранты в парижских бистро, ни узники лубянских подвалов. Никто из уцелевших и поведавших об испытанных ужасах не смог их объяснить и, главное, не имел оснований заявить, что когда-то мог все это предвидеть и боролся с предвиденной угрозой.
Наиболее яркое признание этой ситуации содержится, на наш взгляд, в письме известного историка, публициста и общественного деятеля, экс-министра исповеданий Временного правительства А.В.Карташева, написанном в самом конце 1917 года в каземате Петропавловской крепости (откуда ему позже посчастливилось выбраться, а спустя долгие годы умереть в Париже):
«Многие из нас во дни юности с недоумением воспринимали общую идею Л.Толстого в его «Войне и мире». Что люди не герои, а пешки; ими движет не их сознательная воля, а неведомая сила — это казалось нам пародоксом, резко противоречащим ежедневной действительности. В этой действительности все происходило так, как хотел министр внутр[енних] дел, губернатор и, наконец, частный пристав. С другой стороны, все неуклонно шло туда, куда вел профессор, публицист, политик, просветитель народа — интеллигент. Обе стороны достигали соответственных их условиям результатов. Никакой неведомой силы. Полное торжество планомерной работы сознательной воли. Так могло казаться в мирные будни нашей жизни.
Но вот настали катастрофические дни всемирной войны и затем — нашей революции. К этим явлениям закаленные теоретики устремились каждый со своей маленькой теорией и вытекающим из нее прогнозом или практической программой. И на глазах у всех, в краткий срок эти построения одно за другим рассеивались, как дым. Оконфузились все: статистики, экономисты, государственники, социологи, социалисты, даже военные авторитеты. Все выходило и выходит не так, как ожидали по выкладкам будничной науки и сознательного практического управления событиями. /…/
И всякому воочию теперь видно, что нет на земле мудрецов: ни королей, ни полководцев, ни канцлеров, ни политиков, кто знал бы когда, как окончится эта война и какие еще самые поразительные, самые невероятные последствия она за собой повлечет. Смирись, гордый человек, ты ничего не знаешь! Стихия жизни бездонно глубока и необразимо сложна. /…/
Человечеством управляет неведомое».
После таких резких и достаточно справедливых слов остается отбросить в сторону перо (в данном случае — компьютер) и отдаться на волю стихии. Удерживает только боязнь оказаться в одночасье в крепости, а более того — опасение, что другие тоже туда могут попасть; хочется хоть чем-то им помочь.
Поэтому мы все же попытаемся кое в чем разобраться.
К тому же, вопреки мнению Карташева, многое из того, что случилось в России в 1917 году и позже, можно было предвидеть заранее. И действительно были люди, способные на такое предвидение. Справедливость требует их назвать, и мы постараемся это сделать.
Таковыми, однако, никак нельзя считать победителей октября 1917 года, хотя все тогда происшедшее казалось не только результатом их практической политической борьбы, но и торжеством единственно верного научного учения. Увы, торжество оказалось недолговечным: уже в 1921 году им самим пришлось признать, что их великолепные доктрины решительно расходятся с проклятой реальностью — и отступить. Еще через пять-шесть лет это расхождение усилилось, и пришлось изрядному числу победителей проследовать в Соловки и Нарым, а через двадцать лет после 1917 года сгинули почти все — тоже ничего не успев понять ни перед арестом, ни перед смертью. Эти короли тоже оказались голыми, но рекламу себе создали столь громкую и славную, что их наследники постарались использовать ее в полной мере.
Единственно верное учение, замороженное и лакированное как ленинская мумия, оказалось в такой законсервированной форме невероятно живучим, уцелев даже после убийственных разоблачений 1956–1964 гг. Вот оно-то, увы, впервые за последние столетия и сформировало идеологическую преемственность, просуществовавшую уже почти век!
В основе ее историографической составляющей были все те же дореволюционные интеллигентские легенды — только с некоторым перекосом в сторону усиления роли «пролетариата» и его «революционного авангарда». Коммунисты, сменившие дореволюционных большевиков, захватили себе, на правах победителей, не только настоящее и будущее, но и прошлое страны.
История в их изложении выглядела бравым маршем: в 1896 году мы организовали забастовку в Петербурге, в 1917 — социалистическую революцию в России, а в 1945 спасли человечество от нацизма; теперь, если удастся выполнить нашу замечательную Продовольственную программу, мы, может быть, сумеем даже накормить Советский Союз. Если что не так, то мыне виноваты: большое и хорошее дело сделали, а, как известно, лес рубят — щепки летят…
С лета 1918 года точка зрения «Правды» оставалась единственной, имеющей право на существование, причем в строгих временных границах: нередко попытка исповедывать то, что еще несколько лет назад печаталось в «Правде», могла окончиться весьма плачевно для любителей следовать ортодоксии.
Объективные исторические исследования в коммунистическую эпоху не прекратились, но порядочным ученым приходилось отыскивать ниши и лакуны, не заполненные доверху всеобъемлющим единственно верным учением.
Увы или к счастью, но и коммунистический эксперимент завершился не очень здорово, хотя, на наш взгляд, поводов для уныния нет: в Анголе или Эфиопии жизнь сейчас намного хуже, чем в России — возможно потому, что многие наши ныне здравствующие соотечественники очень старались помочь и этим странам.
Поводов для уныния пока нет, но они могут появиться через полвека или век, если выяснится, что к тому времени жизнь в Анголе и Эфиопии станет все же лучше, чем в России.
Не пора ли, пока не поздно, позабыть о сладких сказочках и попытаться разобраться в том, что же случилось с нашей страной в последние века и почему?
Снова мы имеем гласность лишь с 1990–1991 гг.
Надолго ли?
Воспользуемся, однако, остающейся возможностью.
Прежнее нагромождение лжи и полуправды побуждает современных историков углубляться в частности и детали. Многообразие фактов, требующих корректировки принятых концепций, вполне оправдывает подобный подход. Между тем, в пересмотре нуждаются и сами основы основ прежних легенд, созданных задолго до Советской власти.
Еще в 1848 году однокашник А.С.Пушкина по Лицею барон М.А.Корф в предисловии к своей книге о событиях 14 декабря 1825 года высказался вполне по-современному: «Иностранцы, говоря о России, часто ошибаются даже и тогда, когда хотят [здесь и повсюду ниже выделение слов в цитатах принадлежит самим авторам оригинальных текстов — кроме особо оговоренных случаев] быть правдивыми, а русские писатели ограничены условиями, сколько необходимой, столько же и благодетельной в общественном нашем устройстве, цензуры. Притом, в событиях политических, частные лица знают, большей частью, только внешнюю сторону, одни признаки или видимое проявление предметов, так сказать только свое, тогда как в делах сего рода главный интерес сосредоточивается, часто, на тайных их причинах и на совокупности всех сведений в общей связи. Наконец, есть подробности, которые, таясь в неоглашенных государственных актах, или сохраняясь в личных воспоминаниях самих деятелей, недоступны для массы. От того все изданные доныне описания упомянутого периода времени или наполнены ошибками, пропусками, не редко и преднамеренными умолчаниями, или же повторяют вещи всем известные, с большими только или меньшими украшениями слога и фантазии».
Не принципиально, на наш взгляд, улучшилась ситуация и к настоящему времени, причем применительно не только к отдельным периодам (вроде того, который имел в виду Корф), но и ко всей российской истории последних веков.
Хотя сегодня нужно снять шапку перед профессионалами и энтузиастами, опубликовавшими и проанализировавшими за последние десять-пятнадцать лет огромную массу ранее сокрытых или забытых документов, но общая слабость современных конструктивных концепций снижает результаты их достижений: марксизм позорно ретировался, но оставил после себя нечто худшее, чем просто идеологический вакуум.
Величайшим достижением единственно верного учения остается то, что вдалбливаемые догмы сформировали устойчивый каркас фактов, которые почитаются важнейшими и непререкаемыми; все же остальное — мелочи, не заслуживающие серьезного внимания. В итоге все споры с единственно верным учением вынужденно происходят как бы на его территории, где коммунисты прочно обосновались как в отдельных уголках, так и на широчайших просторах исторических эпох. На самом же деле и самые «непререкаемые факты» — сплошь и рядом ложь и полуправда.
Коварное нападение Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года — один из таких «фундаментальных фактов», незыблемость которого не могла быть поколеблена ни при какой, казалось бы, идеологической ревизии. И тем не менее книги Виктора Суворова подорвали эту общепринятую догму!
Величайшей заслугой Суворова является то, что использованные им материалы давно и открыто опубликованы — только среди миллионов читателей он оказался первым, способным проникнуть в логику действительно объективных событий и скользких намеков и умолчаний. К сожалению, его рассуждения заметно теряют обоснованность и солидность, как только объект исследования оказывается за границами профессиональных знаний этого незаурядного мыслителя. По меньшей мере сомнительной представляется и главная цель, преследуемая им: реабилитировать от якобы незаслуженных упреков величайшего гения всех времен и народов товарища Сталина, обезглавившего накануне войны собственную армию, и, вместе с родным ведомством товарища Резуна, проспавшего-таки момент начала гитлеровского вторжения.
Однако все последующие серьезные попытки историков-профессионалов разобраться в истине путем целенаправленных архивных изысканий и логического анализа неопровержимо подтвердили наличие рационального зерна в открытиях Суворова. Еще более поучительно, что большинство критиков Суворова просто оказалось не способно отказаться от традиционно затверженных лозунгов!
И давно известные факты российской истории, и новейшие открытия сплетаются ныне в причудливом калейдоскопе, не обнаруживая не малейшей склонности к внутреннему логическому тяготению. Конечно, никакая логика не была нужна тогда, когда по страницам учебников истории гуляли такие персонажи как английский шпион Шамиль или агент гестапо Троцкий — столь же реальные, как дракон с девятью головами. Но и в новейшую эпоху ощущается четкое стремление вполне определенных кругов оперировать не логикой и фактами, а пропагандистскими клише. Сейчас намечается новый виток фундаментальной перекройки российской истории — все по тем же коммунистическим рецептам («История — опрокинутая в прошлое политика», — прекрасно сформулировал когда-то М.Н.Покровский), — но в угоду уже новейшим фантазиям идеологов.
Если в советские времена страницы истории заполнялись бесчисленными подвигами революционеров — от декабристов до сталинистов, то теперь в разряд положительнейших героев возводят их традиционных противников. В сущности, то же самое происходило и в исторических изысканиях послереволюционной эмиграции, а позднее — и в трудах историков-диссидентов. Но много ли нужно усилий, чтобы черное объявить белым и наоборот? Еще легче того заменить белым красное! Станет ли от этого история яснее и понятнее? Кому какая польза, если «доброго дедушку» Ленина заменит «добрый дедушка» Александр III или кто-нибудь еще?
Неужели не ясно, что политики, процветающие на своем поприще, не могут быть травоядными, а заведомо должны быть хищниками? Да и идиотом преуспевающий политик быть не может, а потому, если в истории России и присходили идиотские события (вроде 14 декабря 1825 года или 9 января 1905 года), то кто-то из весьма неглупых людей либо погрел на этом руки, либо, по меньшей мере, пытался погреть!
Все кто интересовался историей разведок, отлично знают, что величайшими разведчиками следует считать не тех, кто гормко провалился (вроде Р.Зорге или Фишера-Абеля), а тех, кто уцелел на своих постах, избежав разоблачения. В неменьшей степени это относится и к политическим заговорщикам. А между тем, если имена повешенных террористов и бунтарей на слуху у миллионов, то из подлинных руководителей заговоров некоторые даже просто не попали в исторические хроники, а если и сохранили известность, занимая особое положение и будучи личностями немалых масштабов, то своей деятельностью на совершенно ином поприще. Между тем, цели и идеалы этих невидимок, их хитроумные замыслы, победы и поражения, значительно важнее, интересней и поучительней, чем все похождения марионеток, плясавших под их дудочку. Открыть их имена и разобраться в их деятельности — задача невероятной сложности и тем большей увлекательности!
Основным объектом нашего исследования является российское революционное движение — совершенно уникальное явление, беспрецедентное по размаху, продолжительности и безрезультатности. Оно длилось целое столетие.
Завершением, понятно, стала революция 1917 года, а начало, по некоторой иронии судьбы, произошло почти ровно за век до того: в канун 1817 года члены тайного общества «Союз спасения» высказали намерение к цареубийству.
В сюжетах этого начального периода не было такой уж особой важности, тем более, что тогда все ограничилось одними разговорами в узком кругу. К тому же Н.П.Огарев, критикуя первое публичное издание упомянутой книги Корфа в 1857 году (сначала было два «закрытых» издания — только для членов царской фамилии; традиционное классическое отношение к гласности!), справедливо отметил: «за этой мыслью не нужно даже было ходить в Европу и искать ее во французской революции и немецких тайных обществах: само правительство приучило Россию хладнокровно смотреть на нее. Тогда еще живо было в памяти не только беззаконное, но награжденное убийство Петра III и вероломное убийство Иоанна Антоновича; а убийство императора Павла совершилось почти что на глазах людей, участвовавших в заговоре 14 Декабря. Что мудреного, что мысль о цареубийстве из дворцовой семейной хроники перешла в тайное общество?»
Однако Огарев тут же разъяснил, что хотя сама мысль о цареубийстве и не была оригинальной, «но то, что эта мысль явилась не в династическом, дворцовом интересе, а в интересе гражданского развития народа», стало принципиальной новизной. С такой оценкой нужно согласиться, хотя понимание и декабристами, и самим Огаревым интересов гражданского развития народа было достаточно своеобразным — но об этом ниже.
Разумеется, на протяжении последних столетий нечто похожее происходило и в Европе — от упомянутых Огаревым Франции и Германии ХVIII-ХIХ веков вплоть до современной Северной Ирландии. Но там коварные политические заговоры и террористические злодейства либо выдыхались в течение коротких промежутков времени, либо ограничивались весьма локальными территориальными масштабами. Ведь нужно же согласиться, что Россия — не Сербия, не Ольстер и не Страна Басков, а поэтому, при всем уважении к названным (а также и другим) странам и регионам, политическая борьба в ней имела и имеет существенно большее значение для судеб мира и гораздо более поучительна.
Неудивительно поэтому, что в последние годы не иссякает интерес и исследователей, и читателей к тайнам, сопровождавшим деятельность и революционеров, и их противников. В свое время, в двадцатые годы двадцатого века, и в Советском Союзе, и в эмиграции была опубликована масса воспоминаний и исследований на эту тему. Ныне многие из них переизданы, а иные, во всяком случае, доступны в библиотеках для современных профессионалов. В сочетании с новейшими архивными изысканиями и аналитическими разработками это создает весьма обширную информационную базу, хотя и по сей день еще многие архивы заперты благодетельной цензурой от независимых исследователей.
Беда только в том, что за деревьями, как это нередко случается, по-прежнему не видно леса, основательно прореженного коммунистической прополкой. Да и вырубать-то было, повторяем, нетрудно: ведь даже непосредственные участники и свидетели прошедших событий мало что усвоили. Не слишком преуспело, на наш взгляд, и большинство современных авторов. Между тем, как показывает пример В.Суворова, российская история не столько не написана, сколько просто еще не прочитана: фактов — изобилие, а логики нет. К истории революционного движения это относится ничуть не в меньшей мере, чем к преддверию событий 22 июня 1941 года.
Поэтому автор предлагаемой работы и взялся за свой труд, искренне надеясь не только и не столько осветить темные моменты, но и вывести всю проблематику исследования истории революционного движения за рамки традиционной и насквоь лживой легенды о непримиримой борьбе революционеров и правительства.
Нами не ставилась задача подробного исследования и освещения российской истории, предшествовавшей 1817 году, однако полностью отказаться от этого не было возможности: целесообразно было уяснить общие тенденции исторического процесса в России, сохранявшиеся в течение всего рассматриваемого периода, а также и до и после него. Кроме того, невредно было разобраться в обстановке, сложившейся к моменту возникновения революционного движения, определившей мотивы деятельности наших героев.
Рассматривая хитросплетения российской политической борьбы, невозможно обойтись без хотя бы краткого анализа связанных с ними социально-экономических процессов.
Как и абсолютное большинство россиян старшего поколения, автор этих строк воспитан в марксистских канонах, но не ностальгические воспоминания о юности и не дань ушедшей моде заставляют прибегать к традиционному подходу.
Трезвый экономический подход стал действенным инструментом анализа социально-политических явлений еще до Маркса, и не Марксу, Энгельсу и Ленину принадлежат вершины достижений этой отрасли науки. Наоборот — именно канонизация трудов этих незадачливых теоретиков (гениальность Ленина как политика-практика остается вне всяких сомнений!) в течение долгих времен мешала хладнокровному разбору особенностей российской и советской истории. Теперь это можно и нужно исправить.
Проблемы, с которыми Россия входит в новое тысячелетие, сложились еще в ХVIII столетии.
Это не банальное повторение достаточно распространенного взгляда, что грехи человеческие восходят к Адаму и Еве. Нет, это констатация вполне конкретных тенденций развития российской социально-экономической реальности.
И на уровне политических ощущений в этом также нет ничего нового и оригинального: еще в 1918 году бывший марксист, а затем один из главных теоретиков кадетской партии П.Б.Струве высказывался, например, следующим образом:
«Владимир Ильич Ленин-Ульянов мог окончательно разрушить великую державу Российскую и возвести на месте ее развалин кроваво-призрачную Совдепию потому, что в 1730 году отпрыск династии Романовых, племянница Петра Великого, герцогиня курляндская Анна Иоанновна победила князя Дмитрия Михайловича Голицына с его товарищами-верховниками и добивавшееся вольностей, но боявшееся «сильных персон» шляхетство, и тем самым окончательно заложила традицию утверждения русской монархии на политической покорности культурных классов пред независимой от них верховной властью. Своим основным содержанием и характером события 1730 г. имели для политических судеб России роковой предопределяющий характер».
Не разделяя оценку, данную Струве событиям 1730 года (об этом — ниже), согласимся с тем, что эпоха, предопределившая российскую будущность, указана здесь с большой хронологической точностью. Прав Струве и в том, что с 1730 года вплоть до падения царизма конфликт между последним и оппозицией, до самого начала ХХ века возглавляемой дворянством, действительно был основой всех происходивших политических событий.
Содержание первого тома посвящено классическому сюжету истории революционного движения: заговору и восстанию декабристов, охватывая, главным образом, события 1817–1826 гг.
Предваряя основное изложение нашей хроники, начнем с обзора ситуации, сложившейся за предыдущее столетие. При этом мы сознательно уйдем от вопроса, как и почему Россия была такой, какой она пришла к началу ХVIII века — иначе действительно придется углубиться в проблемы если не Адама и Евы, то, по крайней мере, периода падения Римской Империи и зарождения раскола единой христианской церкви.
Все даты в книге приведены по старому стилю, принятому в России до февраля 1918 года; события международной жизни обычно датированы двойным образом.
ВВЕДЕНИЕ От Петра до Павла: гонки на карусели
Все реформы в России за последние триста лет происходили по совершенно сходному сценарию: сначала — военное поражение, демонстрирующее глубину военно-технической отсталости России, затем — реформа, призванная ликвидировать эту отсталость. Так было со времен разгрома Петра I под Нарвой и вплоть до провала Советского Союза в Афганской войне и в гонке вооружений с Соединенными Штатами.
Петру досталась страна, пребывавшая в течение нескольких предшествующих веков в добровольной и достаточно прочной изоляции от Западной Европы. Торговые связи, поддерживаемые через Архангельск, особой роли не играли, а немногочисленные иностранцы, добиравшиеся до центра России, никаких просветительских задач не решали, да им этого и не позволяли. Ближайшие соседи на западе и северо-западе — Швеция и Речь Посполита — были уже традиционными противниками; их интересам также никак не соответствовало проникновение в Россию новейших технологий. От южных морей Россия была отрезана враждебной Турцией, взявшей на себя главенство и над остатками татарских завоевателей.
Последствия изоляции оказались более чем плачевными: достаточно указать, что, например, первая домна была построена в Европе в 1443 году, а в России — не ранее 1636 года. Чистых двести лет отставания!
Петр понял, что его поражение под Нарвой — вовсе не случайность и не только гнусные происки внутренних и внешних врагов (как постарался представить дело его великий предшественник Иван Грозный, оказавшись в аналогичной ситуации). Не имея в руках современной военной техники и не освоив ее тактического применения, невозможно было надеяться на успех в борьбе со Швецией — одной из самых передовых и сильных тогдашних европейских держав.
Реформы Петра, вполне заслуженно прозванного Великим, отличались глубиной и коварством замыслов, неуклонной волей и жестокой решимостью при исполнении. Начались они с неслыханных по масштабам акций промышленного шпионажа.
Самолично обшарив Западную Европу, организовав там эффективнейшую деятельность собственных эмиссаров и резидентов, завербовав множество перебежчиков и агентов влияния и используя взаимные противоречия западноевропейских правительств, Петр проник во все секреты западной технологии и обзавелся кадрами, способными внедрять их в России.
В конце жизни Петр считал свой успех невероятной удачей и отказывался понимать вопиющую глупость европейцев, явно не оценивших, какого врага они взрастили на собственную голову — это вовсе не вольная трактовка с нашей стороны, а действительно мнение самого Петра, неоднократно им высказанное.
Авангардом петровских преобразований стало дворянство, только в небольшой степени состоявшее из старой знати. Тогдашний служилый класс был плоть от плоти детищем прежнего режима: сами с рождения привычные к зуботычинам и унижениям, дворяне оставались корыстолюбивыми, беззастенчивыми и жестокими служаками, готовыми унижать и попирать налогоплательщиков, а ради сиюминутных благ лихо рисковать и собственными, и, главным образом, чужими жизнями. Петровское дворянство было рекрутировано изо всех сословий российского народа, и к концу царствования Петра представляло собой весьма внушительную силу — суммарное число их самих и членов их семейств достигало около 2 % численности всего населения.
Всю мощь этого аппарата Петр подчинил задаче создания новейшей промышленности, судостроения и содержания гигантской армии, также подвергшейся коренной модернизации. Затем дополнительно была поставлена задача строительства новой столицы и прочих укреплений на завоеванной территории.
Прямые военные расходы в 1701 году достигли почти 80 % тогдашнего государственного бюджета, и никогда позже не поднимались до такой рекордной отметки!
Зато и достижения Петра оказались впечатляющими: выход к Балтийскому морю, который до сих пор умудрилась сохранить Россия, и новая столица, по сей день остающаяся одним из красивейших городов мира. Эти достойные памятники Петру и позволили успешно скрывать до нашего времени, что вся деятельность Петра завершилась грандиозным и чудовищным крахом. А все дело оказалось в цене, которою Петр заставил собственный народ оплатить эти баснословные успехи.
А.С.Пушкин писал про Петра I: «все состояния, скованные без разбора, были равны пред его дубинкою. Все дрожало, все безмолвно повиновались».
«Не все ль неволею сделано?» — горделиво вопрошал сам Петр в одном из позднейших декретов. Действительно, все было сделано неволей — и притом самой страшной.
Одной единственной дубинки, которой царь самолично лупил встречных и поперечных, было, конечно, недостаточно.
При Петре каждый государственный служащий был буквально рабом вышестоящего начальника, а представители низших слоев населения, вроде бы не имеющие никакого отношения к государственному аппарату, были в полной личной зависимости от любого представителя власти. Насильственной мобилизацией была собрана не только беспрецедентно огромная армия (ее численное превосходство стало решающим фактором в Полтавской битве), но и фабричный контингент уральских заводов и других многочисленных предприятий новейшей промышленности. Мало того, даже руководство этих фабрик было невольниками государства в гораздо большей степени, чем через два века их преемники — «красные директора».
Добившись впечатляющих военных успехов, Петр столкнулся с совершенно неразрешимой проблемой: государству было не по карману содержать столь громадную армию — она более чем втрое превышала предельную норму, какую могли выдержать европейские государства в XVIII веке — 1 % численности населения. Демобилизовать же ее оказалось невозможно.
В Западной Европе тогда были общеприняты наемные войска. На время войны государи, запасясь соответствующими денежными средствами, нанимали такую армию, какую им и позволяли эти средства. На постоянной службе находились только высококвалифицированные профессионалы, составлявшие костяк армии военного времени. Но даже и среди последних многие владетельные господа в мирные дни удалялись в собственные замки, освобождая казну от необходимости их содержать. В военное время было принято вербовать солдатские массы и путем упомянутого наема, и обещанием военной добычи, и патриотической пропагандой, и попросту насильственно. В последнем случае используемое пушечное мясо было, конечно, наименее надежным. Удобство, однако, состояло в том, что при прекращении войны основная часть войска возвращалась к своему постоянному бытию, от которого отвлекалась только на время. В России все это оказалось невозможным.
Петр мобилизовал все ресурсы, установив беспрецедентную систему принуждения. В частности, большинство деревенских жителей, не исключая и сельских священников, приписали к ближайшим поместьям (в отношении священнослужителей это было вскоре исправлено), принудив их содержать дворянина, также пребывавшего на службе, в порядке общеобязательной государственной повинности.
Нужно обладать невероятным цинизмом или глупостью, чтобы утверждать, что крестьяне могли придти в восторг от подобных перемен. Пополнять же ряды крепостных демобилизованными квалифицированными солдатами, прошедшими через кровавые битвы, было просто невозможно: они бы в пух разнесли всю эту систему насилия — особенно, если бы их лишили привычной системы армейского довольствия.
К каким ужасающим разрушительным последствиям может приводить неуправляемая демобилизация огромной армии — это России предстояло испытать осенью 1917 года. Но и много раньше это было очевидно всякому здравомыслящему человеку.
Армию, таким образом, необходимо было сохранять. Но государственных средств катастрофически не хватало. Это привело к следующему экстравагантному решению: в конце царствования Петра страна была поделена на территории, отданные в распоряжение отдельным воинским частям. Последние должны были взять на себя сбор налогов, а также самоснабжение, не зависящее от центрального государственного аппарата, на основе принципов действия оккупационной армии, захватившей чужую враждебную страну.
Любой русский солдат мог сапогом распахнуть дверь любого российского жилища и безропотно получить пищу, ночлег и женщину. Отпор мог дать лишь начальник более высокого ранга, оказавшийся внутри — и тут уж горе самоуправщику! Впрочем, по внешнему виду российских жилищ было трудно впасть в ошибку.
Зверская политическая ломка, осуществленная Петром, не подвергалась в последующие века объективной оценке и осуждению в должных масштабах. Критика петровского режима стала лишь уделом отдельных исторически образованных мыслителей. Так, например, известный российский философ и идеолог Г.П.Федотов писал в парижской эмиграции в 1927 году: «Сейчас мы с ужасом и отвращением думаем о том сплошном кощунстве и надругательстве, каким преломилась в жизни Петровская реформа. Церковь ограблена, поругана, лишена своего главы и независимости. Епископские кафедры раздаются протестантствующим царедворцам, веселым эпикурейцам и блюдолизам. К надругательству над церковью и бытом прибавьте надругательство над русским языком, который на полстолетия превращается в безобразный жаргон. Опозорена святая Москва, ее церкви и дворцы могут разрушаться, пока чухонская деревушка обстраивается немецкими палатами и церквами никому не известных календарных угодников, политическими аллегориями новой Империи. Не будет преувеличением сказать, что весь духовный опыт денационализации России, предпринятый Лениным, бледнеет перед делом Петра. Далеко щенкам до льва».
Между тем, параллели между петровским и большевистским режимами должны рассматриваться не эмоционально, а конкретно и содержательно. Этого по сей день не потрудились сделать российские историки. Еще бы: одни специалисты занимались социально-экономическими особенностями царствования Петра I, а совершенно другие — «военным коммунизмом» 1920–1921 гг., причем в недавние времена — в условиях жесточайшей цензуры, которой подвергалась информация о самых крупных и нелепых провалах коммунистического строительства. А ведь и Петр I, и Ленин с Троцким и Сталиным действовали в совершенно сходной обстановке и принимали абсолютно аналогичные решения.
Большевики тоже в начале 1920 года пришли к решительной победе над непосредственными военными противниками (хотя чуть позже выяснилось, что политические осложнения с Польшей и вовремя не захваченные Крымские перешейки затянули крупные военные действия еще почти на год) и тоже столкнулись с необходимостью демобилизации огромной армии, созданной жесточайшей принудительной мобилизацией.
О Петре большевики ничего толком не помнили — как и положено по российским традициям, зато хорошо знали негативный опыт своих предшественников, просчеты которых совсем недавно постарались обратить себе на пользу, захватывая государственную власть в 1917 году. Поэтому вместо демобилизации в 1920 году они стали переводить Красную армию на трудовой фронт: восстановление железных дорог, рудников, шахт и заводов, пришедших к этому времени в полный упадок, а также на самоснабжение — непосредственную сельскохозяйственную деятельность, а главное — на усиление принудительной реквизиции продовольствия у крестьянства.
Интереснейшей и позже тщательно скрываемой особенностью этого периода, названного существенно позднее (подчеркиваем это!) военным коммунизмом, было то, что его создатели и идеологи совершенно искренне считали его самым настоящим коммунизмом, обещанным всему человечеству в качестве светлого и вечного будущего! Летом 1920 года, в условиях тотального развала финансовой системы, готовился даже декрет о полной и окончательной ликвидации денег!
Вся затея с коммунизмом окончилась крахом, встретив решительное сопротивление населения, в том числе — тех же трудоармейцев (не путать трудоармейцев 1920–1921 гг. со ссыльными немцами, которых с 1941 года именовали так же!). Коммунизм оказался не постоянным, а временным, а потому и приобрел стыдливую и лживую кличку военного. Последовавшая с 1921 года вынужденная демобилизация армии существенно подорвала монолитность режима и закрепила (хотя тоже, как оказалось, временно) компромисс между коммунистическими властями и населением, получивший название НЭПа.
В.И.Ленин, просто не пережил этого краха, а его полнейшая политическая растерянность в последние месяцы жизни вполне очевидна. Менее очевидно то, что в это время он подвергся фактически бойкоту и изоляции со стороны всех прежних соратников, не исключая собственной жены. В обоснованность его советов уже никто не верил, и абсолютно никому не интересно было выносить их наружу. Ему буквально завязывали глаза и затыкали рот — отсюда и все перипетии с его так называемым «Завещанием», где он со своей стороны постарался всех облить грязью.
Влияние Л.Д.Троцкого — второго по значимости большевистского вождя 1917–1921 гг. — падало пропорционально сокращению численности Красной армии, которой он командовал, и снижению ее роли. Сам он утратил и авторитет, и собственную веру в победу, и волю к политической борьбе, которую он впредь вел с бестолковостью и упорством сломанного механизма.
Только беспринципным карьеристам и оппортунистам во главе со Сталиным все оказалось нипочем, хотя для сохранения собственной власти им пришлось очень и очень потрудиться!
Постепенно было признано, что коммунизма человечеству не видать (и слава Богу!), но об этом многие десятилетия не разрешалось писать и говорить вслух.
А ведь все это можно было предвидеть заранее, если не понаслышке, а по существу знать историю Петра I.
Петровский режим тоже привел Россию к полному разорению. Этот факт тщательно замалчивался всей послепетровской официальной пропагандой — очень красочное проявление российской специфики!
У Петра не было ни Освенцима и Треблинки, ни Лубянки и ГУЛАГа, но он прекрасно обходился и без таких эффективных учреждений: численность российского населения сократилась за годы его правления почти на четверть! Нечто подобное периодически случалось в России и в более древние времена, но после Петра такими достижениями не мог похвастать ни один из кровавых властителей!
Массами гибли мобилизованные на строительство новой столицы в болотистой дельте Невы, истреблялись солдаты в беспрерывных войнах, умирало население от голода и эпидемий во всех концах разоренной России. Мирные труженики, отданные во власть ничем не стесняемой оккупации и грабежа, не могли и не хотели восполнять своим трудом возникший дефицит всех материальных ресурсов.
К 1725 году государство полностью обанкротилось: недоимки податей за 1724 год достигли одного миллиона рублей (при девяти миллионах расходной части бюджета), а за две трети 1725 года (т. е. сразу вслед за смертью Петра) дошли до двух третей исчисленного оклада!
Сама армия, переведенная на самоснабжение, могла действовать только на хорошо населенной территории. Поэтому попытки перейти через малолюдные степи, лежащие южнее России (вот так непреодолимое препятствие!), кончались полным провалом, и пробить выход к незамерзающему Черному морю не удавалось вплоть до последней четверти ХVIII века.
Петровская индустриализация, построенная на варварском принуждении работников всех уровней, захлебнулась — люди не выдерживали ее темпов. Потребительский рынок, способный инициировать производство промышленных товаров, был парализован — нищета населения снизила покупательные способности до минимума. На долгие годы установился промышленный застой.
Несколько по-иному сложилась судьба отечественной черной металлургии. Как и коммунисты через два века, Петр направил на эту отрасль особый нажим — и добился впечатляющих успехов. В 1725 году домна, запущенная на Нижнетагильском заводе Н.Демидова, была крупнейшей в мире! А еще через десяток лет Россия по объемам выплавки чугуна уже вышла на первое место в мире и удерживала его вплоть до начала XIX века — недостижимая мечта товарища Сталина! Беда в том, что в условиях общего застоя в самой России не было потребности в таком количестве металла. Доменному производству угрожала подлинная гибель, но выручила международная торговля.
Дешевый чугун, выплавленный мужиками, прикрепленными к уральским казенным заводам, экспортировался в Англию, где использовался в как раз происходившей промышленной революции.
Умер ли пятидесятитрехлетний Петр 28 января 1725 года естественной смертью или стал жертвой злодеяния — в любом варианте деятельность этого прославленного «реформатора» завершилась для России отнюдь не преждевременно.
Аналогия с Владимиром Ильичем более чем очевидна — и тот, и другой имели полную возможность убедиться в крахе собственных начинаний!
В 1718 году Петр казнил своего наследника-сына, 5 февраля 1722 года издал указ, позволяющий монарху самому назначать себе преемника, сам же умер, не успев назначить никого. Вплоть до царствования Павла I это обрекло Россию на произвол в престолонаследии и почти беспрерывные государственные перевороты.
Непосредственные преемники Петра столкнулись с ужасающими проблемами.
Нищета государства и его подданных была поразительной. Государственные чиновники годами не получали жалования (знакомая картина!), а его размеры заведомо не могли покрывать потребностей основной массы служащих, даже если бы его регулярно выплачивали! Каждый воровал где и как мог (хотя пойманного ждали ужасные кары!), закладывая традиции государственного управления, действующие по сей день, но это не могло разрешить все проблемы страны.
Разумеется, дефицитные материальные ресурсы порождали и жесточайшую борьбу за их обладание. И, конечно, это принимало формы заговоров и политических интриг, проигравшие в которых кончали свои жизни под пытками и на плахе, в лучшем случае — в ссылке куда-нибудь в Соловки или на Приполярный Урал. Лишь позже, когда материальное благосостояние привилегированных слоев заметно окрепло, смягчилась и политическая практика: Елизавета Петровна, взойдя на трон в результате заговора, расправилась со своими соперниками, но затем дошла даже до официальной отмены смертной казни.
Правление Екатерины II началось с убийства ее мужа — Петра III. Через два года жестокая расправа обрушилась на инициаторов освобождения из Шлиссельбургской крепости бывшего императора Ивана Антоновича — предшественника Елизаветы Петровны, формально царившего в младенческом возрасте, а с тех пор томившегося в неволе; при попытке освобождения он был убит. Но уже та же Екатерина, разоблачив новый заговор, созревший через десяток лет после ее собственного коварного государственного переворота, и вовсе обошлась без расправ.
Какой же выход из экономической пропасти нашли российские власти ХVIII века? И на этот вопрос есть очень естественный и вполне современный ответ: конечно, приватизацию!
Частная собственность на землю имелась в России и до XVIII века: это были вотчины, принадлежавшие потомкам старой знати — князей и бояр. На этой земле жили и крестьяне, находившиеся в крепостной зависимости от помещиков и лишенные права свободного перемещения, — такая форма отношений существовала когда-то и в феодальной Европе. При Петре подобных настоящих лендлордов было достаточно немного — в 1700 году всего 136 фамилий, состоящих из 330 лиц (Петр любил точность!), но в совокупности они обладали весьма значительной земельной собственностью и правили изрядным числом крепостных.
Петр постарался сформировать постоянную связь между дворянами, составлявшими верхние слои служащих его государственной системы, и крестьянами, которых он рассматривал как служащих нижнего уровня. В том же 1700 году таких новоявленных помещиков было только 2849 фамилий из 14711 лиц — это было самым началом создания нового класса (почти по М.Джиласу, не подозревавшему, что описывает явление, хорошо известное в истории!), и в дальнейшем их число стремительно возрастало.
В 1722 году Петр ввел Табель о рангах, придав строгий иерархический порядок всем чинам — военным, штатским и придворным; всякий служащий, достигший определенного уровня, автоматически становился дворянином. Эта мера узаконила присвоение дворянского звания всему верхнему слою соратников Петра. К концу его царствования подавляющее большинство из них получило в свое распоряжение населенные поместья.
Учитывая значительную численность дворянства, а также и то, что из остальных 98 % населения порядка только половины было при Петре обращено в крепостных (крепостного права, например, вовсе не было ни на севере Европейской России, ни за Уралом), нужно отметить, что с самого начала наделение дворян населенными землями происходило неупорядоченно и неравномерно.
При Петре все это сочеталось с упомянутой прямой военной оккупацией. На практике крестьян грабил каждый, кто мог, и так сильно, как только мог. Этим, в сущности, и объясняется главная тяжесть наследства, оставленного Петром.
Радикальными реформами, последовательно осуществленными во второй и третьей четвертях ХVIII века, крестьян, приписанных к определенным дворянам, передали последним в полную собственность: вот это была приватизация — так приватизация! При этом не было издано никакого указа, позволяющего помещикам торговать своими крепостными как частной собственностью, но такая торговля на практике полностью вошла в быт — о, эти замечательные особенности российского «права»!
Решающую роль сыграло законодательное уничтожение разницы между вотчинами и поместьями в 1731 году. В 1735 году помещичья власть усилилась разделением функций: крестьян обязали платить государственные налоги, основу которых составляла подушная подать, а помещиков, формально свободных от налогов, — эти подати собирать. В 1736 году помещики получили право самостоятельно определять наказание беглым крепостным.
К этому времени прежняя численность дворян и членов их семейств, прикрепленных к поместьям, от 15 тысяч в 1700 году выросла до 64,5 тысяч в 1737. Теперь их всех сделали не временными помещиками, а постоянными!
Это нововведение произошло при Анне Иоанновне, справедливо заслужившей неодобрительный отзыв П.Б.Струве, и было закреплено и углублено ее преемниками. В 1758 году вышел указ, обязывающий помещика наблюдать за поведением своих крепостных, а в 1760 году помещики получили право бессудной ссылки крепостных в сибирскую каторгу.
Общегосударственные проблемы были разделены на множество частных, которые были переложены на плечи дворян. Каждый из последних должен был разбираться с собственными заботами сообразно своим вкусам и сообразительности.
Привлечение такой частной инициативы поначалу полностью себя оправдало: с 1701 по 1801 год государственный бюджет вырос в 25 раз. Возросла эффективность не только сельского хозяйства, основой которого стало помещичье имение, но и промышленности: застой, воцарившийся в последние годы жизни Петра, сменился неуклонным ростом.
Наполнение казны позволило перевооружить армию и организовать для нее нормальную систему снабжения, а военные расходы, относительно снизившись (с указанных 80 % бюджета до 45–50 % во второй половине ХVIII века), возросли настолько, что позволяли уже содержать постоянную армию и в мирное время. Русская армия обрела мощь и превратилась в один из решающих военных факторов на континенте. Встал на ноги (если можно так выразиться) и российский флот.
Екатерина II, правившая в 1762–1796 гг., была главой государства, после полувекового перерыва снова способного возродить эффективную завоевательную политику и одновременно воздвигать новые города, строить фабрики и дороги.
Но нет добра без худа: Россия, в буквальном смысле слова завоевав солидный авторитет, приобрела и кредитоспособность. Если Елизавета Петровна тщетно пыталась получить займы за границей, то Екатерине уже не отказывали, и результаты получились соответственные. К тому же в 1798 году Россия была вынуждена взять на себя внешние долги завоеванной Польши — оборотная сторона успешной захватнической политики. В итоге к концу XVIII века задолженность по внешним долгам достигла приблизительно 10 % российского годового государственного бюджета!
Постепенно и помещики освобождались от обременительных обязанностей государственной повинности: в 1736 году один член каждого семейства получил право открепиться от службы — чтобы иметь возможность лично управлять поместьем, а срок службы всем остальным ограничивался двадцатью пятью годами.
18 февраля 1762 года Петр III полностью освободил дворян от обязательной государственной службы — благодарные подданные тут же свернули ему шею!..
С самого начала появления помещиков в своих имениях они столкнулись с совершенно очевидным саботажем со стороны крестьян. Оброк (главным образом в денежной форме, хотя из поместий в городские господские дома доставлялось немало и натуральных продуктов) был единственно возможным способом извлечения доходов, пока помещики в первой трети ХVIII века пребывали вдали от поместий. Объявившись в имениях, они стали бороться с нерадивостью рабов.
Во второй половине века господствующей формой ведения хозяйства стала барщина: сочетание труда крестьян на своих полях с трудом на помещичьих, которые либо создались конфискацией части крестьянской земли, либо имелись у помещиков изначально — у немногих представителей старинной знати. Естественно, что инициатива внедрения барщины принадлежала прежде всего малоимущим помещикам, с самого начала испытывавшим наибольшую нужду в средствах.
Заметим, что барщинный тип хозяйства был воссоздан в ХХ веке: сочетание труда на колхозных полях с трудом на приусадебных участках стало основным принципом функционирования колхозов.
Но и труд крестьян на барщине не мог удовлетворить помещиков: «Ленивые и к плутовству склонные крестьяне при сих урочных работах многие делают пакости, а именно: когда пашут, то стараются сделать недопашку и завалить ее пластом или рыхлою землею, когда сеют, то зерна мечут непорядочно, и делают обсевки на которых местах хлеб уже не родится и бывают прогалины. Во время полотья и жнитва очень много втаптывают в землю хлеба так, что плутовства их и распознать невозможно. Чего ради при сих работах ежечасное надлежит иметь за ними смотрение», — писал в 1770 году известный «агроном» П.И.Рычков.
Разумным способом поднятия трудового энтузиазма было бы сокращение крестьянской запашки и увеличение барщинной — именно так рассуждал Н.С.Хрущев, ликвидируя приусадебные участки и тем самым по существу завершая коллективизацию советского сельского хозяйства, на что не достало сил у Сталина. Так же, разумеется, посчитали и в ХVIII веке.
Первый план полной коллективизации сельского хозяйства принадлежал не Ленину или кому-либо из его современников, и не основоположникам марксизма, а был опубликован в 1770 и 1773 гг. управляющим Царским Селом Федотом Владимировичем Удаловым.
Согласно этому проекту, предназначенному для управления казенными селениями, низовой ячейкой сельского хозяйства должно было стать производственное звено во главе со звеньевым — как и было сделано через полтора столетия. Для этой ячейки Удалов применил традиционное название — «тягло», существенно изменив его общеупотребительный смысл — под этим термином обычно подразумевалась супружеская крестьянская пара, ведущая самостоятельное хозяйство. Аналогичным образом и звеньевой или бригадир получил у Удалова наименование «хозяин», которое, разумеется, имеет в обиходе совершенно иное предназначение. Итак:
«1. /…/ определить земледельцов по тяглам для лучшей способности в работах и житья в одном дворе, на целое или полное тягло мужчин и женщин работных от 17 и до 65 лет, каждого пола по шести: из тех шести мужчин одному в тягле быть хозяином, а малолетних до 17 и престарелых от 65 лет и свыше, обоего пола, которые с теглецами будут одного семейства, тех всех счислять при том же тягле.
2. Земли на полное тягло определить во всех угодьях шестьдесят десятин, которой при том тягле быть без переделу вечно /…/.
3. Когда определено будет на тягло известное число работников и земли, то надобно определить известное число и скота; а по числу людей и земли в тягле надлежит иметь 6 лошадей, 12 коров, 12 овец, 6 свиней /…/.
4. /…/ а чтоб оное положение в непременном порядке всегда сохранялось, то должно при каждой подушной переписи оба пола работных, землю и скот свидетельствовать /…/.
18. Самовольные мирские сходы, какие прежде бывали, за бесполезностью впредь отменить /…/.
25. Потому, что хозяин в тягле имеет полную власть, то уже необходимо должен он за все непорядки и ответствовать, под лишением своего звания; а ежели кто из тяглых мужчин или женщин по многим от хозяина увещаниям и по неоднократным наказаниям будет ему преслушен, и окажется в новых непорядках, того хозяин может, объявя сотскому и управителю из своего тягла без награждения и доброго свидетельства выключать /…/, а выключенных, яко неспособных к земледелию, отдавать в солдаты, или в горную работу, с зачетом в рекруты, а в другие тягла принимать их не должно, дабы чрез сие не подать способа беспутным ленивцам в весь свой век из тягла в тягло переходить, а женщин выключенных, если они будут безмужние, отдавать на прядильные дворы и на фабрики.
/…/ У десяти тягол для необходимых надобностей должно быть по одному кузнецу, колеснику и саннику безоброчно», — и т. д.
Как видим, это классическая сельскохозяйственная коммуна, какие усиленно насаждались, начиная с 1918 года, а затем, в эпоху уже сплошной коллективизации, сменились менее коммунистической и более либеральной формой принуждения — сельскохозяйственными артелями. Россия, покрытая повсеместно сетью удаловских коммун (если бы это стало возможным) несомненно превратилась бы в настоящую коммунистическую державу!
Комплексный план учитывал все детали сельского быта и предусматривал буквально все потребности — включая необходимость использования детей для сбора колосков после уборки урожая. Во времена детства автора этих строк «Пионерская Правда» буквально надрывалась на данную тему, имея в виду, как и Удалов, сбор в пользу хозяйства, а не в свою собственную, за что, как известно, полагалось тюремное заключение!
Были у Удалова и ошибки, вызванные его недостаточным практическим опытом внедрения колхозного движения. В том числе он считал предпочтительным формировать производственные звенья из близких родственников; практика же 1930–1933 гг. показала, что в этом случае слишком мягок диктат над работниками со стороны руководства самого нижнего уровня, что усиливало «кулацкое сопротивление» колхозному труду.
Судьба великих пионеров в России незавидна — нет вот и памятника Удалову посреди Манежной площади, и не только ему — практически все российские теоретики и практики коммунизма ХVIII века (Федор Эмин, М.М.Херасков, Ф.И.Дмитриев-Мамонов, В.А.Левшин, М.Д.Чулков и другие, кроме достаточно известного М.М.Щербатова) начисто обойдены отечественной и мировой историей!
А ведь насколько было бы полезней, если бы Ленин и другие великие мыслители, заглянув в зеркало, могли бы увидеть на своих плечах эполеты петровской и екатерининской эпох!.. Да и не пропали бы зазря великолепные прозрения крепостников, а коммунистам не понадобилось бы заново изобретать велосипеды!..
Теоретические разработки Удалова, широко известные среди его современников, не получили общероссийского практического внедрения по единственной, но вполне весомой причине: Пугачевщина показала, что на эти темы шутить не стоит!
Но жизнь нельзя остановить, а потребность в колхозах сохранялась.
Если до 1762 года труд крестьян на помещиков объяснялся как бы государственной повинностью тех и других, то позже эта новая традиция лишилась всяких юридических основ.
Легко представить, какое впечатление это произвело на современников. Знаменитый историк В.О.Ключевский заметил, что по логике вещей на следующий день после 18 февраля 1762 года нужно было ждать освобождения крестьян, и ядовито заключил, что оно действительно произошло на следующий день — только через 99 лет!
Нестерпимость подобной ситуации в России ХVIII века была сразу осознана, причем прежде всего — на самом верху.
В 1832 году П.Я.Чаадаев высказал мнение, получившее затем значительную популярность: «правительство у нас всегда впереди народа».
В 1839 году В.Г.Белинский, увлекавшийся тогда гегелевской формулой «все действительное разумно, все разумное действительно», придал чаадаевскому мнению страстно-поэтическую и напыщенную интерпретацию: «Ход нашей истории обратный в отношении к европейской: в Европе /…/ всегда была борьба и победа низших ступеней государственной жизни над высшими /…/; у нас совсем наоборот; у нас правительство всегда шло впереди народа, всегда было звездою путеводною к его высокому назначению; царская власть всегда была живым источником, в котором не иссякали воды обновления, солнцем, лучи которого, исходя от центра, разбегались по суставам исполинской корпорации государственного тела и проникали их жизненною теплотою и светом. В царе наша свобода, потому что от него наша новая цивилизация, наше просвещение, также как от него наша жизнь. /…/ безусловное повиновение царской власти есть не одна польза и необходимость наша, но и высшая поэзия нашей жизни, наша народность /…/» — сам «неистовый Виссарион» уже через год стыдился этих своих строк, что, впрочем, очень характерно для него.
В 1836 году Пушкин придал чаадаевскому тезису значительно более трезвую и содержательную трактовку (к которой мы будем неоднократно возвращаться), написав в неотправленном черновике письма к тому же Чаадаеву: «правительство все еще единственный Европеец в России (и это несмотря на все то, что в нем есть тяжкого, грубого, циничного). И сколь бы грубо (и цинично) оно ни было, от него зависело бы стать сто крат хуже. Никто не обратил бы на это ни малейшего внимания…» Можно спорить о том, насколько эта характеристика распространима на все последующие российские правительства (вплоть до нынешнего), но бесспорно, что для времен Екатерины II она полностью применима.
Екатерина, дама решительная и цивилизованная, сразу сочла сохранение рабства нерациональным. Она начала с весьма недвусмысленной пропагандистской кампании.
В 1765 году по ее инициативе было создано Вольное Экономическое Общество к поощрению в России земледелия и домостроительства. 1 ноября 1766 года неизвестный доброжелатель (предположительно — сама императрица) ассигновал Обществу 1200 дукатов на проведение конкурса для ответа на вопросы: является ли выгодным для государства, чтобы крестьянин владел землей или чтобы он владел только движимым имуществом? И до каких пределов должна распространяться эта собственность для пользы государства?
Сама постановка вопросов ясно показывала, что крестьянин-земледелец признается основополагающим элементом российского народного хозяйства — это было фундаментальным официальным тезисом на все оставшиеся времена существования царского режима. Напрасно интеллигенция XIX и начала ХХ века возмущалась «наивной» верой крестьянских масс в покровительство и защиту со стороны самодержавия!
Победителем конкурса в 1768 году был провозглашен некий Bearde de l’Abaye — «доктор прав церковных и гражданских в Акене». Со ссылкой на позитивный и негативный зарубежный опыт этот автор доказывал, что благосостояние государства весьма выигрывает, если крестьянин самостоятельно трудится, владеет пахотной землей и всем имуществом. Отсюда по необходимости следовала отмена крепостного права, каковую автор предлагал осуществить не немедленно, а постепенно — награждая свободой наиболее трудолюбивых крестьян. Помещиков и владельцев мануфактур автор успокаивал тем, что свободные крестьяне будут охотнее трудиться на помещиков и предпринимателей, чем подневольные.
Последний тезис нашел некоторый отклик у наиболее богатых латифундистов. Так, князь Д.А.Голицын писал в 1770 году: «Каждый из нас в частности очень выиграет от этого изменения, и /…/ напротив, пока существует крепостное право, Российская империя и наше дворянство, предназначенные к тому, чтобы быть богатейшими в Европе, останутся бедными. К тому же, как мы иначе образуем третье сословие, без которого нельзя льстить себя надеждою создать искусства, науку, торговлю и проч.?» В целом же дворянство скептически отнеслось к подобной агитации. Что же касается надежд на третье сословие, то они весьма потускнели в более поздние времена — после Великой Французской революции.
Но Екатерина не ограничилась агитацией в печати. Она собрала для обсуждения этой проблемы нечто вроде парламента; депутатов туда выбирали все сословия, кроме крепостных. Официально он назывался «Комиссией об Уложении» и формально был призван реформировать устаревшие законы еще Соборного Уложения 1649 года — также продукта деятельности депутатского собрания, не созываемого с тех пор более века (очень любопытная циклика!).
Екатерининский парламент с большой помпой открылся 30 июля 1767 года зачтением «Наказа» Екатерины, в котором (помимо всяческих соображений на разнообразные темы) достаточно ясно призывалось к отмене крепостного права. Реакция депутатов обескуражила царицу: из четырех сотен депутатов на ее призыв положительно откликнулось лишь двое-трое.
Почти все депутаты, кроме дворян, и так имеющих это право, потребовали и себе возможность владеть крепостными.
Что касается дворян, то князь М.М.Щербатов и его единомышленники дружно высказывались не только за сохранение рабства, но и призывали лишить другие сословия права иметь фабрики и заниматься коммерческой деятельностью! Даже эти привилегии дворяне хотели обеспечить только себе и своей системе рабских предприятий.
Самым классическим примером такой системы было село (ставшее затем городом) Иваново, принадлежавшее Шереметевым; все производство и вся торговля в этом крупнейшем центре осуществлялись графскими крепостными, среди которых было и немало богатеев. О подобных, в частности, упоминала и Екатерина в «Наказе»: «Они закапывают в землю свои деньги, боясь пустить оные в обращение, боятся богатыми казаться, чтобы богатство не навлекло на них гонений и притеснений».
Положение тогдашних крепостных миллионеров иногда было просто плачевным. Вот как об этом пишет, например, один из них — предприниматель 1820-х годов В.Н.Карпов: «мы с отцом платили помещику оброка свыше 5000 руб[лей] асс[игнациями, имевшими в то время колеблющийся курс — порядка раза в два ниже рубля серебром] в год, а один крестьянин уплачивал до 10 000 руб.
Казалось бы, при таких распорядках состоятельным крестьянам следовало бы откупиться от помещика на волю. Действительно, некоторые и пытались это сделать, но без всякого успеха. Один крестьянин нашей слободы, очень богатый, у которого было семь сыновей, предлагал помещику 160 000 руб., чтобы он отпустил его с семейством на волю. Помещик не согласился. Когда через год у меня родилась дочь, то отец мой вздумал выкупить ее за 10 000 руб. Помещик отказал. Какая же могла быть этому причина? Рассказывали так: один из крестьян нашего господина, некто Прохоров [— основатель знаменитой Прохоровской мануфактуры] имел в деревне небольшой дом и на незначительную сумму торговал в Москве красным товаром. Торговля его была незавидная. Он ходил в овчином тулупе и вообще казался человеком небогатым. В 1815 г. Прохоров предложил своему господину отпустить его на волю за небольшую сумму, с тем, что эти деньги будут вносить за него, будто бы, московские купцы. Барин изъявил на то согласие. После того Прохоров купил в Москве большой каменный дом, отделал его и тут же построил обширную фабрику. Раз как-то этот Прохоров встретился в Москве с своим бывшим господином и пригласил его к себе в гости. Барин пришел и не мало дивился, смотря на прекрасный дом и фабрику Прохорова; очень сожалел, что отпустил от себя такого человека и дал себе слово впредь никого из своих крестьян не отпускать на свободу. Так и делал», — вот она, Россия!..
Чтобы эта длинная цитата стала понятней, укажем, что в те времена жалование провинциального мелкого чиновника (нередко — дворянина) обычно составляло от 4 до 10 рублей в месяц, и на эти деньги при собственном домике и огородике можно было содержать семью отнюдь не впроголодь, даже не имея никаких крепостных.
В отличие от не названного по имени владельца Прохорова и Карпова, некоторые другие не были столь корыстолюбивы и завистливы. Например, как-то к отцу великого революционера Н.П.Огарева явились крепостные принадлежавшего ему села Беломута с предложением отпустить их на волю за баснословную сумму. Один из них давал только за собственный выкуп 100 000 рублей серебром. Но барин брезгливо отказался от денег и предпочел оставить крестьян себе, гордясь тем, что среди его подданных есть и миллионеры. Вот это — подлинное дворянское благородство! Ниже мы покажем, что сам Огарев по части благородства не слишком уступал собственному отцу.
Некоторым миллионерам повезло — тому же Прохорову или С.В.Морозову. Последний, начав карьеру рядовым ткачем, основал свою фабрику еще в 1797 году, а в 1820 году уговорил своего владельца отпустить его на волю «всего» за 17 тысяч рублей. До 1861 года и Шереметевы постепенно выпустили на волю более пятидесяти капиталистов, получив за каждого по 20 тысяч рублей выкупа в среднем — итого больше миллиона. Но иным предпринимателям пришлось ждать свободы вплоть до 1861 года.
Один из таковых, хлебный торговец П.А.Мартьянов, накануне 1861 года был полностью разорен своим владельцем — графом Гурьевым. Отказавшись от мысли восстановить свое дело, Мартьянов уехал в 1861 году в Лондон и примкнул к Герцену и Огареву. Разочаровавшись и в них, Мартьянов вернулся в 1863 году в Россию, но за свои статьи в «Колоколе» был присужден к каторге; заболев на этапе, умер в 1865 году в Иркутске.
Разумеется, судьбы миллионов обычных крепостных — отнюдь не миллионеров! — были не лучше, но именно трагедии самого активного и предприимчивого слоя русского народа наиболее ярко характеризуют чудовищность тогдашнего положения народных масс…
Вернемся, однако, к Екатерине и ее парламенту.
Под предлогом войны с Турцией заседания этого парламента в декабре 1768 года были свернуты, а парламентские эксперименты были возобновлены лишь более чем через век — в 1905–1907 гг. Печальный исход данного начинания имеет для современной истории едва ли не большее значение, чем разгон Учредительного Собрания в январе 1918 года.
Пугачевщина — гражданская война, ненамного уступавшая по масштабам борьбе 1917–1922 гг., должна была резко вмешаться в любые результаты деятельности екатерининского «парламента».
Возможно, что если бы Екатерина допустила еще большее расширение и углубление крепостничества, как того и требовали «депутаты», Пугачевщина имела бы еще более ожесточенный характер. При этом разногласия в «культурных классах», неспособных поделить между собой лакомые куски, могли стать непримиримыми (антагонистическими!), и тогда падение династии Романовых было бы более вероятным. Кто знает, не был бы исход, аналогичный событиям 1917 года, полезнее для России, если бы произошел на полтора века раньше? Но все это уже из области гадания, в которую мы постараемся не погружаться.
Тогдашняя гибкость и изворотливость Екатерины повели Россию по иному пути — тому самому, каким она следует и по сей день.
Итак, российские крестьяне восстали — почти сразу, как только поняли смысл происшедших перемен: мелкие вспышки возмущений возникали по всей России с самого 1762 года. Вера в защиту и покровительство царицы-матери обоснованно пошатнулась, и на сцену не замедлил явиться подлинный крестьянский царь, роль которого не без таланта сыграл Емельян Иванович Пугачев. Осознная несправедливость стала и мотивом, и движущей силой Пугачевщины, разразившейся в 1773–1775 гг. Манифестом 31 июля 1774 года Пугачев провозгласил ликвидацию крепостного права и призвал к поголовному истреблению дворян.
В тогдашней гражданской войне правительство победило. Но и впредь готовность мужиков силой постоять за себя и своих близких стала естественным ограничением произволу, официально установленному в России, — ниже мы к этому вернемся.
Поражение освободило Пугачева от необходимости выполнять свою удивительную политическую программу: он обещал отменить налоги и в то же время взять чиновников на полное государственное обеспечение. Впрочем, попытки ее воплощения и, как следствие, полный развал экономики в тылу восставших ускорили гибель Пугачева. Последнего подстерегла иная судьба, нежели позже большевиков, хотя и он, и большинство вождей Октября 1917 в конечном итоге завершили жизненный путь одним и тем же — стали жертвами пыток и казней!
Отметим, что параллели между пугачевцами и большевиками не ограничиваются общностью их личных судеб. Хорошо известеным совпадением были начальные фазы обеих революций — массовые антипомещичьи погромы. Но гораздо полезнее сравнить стратегии революционных властей на пике их успеха.
Пугачев, провозгласивший отмену крепостного права, развалил тем самым и всю уральскую промышленность, рабочие которой немедленно оставили подневольное производство и разошлись по собственным приусадебным хозяйствам, каковые у них имелись тогда в достаточно приличных размерах.
«Декретом о земле» Ленин тоже объявил помещиков вне закона, а затем, проведя в декабре 1917 «национализацию», ликвидировал и банки, и частный капитал, и тем самым избавил промышленность и от капиталистических методов управления, и от управленческого аппарата. В итоге к лету 1918 все заводы позакрывались, торговать было нечем, а рабочие стали безработными. А ведь российская промышленность, несмотря на хищническую борьбу рабочих за повышение зарплаты и сокращение рабочего дня, с самого февраля 1917 поощряемую «социалистическими» властями, функционировала к концу 1917 года еще более или менее сносно!
И Пугачеву с его сатрапами, и Ленину со своими в результате хотя и идеологически оправданных, но опрометчивых действий только и оставалось затем отнимать припасы у крестьян, чтобы кормить и себя, и собственных сторонников.
В число последних при большевиках входила масса городского населения, включая и рабочих с закрытых предприятий, и служащих всех уровней — не исключая дворян вроде Ленина, а также и евреев, что многими почиталось и почитается как самое важное! (Позволим себе хулиганский вопрос: может быть Пугачеву для победы не хватило именно евреев?!) Существенно, что эта публика ни по сути, ни в большинстве даже формально не была коммунистами и не придерживалась никаких особых коммунистических идеалов. Просто почти всех горожан, особенно в крупных индустриальных центрах, ликвидация промышленности и торговли обрекала на голодную смерть. Достаточно, например, указать, что в центральном аппарате Наркомпрода, осуществлявшего руководство всей практикой изъятия и распределения продовольствия на всей советской территории, в январе 1920 года из 2996 служащих, целиком занимавших все современное здание ГУМа в Москве, коммунистов было только 29 человек — менее 1 %! Эти-то в основном беспартийные бюрократы, старые и новые, и осуществляли так называемую диктатуру пролетариата, а на самом деле — чистейшую пугачевщину!
Притом вся сельская Россия (имеются в виду территории, подчиненные соответственно Пугачеву и Ленину, а не их противникам) по существу превращалась в одно-единственное имение, подчиненное диктаторскому аппарату — как это практически было, впрочем, и при Петре I!
Отметим также, что в разных исходах двух гражданских войн сыграл важнейшую роль чисто географический фактор: большевики, развалив российскую экономику не менее решительно, чем Пугачев, сохранили, однако, контроль над наиболее развитым центром России. Пугачев же действовал на практически тех же самых окраинах, которые в 1918 году достались белым, где создать эффективный тыл действующей армии было, естественно, значительно труднее. После того, как были разграблены и уничтожены помещики, оставался лишь грабеж тех самых крестьян, ради интересов которых якобы и велись военные действия. Это подрывало и идеологические основы движения, с чем также столкнулись большевики, едва не утратив поддержку крестьянства в 1918–1920 гг.
Дворяне были главными действующими лицами одной из сторон в обеих гражданских войнах, но в XVIII и ХХ веках им достались противоположные половины все той же шахматной доски!..
Пугачевщина сплотила дворян вокруг верховной власти, к которой до этого, ввиду либеральных поползновений Екатерины, не было должного доверия.
Прямо накануне Пугачевщины был предан одним из участников, П.В.Бакуниным, заговор, в котором состояли виднейшие вельможи братья графья Н.И. и П.И.Панины, фельдмаршал князь Н.В.Репнин и даже знаменитая президент Российской Академии Наук княгиня Е.Р.Дашкова. Душой заговора был Д.И.Фонвизин — известнейший идеолог и писатель, дядя одного из будущих руководителей декабристов. Состоял в заговоре, как и положено было, наследник престола — великий князь Павел Петрович. Целю заговора было свержение императрицы и введение представительного правления — исключительно из дворян.
Учитывая напряженнейшую политическую ситуацию, Екатерина простила заговорщиков, тут же включившихся в борьбу против восставшего крестьянства. Разумеется, это нужно поставить Екатерине в заслугу: понятно, как на ее месте действовали бы Иван Грозный, Петр Великий или Сталин — именно с учетом напряженной политической обстановки. Не простила Екатерина только своей невестке — первой жене Павла Наталии Алексеевне (ох уж эти женские страсти!): по слухам, последнюю отравили или каким-то другим способом лишили жизни.
Впоследствие поневоле создавшийся союз был закреплен реформами 1775 и 1785 гг., разделившими власть в уездах и губерниях между назначаемыми правительством главами администрации и выборными представителями дворян. По сути, это стало реализацией требований, разработанных заговорщиками — Фонвизиным и другими, но с двумя существенными поправками. Во-первых, в случае разногласий решающее слово оставалось за администрацией, а не за дворянскими собраниями и выборными дворянскими предводителями. Во-вторых, не был создан центральный общероссийский дворянский парламент — т. е. и Екатерина последовала решению, за которое Струве упрекал Анну Иоанновну и за которое в неменьшей степени можно упрекнуть Елизавету Петровну. Верховная власть целиком оставалась в царских руках, что совсем нетрудно понять после неудачного эксперимента 1767 года.
Характерно, что А.С.Пушкин расценил эту традицию диаметрально противоположно по сравнению со Струве: «Аристокрация после его [Петра I] неоднократно замышляла ограничить самодержавие; к счастию, хитрость государей торжествовала над честолюбием вельмож, и образ правления остался неприкосновенным. Это спасло нас от чудовищного феодализма /…/. Если бы гордые замыслы Долгоруких и проч. [— включая П.М.Голицына, упомянутого Струве, ] совершились, то владельцы душ, сильные своими правами, всеми силами затруднили б или даже вовсе уничтожили способы освобождения людей крепостного состояния, ограничили б число дворян и заградили б для прочих сословий путь к достижению должностей и почестей государственных», — это написано молодым Пушкиным еще в 1822 году; позже он, увы, покинул ряды противников крепостного права.
Екатерина впредь на крепостное право не замахивалась и даже шла крепостникам навстречу, распространив его в 1783 году и на Украину — вот когда, наверное, украинские мужики пожалели, что вовремя не поддержали Пугачева!.. На протяжении всего ее царствования и при последующем правлении Павла I дворян продолжали награждать, отдавая им в собственность селения до того свободных хлебопашцев.
Последнее десятилетие правления Екатерины характерно всеобщим политическим застоем и ее собственной болезненной нетерпимостью к малейшей критике.
Итак, как и в США в это же время, в России установился рабовладельческий режим, до сих пор, однако, стыдливо именуемый крепостническим.
Аморальность подобных режимов вне обсуждения. Если допустить существование кары Божией (к чему автор этих строк относится вполне серьезно), то США до сих пор расплачиваются за корыстолюбие былых плантаторов вполне современными межрасовыми конфликтами. Для России же последствия крепостного права оказались, как мы покажем, еще более пагубными.
Как и в США, где имелись юридически свободные чернокожие, в России имелись селяне, свободные от помещиков, но подчиненные чиновничьему управлению — государственные крестьяне. К концу третьей четверти ХVIII века их оставалось менее половины сельского населения.
В отличие от США, в России в рабстве оказались люди своей же расы, — не сочтите это замечание оправданием допустимости рабства в отношении иных рас! Как и в США, рабами стали единоверцы рабовладельцев, и, как в США, церковь не оказывала этому сопротивления.
Да и о какой возможности сопротивления могла идти речь в России, если Петр рассматривал священников как государственных служащих, а во главе Синода поставил кавалерийского капитана?! Екатерина II, секуляризировав в 1764 году монастырские земли, полностью покончила с былой материальной независимостью православной церкви от государства.
Режим узаконил правовое неравенство помещиков и крестьян. С середины ХVIII века пропасть между ними углублялась все сильнее. Правовое неравенство усиливалось и различием культуры.
Дворянство культурно прогрессировало — от невежд типа фонвизинского Недоросля до интеллигенции XIX века, лучшие представители которой заслуженно вызывали восхищение европейских интеллектуалов. Заметим, справедливости ради, что такого уровня, как у современников Пушкина и декабристов, уже не удавалось в столь значительном числе достичь последующим поколениям дворян, постоянно разбавляемых полуобразованными выходцами из менее культурных слоев. Одновременно происходила и частичная деградация дворян, прозябавших в скудеющих поместьях или в служебной рутине, а иногда и сознательно противопоставлявших себя любым веяниям прогресса: «истинно русский неученый дворянин» — так горделиво именовал себя граф А.А.Аракчеев.
В то же время крестьянство в значительной степени сохраняло быт и нравы допетровской Руси. Этому феномену немало способствовала традиционная политика властей и помещиков, заинтересованных в сохранении невежества как эффективнейшего инструмента поддержания покорности населения.
Вот как об этом писал, например, уже цитированный Рычков: «весьма надобно и должно, чтоб управители и приказчики в каждом селе и во всей деревне, по самой меньшей мере одного человека знающего читать и писать содержали, и, выбирая от лучших мужиков робят мужеска полу от 6 до 8 лет, велели б учить грамоте и нужнейшим по христианской должности молитвам, а как окажутся из них понятнее и надежнее, тех обучать и письму; однако столько, чтоб в деревне, сто душ имеющей, писать умеющих крестьян более двух или трех человек не было; ибо примечается, что из таких людей научившиеся писать знание свое не редко во зло употребляют, сочинением фальшивых паспортов и тому подобного». Позже крепостники 1830-1840-х годов, выступая под знаменами славянофильства, провозгласили вопиющее невежество русского крестьянства в качестве несравненного его морального превосходства!..
Разумеется, чисто пропагандистским трюком всех крепостнических времен было оправдание бесчеловечности режима якобы всеобщим благом всего народа. Будто бы благом для крестьян стало и их превращение из граждан (хотя, разумеется, в условиях ХVII и ХVIII веков вовсе не свободных в современном значении этих слов) в чью-то частную собственность!
Но отчасти это действительно оказалось благом, т. к. помещики, получив людей в собственность, обрели и материальную заинтересованность в сохранении и умножении этой собственности, и режим безжалостного грабежа и беспощадного насилия сменился для крестьян «всего лишь» принудительным рабским трудом!
Помимо доброй воли помещиков, крестьян с 1734 года охраняли и государственные законы: при неурожаях помещик был обязан заботиться о крепостных. В случае конфликтов между ними, власти, понятно, редко принимали крестьянскую сторону, но в тех ситуациях, когда помещик производил определенные преобразования, требующие юридического вмешательства или посредничества властей, последние были вынуждены руководствоваться и буквой, и духом законов.
Крепостнический строй, установившийся к середине ХVIII века, действительно оказался прогрессивным явлением и шагом вперед — но лишь по сравнению с предшествующим петровским режимом. Крестьяне, превратившись в частную собственность, избавились одновременно от роли постоянной жертвы повсеместной агрессии и посягательств.
Помещик в ту пору для них стал действительно защитой и отцом родным — если сравнивать с пришлыми грабителями. В тридцатые-пятидесятые годы ХVIII века, на заре классического российского крепостничества, крестьяне нередко действительно жили с помещиками душа в душу. Последние иногда даже вооружали своих подданных, чтобы совместными силами отражать набеги соседних помещиков и иных лихоимцев. Во второй четверти ХVIII столетия Россия, таким образом, единым махом перескочила из мрака всеобщего государственного рабства (типа древнеегипетского или вавилонского) в свет раннего европейского средневековья; что говорить — величайшее достижение!..
Тягчайшая эксплуатация, переходящая в разбой, которой в течение предшествующих веков подвергалось российское население, не позволяла мужикам буквально поднять головы (а также другие части тела). Поэтому с начала ХVI по середину ХVIII века общая численность российского населения колебалась в пределах 6,5 — 20,0 млн. человек, неизменно снижаясь в периоды внешних и внутренних кризисов. Последнее убывание приходится на царствование Петра I. Позже подобное явление вовсе не наблюдалось (даже и в советские времена, если верить замечательной отечественной статистике): все потери, даже самые ужасающие, в кратчайшие отрезки времени компенсировались высокой рождаемостью.
Стабилизация экономического порядка в ХVIII веке позволила стабилизировать и демографический рост. Дополнительную роль сыграли и иные факторы, прежде всего — включение картофеля в рацион питания россиян, что первоначально было встречено достаточно консервативным сельским населением крайне враждебно. Но для нас тогдашние бытовые подробности не столь важны (в отличие от социально-экономических) — все-таки стиль жизни изменился с тех пор до неузнаваемости. Фактом остается то, что в середине ХVIII века численность российского населения впервые перевалила за 20 млн. и продолжала стремительно возрастать.
Вот как выглядит эта динамика:
1724 год — 13,0 млн.
1744 — 18,2
1762 — 23,2
1795 — 37,2
1811 — 41,7
1815 — 43,1
1857 — 59,2.
Как видим, даже тягчайшие военные испытания 1812–1814 гг. существенно не притормозили столь впечатляющую тенденцию.
Правда, в последней трети ХVIII века начала стремительно возрастать и территория, захваченная Россией у соседей. Численность населения, поэтому, увеличивалась и за счет насильственного присоединения новых подданных — именно тогда захват восточнопольских территорий, в значительной степени населенных евреями, породил и еврейский вопрос в России.
Но подобный прирост играл все же не решающую роль: и в пределах старой территории, какой Россия постоянно располагала в 1725–1762 гг., численность населения выросла к 1815 году до 30,5 миллионов — в два с половиной раза менее чем за век, а к 1857 году — до 48,7 млн., т. е. почти в четыре раза менее чем за полтора века. Вот этот-то фактор и остался неучтенным инициаторами введения крепостничества в России!
Крестьяне, прикрепленные к поместью, оказались для дворян совсем не такой выгодной собственностью, как могло показаться и как действительно казалось другим сословиям, домогавшимся в начале царствования Екатерины права владеть крепостными. Тогда подобное мнение было практически всеобщим, тем более, что подушная подать, суммарно механически возрастая с ростом численности населения, стала основным средством наполнения казны. «Умножение земледельцов не только для помещиков, но и для всего государства важнейшим пунктом почитается, а к сему ничто больше не может способствовать, как благовременная женитьба молодых людей, умеренный их деревенский труд и не оскудное содержание», — писал Рычков.
Увы, помещику было хорошо лишь тогда, когда крепостных было много, а земли в их распоряжении — еще больше. Если же земли было невдосталь, то по закону крепостные садились помещику на шею — их нужно было кормить, а откуда брать средства?..
Можно было продавать людей без земли на вывоз — передавать в руки помещиков, по-пионерски осваивающих незаселенные территории на юге, отвоеванные у соседей, но власти не очень поощряли подобную торговлю. Да дело было не только во властях: в принципе легко было бы торговать «мертвыми душами», как пытался делать Чичиков, но крайне опасно отрывать живых людей от дома, от близких родственников, от родных могил и вообще от родины!
Законы — законами, но, при отсутствии согласия с мужиками, помещик вполне мог получить топором по голове, и некоторые действительно получали. В массовом же масштабе это грозило новой Пугачевщиной. Поэтому на Дон, в Сибирь и на другие окраины продолжели стремиться относительно свободные государственные крестьяне, если имели силы и средства, а также традиционные беглецы от помещиков. В Сибирь же ссылались и преступники; законопослушные же крепостные оказались неподходящим контингентом для переселений.
Владелец мог сам организовать расселение крестьян на новые земли, предварительно обзаведясь последними (путем приобретения или получив в дар от казны), но для переселения требовались опять же самостоятельные средства, имеющиеся далеко не у всех. К тому же и церкви, будучи государственными учреждениями, возникали в новых местностях со значительными задержками — это тоже порождало множество проблем.
Экономическая практика с середины ХVIII по середину ХIХ века заставила заметить и осознать важнейший фундаментальный факт, что свободные рыночные отношения крайне негативно сказываются на благополучии всех помещичьих хозяйств — как образцово-показательных колхозов, так и поместий с любыми архаичными формами эксплуатации.
До нашего времени при описании быта старой России неизменно извлекается на свет легенда, что тогда преобладающей или хотя бы широко распространенной формой экономики было натуральное хозяйство, находящееся на полном самообеспечении. Это относится как к помещичьим, так и к крестьянским хозяйствам — достаточно обратиться хотя бы к теоретическим изысканиям В.И.Ульянова (тогда еще не Ленина) в конце ХIХ века. Увы, это глупая, наглая и вредная ложь: в России, уже начиная с ХVI века, не было ни одного налогоплательщика, ведущего натуральное хозяйство.
Дело в том, что уже тогда государственный сбор налогов был полностью и окончательно (вплоть до ранних советских времен) переведен в денежную форму. Следовательно, чтобы уплатить налоги, каждый налогоплательщик был обязан продать какой-то товар. Все налогоплательщики, таким образом, были участниками рыночной торговли.
Неважно, что при этом, после уплаты налогов, у крестьянина или даже у помещика иногда вовсе не оставалось денег для самих себя, а потому самообеспечение действительно в значительной степени осуществлялось на натуральной основе.
Неважно и то, что некоторые крестьяне вообще никогда не держали денег в руках — иногда всю свою жизнь: налоги за них уплачивали односельчане, или помещики, или какие-нибудь иные посредники (в том числе — евреи); расплату с этими кредиторами-посредниками крестьянин осуществлял отработкой, отдачей доли собственного урожая или передачей части надельной земли.
Кстати, именно эта ситуация и создавала первичные условия для концентрации деревенских капиталов в немногих руках. Именно она порождала деревенских богатеев (при удаче позже вырывавшихся из деревни и превращавшихся в капиталистов, описанных выше) и еще в ХVIII столетии возбуждала сельский антагонизм и ненависть к кулакам-мироедам.
В 1760-е годы упомянутый литератор М.Д.Чулков писал о них: «Такие сельские жители называются съедалами; имея жребий [при общинном переделе земли] прочих крестьян в своих руках, богатеют на счет их, давая им взаймы деньги, а потому запрягают их в свои работы так, как волов в плуги; и где таковых два или один, то вся деревня составлена из бедняков, а он только один между ими богатый».
«Зажиточные как собственных, так и соседних деревень крестьяне всегда имеют случай недостатками бедных довольствоваться. /…/ Богатый, ссужая бедного своим скотом, получал через то работных людей больше, чем на своем поле употреблять мог, и для того у бедного своего соседа нанимал пустую его землю за безделицу», — вторил Чулкову анонимный автор очередных Трудов Вольного Экономического Общества в 1771 году.
Пользуясь почти неограниченной властью в имениях, многие помещики пытались своими силами бороться с процессом имущественной дифференциации крестьян. В 1767 году князь М.М.Голицын прямо предписывал своему приказчику отнимать земли у деревенских богатеев для наделения ими беднейших крестьян, «дабы со временем таковые неимущие могли быть подлинные и совсем довольные крестьяне, а не гуляки». Но никакие усилия подобных «социалистов-революционеров» не могли остановить естественного хода событий.
В тридцатые-сороковые годы ХIХ века, когда в России в самом разгаре бушевала пропагандистская кампания против аморальности западных буржуазных порядков и западной буржуазии (подробнее об этом ниже), в российских деревнях ютились уже далеко не первые поколения собственных капиталистов, обладавших, нередко, весьма обширными средствами. Да что об этом говорить, если бедный и богатый крестьянин — такие же древние персонажи русских народных сказок, как царь, поп или купец!.. А Владимир Ильич лишь в своем знаменитом труде «Развитие капитализма в России» совершил великое открытие, статистически выявив классовое расслоение деревни, за что еще и подвергся критике со стороны ортодоксов-народников, не поверивших ему! Ох уж эта Россия, все-то в ней запаздывает не меньше, чем на век!..
В российских условиях, когда по традиции, сложившейся еще до ХVIII века, подавляющее большинство хозяев занималось зерновым производством, зависимость цен от урожаев носила пародоксальный характер (как и при любом другом практически однопродуктовом рынке): чем выше урожай — тем ниже цены. Значит, высокий урожай не был гарантом процветания. В свою очередь, низкий урожай угрожал голодом, давал недостаточный объем товарной массы и тем самым тоже ограничивал доходы, а потому также не был желательным явлением.
Непрогнозируемость ситуации усугублялась погодными колебаниями в разных регионах необъятной России, а позже — и колебаниями цен на мировом рынке. На практике это чуть ли ни превращалось в приятную для очень немногих игру в «русскую рулетку» — выигрыш в весьма малой степени зависел от играющего, а проигрыш грозил неисчислимыми бедствиями.
Еще в 1769 году известный идеолог (и один из основателей русского театра и русской драматургии) А.П.Сумароков обратил внимание общественности на вред свободной конкуренции и свободного ценообразования. В дискуссии начала XIX века о дороговизне сельских продуктов активным пропагандистом антикапитализма стал М.Швитков.
Позднее подобное отношение к рынку становилось все более распостраненным. Вот как писал, например, в 1841 году известный агроном и публицист Ф.Унгерн-Штернберг: «Напрасно стали бы заключать, глядя на гумна, заваленные хлебом, пожираемые временем и мышами, что наше сельское хозяйство цветет. Хлеба, точно, много; но это изобилие достигло крайности, и происходящая от этого малоценность главного произведения хозяйства до того доходит, что крестьянин, владеющий шестью десятинами казенной земли, с трудом только уплачивает казенную подать, ничтожную в сравнении с податью, взимаемую в других государствах, и притом сам имеет такое содержание, которого и самые пламенные патриоты не могут не находить дурным. /…/
Только производство хлебных растений составляет цель нашего хозяйства; у нас владельцы стараются обширными посевами вознаградить оскудение земель и плохую обработку, и, правду сказать, достигают желаемого большого количества хлеба. Он падает в цене до невероятности, при всеобщем производстве, между тем как ценность земель, при усилении народонаселения, быстро возрастает. Однако, несмотря на огромное количество наших сельских произведений, хозяева ничуть не богатеют, потому что не в состоянии сбывать произведений по ценам, которые вознаграждали бы издержки производства. Невольно пожелаешь неурожая соседям, как единственному способу увеличить доход, хотя и знаешь, что и им не с чего было сколотить капиталов на покупку, когда в самые урожайные годы выручается, при низких ценах, не более необходимого содержания».
Медленно, но верно, еще до того, как Маркс и Энгельс узрели призрак коммунизма в Европе (к счастью для последней, в ней он так и не смог прочно материализоваться), этот призрак отправился бродить по российским полям. Стремление к плановому хозяйству, избавляющему от рыночных превратностей, стало уже осознанным у многих помещиков. Тяга к коммунизму диктовалась и иными мотивами.
Ко всем прочим неприятностям происходило и быстрое обнищание самих помещичьих семей по все той же демографической причине. Размножались не только крестьяне, но и их владельцы.
Численность дворян с указанных 64,5 тысяч в 1737 году поднялась до 900 тысяч к 1858 году; к этому последнему моменту дворяне составляли около 1,5 % всего населения страны. Все это время продолжалась и имущественная дифференциация дворян.
Петр I, надо отдать ему должное, грамотно оценил такую перспективу, и попытался, по примеру англичан, ввести в 1714 году единонаследие в России.
У англичан, как известно, имение переходит к единственному наследнику; остальные могут одариваться только движимостью и денежными средствами — и то в размерах, не угрожающих сохранению основного владения. Поэтому младшие отпрыски английских дворянских семейств, по существу лишенные наследства, веками пополняли офицерский корпус британской армии и флота и завоевали полмира.
Но либеральные в рамках собственной среды и не чрезмерно трудолюбивые российские дворяне воспротивились столь явной несправедливости, сначала игнорировали ее, а в 1736 году добились и законодательной отмены. Это событие, происшедшее при Анне Иоанновне, и имело для политических судеб России роковой предопределяющий характер — выражаясь словами Струве. Россия прошла мимо возможности сформировать прочный институт лендлордства наподобие английского. В результате имения дробились и дробились, дополнительно усиливая элементарное имущественное неравенство.
Мало того, дворянское сословие продолжало численно возрастать и по другой причине: согласно Табели о рангах, продвижение по службе и достижение определенного чина, как указывалось, приносило и дворянский титул. То же достигалось и при награждении определенными орденами.
Всего, например, только в период с 1826 по 1844 год дворянское звание механическим повышением по службе получило более 20 тысяч чиновников.
Об этой категории людей позже так писал А.И.Герцен: «у нас между дворянством и народом развился не один дворовый человек передней, но и дворовый человек государства — подьячий. Бедная амфибия, мещанин без бороды, помещик без крестьян, «благородный» чернорабочий без роду и племени, без опоры, без военной посадки, сведенный, вместо оброка, на взятки, вместо «исправительной конюшни» на канцелярию и регистратуру, трус, ябедник и несчастный человек, подозреваемый во всем, кроме несчастности… Научите его думать, писать не на гербовой бумаге — и он сделается гигантом протеста или исполином подлости».
Беспокойство перед этим «новым классом» испытывала и верховная власть. Поэтому переходный уровень последовательно поднимали и Николай I в 1845 году, и Александр II в 1856, пытаясь бороться с ростом числа материально необеспеченных дворян.
Но общий порядок сохранялся вплоть до отмены чинов в 1917 году — именно тогда выходцы из этой категории новоявленных дворян — А.Ф.Керенский и В.И.Ульянов(Ленин) — полностью подтвердили характеристику, загодя выданную им Герценом еще в 1864 году.
В то же самое время в центральной России перенаселение росло все возрастающими темпами. Исследования уже советских историков показали, что к 1796 году максимальная площадь распашки земель, годных для зернового производства, была практически достигнута в Московской, Тульской, Смоленской, Черниговской, Ярославской, Псковской и Владимирской губерниях — распахивать там больше было нечего, а населения все прибывало. Как раковая опухоль, аграрное перенаселение постепенно растекалось на все большую территорию.
Хотя об Ф.В.Удалове уже через четверть века никто не вспоминал (за этого незаурядного мыслителя действительно обидно до слез!), колхозное движение в России вновь набирало обороты.
В самом конце XVIII столетия некий Вилькинс, рязанский помещик, осуществил в своем имении преобразования в точности по рецептам, предложенным Удаловым. Терминология, в которой описан эксперимент, однозначно свидетельствует, что Вилькинс Удалова не читал, а дошел до всего собственным умом. Не читал Удалова и Струве, узнав об эксперименте Вилькинса по публикациям потомков последнего, напечатанных в 1830-1840-е годы, и пересказав в собственных трудах.
В массовых же масштабах коллективизация проводилась под названием перевода крестьян на «месячины»: у крепостных отбирали наделы, и они переводились на коллективную работу на полностью обобществленной земле, принадлежащей помещику. Месячина означала месячное содержание, выдаваемое работникам, не имеющим собственных источников пропитания и прочего довольствия. Это, конечно, не совсем колхоз, а скорее прототип совхоза. Впрочем, в каждом отдельном имении были свои особенности, которые так и не подверглись обобщающему теоретическому исследованию.
О «месячине» упоминает уже А.Н.Радищев, а к середине ХIХ века широкое распространение «месячины» отмечается по самым разным углам России и Украины.
Движение развивалось безо всякой агитационной кампании — оно было велением времени и вынуждалось животрепещущими практическими потребностями. Как правило, «месячина» вводилась в беднейших поместьях, где уже практически не оставалось достаточно земли, чтобы ее можно было делить на барщинную и крестьянскую. Подобные мероприятия очевидно противоречили закону, принятому Павлом I, запрещающему более чем трехдневную барщину в неделю, но власти были вынуждены смотреть на это сквозь пальцы.
Большинство же помещиков чуралось экспериментов, лишь с ужасом глядя на надвигающуюся нищету.
Другой, уже следующей формой преобразования хозяйств — когда земли становилось мало даже для прокорма всех поселенных лиц, стал возврат к прежнему оброку. В этом случае дворяне по существу переставали быть помещиками, но оставались рабовладельцами, понуждая крепостных зарабатывать на жизнь любым способом (включая нищенство, ставшее в первой половине ХIХ века вполне профессиональным корпоративным занятием!) и изымая часть доходов в свою пользу. Паспортно-прописочная система не позволяла крепостным, удалявшимся иногда для заработков на огромные расстояния, навсегда покидать своих владельцев. Кроме того, в деревне, как правило, оставалась семья — в качестве заложников.
Возврат к оброку, казалось бы отторгнутому условиями жизни второй половины ХVIII века, был типичным проявлением хождения России по карусельному кругу.
В этих условиях завоевание жизненного пространства поневолестановилось естественной стратегией государства, на которое наваливалась ужасающая тяжесть перенаселения.
Российская армия, обретя мощь и подвижность, могла захватывать и закреплять новые территории, но не могла включать их в систему российского сельскохозяйственного производства. Хозяйственно их осваивать практически были способны только лично свободные колонисты, а не крепостные. Таких людей на окраинах катастрофически недоставало. Частично проблема решалась импортом иностранных специалистов, закрепившихся во многих местностях. Много позже их потомкам предстояло пережить трагедию немецкого населения России.
Колоссальную роль могло играть и действительно играло казачество, совершенно свободное от рабства и крепостничества. Казаки — своеобразный гибрид воинов и сельских хозяев — могли и преодолевать (жесточайшими мерами!) сопротивление аборигенов, и разворачивать экономическую деятельность. Но возможности казаков были небеспредельны, а их численность — не столь велика. К тому же сочетание военных действий с сельскохозяйственным трудом — не самое благодарное занятие.
Заметим, однако, что далеко не всякие территориальные приобретения могли смягчить внутренние проблемы России. Захват территорий Польши (породивший, повторяем, последующий еврейский вопрос в России), Финляндии (с учетом, разумеется, ее климата и прочих природных условий, не способствующих густоте населения), Прибалтики и Закавказья, населенных народами достаточно высокой культуры со сложившимся хозяйственным укладом, мало чем облегчал положение населения центральной России (вот Гитлера, например, подобные мелочи вовсе не смущали!). Значительно полезнее был захват южных степей, допускавших внедрение земледелия; правда, и это подразумевало вытеснение или притеснение обитавших там кочевых племен — со всеми последствиями, наглядно проявившимися в наши дни…
С другой стороны, армии, повторяем, было легче действовать на населенных направлениях: там было кого грабить — в этом, разумеется, русская армия мало отличалась от других тогдашних! К тому же собственные боевые потери, как это ни покажется циничным, также смягчали кризис перенаселения, а потому были полезны России; для таких потерь было, конечно, все равно — с кем и за что воевать…
Похоже, что в конце ХVIII — начале ХIХ века эти стремления не были достаточно четко осознаны ведущими политиками, но объективно побуждали их на вполне определенные действия: русская армия энергично толкалась во все возможные направления.
Характерно в этом отношении мнение высокообразованного великого князя Александра Павловича (будущего Александра I) — в 1796 году он писал в известном письме к В.П.Кочубею: «В наших делах господствует неимоверный беспорядок; грабят со всех сторон; все части управляются дурно; порядок, кажется, изгнан отовсюду, а империя, несмотря на то, стремится к расширению своих пределов». Тем не менее, став позже императором, он, помимо преобразований в управлении (недостаточно успешных!), вынужден был сохранять и завоевательную поступь государства: в его царствование, кроме кровавой борьбы с Наполеоном, Россия захватила Финляндию и Бессарабию, расширила завоевания на Кавказе и в Закавказье, протянула руки к Персии и Туркестану.
Увы, современная история продемонстрировала, что средств для переваривания заглатываемых кусков оказалось недостаточно.
В конечном итоге, помещичьи имения, столкнувшись с неразрешимыми проблемами, неудержимо шли к банкротству.
Дворянский Банк, начавший с 1754 года выдавать кредиты под залог поместий, тщетно ждал их возврата. Очень неохотно, но правительству без излишней рекламы пришлось приступить к продаже беднейших имений, о чем сообщал в 1790 году Радищев. Уже в начале царствования Александра I (т. е. в самом начале ХIХ века) появились целые селения, состоящие из неимущих дворян. Но в большинстве своем «дворянские гнезда» сохранялись, т. к. правительство (за исключением кратчайшего периода при Павле I) не решалось настаивать на их ликвидации.
Нерешительности правительства способствовало и то, что бюрократия, и тогда уже представлявшая собой самостоятельную социальную силу, все еще была личными узами тесно связана с помещичьими имениями.
В то же время росло дворянское недовольство правительством и самим царем: рядовое большинство помещиков в глубине души ощущало свои безнадежные долги государству личными долгами царю — увы, это было прямым проявлением монархической идеологии, связывающей идею государственности с персоной царя.
Отсюда и та ненависть к царям, которая и стала привычной традицией для значительной части образованного общества, еще начиная со времени Павла I.
В то же время, недоимки по подушной подати, скопившиеся в основном на массе беднейших поместий, достигли к концу XVIII века порядка 10 % годового государственного бюджета — т. е. приблизительно той же величины, что и задолженность государства перед иностранными кредиторами!
Начиная с Екатерины II, правительство всерьез заинтересовалось возникшей проблемой. В ответ на опросные листы Вольного Экономического Общества уже в 1767 году из Переславльского уезда Рязанской губернии сообщалось: «Здешние места многолюдны, и по многолюдству уповательно: что больше земледельцов в работу годных, нежели земли удобной к деланию». Аналогичные сведения пришли из Рузы, Вереи, Коломны, Владимира, Гороховца, Юрьева-Подольского, Суздали, Шуи, Костромы, Любима, Кинешмы, Ростова-Ярославского и Романова на Волге.
По тогдашним агрономическим оценкам, при трехпольной системе земледелия на одно крестьянское «тягло» (в традиционном смысле слова — супружеская чета с некоторой помощью менее трудоспособных членов семьи) полагалось порядка 15 десятин пахотной земли (десятина — чуть больше гектара); это была классическая, названная позже «трудовой», земледельческая норма того времени.
Павел I поставил задачу обеспечения этой нормой всего крестьянства. Предварительные расчеты показали, что это — чистейшая утопия: практически было невозможно обеспечить и 8-ми-десятинную норму.
Тем не менее, убийство Павла 11 марта 1801 года положило конец планам грандиозной аграрной реформы. Какого характера это была бы реформа, об этом свидетельствуют шаги, предпринятые Павлом перед гибелью.
Не случайно современники постарались, чтобы о павловском правлении сохранились исключительно нелепейшие анекдоты. Павел действительно правил с необузданностью, не слишком подобающей мудрым государственным деятелям. Но будто бы Петр I, которому он подражал, был лучше!
На самом же деле, решения Павла хотя и поражали смелостью и лихостью, каких не было ни у кого из последующих российских властителей вплоть до октября 1917 года (не случайно аналогии с Павлом I возникли в оппозиционной прессе в первые недели большевистского правления!), но мотивы его действий были предельно ясны. «Для меня не существует партий и интересов кроме интересов государства, а при моем характере мне тяжело видеть, что дела идут вкривь и вкось, и что причиною тому небрежность и личные виды; я скорее желаю быть ненавидимым за правое дело, чем любимым за неправое», — писал Павел еще в 1777 году (т. е. задолго до воцарения), четко предопределив собственную судьбу. К тому же его страсть к порядку доходила почти до мании — как, к несчастью, и у его потомков. Он действительно руководствовался справедливостью, не скупился на благодеяния (в числе прочих — возвратил А.Н.Радищева из сибирской ссылки) и еще более щедро раздавал наказания (например, дважды убирал в отставку своего любимца А.А.Аракчеева), а в итоге растерял всех влиятельных сторонников.
Что же касается экономической и социальной политики, то при всей экстравагантности Павел был предельно логичен и последователен. Он явно сопоставил внешний долг России с недоимками по подушной подати и пришел к соответствующим выводам.
Внешний долг был попросту объявлен недействительным — именно так сделали и большевики в 1917 году. Павел предложил держателям облигаций займов, отпущенных России главным образом голландскими и генуэзскими банкирами, за выплатой процентов обратиться к Англии, якобы задержавшей выплату субсидий на войну с Наполеоном.
Одновременно Павел заключил союз с тем же Наполеоном и собрался в поход на Индию. Могли ли добраться войска Павла до Индии (путь туда лежал через Афганистан, что тогда недооценивалось российскими военными экспертами — как, впрочем, и в 1979 году!) и сумели бы поразить империалистическую Великобританию в самое сердце — это, конечно, большой вопрос, теперь уже неразрешимый. Но факт, что союз с Наполеоном был обусловлен очень четкими соображениями: Россия в тот момент не была должна Франции ни копейки!
Логично, что следующим шагом было бы освобождение России от помещиков, способных только увеличивать государственный долг. Уцелеть решительному Павлу в такой острой ситуации было действительно мудрено.
В конечном итоге крепостнический строй, созданный послепетровской приватизацией, стратегически оказался нежизнеспособен, как и предшествующий петровский режим. Вот это и определяло общеэкономическую и социальную обстановку, в которой и развернулись политические конфликты с самого начала XIX века.
1. Отцеубийца на троне
К моменту смерти его бабушки, Екатерины II (6 ноября 1796 года), великому князю Александру Павловичу было около 19 лет, и именно его прочили в наследники великой императрицы: с детства он получал соответствующее воспитание, а напряженные отношения царицы с ее сыном Павлом ни для кого не были секретом. 16 сентября 1796 года Екатерина самолично пообещала любимому внуку передать престол непосредственно ему.
Относительно намерений самого Александра позже создалось изрядное число легенд. Так, М.А.Корф специально привел в своей книге о 14 декабря письмо Александра к В.П.Кочубею от 10 мая 1796 года, отрывок из которого нами уже цитировался выше. Корф хотел показать, что нежелание царствовать, действительно недвусмысленно высказанное в этом тексте, было давним стремлением Александра: «я сознаю, что не рожден для того высокого сана, который ношу теперь, и еще менее для предназначенного мне в будущем, от которого я дал себе клятву отказаться тем или другим образом. /…/ Мой план состоит в том, чтобы, по отречении от этого трудного поприща (я не могу еще положительно назначить срок сего отречения), поселиться с женою на берегах Рейна, где буду жить спокойно частным человеком, полагая мое счастье в обществе друзей и в изучении природы». Если эти слова принимать всерьез, то Александр стал и клятвопреступником — по крайней мере перед самим собой.
Но поначалу вроде бы не ему самому принадлежало решение вопроса быть или не быть. По действовавшему тогда законодательству Петра I цари сами назначали себе преемников. То ли Екатерина не успела юридически оформить соответствующее распоряжение, то ли достаточно оперативно подсуетились тогдашние сторонники Павла, но императором стал именно он.
Здесь напрашивается и другое объяснение, до какого не дошли историки за два прошедших столетия — недаром известный литератор Н.И.Греч писал об Александре: он «был задачею для современников: едва ли будет он разгадан и потомством». Но загадочность личности Александра в значительной степени определялась хотя и нестандартными, но вполне известными обстоятельствами его жизни.
Вполне вероятно, что восшествие Павла на трон решилось именно самим Александром. Не случайно сначала он письменно поблагодарил бабушку за оказанную честь, а чуть позже, еще до ее смерти, стал именовать отца вашим величеством. Ведь расчистить авгиевы конюшни, основательно загаженные за последнее десятилетие правления Екатерины, было невозможно, не вызвав при этом массы недовольства самых разнообразных влиятельных лиц и слоев общества. Важнейшие должности занимали уже состарившиеся или еще молодые фавориты любвеобильной императрицы, одинаково неспособные оживить государственную службу. Всех их нужно было беспощадно разогнать. Справился бы с этой задачей Александр лучше своего отца?
А ведь при этом отцу предстояло бы возглавить оппозицию и продолжать играть выигрышную роль безответственного критика — которую теперь унаследовал сам Александр. Убрать же отца так, как это удалось в 1801 году, в 1796 году было еще невозможно — не было ни повода, ни должного числа решительных недовольных.
Любопытно, что примерно то же произошло и при воцарении отца Павла — Петра III. По слухам, достоверность которых трудно проверить, в свое время и Елизавета Петровна попыталась обойти племянника, передав престол тогда еще совсем малолетнему его сыну Павлу — естественно, при чьей-нибудь опеке: скорее всего Екатерины — матери Павла и жены Петра, но, вероятно, не совсем единоличной. Но и тогда трон достался более естественному наследнику, который своей энергией и решительностью тут же возбудил против себя россиян, убаюканных бездеятельностью предшествующего царствования.
Буквально через несколько месяцев Екатерина получила безоговорочную поддержку, хотя фактически продолжила политический курс своего убитого мужа. Этот пример должен был стоять в 1796 году перед глазами молодого Александра.
Можно ли его заподозрить в подобном цинизме и вероломстве? А почему бы и нет? Ведь этому другу Аракчеева приписывают и такое высказывание, возможно не известное Гречу: «Я не верю никому. Я верю лишь в то, что все люди — мерзавцы».
Так или иначе, но Павел, движимый стремлением к справедливости и порядку, почел одной из первейших забот изменение закона о престолонаследии: отныне трон наследовался в первую очередь ближайшим потомком царя по мужской линии — при соответствующих ограничениях относительно его вероисповедания (допускалось только православие); позже появились и некоторые другие — к этому мы будем неоднократно возвращаться.
Оставшись после 1796 года только наследником престола, Александр стал искать уважительный повод пересмотреть собственное решение отречься от власти.
В его письме к его воспитателю — швейцарцу Ф.С. де Лагарпу, написанном 27 сентября 1797 года, звучат совершенно иные ноты: «Мне думалось, что если когда нибудь придет и мой черед царствовать, то, вместо того, чтобы покинуть родину, я сделаю несравненно лучше, поработав над дарованием ей свободы… Мне кажется, что это было бы лучшим видом революции, так как она была бы произведена законною властью, которая перестала бы существовать, как только конституция была бы закончена и нация избрала бы своих представителей… Когда придет мой черед, нужно будет стараться создать, само собою разумеется постепенно, народное представительство, которое, направляемое к тому, составило бы свободную конституцию, после чего моя власть совершенно прекратилась бы».
Известно, куда ведет дорога, вымощеная благими намерениями!
Адом для Александра стало отцеубийство.
Тот же Греч писал: «смерть Павла отравила всю жизнь Александра: тень отца, в смерти которого он не был виноват, преследовала его повсюду. Малейший намек на нее выводил его из себя» — и привел характерный пример: «Когда после сражения при Кульме [в августе 1813 года] приведен был к Александру взятый в плен французский генерал Вандам, обагривший руки свои кровию невинных жертв Наполеонова деспотизма, император сказал ему об этом несколько жестоких слов. Вандам отвечал ему дерзко: «Но я не убивал своего отца!» Можно вообразить себе терзание Александра».
Мало того: за такой же «намек Наполеон поплатился ему троном и жизнию», — утверждает Греч.
Но и Греч, и другие, заявлявшие о невинности Александра в отцеубийстве (включая цитируемого ниже Н.П.Огарева), заблуждаются: о конкретной вине Александра есть масса сведений.
Еще весной 1800 года (т. е. за год до цареубийства) один из главных заговорщиков — граф Н.П.Панин — достаточно прозрачно намекнул цесаревичу на предстоящие события.
Авторитетнейший биограф Александра I, великий князь Николай Михайлович, упоминает о множестве подобных свидетельств — в том числе и о том, что Александр самолично отсрочил дату переворота на сутки, дабы стоявших во дворце на карауле преображенцев, преданных государю, по графику дежурств сменили семеновцы, шефом полка которых был сам Александр.
Молва об отцеубийстве еще долго гуляла по свету. Например, декабрист М.И.Муравьев-Апостол (старший брат казненного С.И.Муравьева-Апостола) вспоминал:
«В 1801 г. [А.В.] Аргамаков был /…/ плац-майором Михайловского замка. /…/ Без содействия Аргамакова заговорщикам невозможно было бы проникнуть в ночное время в Михайловский дворец.
В 1820 году Аргамаков в Москве, в Английском клубе, рассказывал, не стесняясь многочисленным обществом, что он сначала отказывался от предложения вступить в заговор против Павла I, но великий князь Александр Павлович, наследник престола, встретив его в коридоре Михайловского замка, упрекал его за это и просил не за себя, а за Россию вступить в заговор, на что он и вынужден был согласиться».
Хорошенькие разговорчики публично велись о правящем императоре!..
Столь дорогой ценой Александр достиг власти и лишил себя возможности поселиться на берегу Рейна (очень рекомендуем современным кандидатам в диктаторы не повторять эту ошибку — на Рейне прекрасные места!). Позднее ему суждено было переживать угрозу потери власти — и он не смог достойно справиться и с этим испытанием!..
Письмо к Лагарпу позволяет признать Александра и как первого в России идеолога революции сверху. Но ему самому никакую революцию свершить не удалось, по крайней мере — в России.
В течение нескольких лет главные инициаторы и участники цареубийства, начиная с графа П.А.Палена, были удалены Александром I с ответственных постов.
Среди немногих исключений — граф Ф.П.Уваров и полководец и супермен Л.Л.Беннигсен. Тронуть последнего было смерти подобно, на чем погорел и Павел; но в 1818 году (обратите внимание на дату!) Александр буквально выжил из России и Беннигсена. Уваров же, по мнению современников, удержался благодаря тому, что усиленно демонстрировал собственную никчемность и ограниченность (неясно, насколько это соответствовало действительности!) и не претендовал на важные роли. Уцелел вблизи царя и его собственный адъютант князь П.М.Волконский — в его верности и преданности Александр, казалось бы, не сомневался — хотя к этой коллизии нам предстоит возвращаться.
В то же время никто из цареубийц не подвергся формальным преследованиям — вопреки советам Лагарпа, вскоре после воцарения Александра возвращенного последним в Россию. По-видимому, неугомонный швейцарец не сумел осознать степень вины своего воспитанника.
Завершающая часть сюжета цареубийства 11 марта 1801 года весьма поучительна, хотя и не оригинальна: нередко новые правители, обязанные своим возвышением энергичным и смелым заговорщикам, опасаясь последних и в то же время стараясь возложить на них ответственность за совершенные преступления, избавлялись от них — иногда с беспощадной жестокостью. Александр I в этом отношении оказался на определенной высоте: никто из убийц его отца не подвергся кровавой расправе и даже тюремному заключению. В то же время политические надежды, которые связывали заговорщики с переменой царствования (в их среде имело хождение по меньшей мере три конституционных проекта), оказались тщетны.
Будущие заговорщики — младшие современники цареубийц 1801 года — должны были сделать определенные выводы о благодарности самодержца, возводимого на трон. И к этой проблематике нам предстоит возвращаться.
В первые годы правления Александр оперся на совершенно иных людей — графа Н.П.Румянцева и друзей своей юности: П.А.Строганова, В.П.Кочубея, Н.Н.Новосильцева, А.Ю.Чарторыйского, И.В.Васильчикова, А.Н.Голицына. Выдвигался на главную роль М.М.Сперанский, блиставший еще при Павле.
В 1803 году царь санкционировал старт реформам Сперанского; последнего Наполеон в 1808 году оценил как единственную светлую голову в России.
В 1803 году началось и повторное возвышение А.А.Аракчеева: Александр восстановил его в должности генерал-инспектора артиллерии, которую тот занимал при Павле. Дружба Александра с Аракчеевым началась еще на финише царствования Екатерины. Последний всячески опекал великого князя, стараясь постоянно быть ему полезным. Услуги деятельного, невероятно трудоспособного и безотказного исполнителя стали со временем ничем не заменимым подспорьем также не ленивому, но не столь энергичному императору.
Перетасовка кадров успокаивала только отчасти: на протяжении всего царствования Александр жил почти постоянно в атмосфере угрозы возможного заговора. Это началось практически сразу, когда он, вопреки надеждам противников Павла, попытался двинуться по стопам отца: мириться с сохранением порядков, устраивающих крепостников, не позволяли очевидные государственные интересы России.
Уже 6 мая 1801 года во вновь образованном Государственном Совете обсуждалось предложение нового царя запретить продажу крепостных без земли. Встретив жесткое сопротивление, самодержец отступил. Но 28 числа того же месяца последовало его личное распоряжение запретить печатать в газетах объявления о продаже крепостных.
12 декабря того же года по инициативе адмирала Н.С.Мордвинова (друга юности покойного Павла I) выходит указ о разрешении иметь личную земельную собственность всем сословиям, кроме крепостных, — уничтожается одна из главнейших монополий дворянства.
В том же году, отвечая на письмо одного из сановников, просившего получить населенное имение, Александр I написал: «Русские крестьяне большей частью принадлежат помещикам; считаю излишним доказывать унижение и бедствие такого состояния, и потому я дал обет не увеличивать этих несчастных, и принял за правило никому не давать в собственность крестьян» — на этом прекратилась раздача населенных земель в частные руки раз и навсегда.
В ноябре следующего, 1802 года, к Александру обратился граф С.П.Румянцев (сын упомянутого вельможи) с предложением законодательно разрешить крепостным выкупаться из неволи. После ожесточенных дебатов Государственный Совет пришел к усеченной формулировке: 20 февраля 1803 года было провозглашено новое сословие — «вольные хлебопашцы» и определен порядок перевода в него крепостных — с обязательным наделением землей. Закон, однако, требовал согласия рабовладельцев на каждую подобную выкупную операцию. Широко задуманная акция, таким образом, практически полностью провалилась: помещики дружно игнорировали неявный призыв государя.
Затем последовало новое столкновение царя с дворянским сословием: Александр установил обязательный двенадцатилетний срок службы унтер-офицерам из дворян. Данная акция, вероятно, исходила из насущных интересов армии, но очевидно противоречила Манифесту Петра III о вольности дворянства. На этом основании Сенат 21 марта 1803 года выступил против этого закона. Перед лицом почти всеобщей оппозиции император на этот раз настоял на своем. Любопытна аргументация Александра: Сенат может обсуждать законопроекты, но не принятые царские указы — этому подобию парламента, пусть даже назначаемого верховной властью, указывалось на его истинное место!
Интересно, что секретарь Государственного Совета Г.Р.Державин, в данном случае поддержавший царя (этот известный поэт выступал ранее против «вольных хлебопашцев»), был вынужден выйти в отставку в результате развернувшейся против него общественной травли.
В 1804 году было отменено фактическое личное рабство в Прибалтийских провинциях; крестьяне там оставались прикрепленными к земле — это была система обычного для того времени крепостного права, практиковавшегося в большинстве европейских континентальных стран. Как раз в те годы эта система рушилась под натиском Наполеона: крепостное право в Пруссии было отменено в 1805 году.
11 ноября 1806 года Чарторыйский, Строганов и Новосильцев обратились к царю с запиской, указывая, что Курляндия и Лифляндия могут в любой момент отпасть от России: для этого достаточно «одного слова вольности, произнесенного Бонапартом в сих провинциях».
К этому времени произошло возвращение России в антифранцузскую коалицию. Большой проблемой при этом оставался внешний долг, аннулированный Павлом I. Александр восстановил прежние обязательства и сразу возобновил выплату процентов по займам, но о своевременном погашении самих долгов речи не было — платить России все равно было нечем.
В результате поиска компромисса Россия и ввязалась в военное столкновение с Наполеоном — на это Англия готова была выделить средства, хотя бы и ненадежному должнику. Однако, в результате неудачных войн с Наполеоном в 1805 и 1807 гг. и без того не очень прочное положение Александра еще более пошатнулось.
Необходимость принять все условия победившего Наполеона вытекала не только из слабости русской армии, но в еще большей степени из того, что англичане сочли неразумным тратить деньги на столь неудачливых союзников — и прекратили субсидии. Общее же финансовое положение России никак не способствовало дальнейшему наращиванию военных усилий, тем более что и достаточно прочный мир не наступил — продолжались традиционные выяснения отношений с Швецией, с Турцией и Персией, а в 1809 году произошло даже столкновение с Австрией — в союзе с Францией.
Одним из результатов побед Наполеона стала отмена крепостного права в Польше. Кроме того, России пришлось примкнуть к «континентальной блокаде»: прекратился вывоз и металла, и сельхозпродукции в Англию, игравшую уже не один век роль естественного и традиционного торгового партнера России. В результате англичанам пришлось развивать собственную металлургию, с чем они справились вполне успешно, а русские помещики и заводчики, наживавшиеся на экспорте, схватились за пустующие карманы.
Хотя экономическая блокада и способствовала в определенной степени развитию отечественной промышленности (именно тогда появились собственные суконные фабрики, а также сахарные заводы на Украине и юге России), но это никак не могло компенсировать понесенные потери.
В сентябре 1807 года шведский посол в России граф Б.Стединг сообщал своему королю: «Недовольство императором усиливается, и разговоры, которые слышны повсюду, ужасны /…/. Слишком достоверно, что в частных и даже публичных собраниях часто говорят о перемене царствования /…/. Говорят о том, что вся мужская линия царствующего дома должна быть отстранена /…/. Военные настроены не лучше, чем другие подданные императора».
Недовольство пока ограничивалось только разговорами, поскольку было очевидно, что бедственное экономическое положение зависит от внешнеполитического диктата, а эскалация противоборства с Наполеоном в то время не выглядела перспективной.
В этой достаточно критической ситуации Александр I совершает шаг, значение которого недостаточно оцененили современники и почти вовсе не заметили потомки: 14 декабря 1807 года Александр усилил закон от 20 февраля 1803 года, запретив освобождать крепостных целыми селениями иначе, как по указу о вольных хлебопашцах.
Эта акция, казалось бы, не сильно задевала интересы помещиков, и без того игнорировавших возможность освобождения собственных рабов. Однако, с учетом того, что вслед за тем вплоть до самого 1861 года практически не было принято никаких иных серьезных законодательных мер в отношении крепостного права (чего, конечно, нельзя было предвидеть в 1807 году!), поправка от 14 декабря сыграла колоссальную роль. Ведь она практически полностью пресекла возможнось помещиков сгонять крестьян с земли!
Тем самым на многие десятилетия в России законодательно запрещалась возможность помещиков бороться с ростом аграрного перенаселения в собственных владениях, сколько бы ни было у них излишних сельских подданных, буквально мешающих дышать друг другу. Большинство помещиков, не так уж и богатых землями (данные об этом — ниже), впредь могло либо освобождать крестьян, наделяя имеющейся землей (сколько бы ее ни было) и не оставляя себе ничего или почти ничего (как это и случилось после 1861 года), либо должно было терпеть постоянно ухудшающиеся условия существования — что они в основном и делали. В итоге за все время действия закона (до 1858 года) только около 1,5 % всех крепостных сумели получить волю, воспользовавшись данной схемой.
Александр I, таким образом, не сумев побудить помещиков к освобождению крепостных и не имея возможности добиться своего силой, буквально закрутил выпускные клапаны в каждом имении, уподобив их котлам, давление в которых нагнеталось ростом числа жителей — практически до взрыва, который едва не произошел накануне 1861 года.
Понимал ли тогда тридцатилетний император будущие последствия своего решения? Это — вопрос гадательный. Но, во всяком случае, этот акт проливает свет на истинную идеологию Александра I — и не только его одного; чуть ниже мы к этому вернемся.
После 1807 года вынужденная пауза во внутриполитической борьбе продолжилась: было ясно, что первоочередной остается борьба за внешнеполитическую независимость. На это наталкивал Александра весь конгломерат внутренних российских проблем.
Особое внимание уделялось усилению армии. Здесь важную и полезную роль сыграл А.А.Аракчеев, возглавлявший с января 1808 года в течение двух лет Военное министерство, а затем — Военный департамент Государственного Совета. Жестокий и трусливый карьерист (всю жизнь избегал малейшей возможности появиться на поле боя!) оказался, при всем при том, великолепным реформатором артиллерии. Это закрепило его авторитет как администратора.
Царь обязан был постараться усилить и собственное политическое влияние.
В качестве профилактики против наполеоновской агитации в Прибалтике в 1810 году была официально обещана общая аграрная реформа в Курляндии, Лифляндии и Эстляндии, к которой Александр I действительно приступил в 1816 году. В самой России было отменено в 1809 году право помещиков без суда ссылать крепостных в Сибирь.
В 1809–1810 гг. Сперанский завершил реформы, начатые Павлом I, и придал государственным учреждениям России тот вид, какой в основном сохранился вплоть до 1917 года, а отчасти и позже. Одним из результатов реформы стало создание Министерства полиции, которое возглавил А.Д.Балашов.
На повестке дня стояли последующие этапы намеченных преобразований: введение представительного правления и уничтожение крепостного права.
С целью укрепления государственного бюджета усилился и налоговый нажим, сильно придавив и без того недоимочные имения. Дворяне вновь ощутили, что почва под ними зашаталась.
В марте 1811 года Н.М.Карамзин подал царю записку, в которой, в частности, писал: «нынешнее правительство имело, как уверяют, намерение дать господским людям свободу /…/. Теперь дворяне, расселенные по всему государству, содействуют монарху в хранении тишины и благоустройства; отняв у них власть блюстительную, он, как Атлас, возьмет себе Россию на рамена. Удержит ли? Падение страшно».
Эта и другие подобные угрозы-предупреждения подействовали: вместо дальнейшего наступления на дворянские права Александр I перешел к подготовке непосредственной борьбы с Наполеоном, хотя и нельзя утверждать, что прежние намерения были вовсе оставлены. В 1809 году все то же Вольное Экономическое Общество инициировало дискуссию о сравнительной выгоде барщины и оброка, а в 1812 году, незадолго до начала войны, поставило «новую» конкурсную задачу: какой труд, крепостной или вольнонаемный, выгоднее для сельского хозяйства? Но тут уже всем, включая Александра I, стало не до дискуссий.
Царь объявил о выходе из «континентальной блокады», что сделало столкновение с Францией неотвратимым. Кроме того, в марте 1812 года, незадолго до вторжения Наполеона, в угоду общественному мнению Сперанский был обвинен в государственной измене и выслан — главным инициатором этой интриги стал Балашов.
Изгнанный реформатор был поселен под надзор полиции — сначала ненадолго в Нижний Новгород, затем — на два года в Пермь, а потом, по его просьбе, переведен в его собственное имение Великополье, в 70 верстах от аракчеевского Грузина — в Тихвинском уезде Новгородской губернии.
По ходатайству Аракчеева, благоволившего к Сперанскому, и состоялось еще через два года возвращение последнего на государственную службу: в августе 1816 года он был назначен пензенским губернатором. Притом ему было запрещено по дороге в Пензу заехать в столицу! С этого, однако, началось вторичное восхождение Сперанского на верхи государственного управления.
С весны 1819 года он два года состоял сибирским генерал-губернатором (с резиденцией в Иркутске). На этом посту Сперанский сменил И.Б.Пестеля — отца двух знаменитых братьев, старший из которых — Павел — прочил себя в диктаторы России, а младший — Владимир — стал одним из жесточайших покорителей Кавказа. Жестокостями и злоупотреблениями прославилось и тринадцатилетнее правление их отца в Сибири.
Сперанскому лишь частично удалось разогнать свору взяточников и притеснителей, окопавшихся под крылышком Пестеля-старшего. К чести последнего нужно отметить, что сам он мздоимством не злоупотреблял (возможно потому, что предпочитал торчать в столице, где и провел в период губернаторства чуть ни одиннадцать лет); его жизнь завершилась в относительной бедности.
Лишь весной 1821 года Александр I вернул Сперанского обратно в столицу и восстановил в правительстве, хотя и не на первых ролях. Балашов же к этому времени был уволен, а затем и Министерство полиции ликвидировано; о возможной подоплеке этого — ниже.
Именно в 1812 году, пожертвовав Сперанским, Александр, вероятно, задумал свой коварный план обезвреживания возможных заговорщиков и начал его подготовку.
Под предлогом заботы о жизни младших братьев-мальчишек — Николая и Михаила — Александр не пускал их в действующую армию ни в 1812 году, ни позже — вплоть до завершения Наполеоновских войн. Это противоречило и тогдашним дворянским традициям, и порядкам в самой царской семье.
Прославленный А.В.Суворов — образец для подражания всем честолюбцам! — начал службу солдатом в пятнадцать лет.
Любимец Суворова М.А.Милорадович участвовал в боях с 1788 года, когда ему исполнилось семнадцать.
Как и Суворов, А.П.Ермолов начал также в пятнадцать, но сразу капитаном — таковы были порядки при Екатерине, позже отмененные Павлом. Уже в 16 лет Ермолов прославился храбростью и получил первый орден.
Александр Кутайсов — сын знаменитого сначала камердинера, а затем министра у Павла I — также в шестнадцать был боевым офицером, в 21 год стал полковником, а в 27 лет погиб при Бородине, будучи генерал-майором и командующим артиллерией русской армии.
Второй из сыновей Павла — великий князь Константин — с юности участвовал в сражениях и был соратником Суворова в Итальянском походе 1799 года.
Михаилу Павловичу шестнадцать исполнилось только в 1814 году, и тут Александра еще можно понять. Николаю же шестнадцать стукнуло в 1812-м, когда быть вдали от армии было просто стыдно.
Один из будущих лидеров декабристов Никита Муравьев (сын одного из воспитателей великих князей Алексанра и Константина в период их юности), будучи, правда, на десять месяцев старше Николая Павловича, с детства не собирался быть военным и даже успел окончить Московский университет — ускоренный выпуск в связи с войной. Затем в августе 1812 он бежал из дому, чтобы принять участие в борьбе. Его схватили бдительные крестьяне, приняв за французского шпиона. После выяснения недоразумений Муравьев постарался быстро приобрести военную подготовку и с сентября 1813 уже всерьез участвовал в войне, хотя и на штабных должностях.
Другой знаменитый вожак декабристов, упомянутый Павел Пестель, был еще старше Николая Павловича — ровно на три года. В армию он попал в декабре 1811 — по окончании Пажеского корпуса, а при Бородине получил ужасающее ранение. Недолечившись, с мая 1813 он снова воевал.
Летом 1812 года оба сына генерала Н.Н.Раевского сопровождали своего отца и участвовали в боях; одному из них было семнадцать лет, другому — одиннадцать!
Кто не помнит Петю Ростова из «Войны и мира»? Но не все знают, что прототипом его был отец самого Льва Толстого — граф Николай Ильич Толстой, который, как и Петя Ростов, пятнадцатилетним сражался в 1812 году с французами, хотя и не погиб; его дальнейшая обыденная судьба досталась в «Войне и мире» Николаю Ростову — с определенным хронологическим сдвигом.
Примеры можно продолжить.
Николай Павлович и его младший брат также рвались на фронт, но, так или иначе, их усилия успехом не увенчались. Последствия оказались более чем плачевными. Во-первых, оба мальчика не получили никаких личных впечатлений о войне и остались в плену собственного детства — с игрой в оловянные солдатики и cозерцанием бесчисленных парадов и разводов караулов. Во-вторых, они лишились возможности приобрести уважение и авторитет у современников, прошедших через множество битв.
1812 год вознес подлинных героев: «Война упорная требовала людей отважных и решительных, тяжкая трудами — людей, исполненных доброй воли», — писал А.П.Ермолов — едва ли не самый квалифицированный из русских полководцев того времени и сам храбрейший человек.
М.Б.Барклай-де-Толли, Л.Л.Беннигсен и М.И.Голенищев-Кутузов, культ которого был раздут Л.Н.Толстым и подхвачен советскими патриотами, были отличными профессионалами, но немногим более того. Величайшим из героев молва заслуженно признала П.И.Багратиона. «Неустрашим в сражении, равнодушен к опасности. Не всегда предприимчив, приступая к делу; решителен в продолжении его. Неутомим в трудах. /…/ Суворов остановил на нем свое внимание, проник в него, отличил, возвысил! Современники князя Багратиона, исключая одного Милорадовича, не были ему опасными», — писал тот же Ермолов, ревниво отмечавший недостатки и преимущества коллег.
Багратиона, которого и Наполеон считал способнейшим полководцем, подстерегла смертельная рана при Бородине.
Михаил Андреевич Милорадович, заслуживший в 1813 году графский титул и ставший рекордсменом по числу награждений боевыми орденами России и Европы, остался вне конкуренции в рядах российских военных героев.
Он казался настоящим сверхчеловеком, обладал совершенно индивидуальной моралью и никому не считал себя подотчетным. Возможно, он придерживался и нестандартной сексуальной ориентации (свидетельства об этом — ниже); никогда, во всяком случае, не был женат. Если по храбрости он не уступал никому из известных полководцев, то по удаче ему не было равных: сквозь все битвы он прошел без единой царапины, хотя не раз возглавлял штыковые атаки!.. Мастерство и твердость его командования были таковы, что лишь единожды в жизни он утратил управление войсками на поле боя. Это случилось в 1805 году — настолько ужасен был удар Наполеона при Аустерлице! Тогда же, кстати, психологически сломался и Кутузов, но с гораздо тяжелейшими последствиями, до конца жизни так и не сумев восстановить прежнюю уверенность и решительность.
Воином-поэтом назвал Милорадовича А.И.Герцен, часто видевший его в детстве среди друзей своего отца и премного наслышанный о нем. Восхищение Милорадовичем сквозит в каждом из скупых слов, написанных о нем Герценом. Увы, Герцен, посвятивший всю жизнь созданию кумиров из совершеннейших ничтожеств, не мог по понятным партийным соображениям избрать Милорадовича в свои герои. Фронтон его «Полярной звезды» украшался профилями пятерых казненных декабристов — в том числе убийцы Милорадовича П.Г.Каховского. Последний был явно неполноценной личностью, а собственную военную карьеру загубил мелкой кражей, как, кстати, и еще более великий революционер — друг Герцена М.А.Бакунин.
В 1812 году Милорадович командовал сначала арьергардом, а затем авангардом русских войск, т. е. был почти в непрерывных схватках с французами. Ермолов написал Милорадовичу после одной из его отчаянных выходок в октябре 1812 года: «Надобно иметь запасную жизнь, чтоб быть везде с вашим превосходительством!»
И тот же Ермолов так характеризовал его в своих записках: «Генерал Милорадович, человек при дворе ловкий». Среди иллюстраций на эту тему Ермолов привел рассказ самого Милорадовича о кампании 1806 года против турок: «Я, узнавши о движении неприятеля, пошел навстречу; по слухам был он в числе 16000 человек; я написал в реляции, что разбил 12000, а их в самом деле было турок не более четырех тысяч человек» — но, так или иначе, Бухарест был тогда взят! Пересказ эпизода Ермолов завершил собственным комментарием: «Предприимчивость его в сем случае делает ему много чести!»
А.И.Солженицын, восставший в «Августе четырнадцатого» против толстовского Кутузова, который якобы считал, что военное дело все равно идет независимо, так, как должно идти, не совпадая с тем, что придумывают люди; что есть неизбежный ход событий и лучший полководец тот, кто отрекается от участия в этих событиях (вспомним цитированного А.В.Карташева!), справедливо заметил: «Упустил и Лев Толстой, что при отказе от распоряжений тем пуще должен уметь военачальник писать правильные донесения». Со своей стороны подчеркнем, что Милорадович был как раз из тех немногих, что никогда не отказываются от распоряжений и одновременно великолепно расписывают их в донесениях!
Интересено повествование Ермолова, записанное в 1807 году, о том, как Милорадович едва не избежал катастрофы еще накануне Аустерлица; Ермолов, тогда подполковник, сам был свидетелем происшедшего. Милорадович командовал отдельной бригадой, в тяжелейших боях прикрывавшей отступление русской армии. Внезапно к нему обратился француз-парламентер со странным предложением — убрать передовые посты, обязуясь со своей стороны в течение дня не предпринимать ничего против отступающих. «Милорадович, исполненный мечтаниями о рыцарских блаженных временах, /…/ не дерзнул оскорбить рыцаря недоверием к словам его, и, как должно, не спросив его о имени, приказал снять посты». Неприятель немедленно постарался выдвинуться на господствующие фланговые позиции, и бригада оказалась в мешке. Самое существенное в изложении — свидетельство о том, как сразу после открытия обмана Милорадович пусть совсем ненадолго, но весьма основательно потерял голову. Только наступившая ночь спасла русских от неминуемого разгрома. После полуночи, имитировав огнями остающийся бивак, Милорадович вывел войска из ловушки. Вкупе с Аустерлицким боем это создает впечатление, что Милорадович был все-таки не стопроцентный супермен, но великий воин, не лишенный минутных человеческих слабостей. Свой рассказ хладнокровный Ермолов завершил сомнением-пожеланием: «не знаю, воспользуется ли рыцарь благосклонного счастия вразумительных уроков».
С этим эпизодом отчасти перекликаются истории о совместных чаепитиях Милорадовича с другим таким же героем, маршалом Мюратом, в паузах между боями 1812 года. «Третьего подобного не было в армиях!» — характеризовал их обоих Ермолов.
Кстати, курьезы последнего рода принято толковать, как примеры бесшабашности Милорадовича. Однако, учитывая гораздо большую политическую тонкость, каковой обладал Милорадович по сравнению со сложившимся о нем стереотипным мнением, этому фрагменту 1812 года (не 1805!), возможно, следует придавать совершенно иное значение — а именно тайного зондажа взаимных намерений сторон, ввязавшихся в борьбу заведомо более серьезных масштабов, нежели предполагалось заранее. Можно не сомневаться, что если бы была возможность усилить дипломатическим путем позиции русских, то Милорадович ее не упустил. Но в 1812 году договариваться с французами было не о чем. Впрочем, подобные ответвления несколько уводят нас от основного русла повествования…
Победа 1812 года перевернула все российские и европейские реалии.
Спустя четверть века один из доморощенных экономистов и публицистов, Р.М.Зотов, писал: «1812-й год подобно сильной грозе очистил Русский воздух, зараженный унизительным пристрастием ко всему иностранному. С тех пор Россия, спасшая Европу, имела полное право гордиться собственною национальностью, — а теперь, вот уже близ 25-ти лет, как чувство народной гордости быстро развивает самобытный тип Русского народа».
Начало истерической патриотической пропаганде положили «Письма» И.М.Муравьева-Апостола (отца знаменитых братьев-декабристов), написанные еще во время наполеоновской оккупации Москвы. Затем эстафету подхватил будущий непосредственный участник заговора Ф.Н.Глинка — адъютант Милорадовича, написавший в новогоднюю ночь 1813 года знаменательные строки: «Русский, спаситель земли своей, пожал лавры на снегах ее и развернул знамена свои на чужих пределах. Изумленная Европа, слезами и трауром покрытая, взирая на небо, невольно восклицает: «Велик Бог земли русския, велик Государь и народ ее!»» — обе агитки были опубликованы и снискали признание в 1813 году.
Идеологический поворот был радикальным: от культа европейской цивилизации, насаждаемого преемниками Петра I, к восхвалению самостоятельности и самобытности России.
Этот замечательный тезис был сразу подхвачен в правительственных кругах и использован в дискуссиях вполне практического свойства. Пионером стал В.П.Кочубей, заявивший в 1815 году, что у России — свой путь, а развитие промышленности ей противопоказанно. Он ратовал, например, за понижение таможенных пошлин, защищающих отечественную промышленность, но одновременно препятствующих развитию сельскохозяйственного экспорта — основной статьи помещичьих доходов (о перепитиях международной таможенной практики 1815–1825 гг. и всем комплексе порожденных ими проблем — подробнее ниже).
Тут же восхищение российской самобытностью было распространено на восхваление существующих крепостнических порядков. Чисто охранительные настроения, и без того господствовавшие в помещичьей среде, были значительно усилены победой, достигнутой над вторгшимся врагом.
Тон в пропагандистской кампании задал популярнейший печатный орган «Дух журналов». В 1817 году один из его авторов, скрывшийся за звучным псевдонимом «Русский дворянин Правдин» (от него так и веет Аракчеевым!), прямо ссылался на поддержку крепостничества самими крепостными: «ясным доказательством тому служит 1812 год, когда они не только отвергли коварные обольщения врага общего спокойствием при вторжении его в наше Отечество, но и вместе с помещиками своими устремились все на защиту домов своих и милой родины».
Что касается коварных обольщений врага, то Наполеон действительно тщетно пытался вызвать народное восстание в России, выпустив в 1812 году манифест об отмене крепостного права. Вот тут-то и сказалась завидная предусмотрительность властей о пресечении народного образования: при подавляющем преобладании неграмотных правительственные распоряжения доходили до населения исключительно путем зачтения их священниками в церквях. Зачтенный манифест становился важным и волнующим проявлением живой, хотя и односторонней связи Царя, Богом установленного, с каждым из его православных подданных.
В данном же случае попы проявили патриотизм и не стали читать наполеоновский манифест. Наполеоновская провокационная агитация, таким образом, просто не добралась до русских мужиков, и Наполеон лишился гораздо более действенного оружия, чем его полководческий гений и сила штыков и артиллерии: во всей Европе (в том числе — в Польше) он обезоруживал противника, отменяя существовавшее там не рабство, а обыкновенное крепостное право.
Что же касается судьбы вторгшейся французской армии, то как еще должны были мужики и бабы относиться к оккупантам-грабителям?.. По той же причине французы не получили даже необходимой им помощи польских помещиков, в принципе поддерживающих Наполеона, обещавшего им национальную независимость.
Так и получилось, что всеобщий патриотизм, захватив все слои населения, стал как бы признанием справедливости существующего строя всем российским народом.
Вам это не напоминает 1941–1945 годы?..
В том же 1817 году другой анонимный корреспондент «Духа журналов» так писал из путешествия по Рейнской области: «О несчастное слово вольность!.. Здешние мужики все вольны! — вольны, как птицы небесные, но так же, как сии бесприютны и беззащитны погибают от голода и холода. Как бы они были щастливы, если бы закон поставил их в неразрывной связи с землею и помещиками! По крайней мере они были бы уверены, что не пропадут с голоду, и не пойдут скитаться по миру с нищенскою сумою; были бы уверены, что Господа их или помещики стали бы беречь их и защищать от обид, как свою собственность, хотя ради своей выгоды. Но теперь они свободны! — и только пользуются сею свободою на то, чтоб оставя свое Отечество, бежать за моря, искать себе пропитания.
Но что я говорю об Отечестве?.. Где у них Отечество? что привязывает их к родимой стороне? и могут ли такие люди пламенеть любовию к Отечеству? Его нет у них! /…/
Было время, когда состояние крепостных людей в России почиталось от иностранцев рабским и самым жалостным. Теперь они узнали свое заблуждение»!
Уже цитированный «Правдин» разъяснял, что в России имеется даже бесплатное медицинское обслуживание, начисто отсутствующее на Западе: «ежели к нещастию кто в семье опасно занеможет, то не долго до разорения, ибо докторов и аптекарей много в тех местах; жить всем хочется, и они никак не допустят богатого мужика умереть без их помощи; не так как наш крестьянин, который умирает просто без дальних затей, хотя бы и не по правилам Медицины, ежели доброму его помещику не удалось вылечить его какими-нибудь простыми средствами и безденежно; там же ничего даром! /…/ все сношения их между собою основаны единственно на деньгах».
В течение следующих четырех десятилетий подобный тон при сравнении России с Западом стал практически повсеместным, в особенности по отношению к Англии — авангарду современного капитализма.
Совершенной иной реакция на происшедшие события оказалась у их главного героя — императора Александра I. От триумфа побед (тем более, что в 1813–1814 гг. он сам проявил себя как незаурядный полководец) у него вскружилась голова. «12 лет я слыл в Европе посредственным человеком; посмотрим, что они заговорят теперь», — сказал он Ермолову при вступлении в Париж в 1814 году. Царь действительно оказался не только вождем победоносного российского воинства, но и вершителем послевоенных порядков в Европе.
Подобно тому, как современная Германия ведет свою политическую родословную не с гитлеризма, а с оккупационного режима, установленного в 1945 году, так и демократическая Франция ХIХ-ХХ вв. началась не с Великой Французской революции или Наполеона, а с иноземной оккупации 1814–1815 гг. Этот факт не получил должной оценки в России в силу влияния культа революций, созданного русской интеллигенцией еще в ХIХ веке.
В 1944 году Г.П.Федотов справедливо отметил: «Трудно понять, каким образом Великая французская революция могла считаться колыбелью свободы. Так думают люди, для которых ярлыки и лозунги важнее подлинных исторических явлений. Верно то, что революция шла под великим лозунгом свободы, равенства и братства, но верно и то, что в истории Франции не было эпохи, когда эти начала предавались бы так жестоко, как за четверть века революционной эпохи. Эти лозунги, или воплощенные в них идеи, были, конечно, созданием не революции, а ХVIII века. Созданием революции была централизованная Империя. /…/ Грандиозное, административно-совершенное здание Империи закрепило все положительные «завоевания» революции, раздавив всю ее идеологию. Империя Наполеона не есть ни реакция против революции, ни ее несчастное извращение, но логически необходимое завершение. Революция так радикально выполола мечту о свободе и даже потребности в ней, что никакая серьезная оппозиция не угрожала Империи. Она могла бы существовать хотя бы целое столетие, если бы ее не свергла иноземная интервенция.
Свободу Франции и Европы спасла Англия и спасла дважды: отстояв свой остров от Наполеона — единственный оазис свободы в Европе 1812, как и 1940 года — и подарив — вместе с императором Александром — конституционную хартию Франции 1814 года. Только с Реставрацией начинают всходить слабые ростки французской свободы: представительные учреждения, либеральная пресса, свободное слово парламентской оппозиции».
Остается только посожалеть, что в 1812 году потерпела поражение не Россия — пусть даже это и вызовет обвинения в антипатриотизме! Ведь в 1812 году Наполеон вовсе не угрожал самому существованию русского народа, как в 1941 году Гитлер, не говоря уже об отношении нацистов к поголовно истребляемым евреям и цыганам! Основное, что Россия могла утратить в 1812 году — это крепостное право. Едва ли это привело бы Россию к худшей катастрофе, чем в 1917 году, а империя Наполеона вряд ли смогла и после победы просуществовать целое столетие — уж очень эфемерной и нежизнеспособной была система «континентальной блокады»!.. Но того, что было, не вернешь. Тем более не вернешь того, чего не было…
Но Александр I даровал свободу не только Франции. В основной части Польши, закрепленной под скипетром России, в 1815 году была введена конституция, едва ли ни самая либеральная в тогдашней Европе — тенденция дальнейших преобразований становилась все более понятной.
Помимо прочего, у Александра возникла такая свобода рук для проведения государственных преобразований, какой не могло быть до 1812 года. Россия получила столь значительные субсидии и от союзников, признавших ее решающую роль в общей победе, и от восстановленного монархического правительства Франции, что это позволило временно залатать все прежние бреши в государственном бюджете.
Окончательно были урегулированы и конфликты вокруг внешнего долга, от которого скандально отказался Павел I: главные заботы о его погашении взяла на себя также Великобритания — выплаты продолжались до 1891 года!
Теперь, казалось бы, никто в России не посмеет противоречить царю-триумфатору — и можно браться за реформы.
Практические шаги Александра не замедлили себя ждать.
2. Александр I и заговорщики: завязка конфликта
Все началось с «военных поселений», принципы которых сформулировали независимо друг от друга А.А.Аракчеев и Н.С.Мордвинов еще в 1809 году. Приверженцем идеи «военных поселений» стал и М.М.Сперанский.
Создавать их начали в 1810 году переводом некоторых армейских частей на хозяйственную деятельность. Это, как легко видеть, была новая попытка облегчить содержание армии в мирное время, которая, с одной стороны, воспроизводила оккупационную систему Петра I, а с другой — предвосхищала большевистские «трудовые армии» 1920–1921 гг.
По завершении Наполеоновских войн потребность в военных поселениях резко возросла, а причины были те же, что и у Петра I, и у большевиков: невозможность демобилизации излишних войск.
В 1812 году в армию было набрано около миллиона рекрутов и до трехсот тысяч ополченцев. В последующие два года мобилизация продолжилась. Несмотря на ужасающие потери, большинство благополучно вернулось в Россию — и притом с вполне определенными настроениями! Ведь не только офицеры (о которых ниже), но и солдаты, наглядевшись на Европу, заразились духом свободолюбия.
Распускать такую орду по русским деревням было бы смертью для режима! Барклай-де-Толли, возражавший против военных поселений и предлагавший зачислять демобилизованных в «вольные хлебопашцы», явно недооценивал подобную перспективу. К тому же индивидуальное размещение по России и наделение землей такой массы людей, имевших где-то родину и родных — в том числе крепостных рабов, представлялось задачей неимоверной организационной и финансовой сложности.
Лишь частично применением излишнего армейского контингента стало завоевание Кавказа: формально оно длилось с 1817 по 1864 год, но, как известно, не завершилось по сей день.
Разумеется, требовалось радикальное решение проблемы, и, конечно, правительство остановилось на том же, что и его предшественники за век до того и преемники через век!
Кроме того, Александр I, искавший альтернативу помещичьим имениям, был не прочь поэкспериментировать: возникла очевидная тенденция обратить военные поселения в основу всей экономики России. Именно на таких путях Александр и попытался найти решение поставленной им задачи: создать мощную российскую экономику, основанную на крестьянском труде.
Во главе военных поселений был поставлен Аракчеев, в 1812–1814 гг. фактически игравший роль секретаря и делопроизводителя императора.
Аракчеев постарался внедрить в военных поселениях дисциплину, подобную той, что он установил в собственном имении — знаменитом Грузине, о котором сохранились интереснейшие рассказы очевидцев: «в обширном хозяйстве Грузина все было на учете: поголовье скота, хозяйственный инвентарь и даже отдельные вещи, находящиеся в доме. Каждая комната имела свой инвентарь, где было вписано все, что заключалось в этой комнате. Инвентарь этот висел на стене, и рукой самого графа было подписано: «Глазами гляди, а рукам воли не давай»».
Нашим современникам, которые еще не забыли лозунги, украшавшие стены и заборы в коммунистическую эпоху, напомним, что учет и контроль — главное при социализме!
При этом, разумеется, в Грузине «всегда стояли кадки с рассолом, в котором мокли палки и прутья, приготовленные для расправы с крестьянами и дворовыми».
Увы, не все было подвластно Аракчееву. Герцен позже ядовито заметил: «Как ни старался, напр[имер], граф Аракчеев, чтоб на всех полосах у поселенцев рожь была одной вышины, цель не была достигнута».
Соратник Герцена Огарев не видел в военных поселениях вовсе ничего, кроме присущего Аракчееву стремления к беспредельной дисциплине: «Александр I, все более и более мучимый мыслью об убийстве отца, в котором был невинным участником, и мистицизмом, и недоверием к людям, решительно подпал под влияние /…/ Аракчеева /…/. Аракчеев мешал ему делать что-нибудь для освобождения России».
Несимпатичному графу Аракчееву современники и потомки отвели незавидную роль ответственного за все минусы политики Александра I — совсем как в анекдоте:
— Петька, кто взял Бастилию?
— Василий Иванович, сколько ж можно! Как кто что взял, так сразу — Петька!
Как раз упорное расширение военных поселений инициировалось отнюдь не Аракчеевым: хотя тот и стоял, как упоминалось, у истоков этой идеи, но вовсе не собирался придавать ей столь всеобъемлющий характер. Лишь убедившись в неколебимости желаний и стремлелий царя, «Аракчеев, твердо решив ни с кем более не делить своего первенствующего положения, всецело взял на себя дело военных поселений, которому он сам не сочувствовал, против которого первоначально пытался возражать», — отмечал историк начала ХХ века А.А.Кизеветтер, автор солидного исследования «Император Александр I и Аракчеев».
В своих стремлениях император следовал идеалу, заложенному Пугачевым и развитому впоследствии Лениным. Ведь и последний, как указывалось, собственными деяниями создал «разруху» и низвел Россию до положения крестьянской страны, управляемой диктаторским аппаратом. Разумеется, заранее Ленин вовсе не собирался по-пугачевски грабить российских крестьян, оставшихся единственными производителями жизненных припасов, а продумывал глубокомысленные варианты преобразования управления не только Россией, освобожденной от гнета капиталистов и помещиков, но и всем человечеством — вроде смехотворного отмирания государства при коммунизме!
Вот и Александр I, как и его отец, считал помещиков бесполезными паразитами — не на службе, конечно, куда и Павел, и Александр их усиленно зазывали (да и на кого им еще оставалось опираться в государственном управлении?!), а в деревенском хозяйствовании. Притом Александр вовсе не был сторонником свободного крестьянского труда, а вполне определенно склонялся к принудительной организации сельского хозяйства. По сути, он желал видеть себя в России единственным помещиком — не только из корысти и честолюбия, но и из государственных интересов, как он их понимал.
Печальная суть истории России в том, что этот общий «идеал», восходящий к оккупационной системе Петра I, на протяжении нескольких столетий оставался центром российской идеологической мысли, вокруг которого происходили и теоретические споры, и велась нешуточная политическая борьба.
Сознаемся, что вовсе не нами впервые отмечены параллели между революционерами других времен и Александром I с его ближайшими родственниками. Еще в 1834 году, беседуя с одним из братьев Александра, великим князем Михаилом Павловичем, А.С.Пушкин заявил: «Вы истинный член вашей семьи: все Романовы революционеры и уравнители» — а ведь Пушкин был одним из немногих, понимавших толк в русской истории!
Итак, на Россию обрушилось создание военных поселений. Дело было серьезным, и всполошились не только те, кого это непосредственно коснулось.
П.И.Пестель, С.П.Трубецкой и другие идеологи занялись теоретическим обоснованием неприемлемости «нового» пути. Возражения получились вполне грамотными и исчерпывающими.
Трубецкой обратил внимание на то, что военные поселения формируют совершенно новый социальный класс, который по самой своей сути может получить антидворянскую и вообще антинародную направленность: поселения составят «в государстве особую касту, которая, не имея с народом почти ничего общего, может сделаться орудием его угнетения», и, «составляя особую силу, которой ничто в государстве противостоять не может, сама будет в повиновении безусловном нескольких лиц или одного хитрого честолюбца» — суть намерений царя от него не ускользнула, да и в 1920 год он провидчески заглянул!
Еще более четкими оказались рассуждения Пестеля, противопоставлявшего фермеров, ведущих самостоятельные хозяйства, единому казенному организованному производству. Они камня на камне не оставляют от идеи национализации сельского хозяйства: «Фермер тратит в течение некоторого времени почти весь свой доход на улучшения в надежде получить больший через несколько лет. Правительство не может вести таких расчетов. В управлении имениями оно преследует чисто финансовые цели; оно стремится исключительно к увеличению ежегодного дохода. Расходы не позволяют ему делать большие сбережения из чистой прибыли, поэтому правительство не в состоянии предпринимать крупных улучшений», — слова эти звучат погребальным звоном для всех попыток поднять сельское хозяйство в Советском Союзе!
Неповоротливость и беспомощность общегосударственного хозяйства по сравнению с фермерской инициативой были предвидены Пестелем весьма убедительно.
К сожалению, коммунисты — к собственному их несчастью и к еще большему несчастью народов Советского Союза — не удосужились ознакомиться с творческим наследием Пестеля и усвоить его. Пропала даже гениально разработанная идея окончательного решения еврейского вопроса. Считая евреев совершенно бесполезной нацией, Пестель предлагал их собрать всех вместе, вооружить и отправить в поход на отвоевание Палестины. Поскольку турки, несомненно, воспротивятся этому, а евреи сами с турками не справятся, то, естественно, в помощь евреям следует отрядить всю русскую армию. Не правда ли, очень мило?
Не был знаком с этой идеей Сталин или все же не решился полностью ею воспользоваться, но воссоздание Израиля произошло несколько по иному сюжету.
Идеалом дворян, включая большинство декабристов, и прежде всего — П.И.Пестеля, были английские помещики, сгонявшие крестьян с земли и организующие на ней образцовые хозяйства фермеров-арендаторов. Лишь в последнем варианте проекта конституции декабриста Н.М.Муравьева принципиально признавалась желательность сохранения усадебной земли при крестьянских дворах. То же считал необходимым и Н.И.Тургенев, но не видел способов практического разрешения этой задачи!
Две попытки членов тайного общества практически реализовать собственные прогрессивные идеалы также свелись к намерению дать крестьянам личную свободу и вовсе изгнать их с занимаемой ими земли. Как видим, декабристов совсем не смущало обращение русских крестьян в рейнских мужиков, перспектива которого не без оснований волновала авторов «Духа журналов».
Первую из них попытался осуществить летом 1819 года И.Д.Якушкин. Он предложил крестьянам получить вольную и убираться на все четыре стороны. Предложение, почему-то, успеха не имело. Тогда Якушкин решил осуществить это мероприятие в одностороннем порядке — насильственным образом. Но дело уперлось в сопротивление властей: сам глава Хозяйственного Департамента Министерства внутренних дел С.С.Джунковский (дед одного из крупнейших российских политиков начала ХХ века и нашего будущего героя) разъяснил Якушкину противозаконность его намерений — со ссылкой на закон от 14 декабря 1807 года!
Любопытно, что Джунковский, как следует из его собственной публикации 1804 года, тоже был принципиальным противником крепостничества! Что же касается Якушкина, то незадачливый заговорщик и террорист завершил описание данного эпизода сожалением, что российские крестьяне еще не доросли до понимания блага свободы!..
Вторую попытку предпринял М.С.Лунин в 1826 году — накануне суда над декабристами, когда всем подсудимым, в предвидении смертного приговора (к счастию, не сбывшемуся в отношении абсолютного большинства обвиняемых), было предложено написать завещания. В своем завещании Лунин отпускал крепостных на волю, оставляя землю своим законным наследникам-родственникам; этот демарш также немедленно был предотвращен властями как противозаконный.
Чисто умозрительно, идеи декабристов действительно были весьма прогрессивны — ну что бы им выступить с этими предложениями хотя бы лет на сто раньше! Но почти целый век интенсивного роста численности сельского населения сделал эти идеи утопией, попытка воплощения которой пролила бы море крови, ибо лишение русских крестьян земли тогда, когда ее и так-то на всех уже не хватало, вызвала бы вполне понятное их отношение, и избежать новой гражданской войны было бы невозможно.
Общеупотребительная версия о том, что тайные общества в России стали выражением вольнолюбивого духа, почерпнутого офицерством в результате знакомства с европейскими порядками во время походов 1813–1815 гг., достаточно справедлива. Поначалу кружки не преследовали конкретных политических целей — людям просто было приятно собираться и свободно болтать на любые темы. Для героев ушедшей войны требовалось, кроме всего прочего, и какое-то подобие дела, способное утолить темперамент, сорванный с тормозов постоянным нервным перенапряжением предыдущих лет.
Психологические проблемы перехода от войны к миру — это вечные проблемы всех времен и народов. Основой возникавшего сотрудничества были отчасти близкие родственные связи, отчасти — боевая дружба, а новые знакомства легко находились в среде, где по европейскому примеру криком моды стали масонские ложи, в которых и вызревали первоначальные семена свободомыслия.
Не один П.И.Пестель, например, задумался над решением еврейского вопроса. Основатели в 1814 году первого тайного общества в России, «Ордена русских рыцарей», М.Ф.Орлов и М.А.Дмитриев-Мамонов пришли к идее насильственного обращения по крайней мере половины евреев в христиан и распределения их по малонаселенным краям России — вполне определенный прообраз Биробиджана.
Но деятельность императора обратила ход мыслей вольнодумцев в ином направлении.
Польше, как упоминалось, была дана конституция, и встал вопрос о том, чтобы наделить подобным благодеянием и Россию — это не могло не радовать дворян. Но одновременно и небезосновательно росли слухи и о наступлении царя на крепостное право.
Лишь немногие из виднейших дворян попытались внести в это дело собственную инициативу: в 1816 году проекты ликвидации крепостного права были независимо друг от друга представлены Н.С.Мордвиновым и П.Д.Киселевым. Появлялись и другие публикации на ту же тему, отчасти вызванные еще конкурсной задачей Вольного Экономического Общества 1812 года.
В 1816–1819 гг. развернулась обещанная аграрная реформа в Прибалтийских провинциях. По времени и по духу она перекликалась с аналогичными реформами в Пруссии и других государствах Центральной Европы; реформа ориентировалась на интересы крупных земельных собственников, но обеспечивались и права низших слоев.
В ответ 9 февраля 1816 года гвардейские офицеры Никита Михайлович Муравьев, князь Сергей Трубецкой, Павел Пестель и Сергей Шипов образовали новое тайное общество под многозначительным названием — «Союз спасения». Вскоре к ним присоединились и другие персонажи — Александр Николаевич Муравьев, выдвинувшийся тогда среди них на первую роль, братья Матвей и Сергей Муравьевы-Апостолы, Якушкин, Лунин, Глинка и т. д. К концу 1817 года число участников тайного общества дошло аж до трех десятков человек!
Лунин первым затеял цареубийственные разговоры — еще в конце 1816 года. Не случайно и Пестель зачастил в имение опального П.А.Палена — оба великих конспиратора, старый и молодой, явно были довольны взаимным общениием!
В годы, последовавшие за Наполеоновскими войнами, Александр I пытался поддерживать боеспособность гвардии, отправляя ее в походы по российской территории; позднее эта практика сократилась в связи с очевидной нехваткой средств.
Летом 1817 года Гвардейский корпус был направлен в Москву, где и пробыл до весны 1818 года. Ядро заговорщиков-гвардейцев попало, таким образом, в старую столицу, где местное дворянство, испытавшее значительные финансовые невзгоды в связи с пожаром 1812 года и прочими военными бедствиями, было особенно резко настроено по отношению к эмансипаторским потугам царя.
Мало того, на пути из Петербурга гвардия проследовала через местности, где в Новгородской губернии как раз происходило создание военных поселений. При этом в поселенцев обращали не только солдат, но и государственных крестьян тех селений, которые брались за основу новых хозяйств. Военной дисциплине подчиняли не одних хлебопашцев, но и все их семейства — с женщинами и детьми. Стон стоял всеобщий.
К проезжавшему начальству селяне валились в ноги толпами, прося избавить от жуткой участи. Явочным порядком посылались делегации в столицу и к цесаревичу Константину Павловичу. Но все было тщетно. Известна реакция Александра I: военные поселения будут «хотя бы пришлось уложить трупами дорогу от Петербурга до Чудова».
До трупов дело тогда не дошло, но и народное возмущение, и угрозы царя были вполне серьезны: когда в июле-августе 1819 года возникло прямое неповиновение в Чугуевских военных поселениях на Украине, то оно было подавлено жесточайшим образом.
По Москве в 1817 году ходила «самиздатом» рукопись В.Н.Каразина. Этот известный публицист, вступавший в конфликты еще с Павлом I, в первые годы правления Александра был деятельным помощником молодого царя — стал, в частности, инициатором и создателем Харьковского университета. Позднее Каразин надоел Александру бесцеремонностью в подаче советов, и утратил статус доверенного сотрудника. Теперь он встал на защиту крепостного права — совершенно в стиле популярного в то время «Духа журналов».
Александр Муравьев разобрал рукопись Каразина, взвесил все за и против, и подал свои соображения царю — через П.М.Волконского. Прочитав, Александр I вынес вердикт: «Дурак! Не в свое дело вмешался!» Кстати, едва ли это было приятно и Волконскому!
А.Н.Муравьева же публично подвергли аресту — вскоре, впрочем, без последствий отмененному. Царь вполне ясно продемонстрировал, что не намерен допускать дискуссий о преобразовании России.
Заговорщики, в свою очередь, поняли, что в их советах не нуждаются — и пришли к обоснованным выводам. Александр Муравьев к политике заметно охладел, чего нельзя сказать о многих других.
Остававшийся в Петербурге член Общества князь С.П.Трубецкой — неутомимый интриган и провокатор — прислал из столицы письмо к единомышленникам в Москву, живописуя пристрастия императора к полякам и якобы имевшееся намерение последнего отдать во власть Польши западные провинции России — для распространения на них польских порядков. В Польше же крепостное право, напоминаем, было уничтожено Наполеоном в 1807 году и позже не восстанавливалось.
Именно как реакция на это письмо в руководящем ядре «Союза спасения» вроде бы всерьез возникло намерение к цареубийству. Решили даже бросить жребий — кого принести в жертву, но тут Якушкин принял почин на себя. Все советские историки тщательно обходили мотивацию этого героического стремления (в лучшем случае упоминался только общеизвестный факт, что Якушкин пребывал в тот момент в слишком возбужденном состоянии, вызванном его личными романтическими проблемами), а ведь она весьма прозрачна. Якушкин, только что вышедший в отставку двадцатичетырехлетний гвардейский капитан, был смоленским помещиком и, следовательно, мог стать жертвой предполагаемой реформы, если бы ее действительно стали проводить.
Ближайшие соратники Якушкина — М.А.Фонвизин и С.И.Муравьев-Апостол — сначала поддержали его, а затем, немного поразмыслив, принялись отговаривать. Муравьев-Апостол составил даже письменное возражение, обоснованно заявив, что тайное общество в сложившихся условиях никак не сможет воспользоваться удачным результатом покушения. Срочно вызванный ими в Москву Трубецкой ничем не мог обосновать справедливость распущенного им слуха. Якушкин обиделся и на пару лет отошел от заговорщицкой деятельности.
Сами же лидеры Тайного общества, обеспокоенные проникновением слуха о намерении цареубийства в публику, совершили классический масонский трюк: объявили Общество распущенным и создали новое — «Союз благоденствия», куда собрали наиболее надежных из прежних заговорщиков. Этому акту предшествовало чрезвычайно важное событие.
15/27 марта 1818 года в знаменитой Варшавской речи царь обещал России конституцию и притом позволил себе прямо высказаться против крепостного права.
Сразу после Варшавской речи царь отдал указания подготовить детальную проработку этого вопроса своим ближайшим помощникам — фактическому главе правительства графу А.А.Аракчееву и будущему министру финансов Е.Ф.Канкрину. Оба последних не были энтузиастами крестьянской эмансипации, но добросовестно справились с поставленной задачей.
Аракчеев посчитал необходимым государственное посредничество для проведения выкупа. По его плану помещики освобождались бы от долгов казне и сохраняли значительную часть земельной собственности, а крестьяне приобретали свободу и получали нищенский земельный надел — по две десятины на семейство, за который были бы обязаны погашать прежние долги помещиков государству. Почти так и осуществилось через полвека — после 1861 года!
Канкрин же сделал упор на продолжительности и постепенности выкупной операции — это тоже в известной степени предвосхитило ход крестьянской реформы Александра II.
Слух о поручении, данном Аракчееву, стимулировал публикацию и иных проектов раскрепощения (А.Ф.Малиновский, Н.В.Зубов и др.); о некоторых нам еще придется упомянуть — в достаточно странном контексте.
Одновременно прежнему соратнику царя Н.Н.Новосильцеву было поручено составить проект российской конституции. Текст «Уставной грамоты» Новосильцева (соавторами были П.А.Вяземский и француз Дешамп) получил в последующие годы значительное распространение.
Николай I, которому террористические замыслы Якушкина стали известны только в 1826 году, высказал предположение, что угнетенное состояние духа Александра, наблюдавшееся не одним Николаем, было следствием сведений об этом, дошедших до царя, заезжавшего после Варшавы в Москву в 1818 году. Согласимся, что это вполне возможно, но укажем, что поводы радоваться у царя должны были исчезать по мере того, как до него доходила реакция на Варшавскую речь и на его последующие выступления.
С.П.Трубецкой писал: из Варшавы государь «выехал не прямо в Москву, но чрез западные губернии и Малороссию. Кажется, что цель этой поездки была приготовить мысли жителей этих губерний к свободе крестьян. /…/ В речи своей к малороссийским дворянам государь объявил о своем намерении, но в сердцах их не нашел сочувствия. Сопротивление изъявилось в ответных речах губернского предводителя полтавского Широкова и черниговского. Это кажется поколебало твердость государя, ибо в Москве он удержался от выражения своей мысли касательно этого предмета. /…/ он хотел от дворянства единственно повиновения своей воле, а не содействия».
Варшавская речь озадачила даже наиболее деятельных из соратников Александра: А.П.Ермолов, А.А.Закревский, П.Д.Киселев, И.Ф.Паскевич, Ф.В.Растопчин единодушно высказывались против.
Характерен отзыв Сперанского, пребывавшего тогда в Пензе. Лишенный прежнего щедрого государственного содержания и не уверенный в своем служебном будущем, он по-иному теперь расценивал помещичьи заботы. В письме к А.А.Столыпину он писал: «Вам без сомнения известны все припадки страха и уныния, коими поражены умы московских жителей варшавской речью. Припадки сии увеличены расстоянием, проникли и сюда. И хотя теперь все еще здесь спокойно, но за спокойствие сие долго ручаться невозможно… Можно ли предполагать, чтоб чувство, столь заботливое и беспокойное, сохранилось в тайне в одном кругу помещиков? Как же скоро оно примечено будет в селениях (событие весьма близкое), тогда родится или, лучше сказать, утвердится (ибо оно уже существует) общее в черном народе мнение, что правительство не только хочет даровать свободу, но что оно ее уже и даровало, и что одни только помещики не допускают или таят ее провозглашение. Что за сим следует, вообразить ужасно, но всякому понятно… Вы довольно меня знаете и поверите, что говорю не из трусости, хотя, правду сказать, отваживаю не менее других, отваживая Ханеневку, т. е. 30 тыс. руб. доходу, все, что имею и иметь могу».
Именно в ответ на Варшавскую речь и было объявлено создание «Союза благоденствия» — провозглашенные цели его, сформулированные достаточно уклончиво, особого значения не имели: всякому было ясно, для чего он создан и против кого направлен — число его членов в короткий срок превысило две сотни человек.
Реакция дворянства была вполне однозначной, и страхи, вновь охватившие царя, имели теперь вполне весомые оправдания.
Характерно и его поведение в тех нечастых ситуациях, когда ему теперь случалось столкнуться с явным протестом.
Возмущенный проведением реформы в Прибалтике, лифляндец Т.Э.Бок, друг поэта В.А.Жуковского, подал царю в 1818 году конституционный проект, сопроводив его довольно резким посланием: «Мы требуем созвания общего сейма всего русского дворянства, как неделимого целого, для принятия мер, которые положили бы предел беспорядочному управлению и которые избавили бы 40000000 людей от опасности испытывать всевозможные бедствия, как только у одного человека не хватает добродетели или мудрости», — как видим, по смыслу очень похоже на письма самого Александра 1796–1797 гг.
Но то, что позволено Юпитеру — не позволено Боку. И последний не отделался так легко, как А.Н.Муравьев: царь распорядился засадить Бока в Шлиссельбург, откуда через десять лет его извлек Николай I — Бок был уже в состоянии полного помешательства.
С доносчиками в России никогда не было проблем, и сведения о заговоре ручьем потекли к царю. Ответное эхо отчетливо доходило и до заговорщиков.
Якушкин писал: «император находился в каком-то особенном опасении тайных обществ в России. К нему беспрестанно привозили бумаги, захваченные у лиц, подозреваемых полицией. И странно, в этом случае не попался ни один из действительных членов. Это самое еще более смущало императора. Он был уверен, что устрашающее его Тайное общество было чрезвычайно сильно, и сказал однажды князю П.М.Волконскому, желавшему его успокоить на этот счет: «Ты ничего не понимаешь, эти люди могут кого хотят возвысить или уронить в общем мнении /…/». И при этом назвал меня, [П.П.]Пассека, [М.А.]Фонвизина, Михаила Муравьева [— к деятельности этого персонажа нам предстоит неоднократно возвращаться!] и Левашова [— кого-то из соседей Якушкина по смоленскому имению]. Все это передал мне Павел Колошин, приехавший из Петербурга по поручению Н.Тургенева; я был тогда [в 1820 году] случайно один в Москве. /…/ Тургенев заказывал нам с Колошиным быть как можно осторожнее после того, что император назвал некоторых из нас. /…/ Император, преследуемый призраком Тайного общества, все более и более становился недоверчивым, даже к людям, в преданности которых он, казалось, не мог сомневаться. Генерал-адъютант князь [А.С.]Меншиков, начальник канцелярии главного штаба, подозреваемый императором в близком сношении с людьми, опасными для правительства, лишился своего места. Князь П.М.Волконский, начальник штаба его императорского величества, находившийся неотлучно при императоре с самого восшествия его на престол, лишился также своего места и на некоторое время отдалился от двора. /…/ Князь Александр Николаевич Голицын, министр просвещения и духовных дел, с самой его молодости непрерывно пользовавшийся милостями и доверием императора, внезапно был отставлен от своей должности».
Сведения Якушкина, далекого от высшей власти, не блещут точностью деталей. Например, замена в апреле 1823 года П.М.Волконского на И.И.Дибича на посту начальника Главного штаба хотя и имела определенно характер интриги, но вызвана совершенно другими мотивами. Волконский резко разошелся с Аракчеевым в вопросах финансирования армии и вышел в отставку. Он при этом вроде как бы и не лишался доверия императора.
Отставка Голицына в мае 1824 года была вызвана его многолетним конфликтом с церковными иерархами: Голицын тщетно старался уравнять православие с другими конфессиями. Тогда же, в мае 1824, Голицын был снят с поста председателя Библейского Общества в России — международной общехристианской организации, проповедующей Священное Писание; в 1826 году ее деятельность была окончательно запрещена Николаем I. В этом сюжете также как будто не обошлось без Аракчеева, постоянно копавшего под конкурентов за влияние на царя. Притом Голицын не утратил благоволения царя и был оставлен главноуправляющим почтой, которой он заведовал по совместительству еще с 1819 года.
Однако усиление недоверия царя к ближайшим соратникам было фактом: начиная с 1818 года, когда за границу был выставлен, напоминаем, Беннигсен, участилась малообъяснимая перетасовка кадров на самых верхах управления государством и армией. Сановники по очереди попадали в опалу — иной раз безо всяких поводов и причин. Лишились своих постов Кочубей, Закревский — всех не перечислишь. Даже сам Аракчеев считал, что находится под негласным наблюдением!
Характерна и история, явно перекликающаяся с рассказом Якушкина. Когда в 1820 году уже заглохла государственная деятельность по подготовке крестьянской реформы (об этом — ниже), то Н.И.Тургенев — помощник статс-секретаря Государственного Совета, глубоко не удовлетворенный таким развитием (точнее — застоем) событий, подговорил нескольких генерал-адъютантов во главе с князем А.С.Меншиковым и графом М.С.Воронцовым выступить с инициативой, заведомо рассчитанной на одобрение царя: Тургенев составил нечто вроде декларации, в которой подписавшие ее обязались совершенно освободить своих крестьян. Вручение ее вызвало неожиданно отрицательную реакцию — первым делом царь спросил: «Для чего вам соединяться?» Не получив вразумительного ответа, царь весомо посоветовал каждому «работать самому для себя», а предложения индивидуально подавать министру внутренних дел. Огорошенные таким приемом, незадачливые карьеристы не стали, разумеется, ничего далее предпринимать. Участники этой акции действительно некоторое время встречали при дворе довольно прохладное отношение.
В целом Якушкин дал невероятно ценное свидетельство, даже не понимая при этом полного смысла того, что сообщил.
Царь прекрасно был в курсе кадрового состава заговора — одно перечисление названных им Волконскому имен прямо указывает на круг тогдашних идеологов оппозиции. Понимал он и значение исходящей от них пропаганды — отсюда, кстати, и гонения на Пушкина, и расправа над Боком. И речи, следовательно, не может идти о том, что никто из заговорщиков не попался. Но совсем всерьез к ним самим он относиться не мог. Косвенное признание обоснованности подобного отношения к заговорщикам и к уровню их притязаний содержится в самом тексте отрывка.
Литературное наследство Якушкина значительно, но самыми ценными являются приведенные нами фразы — ведь они написаны непосредственно одним из инициаторов революционного террора. Попробуйте-ка представить себе высказывание, допустим, Николая Морозова или Веры Фигнер о том, что Александр II находился в каком-то особенном опасении «Исполнительного Комитета Народной Воли» и преследовался его призраком (хотя Л.А.Тихомирову и случалось употреблять подобное словосочетание, но совсем не в том контексте, что Якушкину — ниже мы остановимся на этом). Разумеется, такое отношение к самим себе допустить у народовольцев невозможно: кем бы они ни были, но трепачами они не были.
Названы Якушкиным и лица, которых царь опасался более всего — они составляли круг действительно влиятельных сановников, обладавших реальной властью и в принципе способных играть ведущие роли при государственном перевороте, что, разумеется, нисколько не соответствовало служебному положению всяких якушкиных или муравьевых.
Не названы по именам мелкие сошки, подвергавшиеся преследованиям вплоть до изъятия бумаг, но легко сообразить, кем они могли быть: царь не трогал заговорщиков, боясь спугнуть раньше времени — до открытия их опасных планов и намерений; не мог он подвергать арестам и преследованиям и сановников, не имея на руках доказательств их измены (ведь Александр I не был Сталиным, а царская Россия — Советским Союзом!), но зато усиленно искал материальные доказательства связи между идеологами заговора и его возможными руководителями и исполнителями. Именно в попытках их обнаружить и сбивались с ног агенты полиции, хватая предполагаемых связников!
Александр не мог поверить, что истинные заговорщики — те самые трепачи, которые только будоражат общественное мнение, а сами, конечно, не только не способны ни на какие перевороты, но и, положа руку на сердце, вовсе ничего не собираются предпринимать!
Отсутствие сведений о реальном механизме заговора все более настораживало подозрительного Александра — ведь он не был дилетантом, и сам обладал опытом, полученным не понаслышке. Наиболее вероятно, что именно с этим связаны упоминавшиеся выше ликвидация Министерства полиции и увольнение его министра в 1819 году — ведь они не сумели выявить такие подробности заговора, какие волновали Александра!
Состояние неопределенности заставляло его искать страховку — и он ее нашел!
Политический анализ, несомненно сделанный царем, был безукорозненно логичен. Притом Александр I, при всей его прогрессивности и образованности, был все-таки продуктом прежней эпохи, когда заговорщики, претендующие на захват власти, должны были прежде всего озаботиться подысканием собственного претендента на престол. Разумеется, и в 1825 году, и вплоть до начала XX века политическая реальность сохраняла это требование в качестве необходимого условия успеха. Однако дух свободы, занесенный в Россию, породил и мечтания о полном преобразовании политической системы — надежный собственный монарх уже не казался заговорщикам обязательным элементом. Александр, мысливший чисто иерархическими категориями, не расценивал всерьез республиканские стремления и недооценивал самоуверенную наглость этих храбрых портняжек.
С одной стороны, царь был прав, а сюжет 14 декабря 1825 года доказал правоту его анализа: солдат удалось поднять на мятеж исключительно лозунгом защиты прав якобы законного наследника престола, а вся ситуация, сделавшая это возможным, была создана именно одним из тех влиятельных сановников, которых не без оснований опасался Александр — но об этом ниже.
С другой стороны, и Александр, и почти все представители высшей государственной иерархии совершенно не ожидали ничего подобного тому, что случилось 14 декабря, хотя в октябре 1820, как мы расскажем ниже, состоялось достаточно красноречивое предостережение.
В обычных же, так сказать нормальных условиях группа решительных заговорщиков-экстремистов также не была полностью бессильной — она могла самостоятельно совершить террористический акт и опрокинуть всю политическую ситуацию, как это неоднократно происходило в последующем — вопреки марксистской псевдотеории о незначительности роли личности в истории! Характерно, что эту опасность Александр также не недооценивал — и ниже мы остановимся и на этом. Но все же главную угрозу себе он усматривал в старой классической схеме государственного переворота.
В роли заговорщика-наследника ранее пришлось побывать ему самому, а теперь следовало ожидать сговора злоумышленников с его собственным наследником. Вот это следовало пресечь, и это Александру действительно удалось!
Брак самого Александра был несчастливым: бабушка явно поспешила, пытаясь сделать из него полноценного престолонаследника, и женила его пятнадцатилетним на четырнадцатилетней принцессе Баденской. У молодой четы родились две дочери (в 1799 и 1806 гг.), но обе умерли в младенчестве. Наследниками бездетного Александра были, таким образом, его младшие братья.
Константин, который был первым из них, в начале кампании 1812 года командовал гвардией, но был удален с этого поста за интриги против главнокомандующего — Барклая-де-Толли. Александр I сразу после войны поставил Константина на самый горячий пост в империи, назначив командующим польской армией, а фактически — наместником в Варшаве.
Константин по возрасту был лишь чуть моложе старшего брата, но по личным качествам, согласно всеобщему мнению, сильно уступал ему.
Еще Екатерина беспокоилась по поводу необузданного нрава второго внука. В самом начале царствования Александра стала широко известна история, как Константин в Петербурге настойчиво преследовал домогательствами жену француза-ювелира. Будучи отвергнут, он приказал подчиненным гвардейцам похитить и изнасиловать ее — те были рады стараться и затерзали несчастную до смерти.
Со временем Константин не утратил крутости. Греч писал: «посадили в Варшаву представителем государя и блюстителем законов цесаревича Константина Павловича, который сам не знал и не уважал никаких законов. В одной Варшавской газете разругали актрису (m-lle Phillis), которая ему нравилась. Он послал жандармов — разорить типографию, где печаталась газета. Вот тебе и конституция!»
Константин, конечно, не был идеальным правителем, но, справедливости ради, заметим, что в Варшаве никто не справился бы с управлением. Окруженный ненавистью местного общества, Константин вертелся как уж на сковородке, а его личная популярность с каждым годом падала все ниже.
В феврале 1825 года Александр I был вынужден запретить публичность прений в Сейме, но в конце концов дело все равно вылилось во всеобщее восстание, правда — только в 1830–1831 гг. Следствием стала ликвидидация Конституции Царства Польского — в качестве карательной меры.
Константин по всем показателям уступал старшему брату, за исключением одного — он не был отцеубийцей! С присущей ему развязностью, Константин не уставал это подчеркивать, нередко рассуждая при свидетелях в том смысле, что не хотел бы царствовать и разделить судьбу собственного отца.
Вполне возможно, что не что-нибудь иное, а именно эти разглагольствования и привели Александра к желанию согнуть в дугу неприятного брата, от которого можно было ожидать чего угодно. Справедливо ли мнение Греча, что намек на отцеубийство Александра стоил короны Наполеону — это вопрос, но вот Константина Павловича подобные намеки действительно, скорее всего, лишили российской короны!
Но Александру, принявшему столь крутое решение, следовало притом подготовить подходящего заместителя официальному наследнику престола. Вот тут-то Александр и проявил вновь заботу о более младших братьях!
В 1817 году граф Милорадович стал военным генерал-губернатором Петербурга. Знаменательно, что в 1801 году этот же пост занимал граф Пален — глава заговора против Павла I.
Освобожденный Милорадовичем пост командира Гвардейского корпуса перешел к князю И.В.Васильчикову. Дальнейшие события в Гвардейском корпусе, происходили, таким образом, без непосредственного участия Милорадовича, но, несомненно, под его бдительным наблюдением.
Кадровая перетряска гвардейского командования продолжилась: если слухи о возможном цареубийстве, дошедшие, по-видимому, до Александра, указали на гвардейское происхождение заговора, то это стало мерой, вполне необходимой. В любом варианте царь не мог не понимать, что без содействия гвардии возможности государственного переворота эфемерны: это подтвердила вся дальнейшая история России — вплоть до бунта солдат-гвардейцев в феврале 1917 года.
В числе прочих назначений на высокие командные посты в гвардии получили должности и оба младших великих князя — Николай Павлович и Михаил Павлович. Два сосунка, не нюхавших пороху, стали, таким образом, командирами боевых и прославленных солдат и офицеров.
Первые жизненные успехи великого князя Николая Павловича связаны отнюдь не со службой.
Еще осенью 1815 года состоялось его обручение с будущей женой Шарлоттой — дочерью прусского короля Фридриха-Вильгельма III и племянницей английского короля Георга III, позже принявшей в православии имя Александры Федоровны. Тогда же бракосочетание было решено отложить до совершеннолетия великого князя.
25 июня (6 июля) 1817 года Николаю Павловичу исполнился двадцать один год, а 1/13 июля состоялась торжественная свадьба. Совершеннолетие и бракосочетание были отмечены царской милостью: через два дня, 3 июля, Николай был назначен генерал-инспектором по инженерной части и шефом лейб-гвардии Саперного батальона. Эта первая его служебная должность была по крайней мере поначалу явной синекурой. Характерно, что Николай не стал пока даже формально вступать в ее исполнение.
Следующие два месяца новобрачные провели во дворце царицы-матери Марии Федоровны в Павловске, а в сентябре 1817 почти вся многочисленная царская семья съехалась в Москву, куда, как упоминалось, проследовала и гвардия.
Неизвестно, существует ли какая-либо связь между этими событиями, но как раз в разгар цареубийственных разговоров Якушкина с товарищами, о которых рассказывалось, Николай был понужден вступить-таки в исполнение должности генерал-инспектора. Для этого он сопроводил царя в короткой поездке из Москвы в Петербург и обратно. 20 января 1818 года произошло вступление Николая в должность, а затем он вернулся в Москву. Как видим, и теперь великому князю фактически не пришлось заняться службой.
Позже, как рассказывалось, Александр I ездил в Варшаву на открытие Сейма, где и прозвучала его знаменитая речь, а затем царь путешествовал по юго-западной России.
17 апреля 1818 года в Москве родился первенец Николая Павловича — будущий император Александр II. Отметим, что Николай вообще оказался единственным из четырех братьев, имевшим потомков мужского пола!
В мае гвардия вернулась в столицу. В июне Александр I заехал в Москву, а вскоре вся царская семья (за исключением Константина) собралась в Петербурге. Вот тут-то и можно было ожидать начала службы Николая Павловича, и оно действительно состоялось, но в неожиданном качестве.
27 июля 1818 года Николай Павлович был назначен командиром 2-й бригады 1-й Гвардейской пехотной дивизии — с оставлением в должности генерал-инспектора по инженерной части. Назначение довольно странное: командир бригады — пост заметно ниже генерал-инспектора.
Казенные историки, прославлявшие деятельность Николая I, подчеркивают его значительные успехи в инженерном деле, хотя могут упомянуть только один заметный эпизод: учреждение в ноябре 1819 Главного инженерного училища (фактически открыто в марте 1820) — якобы по инициативе великого князя. Действительно ли велика его роль в этом полезном начинании — неясно. Инженерная служба российской армии функционировала тогда достаточно налаженно, а кто в ней был генерал-инспектором, да еще перегруженным другими служебными обязанностями — не так уж и важно.
Зато весьма заметной оказалась деятельность Николая в качестве командира бригады.
Состояние дисциплины в гвардии, было, понятно, далеко не блестящим. Вот как оценивал его позже сам Николай: «порядок службы распущенный, испорченный до невероятности с самого 1814 года, когда, по возвращении из Франции, гвардия осталась в продолжительное отсутствие государя под начальством графа Милорадовича. /…/ Было время (поверит ли кто сему), что офицеры езжали на ученье во фраках, накинув шинель и надев форменную шляпу. Подчиненность исчезла и сохранилась только во фронте; уважение к начальникам исчезло совершенно, и служба была одно слово, ибо не было ни правил, ни порядка, а все делалось на день.
В сем-то положении застал я и свою бригаду».
Можно представить себе, как взялся за дело и чего добился Николай — с чисто немецким педантизмом, унаследованном от деда и отца — печальной памяти императоров Петра III и Павла I!
На его беду и на беду его подчиненных у него оказались единомышленники на самом верху армейского управления.
Генералы тоже переживали переход от военной жизни к миру. Для одних было естественным стремлением расслабиться, другие видели главный долг в восстановлении дисциплины, подорванной вольностями боевых походов. Некоторые заняли своеобразную промежуточную позицию: не утруждая себя чрезмерными усилиями, имитировали служебное усердие, ограничиваясь парадной показухой — благо кое-кого из высшего начальства это вполне устраивало.
Вот как об этом пишет И.Ф.Паскевич, которого сам Александр I назвал лучшим генералом в армии: «После 1815 года, фельдмаршал Барклай-де-Толли, который знал войну, подчиняя требованиям Аракчеева, стал требовать красоту фронта, доходящую до акробатства, преследовал старых солдат и офицеров, которые к сему способны не были, забыв, что они недавно оказывали чудеса храбрости, спасли и возвеличили Россию. Много генералов поддались этим требованиям; так, например, генерал [Л.О.]Рот, командующий 3-й дивизией, который в один год разогнал всех бывших на войне офицеров, и наши георгиевские кресты пошли в отставку /…/. Что сказать нам, генералам дивизий, когда фельдмаршал свою высокую фигуру нагибает до земли, чтобы равнять носки гренадеров? И какую потому глупость нельзя ожидать от армейского майора? /…/ В год времени войну забыли, как будто ее никогда не было, и военные качества заменились экзерцирмейстерской ловкостью. /…/ Регулярство в армии необходимо, но о нем можно сказать то, что говорят про иных, которые лбы себе разбивают Богу молясь. Оно хорошо только в меру, а градус этой меры — знание войны, /…/ а то из регулярства выходит акробатство».
В том же стиле оценивал послевоенные тенденции в русской армии и прусский генерал Натцмер, приехавший в свите принцессы Шарлотты — по сути с разведывательными целями, поставленными прусским генеральным штабом, рассматривавшим Россию как вероятного противника. Он пробыл в России до конца 1817 года, осмотрел пограничные крепости и присутствовал на маневрах: «Материал этой грозной армии, как всем известно, превосходен и не заставляет желать лучшего. Но, к нашему счастью, все без исключения обер-офицеры никуда не годны, а большая часть офицеров в высших чинах также немногим их лучше, лишь малое число генералов помышляют о своем истинном призвании, а прочие, наоборот, думают, что достигли всего, если им удастся удовлетворительно провести свой полк церемониальным маршем перед государем. /…/ Император, несмотря на свое пристрастие к мелочам, сознает этот недостаток, свойственный всей армии, но утешается мыслью, что в настоящую пору нельзя изменить это положение дел вследствие недостатка подготовленных к тому офицеров. /…/ Но, насколько мне известно, ничего не делается, чтобы помочь беде». Конкретно о маневрах: «Просто не понятны те ошибки, которые делались генералами, противно всякому здравому смыслу. Местность совершенно не принималась в соображение, равно как род войска, который для нее годится».
Паскевичу и Натцмеру несколько позже вторил прославленный партизан генерал и поэт Д.В.Давыдов, причем расцвет акробатики уже напрямую связывал с появлением в войсках, а затем и воцарением Николая Павловича: «он и брат его великий князь Михаил Павлович не щадит усилий, ни средств для доведения этой отрасли военного искусства до самого высокого состояния. И подлинно, относительно равнения шеренг и выделывания темпов наша армия бесспорно превосходит все прочие. Но Боже мой! /…/ Как будто бы войско обучается не для войны, но исключительно для мирных экзерциций на Марсовом поле. Прослужив не одну кампанию и сознавая по опыту пользу строевого образования солдат, я никогда не дозволю себе безусловно отвергать полезную сторону военных уставов; из этого, однако, не следует, чтобы я признавал пользу системы, основанной лишь на обременении и притуплении способностей»…
От Барклая и его присных стонали, но то, что терпелось от нелюбимых, но прославленных и уважаемых начальников, не могло прощаться желторотым мальчишкам, лишь благодаря своему рождению занесенным на командные высоты. На уши буквально встали не только офицеры, но и солдаты — конфликты сопровождали всю деятельность Николая Павловича в командовании бригадой, а потом и дивизией.
Типична история, пересказанная позже Огаревым: «На каком-то учении Николай /…/ рассердился, подбежал к Норову с ругательствами и ногою брызнул в него грязью из бывшей тут лужи. Норов, положив шпагу в ножны, ушел и подал в отставку. Император Александр страшно рассердился на этот случай и велел Николаю просить извинения у Норова. Николай исполнил приказание императора, говоря Норову, что и Наполеон иногда ругал своих маршалов. «Мне так же далеко до маршала Франции, как вам до Наполеона», — отвечал Норов». История имела продолжение, в некоторой степени благородное со стороны Николая I: в 1826 году отставной подполковник декабрист В.С.Норов был среди тех, кому смертную казнь заменили каторгой, но не бессрочной, как остальным, а «только» пятнадцатилетней.
Другой анекдот пересказал Герцен: «как-то на ученьи великий князь до того забылся, что хотел схватить за воротник офицера. Офицер ответил ему: «в[аше] в[ысочество], у меня шпага в руке». Николай отступил назад, промолчал, но не забыл ответа. После 14 декабря он два раза осведомился, замешан этот офицер или нет. По счастью, он не был замешан». Упомянутый персонаж — вполне реальное лицо: граф Н.А.Самойлов, флигель-адъютант с 1821 года; в 1827 вышел в отставку в чине полковника; в заговоре замешан не был, но был близок с Ермоловым и Н.Н.Раевским.
По стопам Николая был запущен и самый младший из братьев — Михаил Павлович. Любопытно, что в 1818 году он был назначен командиром 2-й Гвардейской пехотной дивизии — странное решение с учетом постановки более старшего Николая в комбриги! Но противоречие это утряслось: Михаил в должность не вступил, а продолжил ознакомительные путешествия по России и загранице. Еще с лета 1817 его в качестве «няньки» сопровождал генерал И.Ф.Паскевич, не сумевший, однако, привить воспитаннику здравое отношение к дисциплине и строю. Командование же 2-й Гвардейской пехотной дивизией досталось тогда генералу К.И.Бистрому.
Летом 1819 года Михаил Павлович вступил в командование 1-й бригадой 1-й Гвардейской пехотной дивизии. Царица-мать, удрученная тем, что происходило с Николаем, настояла, чтобы Паскевич остался при Михаиле Павловиче. Таким образом, генерал, еще в 1812 году командовавший дивизией, продолжал быть нянькой — уже при командире бригады! Так и шло вплоть до мая 1821, когда Паскевич получил в командование 1-ю Гвардейскую пехотную дивизию, став тем самым «отцом-командиром» уже обоих младших великих князей. Его опека сглаживала конфликты Николая и Михаила с офицерством, но не прибавляла им уважения.
Если предполагать, что целью Александра I было поставить младших братьев в такое положение, чтобы максимальным образом ухудшить их личные отношения с гвардейским офицерством, бывшим основной движущей силой всех дворцовых переворотов ХVIII века и 1801 года, то он вполне преуспел.
Николай и Михаил были буквально окружены заговорщиками — достаточно указать, например, что оба адъютанта Николая Н.П.Годеин и А.А.Кавелин и адъютант Михаила князь И.А.Долгоруков были членами «Союза благоденствия». Но отношения между великими князьями и их подчиненными не выходили за чисто служебные рамки, а взаимные эмоции редко носили дружественный характер. В силу разного понимания сути начальственного долга стороны не стремились исправить ситуацию, да это было бы уже и не столь просто.
Поэтому Александр уже в 1819–1820 гг. мог быть уверен, что интересы тайного общества, в существовании которого он не сомневался (и был прав!), в наименьшей степени могли тяготеть к установлению конспиративных контактов с его младшими братьями. Положение, занятое двумя младшими, казалось значительно более надежным с точки зрения опасений, питаемых Александром, чем позиция независимого Константина, хотя и барахтающегося в трясине варшавских дрязг. И Александр счел возможным еще более упрочить свою собственную позицию.
Лишение Константина прав на престол обезвреживало заговорщиков, которые затем должны были бы иметь дело с Николаем, а возможность договориться с последним выглядела весьма проблематично. Исчез бы и стимул интриговать против царя у Константина, заметная оппозиционность которого действовала Александру на нервы. Внезапная смерть царя при такой комбинации уже также не могла устроить Константина — ему тоже пришлось бы иметь дело с другим законным наследником престола. Таким образом, шансы у царя получить пулю в лоб от какого-нибудь Якушкина или Якубовича (о нем ниже) значительно уменьшались — такой акт был бы лишен политического смысла. Выгоды были очевидны, и Александр стал их добиваться.
Уже летом 1819 года Александр демонстрировал явное удовлетворение служебными успехами Николая. Вместо того, чтобы предостеречь от ошибок, совершаемых по неопытности, он явно подливал масла в огонь, демонстрируя полное одобрение взятой им служебной линии, хотя сам никогда не позволял себе подобных методов насаждения дисциплины.
Николай был рад и польщен такой оценкой его рвения. Оказалось, однако, что доверие и благоволение императора простерлось настолько далеко, что Николай даже не смел о таком помыслить. После маневров в Красном селе 13 июля 1819 года в доверительной беседе с ним и его супругой Александр I сообщил, что решил назначить Николая наследником престола. При этом Александр заявил (как вспоминал Николай), что «он чувствует, что силы его ослабевают; что в нашем веке государям, кроме других качеств, нужна физическая сила и здоровье для перенесения больших и постоянных трудов; что скоро он лишится потребных сил, чтоб по совести исполнять свой долг, как он его разумеет; и что потому он решился, ибо сие считает своим долгом, отречься от правления с той минуты, когда почувствует сему время». Что же касается Константина, то Александр сообщил, не слишком покривив душой в данный момент, что тот сам неоднократно высказывал нежелание царствовать…
Ясно, что у третьего по счету сына царствовавшего императора изначально почти не было шансов заполучить царский трон, а очень хотелось! Недаром императрица Елизавета Алексеевна, жена Александра I, писала к своей матери еще в 1817 году: «У Николая только одна мысль в голове — царствовать»!..
Шансы, однако, со временем росли — по мере того, как у обоих старших братьев все не появлялись потомки мужского пола, и по мере того, как все продвигались к старости, а Николай был моложе Александра на девятнадцать лет и Константина — на семнадцать. Понятно, что чем дальше, тем больше у Николая увеличивалась вероятность поцарствовать после смерти обоих старших. Но, глядя на цветущих здоровьем Александра и Константина (особенно — на первого, что бы тот сам об этом ни говорил), можно было очень сомневаться в том, что воцарение Николая состоится в обозримое время. И вдруг все меняется: если не царем, то официальным наследником престола Николай, оказывается, может стать в ближайшем будущем! Да еще и намек Александра на свой возможный досрочный уход!
Много позже, описывая события своего восшествия на престол, Николай подчеркивал, что затем, после лета 1819 года, он не имел ни одного разговора с Александром на эту тему! До Николая доходили неясные слухи, что он действительно назначен наследником престола — ниже об этих слухах мы расскажем. Никаких же вполне положительных сведений об этом деле Николай более не получал — и нет никаких оснований утверждать, что в действительности было не так. Александр, тысячи раз встречаясь с Николаем, никогда больше не поднимал этот вопрос, а Николай сам не мог позволить себе подобную инициативу: в контексте прошедшего это выглядело бы напоминанием о том, что брату-императору следовало бы поторопиться освободить занимаемую должность! По сути такая ситуация становилась все более унизительной для Николая. Эта проклятая неопределенность продолжилась до ноября 1825 года.
Не попытался Николай и выяснить отношения с братом Константином — это тоже могло показаться неуместным посягательством на чужие права! Константин же, которого все это время официально именовали цесаревичем и наследником престола, в свою очередь, также не проявил подобной инициативы. С ним самим после 1819 года происходили весьма интересные истории.
Павел I, напоминаем, едва не был обойден Александром при смерти Екатерины, а потому постарался спасти от подобной участи и своих потомков. Согласно закону Павла о престолонаследии, составленного специально для данной ситуации, Александр I не имел никаких законных способов воспрепятствовать восшествию Константина на престол после его, Александра, смерти.
Можно было пойти на изменение закона, как это и сделал Павел, но и этот акт имел бы скандальный характер, а обоснование необходимости замены Константина Николаем было бы и вовсе сомнительным с точки зрения общественного мнения. Словом, самодержавие — самодержавием, а скандалы — скандалами. Идти же на скандал было совершенно недопустимо при тех целях, которые преследовал Александр. Значительно проще было бы привести Константина к формальному отказу от права на престолонаследие — раз уж он сам позволял себе высказывания подобного рода.
Если летом 1819 года Александр говорил с Николаем об этом, как о деле решенном, то, очевидно, имел какой-то план — за Александром как-то не замечалось способности вести пустые и вовсе безответственные беседы: наоборот, он всегда говорил меньше, чем хотелось бы окружающим!
И план царя несомненно учитывал, что его вольной или невольной пособницей станет возлюбленная Константина — польская графиня Жанна (Банна) Грудзинская.
К этому времени законный брак, в котором состоял Константин, фактически распался. Еще в семнадцатилетнем возрасте по велению Екатерины II он женился на принцессе Юлии Сакс-Кобург-Готтской — родной сестре матери будущей великой английской королевы Виктории. Поселившись в Варшаве, Константин, при наличии формальной жены, стал сожительствовать с подругой — ничего из ряда вон выходящего в этом не было и в те времена. Это мало кого задевало, тем более, что Константин в супружестве не имел детей. Сомнительное положение Жанны Грудзинской было, разумеется, тягостным для нее, как и для любой женщины в подобной ситуации. Следовательно, формальный развод Константина и женитьба на ней и должна была быть, и действительно была ее целью.
По тогдашним обычаям бездетность была вполне основательной причиной для развода и новой женитьбы — тем более это было важно для наследника престола. Так что особых затруднений для получения разрешения на развод у Константина не должно было быть, хотя санкция царя была необходима для соблюдения формальностей. А уж заботой Жанны Грудзинской оставалось, чтобы Константин не женился после этого на какой-либо другой претендентке. В 1820 году, о котором теперь пойдет речь, Константину исполнился 41 год, а Жанне — 25. Чем не возраст для начала новой жизни! Но Александр не стал играть роль доброго гения для этого молодого семейства!
Неизвестно, чем мотивировал Александр свое предложение обменять разрешение на развод на отказ Константина от прав на престолонаследие — но такое предложение, несомненно, было сделано.
Сам Константин едва ли имел искренние намерения отказываться от престолонаследия. Наоборот, ему очень льстил титул цесаревича, изобретенный Павлом I — вплоть до того, что в послании от 26 ноября 1825 года, в котором Константин уступал трон Николаю (на этом мы остановимся ниже), Константин просил оставить ему титул цесаревича. Эта просьба была уважена, хотя противоречила всякой логике — при воцарении Николая цесаревичем автоматически должен был стать малолетний Александр Николаевич. Публичным же заявлениям Константина о нежелании царствовать не нужно придавать большего веса, чем аналогичным высказываниям Александра до 1801 года. К тому же они были, скорее всего, как отмечалось, просто формой выражения неодобрения в адрес старшего брата.
Очень может быть, что на чем-то таком в пылу споров Александр просто подловил его на слове и заставил продекларировать, что у него действительно отсутствует намерение царствовать, а не наличествует желание безнаказанно оскорблять старшего брата. Имея в тылу Жанну, Константин дал слабинку и согласился с требованиями брата. В любом варианте это было чисто устным заявлением, о чем говорится в письме Константина от 14 января 1822 года, о котором также ниже. Что такое заявление действительно имело место, об этом свидетельствовали слухи именно в период развода и новой женитьбы Константина — не раньше и не позже.
Разрешение на развод было выдано Константину 20 марта 1820 года, и в тот же день был принят закон, устанавливающий, что лицо императорской фамилии, вступившее в брачный союз с лицом, не принадлежащим ни к какому царственному или владетельному дому, не может сообщать последнему прав, принадлежащих членам императорской фамилии, а дети, от такого союза происшедшие, не имеют права на наследование престола. Вот это был уже удар ниже пояса: Константин не только не имел детей, которым мог оставить трон, но и лишался такой возможности в будущем, если бы женился не на принцессе!
Нет никакоих оснований считать, что Контантин был посвящен в намерение Александра выпустить такой закон. Во всяком случае, в это не был посвящен никто из лиц, которым царь навязал санкционирование данного решения, не дав времени даже задуматься о его мотивах. Но здесь препятствий не возникло, т. к. сенаторы опасались худшего.
Н.И.Тургенев записал в дневнике: «На сих днях собрали сенаторов для объявления манифеста о разводе цесаревича Константина Павловича. Сенаторы, не зная, зачем их собирают, искали причин. Иные полагали, — что манифест о конституции, иные — о вольности крестьян. Знает кошка, чье мясо съела!» Как видим, Тургенев не усек, какая кошка и чье мясо съела в этот момент!
Зная характер Константина, легко понять, насколько он был разъярен! Ведь тут вопрос о его правах, желаниях и намерениях решался уже ничуть не на добровольной основе! По-видимому, только данная дискриминационная мера окончательно раскрыла глаза Константину на истинные намерения старшего брата. И нет никаких оснований считать, что Константин покорился: ведь новый закон не лишал прав самого Константина на трон вплоть до его собственной смерти, и лишь затем право престолонаследия переходило к Николаю и его наследникам.
И, однако, Константин не стал отказываться от любви и счастья, отыскивая какие-нибудь новые карьеристские варианты: он обвенчался со своей Жанной 12 мая того же года. Последней был пожалован титул княгини Ловицкой (или Лович); чья это была злая шутка — Александра или самого Константина, но имя соответствовало ее жизненному сюжету.
Устраивал ли такой промежуточный результат Александра I?
Разумеется, нет. Но в последующие месяцы произошли события в иной сфере, надолго — более чем на год — сосредоточившие на себе внимание подозрительного императора.
3. Заговор обретает «крышу»
В январе 1820 года Н.И.Тургенев, обеспокоенный задержкой в разрешении проблемы крепостного права, подал записку царю по данному вопросу. Приведем значительно более поздний рассказ об этом самого Тургенева, извинившись за стиль автора:
«Изложив однажды и невыгоды крепостного состояния в России и некоторые средства к отстранению сих невзгод, и изложив с совершенною свободою и мыслей и выражений, сие рассуждение мое было представлено покойным графом Милорадовичем государю императору. /…/ Представив мое рассуждение государю императору, граф Милорадович сообщил мне, что его величество имеет несколько подобных планов, что намерен со временем избрать лучшее из всех и что при сем государь император показывал графу печать покойной императрицы Екатерины II, с изображением улья с пчелами, говоря, что это был девиз его бессмертной бабки и будет его девизом для сего дела. При сем граф Милорадович так живо осыпал меня различными ласками, что я принужден был просить его умерить его голос, ибо это происходило в Государственном Совете» — это, по сути, чуть ли ни единственное свидетельство о том, как относился к крепостному праву сам Милорадович. Едва ли случайно и многозначительное упоминание улья с пчелами — одного из традиционных символов масонства! Запомним этот эпизод!
Что же касается данной инициативы Тургенева, то дальнейшего развития не последовало. Мало того: в ближайшем феврале Государственный Совет в очередной раз провалил предложение царя запретить продажу крепостных без земли.
Можно было бы ожидать продолжения борьбы, но Александр явно переключился на другие заботы: тут грянула описанная выше ситуация 20 марта 1820 года. После этого наступило полное молчание царя на тему о реформах. Раздосадованный Тургенев организовал описанную выше акцию генерал-адъютантов — фиаско было совершенно очевидным.
Ни о конституции для России, ни об отмене крепостного права речь уже не шла; постановка этих вопросов откладывалась весьма надолго — по меньшей мере до конца царствования Александра I, более не желавшего рисковать.
Позже, в 1822 году, было даже восстановлено право помещиков ссылать крепостных в Сибирь — теперь, правда, не на каторгу, а на поселение.
Явно наметившийся политический застой заставил идеологов оппозиции мыслить более решительно.
В «Союзе благоденствия» наиболее выдающимися деятелями стали Никита Михайлович Муравьев и Павел Иванович Пестель. Первый служил в гвардейском Генеральном штабе, а второй еще с августа 1813 года был адъютантом генерала П.Х.Витгенштейна. С 1814 года последний командовал корпусом в Митаве, а с 1818 года возглавил 2-ю армию — со штаб-квартирой в Тульчине на Украине.
Как адъютант высокого начальника Пестель был заметной фигурой и в Тульчине, и за его пределами.
В июне 1819 года А.А.Закревский (фактический заместитель начальника Главного штаба П.М.Волконского) так писал из Петербурга к П.Д.Киселеву — начальнику штаба 2-й армии: «Здесь говорят, что Пестель, адъютант его [Витгенштейна], все из него делает: возьми свои меры. Государь о нем мнения не переменял и не переменит. Он его, кажется, хорошо знает».
В сентябре 1820 Закревский настойчиво повторяет предупреждения: «До меня слухи доходят, что тебя в армии не любят и что ты свободное время проводишь большею частью с Пестелем… И какая связь дружбы соединила тебя с Пестелем, о характере и нравственности которого ты писал мне неоднократно?» Ниже мы постараемся осветить характер этой необычной дружбы…
1820 год был временем тесного сотрудничества Муравьева и Пестеля.
В ноябре 1819 года Пестель вышел в отпуск и до мая 1820 находился в Петербурге. В этот приезд Пестель с Муравьевым согласовали и осуществили план совместных выступлений с целью придания тайному обществу более энергичной программы.
В январе 1820 Пестель на квартире Ф.Н.Глинки сделал доклад перед руководством Коренной (т. е. Петербургской) управы «Союза благоденствия» о преимуществе республиканской формы правления над монархией. После оживленной дискуссии можно было считать, что присутствовавшие санкционировали данный программный тезис.
Затем Муравьев в собрании на квартире И.П.Шипова заявил о необходимости цареубийства и военного переворота.
Заметим, что именно в это время в Европе поднялась целая волна заговоров, покушений и переворотов — пик ее пришелся именно на 1820–1821 годы.
Еще в марте 1819 года в Германии член тамошнего тайного общества К.-Л.Занд убил известного драматурга А.Коцебу, считавшегося агентом русского правительства и лично императора Александра I.
1820 год начался с того, что испанский полковник Р.Риего, требуя введения конституции, поднял на острове Леон мятеж Астурийского батальона — демарш увенчался успехом в марте того же года: конституция была официально принята.
1/13 февраля 1820 года в Париже был убит лидер крайних монархистов — герцог Беррийский, наследник французского престола.
О дальнейших событиях подобного рода в Европе мы будем неоднократно упоминать, а сейчас вернемся к отечественным заговорщикам.
На сей раз столь решительное заявление Муравьева о цареубийстве не вызвало восторга собравшихся; один Пестель горячо выступил в его поддержку. Но Муравьев с Пестелем не были обескуражены.
Через несколько дней в результате более целенаправленного отбора участников совещания Муравьев с Пестелем навязали-таки им свои принципы. Нужно подчеркнуть, что в курсе происшедшего тогда оказалось всего несколько человек — самое ядро Коренной управы.
Весь эпизод показывает, что Муравьев и Пестель рассматривали Тайное общество в качестве действенной организации, которой они стремились придать программу практических мер с уверенностью в их реализуемости. Дальнейшие шаги Никиты Муравьева подтверждают такой вывод.
Пестель отбыл на место службы, а Муравьев подал в отставку. Разумное предположение, высказанное историками, состоит в том, что Муравьев целенаправленно приобрел свободу перемещений по России и провел что-то вроде смотра сил заговорщиков в провинции.
Примерно к этому времени относится и предупреждение П.М.Волконского о страхах императора, переданное Тургеневу и последовавшее далее в Москву к Якушкину — выше мы цитировали рассказ последнего. Отметим, что позднее не случалось более ни одного эпизода, свидетельствовавшего бы о симпатиях Волконского к Тайному обществу.
Летом 1820 года Никита Муравьев в сопровождении своего двоюродного брата — неоднократно упоминавшегося М.С.Лунина — предпринял большой вояж: Москва, Киев, Тульчин, Одесса, Севастополь и т. д.
Тогда же Муравьев составил нечто вроде прокламации против самодержавия и крепостного права, предназначенной для агитации в массах — «Любопытный разговор», хотя ничего не известно о попытках ее практического использования.
Главным было посещение Тульчина, где состоялись совещания с Пестелем, приведшие к формальным соглашениям. Там же Пестель вручил Муравьеву первоначальный набросок своего проекта республиканской конституции.
Непосредственные сподвижники Пестеля подтвердили приверженность к его республиканским и революционным взглядам, а Муравьева попутно избрали председателем Южной (Тульчинской) управы. Таким образом, Никита Муравьев приобрел в тот момент нечто вроде верховного главенства в рамках всего заговора. Тем более многозначительна метаморфоза, которую претерпела его дальнейшая политическая линия.
За границей в это время продолжались события, поднимавшие настроения либералов и вызывавшие тревогу консерваторов: в июле разразилась революция в Неаполе, а в августе — военный переворот в Португалии. Но в Петербурге вернувшегося Муравьева поджидали значительно менее радужные новости.
В 1820 году сменили командиров большинства гвардейских полков: прежних соратников Милорадовича заменяли службистами новейшей формации.
Среди прочих сместили князя Я.А.Потемкина, командовавшего Семеновским полком еще с конца 1812 года, а до того служившего начальником штаба при Милорадовиче. Потемкина сменил полковник Г.Е.Шварц. Последний был тоже вояка, но жесткий педант — и охотно следовал принципам, насаждаемым великими князьями.
Закручивание гаек вызвало соответствующее сопротивление.
В сентябре 1820 года едва не подали в отставку все офицеры подчиненного Николаю Павловичу Измайловского полка: недовольный их маршировкой, великий князь заставил их всех шагать на плацу тихим шагом в три приема — в присутствии солдат. Насилу новый командир полка П.П.Мартынов унял своих офицеров.
Командование Михаила Павловича сопровождалось меньшими конфликтами — сказывались влияние и поддержка Паскевича. Но когда и у Михаила Павловича случился скандал, то перекрыл все бури, происходившее в те в общем-то тихие времена: 16 октября 1820 года состоялся знаменитый «бунт» солдат Семеновского полка, входившего в его бригаду.
Шварц ввел докучливый осмотр одежды по праздникам, отнимавший у солдат львиную долю свободного времени. Возмущение дошло до взрыва: одна рота заявила протест против этого осмотра. В ответ Шварц распорядился арестовать всю роту. Тогда ареста потребовали солдаты всего полка, построились в шеренги и под конвоем прошли образцовым маршем через всю столицу к крепости; при этом не было ни единого акта насилия.
Большинство начальства оказалось в полной растерянности. Паника, охватившая обоих великих князей, бросилась в глаза. На Николая Павловича происшедшее произвело особенно сильное впечатление. Он немедленно выехал за границу. Это был прыжок перепуганного зайца!
Великий князь отсутствовал почти год. Официально он сопровождал жену, нуждавшуюся в заграничном лечении. Тогда это не было вопиющей редкостью: П.Д.Киселев, например, тоже пробыл за границей, также сопровождая заболевшую жену, почти весь 1824 год; но это никак не выглядело бегством и случилось после царского смотра осенью 1823 года, когда Киселев был захвален за безукоризненное состояние войск и отмечен производством в генерал-адъютанты.
Что же касается Николая Павловича, то для всех было ясно, что петербургская почва буквально горела под его ногами, и возвращаться на нее он отнюдь не стремился.
История имела огромный резонанс. Хотя после Пугачевщины еще не минуло полувека, а после бунта в Чугуевских военных поселениях прошел только год, но все это было далеко от столицы. Безоговорочное подчинение начальству, позволившее России выдержать колоссальные военные перенапряжения конца ХVIII — начала ХIХ столетия, создало иллюзорное представление о совершенном автоматизме нижних чинов. Такое неожиданное своеволие с их стороны произвело не меньшее впечатление, чем если бы вдруг замаршировали деревья из Летнего сада в Петропавловскую крепость!
Пестрые настроения, охватившие столицу, вылились в появление единичных анонимных рукописных прокламаций, имевших антидворянскую и антиофицерскую направленность — к этому, разумеется, никакой «Союз благоденствия» не мог быть причастен.
Почти скандалом стала довольно нелепая выходка малоизвестного до того поэта К.Ф.Рылеева, еще не имевшего ни малейшего отношения к Тайному обществу. В ноябре в журнале «Невский зритель» было опубликовано под видом перевода его стихотворение «К временщику», адресатом которого молва безошибочно признала Аракчеева. Но там были строки, которые метили и повыше:
«Тиран, вострепещи! Родится может он — Иль Кассий, или Брут, иль враг царей Катон! О, как на лире я потщусь того прославить, Отечество мое кто от тебя избавит!..»В тогдашних российских условиях беспрепятственный пропуск цензурой и публикация в журнале не могли быть самостоятельным актом безвестного одиночки — поэта кто-то целенаправленно поддержал. Так или иначе, публика замерла в ожидании того, чем же поплатится смельчак.
Но у сильных мира сего оказались в тот момент заботы поважнее.
Александр I, находившийся за границей, был крайне обеспокоен и написал в письме к Аракчееву: «Никто на свете меня не убедит, чтобы сие происшествие было вымышлено солдатами или происходило единственно, как показывают, от жестокого обращения с оными полковника Шварца. /…/ Внушение, кажется, было не военное; ибо военный умел бы их заставить взяться за ружье, чего никто из них не сделал, даже тесака не взял /…/. Признаюсь, что я его приписываю тайным обществам /…/. Цель возмущения, кажется, была испугать», — никто такой цели не ставил, но она, однако, оказалась достигнутой.
В письме к И.В.Васильчикову — своему старому товарищу, а теперь командиру Гвардейского корпуса — Александр дал и более четкие указания: «Все эти радикалы и карбонарии, рассеянные по Европе, именно хотят заставить меня бросить начатое дело здесь /…/ они взбешены, видя наш труд /…/. Наблюдайте бдительно за Гречем и за всеми бывшими в его школе солдатами или маленькими девочками /…/. Я уверен, что найду настоящих виновников вне полка, в таких людях, как Греч и Каразин».
Никто из офицеров не был инициатором этой демонстрации и не участвовал в ней; их ошеломленность и растерянность была не меньшей, чем у высокого начальства. Косвенная их вина состояла в том, что они ранее, не стесняясь присутствия солдат, ругательски ругали за глаза Шварца, ужесточавшего дисциплину. Так или иначе, над Тайным обществом нависла вполне реальная опасность.
Значительно позже — спустя десятилетия! — выяснилось, что угроза заговору созрела еще накануне семеновской истории.
Когда-то раньше, но в том же 1820 году, о заговоре донес начальству близкий к «Союзу благоденствия» корнет А.Н.Ронов.
В сентябре-октябре 1820 подробные доклады о Тайном обществе сделал непосредственный член Коренной управы — библиотекарь Гвардейского генерального штаба М.К.Грибовский.
Грибовский был достаточно заметной личностью — имел докторскую степень, полученную в Харьковском университете, и был автором книги, направленной против крепостного права. Его донос содержал исчерпывающие данные:
«С поверхностными большею частью сведениями, воспламеняемыми искусно написанными речами и мелкими сочинениями корифеев революционной партии, не понимая, что такое конституция, часто не смысля, как привести собственные дела в порядок, и состоя большею частью в низших чинах, мнили они управлять государством /…/
Кажется, что наиболее должно быть обращено внимание на следующих людей:
1) Николая Тургенева
2) Федора Глинку
3) [А.Ф.] фон-дер Бриггена
4) всех Муравьевых, недовольных неудачею по службе и жадных выдвигаться
5) Фон-Визина [т. е. М.А.Фонвизина] и [П.Х.]Граббе
6) Михайло Орлова
7) [И.Г.] Бурцова».
Обратим внимание на впервые, если не ошибаемся, употребленный термин — революционная партия, широко вошедший в обиход в России только в 1870-е годы.
Восприемниками докладов Грибовского были Васильчиков, а затем его начальник штаба — А.Х.Бенкендорф. Этот храбрый генерал в 1816–1818 гг. был членом модных масонских лож и близко сталкивался там с П.Я.Чаадаевым, А.С.Грибоедовым, П.И.Пестелем и тому подобной публикой. Бенкендорф, кстати, и усмирил «восстание» Семеновского полка — благо усмирять практически было некого и нечего.
Происшедшие скандалы и прямые указания царя сделали тщательное и подробное расследование неотвратимым.
Понятно, что в силу служебного положения главным руководителем расследования должен был стать военный генерал-губернатор столицы граф М.А.Милорадович, а главным лицом, выносящим решения об участи виновных, — сам император.
Поскольку ни Александр I, ни Милорадович никаких письменных следов собственных размышлений о завершении этого дела не оставили, то о них косвенным образом можно судить только по формальной участи всех затронутых лиц.
Несомненно, что офицеры Семеновского полка (кроме командира) не были признаны виновными в солдатском бунте. Их пассивная роль, однако, не заслуживала никакого одобрения. Поэтому вполне естественно офицеров полка (в том числе — братьев М.И. и С.И.Муравьевых-Апостолов и М.П.Бестужева-Рюмина) понизили в чинах и расформировали по разным армейским частям в провинции; кто из них не был еще заговорщиком, тот в результате стал.
По той же причине, как было ясно публике, вернувшийся в мае 1821 года в Россию царь сместил и Васильчикова — его заменил Ф.П.Уваров; но к этому эпизоду мы еще вернемся. Навсегда вылетел со службы и Шварц.
Пострадали и Н.И.Греч с В.Н.Каразиным — упоминавшимся пропагандистом защиты крепостного права. Эти двое организовали в казармах Павловского полка школу по обучению солдат — таким должно было стать начало широко задуманной программы борьбы с неграмотностью русского народа. Разумеется, ни Греч, ни Каразин, равно как и маленькие девочки, подстрекательством к бунту не занимались. Греч сумел оправдаться, но схватили Каразина — человека, напомним, хорошо знакомого Александру I.
Отметим, что крутость немедленных мер любопытным образом сопрягается с заведомым отсутствием Каразина среди заговорщиков. Его заключили в Шлиссельбург, правда — «всего» на шесть месяцев; затем царь, завершая расследование, показавшее полную невинность арестанта, распорядился сослать Каразина в его собственное поместье.
Эта история по меньшей мере на тридцать лет затормозила мероприятия по развитию системы массового образования. Греч же, натерпевшись страхов, стал с этого времени человеком, исключительно лояльным по отношению к властям, и прославился позже как публицист крайне консервативного толка.
Жесточайшим физическим наказаниям подверглись взбунтовавшиеся солдаты — включая лично известных прославленных героев. Затем их разослали — кого на каторгу, кого — по провинциальным гарнизонам. В числе последних оказались даже солдаты, не принявшие никакого участия в беспорядках, что было вполне точно установлено следствием.
В целом же результат, при всей неприятности для потерпевших, оказался просто удивительным: «Союз благоденствия» как таковой совершенно не пострадал! А ведь существование этого Тайного общества не могло остаться тайной для царя при сложившихся тогда обстоятельствах!
Одной из легенд, вошедших в историю, была будто бы снисходительность Александра I, царя-интеллигента и вольнолюбца, к увлекающейся революционной молодежи. Г.П.Федотов, например, писал: «С Александром интеллигенция всходит на трон, уже подлинная, чистая интеллигенция, без доспехов Марса, в оливковом венке. Этот кумир, обожаемый, как ни один из венценосцев после другого Великого Александра, — заключил, над трупом своего отца, безмолвный договор с молодой Россией: смысл его был в хартии вольностей, обеспечивавших дворянство, только что перенесшее режим Павла. Этому договору Александр изменил, и всю жизнь сохранил сознание своей измены. Потому и не мог карать декабристов, что видел в них сообщников своей молодости. Не личный страх определил измену Александра — за корону, за власть, — но все же страх перед свободой, неверие в человека, неверие в свой народ».
Данная легенда основана на диалоге, состоявшемся в мае 1821 между Александром I и Васильчиковым: последний доложил все известное о заговоре, а царь ответил (перевод с французского): «Мой дорогой Васильчиков. Вы, служивший мне с самого начала моего царствования, знаете, что я разделял и поощрял эти заблуждения» — и добавил после пузы: «Не мне их судить».
«На этом факте приходится остановиться, но объяснить его логично мы затрудняемся», — честно признает биограф Александра I великий князь Николай Михайлович.
Разумеется, решение, продекларированное Александром, находится в полном противоречии со всеми его прочими поступками: царь твердо и грубо реагировал на любые заметные попытки проявления оппозиционности. Примеры А.С.Пушкина, Т.Э.Бока и В.Н.Каразина — залог тому. Любопытна и такая деталь, как сразу возникшее подозрение Александра по адресу П.Я.Чаадаева, всего-навсего привезшего ему в качестве курьера сообщение о происшедшем семеновском «бунте». О решительных действиях Александра I против заговорщиков в последние недели правления мы расскажем ниже.
К тому же хорошо известно крайне негативное отношение царя ко всем и всяческим карбонариям, выраженное в приведенных выше цитатах.
«Неужели возможно, что, настроенный Меттернихом к самой отчаянной борьбе с революционным движением Европы Александр мог равнодушно относиться к однородным проявлениям в России?» — недоумевает Николай Михайлович.
Действительно, невозможно! Тем более, что негативное отношение царя к карбонариям не ограничивалось письменным и устным неодобрением.
В ноябре 1820 года в Троппау конгресс «Священного Союза», где наряду с австрийским князем К.Меттернихом Александр I играл виднейшую роль, принял резолюцию, обязывающую великие европейские державы к немедленному вооруженному вмешательству против любых революций в Европе. Не прошло и месяца, как жизнь потребовала реализации принятого решения: против австрийского владычества восстал Пьемонт — северо-восточная часть Италии.
В полном соответствии с принятыми обязательствами Александр I, едва успевший приехать в Петербург накануне нового 1821 года, решил послать на усмирение повстанцев российскую армию. Ниже мы покажем, что на это решение оказали влияние не только вопросы безопасности Европы.
Первым делом царь вызвал Ермолова, которого предполагал назначить командующим, а сам снова выехал за границу на чрезвычайный конгресс «Священного Союза» — на этот раз в Лайбах (ныне — Любляна). Срочный отъезд мог казаться даже стремительным бегством!
Ермолов с 1816 года командовал Отдельным Кавказским корпусом и был одновременно главноуправляющим в Грузии; он уже поднаторел в карательной деятельности. В конце декабря 1820 года Ермолов выехал в отпуск в Россию и разъехался дорогами с курьером, посланным императором за ним на Кавказ. Отсутствие телеграфа — важнейший фактор всех политических событий в России того времени!
Заехав по дороге в Орел к своему отцу, Ермолов затем уже не застал в Петербурге императора. Последний, не дождавшись Ермолова, захватил с собой генерал-адъютанта барона И.И.Дибича, который с этого времени сопровождал Александра I во всех поездках — вплоть до конца царствования.
Сообщим основные данные об этом персонаже, сыгравшем в последующих событиях величайшую роль.
Иван Иванович (Иоганн Карл Фридрих Антон) Дибич — потомок (оказавшийся последним) славного рода немецких баронов-разбойников, известного с 1435 года. Его отец, прусский генерал, был принят на русскую службу в 1798 году и прослужил до смерти в 1822 году (с 1811 — директор 1-го кадетского корпуса, затем — Сестрорецкого оружейного завода). Сам И.И.Дибич, родившийся в 1785 году и окончивший Берлинский кадетский корпус, в 1801 году поступил прапорщиком в Семеновский полк. Быстро выдвинулся в боях и походах, и с 1810 года уже состоял дежурным штаб-офицером в Свите. В 1812 году командовал войсками, прикрывавшими санкт-петербургское направление, затем снова отличился в сражениях 1813–1814 гг., а с 1815 года был начальником штаба 1-й армии.
Ермолову же в январе 1821 было оставлено повеление ожидать дальнейших распоряжений; ему пришлось задержаться в столице до конца марта 1821 года.
Именно в это время он был уведомлен о содержании доноса Грибовского и о том, что оно доведено до царя.
Под № 5 в списке Грибовского значились оба адъютанта Ермолова времен войны с Наполеоном — М.А.Фонвизин и П.Х.Граббе. Последнего Ермолов немедленно предупредил: «Оставь вздор, государь знает о вашем обществе». Заговорщики, таким образом, были оповещены Ермоловым о раскрытии их секретов.
В марте русская армия получила приказ следовать в Италию — и началось движение войск. Ермолову было приказано выехать в Лайбах.
Но Меттерниху вовсе не светило проникновение русских на юг Европы. Вскоре отчетливо выяснилось, что никто, кроме Александра I и его преемника Николая I, не относится буквально к уставу и решениям «Священного Союза» — все достаточно четко следовали собственным национальным интересам. Австрийцы огромными силами сами вошли в Пьемонт и к середине апреля разгромили восставших.
Когда в конце апреля Ермолов встретился в Лайбахе с русским и австрийским императорами, то российская экспедиция в Италию была уже отменена.
В данном случае, возможно, царь действительно проявил гуманность, чему причина — его благоволение к этому противнику крепостничества. Царь будто бы посоветовал Тургеневу как христианин христианину оставить заблуждения. Тургенев внял совету, вышел из Общества, в том же году ушел со службы, а в 1824-м выехал за границу. Профилактическая мера имела полный успех. Заметим, однако, что вовсе не ясно, от кого именно исходило предупреждение — от царя или от Милорадовича, якобы игравшего только роль передаточной инстанции. К этому эпизоду мы тоже еще будем возвращаться.
Чтобы дать логичное объяснение странным решениям Александра I, нужно более внимательно оценить общую обстановку, сложившуюся в российских вооруженных силах к осени 1820 года, а также те изменения, которые произошли в деятельности Тайного общества с октября 1820 по май 1821 года.
Вся ситуация 1815–1820 гг. в армейском командовании, рассмотренная выше, по существу была борьбой двух ярко выраженных направлений: с одной стороны — сторонников палочной дисциплины, доводящей до автоматизма подчиненных всех уровней, а с другой — приверженцев боевой выучки, основанной на инициативе в сочетании с необходимым подчинением. Можно рассматривать такую борьбу как столкновение принципиальных доктрин, можно — как чисто карьеристское соперничество служебных кланов, но факт, что борьба имела место, а арбитром в спорах выступал сам Александр I.
К первому направлению, как указывали современники, принадлежали Аракчеев, Барклай-де-Толли (умерший, кстати, еще в мае 1818 года), великие князья Николай и Михаил, а выдающимся представителем его был полковник Шварц.
Ко второму Николай Павлович безоговорочно причислил Милорадовича, сами себя относили Паскевич и Денис Давыдов. К нему же, разумеется, примыкали участники «Союза благоденствия», которых, увы, больше волновали не интересы солдат и задачи боевой подготовки, а собственное право ездить на учения во фраках.
Такое разделение носит, конечно, в определенной степени условный характер: каждого конкретного генерала или офицера не всегда легко отнести к той или другой категории. К тому же личные взгляды и объективные обстоятельства со временем претерпевают изменения. Ниже нам придется, например, рассказать, как на самом финише деятельности и Милорадовича, и своей собственной, не кто-нибудь, а сам пресловутый граф Аракчеев оказался внезапно не в «партии Аракчеева», а в «партии Милорадовича»!
Великий князь Константин Павлович, с его известной любовью к парадам и отвращением к военным действиям, должен был бы, казалось, принадлежать к первому направлению. Но есть свидетельства, что и он с возмущением стал относиться к строевым увлечениям 1820-х годов.
В то же время Паскевич отнюдь не стремился возвысить голос против акробатики: «Не раз возвращаясь с плаца, мне приходило желание все бросить и в отставке предаться семейной жизни; но я почувствовал, что скоро понадоблюсь для серьезного дела. Россия, я тогда понимал, без войны и скорой войны не обойдется. Волнение в Греции — это начало разложения Турецкой империи» — оправдать, как известно, можно что угодно!
А вот П.И.Пестель ратовал как будто за свободу, но на службе зажимал и офицеров, и солдат не хуже Шварца, подводя под это, впрочем, агитационную идейную подоплеку: «На средства он не был разборчив; солдаты его не любили; всякий раз, когда император или великие князья назначали смотр, он жестоко наказывал солдат. При учреждении военных поселений он хотел перейти туда на службу и обещал, что скоро у него возмутятся», — писал о нем Е.И.Якушкин — сын упоминавшегося заговорщика, проведший немало времени среди сосланных друзей своего отца.
Впрочем, и «республиканские» тезисы Пестеля только по незнанию можно считать вольнолюбивыми: на самом деле в случае удачи переворота он планировал на 8-10 лет установить диктатуру Временного Верховного Правления, чтобы «беспощадную строгость употреблять против всякие нарушителей спокойствия»!
Не все знают, что до января 1918 года большевистское правительство тоже официально именовалось Временным, но аппетит, как известно, приходит во время еды!..
Ставка в борьбе этих тенденций была отнюдь не малой: не только карьеры представителей различных кланов, но и судьба всей русской армии.
Теперь-то нам известно, кто победил в этом соперничестве; известно и то, к чему это привело.
Один из прославленных сподвижников Александра I, уже упоминавшийся князь А.С.Меншиков, оставался в строю еще долгие десятилетия. Именно ему было приказано готовить Крым к обороне от иноземного вторжения. Прибыв на место назначения и проведя в августе 1854 маневры подчиненных войск, он в ужасе записал в дневнике: «Увы, какие генералы и какие штаб-офицеры: ни малейшего не заметно понятия о военных действиях и расположениях войск на местностях, о употреблении стрелков и артиллерии. Не дай Бог настоящего дела в поле» — дословное повторение оценок Паскевича, Натцмера и Давыдова! Катастрофа действительно состоялась буквально через несколько дней — стоило лишь высадиться англо-французскому десанту!
Данная ситуация — не исключение в российской истории. Можно, например, вспомнить борьбу сторонников модернизации РККА во главе с М.Н.Тухачевским, И.П.Уборевичем и И.Э.Якиром против кавалеристов, возглавляемых К.Е.Ворошиловым и С.М.Буденным. Как именно Сталин сыграл тогда роль арбитра и во что это вылилось (и для участников дискуссий, и для Красной Армии) — тоже хорошо известно.
Как ни рассматривай происшедшее в Семеновском полку — как восстание или как почти невинный протест — в любом варианте случившееся было скандалом, безобразием и непорядком. Тем более важно было определиться с тем, кто же из командиров был в этом виноват и в чем состояла вина.
Объективно виновны были представители обеих соперничающих сторон. Если бы Михаил Павлович, Шварц и офицеры более низкого уровня не третировали солдат по пустякам, то не было бы и повода для протестов последних. С другой стороны, если бы другие офицеры, играющие в либерализм, больше сил отдавали бы службе (а не собраниям Тайного общества), больше следили за солдатской дисциплиной (не по форме, а по существу), сами больше заботились об интересах солдат, не злословили бы вслух по адресу начальства, а в самый момент «бунта» проявили бы мужество и распорядительность, то конфликт и не вырос бы в грандиозный публичный скандал!
В такой непростой ситуации тем более значили результаты расследования и формально вынесенные наказания. Очень интересно, что Аракчеев, старавшийся в сложной конфликтной обстановке уходить от ответственности, все время следствия по делу Семеновкого полка провел либо в Грузине, либо в военных поселениях — той же линии он заметно придерживался и в 1825 году (об этом — ниже)! Он явно почувствовал, что нашла коса на камень — и ждал: чья возьмет?
Донос Грибовского, почти волшебным образом предшествовавший семеновской истории, заставил Милорадовича, в руках которого сосредоточился контроль над следствием, принять важные и ответственные решения.
Среди офицеров Семеновского полка было немало членов «Союза благоденствия» — и братья Муравьевы-Апостолы, и другие. Их взгляды и настроения вполне гармонировали с настроениями остальных членов Тайного общества. Вполне логично было бы списать на заговорщиков и то противодействие, которое, несомненно, встречал у своих подчиненных ревнитель дисциплины великий князь Николай Павлович!
В тревожной обстановке осени 1820 года, когда царь требовал найти виновников смуты, совсем не трудно было представить Н.М.Муравьева и его ближайших коллег источником возникающих осложнений, а «Союз благоденствия» — преступной организацией, подрывающей дисциплину и верноподданность. И это не сильно отличалось бы от истины!
Именно так постарался представить дело и Васильчиков в мае 1821! Если бы он навязал царю свою точку зрения, тогда размах репрессий принял бы гораздо более широкие масштабы.
Если к тому же на следствии всплыли бы цареубийственные замыслы Пестеля и Никиты Муравьева, то наказания участников тайных совещаний едва ли ограничились понижением в чинах и рассылкой по провинциальным гарнизонам. А эти замыслы наверняка были бы выявлены при самом минимальном нажиме на допрашиваемых: едва подследственным грозили мало-мальски неприятной карой — и менее виновные немедленно принимались топить более виновных; так было практически всегда, за редчайшими исключениями, о которых мы расскажем в соответствующих разделах хроники. Так же и произошло именно с этими героями-заговорщиками уже после 14 декабря 1825!
Каким бы гуманным ни был Александр I (а он вовсе не был гуманным!), но личные перспективы Муравьева или Пестеля (которого, как мы знаем, царь и так не жаловал!) выглядели бы тогда весьма плачевно — гораздо менее виновные страдали почти что ни за что!
Но ставкой в той ситуации оказались не только и не столько личные судьбы членов «Союза благоденствия».
Семеновский бунт был сам по себе довольно крупным скандалом. Отягченный еще и разоблачением зловредного тайного общества, он стал бы скандалом ужасающим — соизмеримым с мятежем 14 декабря 1825 года (которого тогда, в 1820 году, никто, конечно, еще не мог себе вообразить). Милорадовичу и кому угодно другому совсем не трудно было понять, что такой скандал выльется в полную победу сторонников палочной дисциплины — как это действительно и произошло после 1825 года.
Тридцать лет игры в солдатики — и такое могло начаться прямо в 1820 или в 1821 году! Допустить этого Милорадович никак не мог — и не допустил.
Единственной возможностью для этого было взять Тайное общество под защиту и спрятать его от публичного разоблачения. Так, разумеется, Милорадович и сделал — и в тот момент не играло никакой роли его личное отношение к горе-заговорщикам (хотя ниже мы постараемся и это осветить): дело было совсем не в них!
Задача его была нелегкой: игнорировать факт существования Тайного общества и скрывать его от царя было невозможно. Милорадович не мог полагаться на скромность гвардейского командования, уже посвященного в суть доноса Грибовского: Бенкендорф, как увидим, действительно попытался продолжить преследование заговорщиков, а Васильчиков прямо к этому призывал. Не мог гарантировать Милорадович и молчания новых грядущих доносчиков — и, как известно, позже такие доносы воспоследовали. А ведь задачей Милорадовича было даже не смягчение возможных наказаний, но пресечение самой возможности следствия: в противном случае результаты расследования заиграли бы сами по себе и были бы немедленно усилены и подхвачены начальствующими лицами, заинтересованными в обвинении заговорщиков — и какими тогда оказались бы возможности Милорадовича затушить скандал?!
Тем более интересны оказались принятые им меры.
Бездеятельность «Союза благоденствия» в предшествующий период 1819–1820 гг. общеизвестна. Потому-то самые энергичные и решительные его члены и пытались вдохнуть пламя в угасающий революционный очаг — о П.И.Пестеле и Н.М.Муравьеве мы уже рассказали. Некоторые другие также старались направить заговор в практическое русло.
Н.И.Тургенев предложил всем участникам освободить на волю собственных крепостных. Предложение прошло с восторгом — в этом увидели проблеск чего-то реального! Но, разумеется, никто ничего не сделал — этим Тургенев позже и объяснял свой отход от «заговорщиков» (описанные выше попытки Якушкина и Лунина имели место соответственно ранее и позднее рассматриваемого периода).
Заметим, что и сам Тургенев, разумеется, никого не освободил. Ситуацию эту легко понять: среди российских дворян было некоторое число людей, способных оценивать российские порядки с позиций абстрактной справедливости и возмущаться ими. Исправление же этих порядков за свой собственный счет — совсем другое дело; подобным альтруизмом никто не обладал!
Коллеги Тургенева тоже тяготились бездеятельностью. С.М.Семенов и Ф.Н.Глинка даже попытались создать собственную тайную организацию — с более энергичной программой.
Деятельность-бездеятельность продолжалась еще в конце 1820 года, а на начало 1821 года по инициативе М.А.Фонвизина был запланирован съезд в Москве, где представители разных управ должны были договориться об активизации борьбы.
Интересно, что это происходило уже после доноса Грибовского! А ведь и Грибовский не прекратил доносить, и начальство вовсе не ограничилось собственным ознакомлением с его первоначальным докладом!
Вскоре после доноса Грибовского Милорадович создал в своем подчинении целую Экспедицию тайной полиции.
Грибовскому же поручили организацию тайной полиции непосредственно в гвардии — на это была получена санкция самого Александра I. Но делу якобы не было придано большого размаха, а результаты совершенно достоверно оказались ничтожными — это очень интересный факт, т. к. искать заговорщиков было вовсе не сложно, а Грибовский прекрасно знал, где это следует делать, будучи, как известно, членом Коренной управы «Союза благоденствия» и лично зная всех его вожаков!
Существенно, что Грибовский, проживший и прослуживший много лет и ставший позже Симбирским вице-губернатором, а затем — Харьковским губернатором, никогда не делился сведениями о том, как же он следил за заговорщиками, а история его доносительства 1820 года выплыла из архивов только в 1873 году.
Все это было бы совершенно непонятным, если бы одновременно в эти же критические месяцы радикальным образом не изменилась и деятельность самого тайного общества. Намек на начало этого процесса содержится в маленьком отрывке из воспоминаний Тургенева, относящемся к концу 1820 или началу 1821 года — Тургенев намеренно предпочитал не уточнять время, так же, как и конкретизировать собственную позицию в тот момент: «секретарь общества, Семенов, приходил ко мне и говорил: «[Е.П.]Оболенский и другие члены, особенно Измайловского полка, жалуются на недеятельность общества и особенно на Никиту Муравьева. Я говорил о сем Муравьеву, — продолжал Семенов, — положено собраться в такой-то день у Муравьева». В другой раз Семенов говорил: «Положено собраться у [П.И.]Колошина, у Глинки». Но причина собраний всегда была одна и та же: жалобы различных членов /…/. Жаловались на худое устройство общества; но так как никто не мог придумать лучшего, то скоро разговоры об обществе прекращались и переходили к общим предметам: один сообщал газетные новости о камере депутатов во Франции /…/, другой читал новые стихи Пушкина, третий смеялся над цензурою журналов и театров и пр. и пр.», — словом, это была обычная атмосфера «московских кухонь» 1960-1980-х годов, из которой, разумеется, не могло возникнуть никаких революций или государственных переворотов! Наиболее интересна, однако, роль, принятая на себя к этому времени Муравьевым.
Почему это вдруг Никита Муравьев — самый решительный из столичных конспираторов! — сполз к позиции по-прежнему авторитетного, но совершенно безинициативного члена Общества, а весной 1821 года совсем взялся за ум, отказался от роли освобожденного (по советской терминологии) идеолога и руководителя заговора и вернулся на службу на прежнее место — в Гвардейский генеральный штаб? Не он ли совсем недавно ратовал за республику и цареубийство? А ведь даже никаких побудительных материальных мотивов для возвращения на службу не было — Муравьев был достаточно богат, а управление имениями, к которому он в тот период впервые в жизни проявил интерес (это тоже характерно!), тем более побуждало держаться подальше от служебных забот!
Разумеется, подобные метаморфозы — не редкость. Обычно они являются плодом длительных тяжких раздумий — особенно в тюрьме, на каторге, в ссылке или хотя бы в эмиграции. Но чтобы так вдруг? Такие случаи тоже бывают, но как правило — уже не в результате раздумий, а при внезапных внешних воздействиях. Много ли требуется времени, чтобы стать предателем или ренегатом при серьезной угрозе? Похоже, что именно так и случилось с Никитой Муравьевым.
Еще более радикальные изменения претерпело тогда поведение Глинки и самого Тургенева.
Милорадович, обнаруживший в списке заговорщиков под № 1 хорошо известного и уважаемого им чиновника, а под № 2 — собственного адъютанта, вероятно удивился. Но данная ситуация должна была вполне его устроить.
Он не мог и не должен был ограничиться предупреждением своих приближенных, как это сделал Ермолов, в свою очередь предупрежденный, скорее всего, Милорадовичем.
Тем более не соответствовало его характеру организовывать шпионство какого-то Грибовского за его собственным, Милорадовича, адъютантом. Если в свое время он брался договариваться с противником прямо на поле боя, то вовсе нелепо было бы теперь прятаться за Грибовского!
Гораздо проще было напрямую договориться с Глинкой и Тургеневым и заставить их немедленно свернуть нелегальную деятельность, разоблачение которой грозило всей армии неисчислимыми бедами — именно такой путь в наибольшей степени соответствовал внутренней сути Милорадовича и стоявшей перед ним задаче. А задачей Милорадовича, как указывалось, было погасить служебный скандал.
В переговорах с заговорщиками на руках у генерал-губернатора были все козыри. По сути это был прямой шантаж: конспираторам предстояло либо безоговорочно подчиниться Милорадовичу, либо отдать себя во власть тех людей, которые примутся за расследование их проступков, а затем вынесут вердикт о наказании.
Глинка и Тургенев (в отличие от Грибовского) знали досконально все происходившее в руководящем ядре заговора, включая решения о республиканском строе, цареубийстве и военном перевороте. Столкнувшись с угрозой разоблачения, они должны были отчетливо оценить печальные перспективы возможного расследования. Поведали они об этом Милорадовичу или сохранили от него в тайне, но в любом варианте он приобрел сотрудников, имевших серьезные мотивы энергичнейшим образом следовать его директивам.
Милорадович же предлагал в общем не очень страшные вещи: просто прекратить пока подрывную активность, а безнаказанность он обещал обеспечить — хотя вроде бы и неясно в тот момент, насколько гарантированно. Но, если подумать, была и определенная гарантия.
Ведь Милорадович и сам был под угрозой наказания как генерал-губернатор, в подчинении которого и произошел семеновский «бунт». Приступая к шантажу заговорщиков, он, как всякий шантажист, тоже рисковал: если позже он не спасет заговорщиков от расправы, то и они в отместку предадут гласности сам факт предупреждения с его стороны.
А ведь это предупреждение было значительно более серьезным проступком, нежели аналогичные действия Ермолова: ведь и Граббе, и Фонвизин в тот момент пребывали в отставке и не имели касательства к семеновскому бунту, а сам Ермолов тем более не имел ни малейшего отношения к событиям в столице! К тому же почти публичное предупреждение Фонвизину было сделано уже после того, как царь в разговоре с Васильчиковым в какой-то степени снял покров секретности о собственном отношении к этому делу.
Милорадович же напрямую вмешивался в деятельность нелегальной организации, почти непосредственно замешанной в скандальную историю и заведомо подлежащей расследованию с его собственной стороны. Как это ни расценивать и чем бы это ни грозило лично Милорадовичу, но скандал, которого он опасался более всего, мог ударить с еще большей силой, если бы вскрылись его собственные неблаговидные деяния.
Следовательно, интересы самого Милорадовича, интересы всей российской армии, как он их понимал, и интересы заговорщиков с этого момента оказывались кровно связаны — такова природа страшных тайн и их хранителей!
У Милорадовича была еще одна ниточка, которой он мог буквально давить заговорщиков за горло: имя предателя. Раз оно никогда не всплыло ни в единых показаниях и воспоминаниях декабристов, то они действительно его не знали. Факт же предательства был налицо — он доказывался одним только предупреждением Ермолова. Поэтому любая попытка заговорщиков противодействовать Милорадовичу сопровождалась в тот момент риском немедленного разоблачения их закулисных ходов.
Вот для этого Милорадовичу действительно был необходим Грибовский с его тайными агентами, по крайней мере — на первых порах. И Бог ведает, сколько тайных информаторов на самом деле тогда было, кто они были и что именно доносили! Ведь отсутствие таких доносов в государственных архивах — не доказательство того, что их в свое время вовсе не было.
Такое коварство еще не было присуще Милорадовичу в 1805 году, и в этой сфере он, в соответствии с давним пожеланием Ермолова, явно кое-чему подучился — его действия последующих лет вполне иллюстрируют достигнутый прогресс, хотя, как увидим, в конечном итоге именно он, Милорадович, снова оказался жертвой!
Вот с таким грузом на шее заговорщикам пришлось существовать в дальнейшем, а шпиономания — неизбежный спутник конспирации! — в определенной степени вошла в их быт. Она стала и существенной гарантией сохранения в тайне связей руководства заговора непосредственно с генерал-губернатором: здесь сработал стандартный механизм вербовки секретных сотрудников.
Если человек, вербуемый для секретного сотрудничества (в чем бы оно ни заключалось), не отказывается сразу, а затем и выполняет секретные поручения, не предупреждая своих коллег по конспиративной деятельности, то в дальнейшем он лишается навсегда возможности признаться коллегам в любых своих связях с инстанцией, его завербовавшей — ведь это вызовет неизбежные и оправданные подозрения в глобальной измене и доносительстве.
Один, первый раз скрыв такой секретный контакт от своих сообщников, завербованный агент в дальнейшем лишается возможности безнаказанно признаваться в любом другом и во всех таких контактах! Это был существенный фактор, ограничивший число посвященных в самый важный секрет декабристов; с другой стороны, и Милорадович нисколько не был заинтересован афишировать собственную роль. Теперь понятно, почему все участники неявной сделки обязаны были хранить тайну.
В итоге число активных членов Тайного общества (некоторые, как будет показано, решительно порывали с конспиративной деятельностью и фактически или даже формально покидали ряды заговорщиков — всегда по достаточно весомым мотивам), напрямую бывших в курсе особых отношений с Милорадовичем, никогда не превышало двух-трех человек. Их поведение всегда отличало их от всех остальных, не понимавших причин возникновения определенных противоречий.
Понятно и то, почему этот секрет до сего времени не был раскрыт: страшная гибель Милорадовича 14 декабря 1825 года сделала разоблачение его связей с руководителями заговора еще более невозможным со стороны последних!
Это было бы таким моральным фиаско, по сравнению с которым все прочие преступления декабристов перед Богом и людьми выглядели бы невинными шуточками! Никаких же других возможностей выявления таких связей, кроме логического анализа, предлагаемого теперь читателю, просто не существует.
Но вернемся назад к 1820 году.
Как в математической теории игр, если есть единственное решение, устраивающее всех игроков с точки зрения наименьших бедствий, то принимается именно оно. Оно и было принято. Притом ситуация осени 1820 года была настолько ясной и очевидной немногим посвященным, что привести в ход все последующие шаги можно было одной прямой командой.
Милорадович, из доноса Грибовского узнавший о существовании тайного общества, состоявшего из лиц, подчиненных ему как генерал-губернатору и имевших в руководстве его собственного адъютанта, мог реагировать в полном соответствии со своим служебным положением. Тайное общество стало как бы еще одним новым подразделением, каких у него в подчинении было немало — включая немедленно созданную тайную полицию! Нужно было принимать это подразделение под командование и издавать приказы — чего же проще? Для этого было вполне достаточно отдавать устные распоряжения соответствующему адъютанту.
У Милорадовича адъютантов было несколько — и каждый, как будет показано, использовался в соответствии с индивидуальным профилем — Милорадович был блестящим администратором! Вот и Глинке теперь предстояло стать адъютантом по Тайному обществу — и исполнять соответствующие приказы жесткого и гибкого как удав командира! И попробовал бы кто-нибудь ослушаться!
Поначалу только два заговорщика вынужденно попали под прямое влияние Милорадовича — Глинка и Тургенев. Это отчетливо видно по тем шагам, которые они предпринимали в указанный период. Им предстояла нелегкая задача: постепенно провести агитацию в пользу сокращения революционной активности, по возможности менее упирая на происшедшее разоблачение заговора — чтобы избежать паники, истерик, взаимных подозрений и обвинений, которые неизбежно доведут дело до совершенно недопустимого публичного скандала. Поэтому и съезд в Москве в январе-феврале 1821 года организовывался совсем не для той роли, которую сыграл.
Тревожное состояние императора, непосредственно продемонстрированное во время его кратковременного новогоднего приезда из-за границы, заставило Милорадовича поторопиться: Глинке и Тургеневу, несомненно, были даны указания действовать более решительно.
На съезд, собрания которого происходили в московской квартире Фонвизиных, собралось двенадцать человек: сами хозяева — братья М.А. и И.А.Фонвизины, Н.И.Тургенев, Ф.И.Глинка, Михаил Николаевич Муравьев, П.Х.Граббе, М.Ф.Орлов, И.Г.Бурцов, Н.И.Комаров, И.Д.Якушкин, П.И.Колошин и К.А.Охотников (бывший адъютант М.Ф.Орлова, умерший затем в 1824 году) — как видим, хорошее совпадение со списком Грибовского!
Хотя не приехали ни Пестель, ни Никита Муравьев, но Тургеневу не удалось полностью подчинить собравшихся. Тогда и пошел в ход решающий аргумент, припасенный заранее: Глинка поделился сведениями об утечке информации. Он мог сослаться на намеки Милорадовича, не сообщившего никаких подробностей, что почти соответствовало истине. Собравшимся пришлось отнестись к сообщению всерьез — и немедленно действительно возникла напряженнейшая обстановка: все начали приглядываться друг к другу в поисках предателя!
«Я на лице твоем вижу, что ты изменяешь обществу», — заявил Якушкин подполковнику Н.И.Комарову — делегату Тульчинской управы. Хорошенький аргумент, не правда ли? Тем не менее участники съезда сговорились после этого вести наиболее важные разговоры в отсутствии Комарова.
На самом съезде не было принято формального решения о закрытии «Союза благоденствия»; наоборот, был принят целый ряд вроде бы конструктивных резолюций. Очевидно, до присутствовавших все же слишком постепенно доходил смысл того, что заговор раскрыт начальством. По-видимому, решающую роль сыграло вроде бы независимое от Глинки и Милорадовича предупреждение Ермолова Граббе, сделанное уже после съезда.
Совсем не исключено, что это специально было организовано Милорадовичем, который мог сговориться с Ермоловым или отчасти спровоцировать его. Хотя, конечно, Ермолов мог действовать совершенно самостоятельно — ведь сам он в данной ситуации мог руководствоваться исключительно сочувствием к старым товарищам! Впрочем, и Милорадович был его и старым, и старшим товарищем и, во-всяком случае, большим единомышленником, нежели всякие адепты акробатики, окопавшиеся вблизи высшего начальства! И Милорадович тоже нуждался в помощи!
Примерно тогда же, возможно, имели место и другие предупреждения, полученные участниками съезда. Тургенев вспоминал: М.Ф.Орлов, «отказавшийся от общества еще прежде уничтожения оного, сообщил через несколько времени некоторым членам известие, не знаю от кого им только что полученное и в том состоящее, что и съезд членов в Москве обратил уже внимание правительства» — если это сообщение не имеет первоисточником тех же Глинку или Граббе, сведения которых уже начали циркулировать как слух!
Так или иначе, но решение о роспуске «Союза благоденствия» было принято после Московского съезда. В разное время, но достаточно скоро покинули ряды заговорщиков все двенадцать участников съезда. Но чем дальше различные деятели Общества отстояли от съезда и от обстановки, сложившейся на нем, тем труднее было им смириться с его ликвидацией.
Разумеется, угроза разоблачения (дошедшая далеко не до всех и даже не до большинства) была не единственным мотивом закрытия «Союза» — к этому времени вполне успело проявиться значение того, что Александр I отступил от курса на реформы.
Ответственность перед Россией за приостановку реформ несут и царь, и заговорщики, боязнь которых вынудила его к отступлению. В этом — основной вклад декабристов в отечественную историю! Это была пародоксальная ситуация: боязнь заговора заставила царя отказаться от реформ, а отсутствие реформ стимулировало рост недовольства остающихся заговорщиков!
Роспуск «Союза благоденствия» позволил покинуть ряды заговорщиков всем того желающим, и понятно, кто в первую очередь поспешил воспользоваться таким правом: ярые крепостники выходили из оппозиции.
Среди них был такой энергичнейший и решительный деятель, как Михаил Николаевич Муравьев — младший брат лидера «Союза спасения» Александра Муравьева, перечисленный выше в рассказе Якушкина среди заговорщиков, персонально известных царю; М.Н.Муравьев, как упоминалось, был и участником Московского съезда. Позже он прославился при подавлении Польского восстания 1830–1831 гг., а много позже сыграл еще более крупные роли. Ему приписывается знаменитая фраза: «Я не из тех Муравьевых, которых вешают, но из тех, которые вешают», в связи с чем к нему прилепилось прозвище — «Муравьев-Вешатель».
Тогда же покинули Тайное общество и адъютанты Николая Павловича и Михаила Павловича — прочное положение при великих князьях сулило все же больше перспектив, чем оппозиционное словоблудие.
Остающиеся заговорщики еще не дошли до того, чтобы их вешали, но все более удалялись от возможности вешать других.
В Петербурге Никита Муравьев поначалу восстал против закрытия Общества — и писал об этом Пестелю. Он развил такую активность в данном направлении, что, по-видимому, Глинке и Тургеневу именно в тот момент пришлось посвятить его в позицию, занятую Милорадовичем, и объяснить неуместность дискуссий. Вот тут-то Никита и впал, по свидетельству очевидцев (в большинстве не знавших, чем это конкретно вызвано), почти что в шок и в бездеятельность — пережить подобный кульбит было непросто. Ведь это был крах всей его жизненной концепции!
Затем он постепенно пришел в себя. Возвращение на службу, происшедшее весной 1821 года, имело, по-видимому, определенный символический смысл: Муравьев признал над собой власть вышестоящего начальства. Впредь он не дерзал ни на какие серьезные шаги в служебной карьере, продолжавшейся вплоть до краха 1825 года, а жалованье для него, повторим, не имело практического значения. Чем занялся Муравьев в своей конспиративной деятельности — это нам предстоит несколько ниже внимательно рассмотреть.
Пестель вознегодовал и не подчинился общему решению. Возглавляемая им часть — Тульчинская управа «Союза благоденствия» — поддержала своего лидера. Немедленно покинули ряды заговорщиков только два участника Московского съезда — И.Г.Бурцов и Н.И.Комаров. Оставшиеся восемь человек в марте 1821 года декретировали самостоятельное общество, названное, как известно, «Южным», и избрали его правление — присутствовавших Пестеля и А.П.Юшневского и заочно — Никиту Муравьева (!).
Вплоть до лета 1821 года у Милорадовича не дошли руки до того, чтобы вплотную заняться этой организацией.
Ликвидация «Союза благоденствия» осуществилась так же тайно, как и протекала его деятельность. Понятно, об этом нужно было уведомить всех бывших членов — включая Грибовского. Для начальства, таким образом, в происшедшем не было секрета.
Бенкендорф немедленно составил доклад царю, где, помимо обозрения прошедшего периода, прямо предупреждал, что закрытие «Союза» — почти наверняка обычная масонская уловка с целью отсева ненадежных членов и дальнейшего возобновления деятельности в рамках новой организации. Он, как известно, оказался прав, но, как тоже известно, его доклад не привел к изменению позиции Александра I, отказавшегося в мае 1821 карать заговорщиков.
Что же касается Грибовского, то весной 1821 года произошло очевидное сокращение его тайной деятельности и изменение ее смысла. Коль скоро перед ним не была поставлена задача внедриться в сохранившийся круг заговорщиков или эта задача не была им решена, то и значение поступающей от него информации должно было упасть. Его можно было использовать лишь для контроля того, что влияние заговорщиков на достаточно широкие круги прежних единомышленников действительно сокращалось. Какое-то время Грибовский еще нужен был Милорадовичу, чтобы демонстрировать активность тайной полиции перед высочайшим начальством — ведь афишировать Глинку и его коллег в качестве собственных секретных сотрудников вовсе не входило в планы генерал-губернатора!
Между тем, Глинка и его товарищи (в тот момент — Тургенев и Никита Муравьев), лишь раз вынужденно пойдя на поводу у Милорадовича, уже не могли прервать дальнейших контактов. Это не значит, что они обязаны были делиться с шефом полной информацией — вся дальнейшая история революционного движения (как и история всех разведок) свидетельствует, что у информаторов всегда оставались определенные степени свободы в подборе и редакции собственных сообщений.
Не означало это и того, что собственное двусмысленное положение не вызывало у них терзаний и внутреннего сопротивления: муки Никиты Муравьева хорошо известны и многократно описаны, хотя и никак не объяснены.
Прежде энергичный Тургенев постарался после роспуска «Союза благоденствия» держаться как можно незаметнее, а когда в 1824 году вновь наметилось возрождение активности заговорщиков (об этом — ниже) вовсе унес ноги из России.
Глинка же подчеркнуто отказался вступать в возобновленную Петербургскую управу, названную «Северным обществом», что нисколько не мешало ему играть роль передаточной инстанции между Милорадовичем и заговорщиками — ведь он был известным литератором и продолжал вращаться во все той же среде хронических оппозиционеров!
Такая структура поступления сведений о заговоре вполне устраивала Милорадовича: теперь он обладал монопольной информацией, недоступной никому другому из начальства.
Что же касается всего периода 1821–1825 гг., то связи, налаженные между этими инстанциями, стали фактором, играющим важнейшую роль в лабиринтах тогдашней российской политики.
4. Гвардия в походе
Теперь мы можем логично объяснить странное решение императора Александра I, сообщенное им Васильчикову в мае 1821 года.
Накануне возвращения в Россию Александр по-прежнему не доверял гвардии и опасался переворота — как это было и в прошедшую осень, и в середине прошедшей зимы. Об этом свидетельствует не только Ермолов, но и вся организация появления императора в столице: после отмены экспедиции в Италию гвардия получила в апреле 1821 года приказ продолжить поход в западные области — к Минску и Вильне. Столицу освобождали от непосредственного присутствия основной массы заговорщиков; вероятно, это было и одним из мотивов предшествующего решения о походе в Италию!
Таким образом, даже если бы заговорщики остались верны собственным задачам годичной давности и довели бы их до конкретной подготовки, то решать их все равно не было никакой возможности!
Лишь тогда, когда гвардейские части уже месили пыль и грязь на лесных дорогах, император двинулся из Лайбаха домой, разумеется — иным путем.
В конце мая 1821 года Александра I дожидались в столице лишь осколки гвардейского воинства: Милорадович со своей администрацией и высшее гвардейское командование, заготовившее подробные доклады о заговоре среди подчиненных.
К маю 1821 года Милорадович имел основания быть довольным проделанной работой.
Вездесущий генерал-губернатор (его сверхъестественная способность оказываться в нужное время в нужном месте, изменившая ему лишь в последний день жизни, будет нами с избытком проиллюстрирована) нашел, конечно, возможность поведать об этих успехах царю еще до встречи последнего с Васильчиковым, на которой и была продекларирована амнистия заговорщикам. Александр I мог получить и, несомненно, получил от Милорадовича исчерпывающую информацию.
Нетрудно сообразить, в чем она заключалась.
Тайное общество действительно существовало — и можно предъявить хоть поголовный список. К бунту Семеновского полка оно, тем не менее, отношения не имело — за исключением некоторых офицеров, служивших в полку, но также не занимавшихся подстрекательством солдат. В Обществе велись вольнолюбивые беседы и даже обсуждались несбыточные прожекты, но далее разговоров дело не зашло, и не велось никакой пропаганды вне собственного круга. С западными карбонариями никаких связей не было — ни Боже упаси!
Семеновский бунт всех встряхнул, всем раскрыл глаза, все ужаснулись и, поразмыслив, раскаялись.
Злые мысли избыты, Тайное общество втихую закрылось и теперь вовсе не существует. Тем не менее, на всякий случай согласно Вашему распоряжению создана тайная полиция, ведущая неусыпное наблюдение как во избежание рецедива солдатских возмущений, так и для деликатного контроля настроений офицеров.
Что же касается бунта Семеновского полка, то следствием картина восстановлена буквально поминутно и применительно к каждому солдату и офицеру, все виновники и причины возмущений выяснены, и дело готово к вынесению справедливого приговора. Ценные указания Вашего величества учтены, бдительность проявлена, особо опасный преступник Каразин сидит в крепости, хотя и он в возбуждении бунта, как показала подробнейшая проверка, не повинен.
Все мы виноваты, оплошали, не досмотрели и не доглядели — в том числе и генерал-губернатор, но вину признаем, а ошибки постарались исправить. Ситуация полностью под контролем — и Милорадович ручается за то головой. А теперь покорнейше ждем Вашего благороднейшего и мудрейшего решения, Ваше величество! — примерно таким по смыслу должен был быть доклад Милорадовича, человека при дворе ловкого.
Он не мог не использовать свою репутацию прямого и честного воина, и должен был открыто каяться перед государем в собственных грехах и грехах подчиненных — тех, каких нельзя было не признать. Наверняка он брал на себя ответственность за все и готов был выслушать любой приговор — тем самым вернейшим образом подталкивая к оправдательному.
Никто, имевший иную точку зрения — Васильчиков, Бенкендорф или сам император — не смог бы возразить по конкретным фактам. Любая попытка снять вину с себя (а к этому почти наверняка прибег Васильчиков) проигрывала такой линии.
А вот какой собственный вердикт должен был устроить царя по существу дела — в этом нужно разобраться.
Позиция Милорадовича должна была быть царю очевидной, да тот ее и сам как будто не ретушировал — это был его стиль. Милорадович как генерал-губернатор тоже был не без греха в семеновской истории, должен был беспокоиться и за собственную шкуру, а потому по возможности гасил скандал — это Александру было ясно, и это вполне отвечало представлениям царя и о Милорадовиче, и о человеческой природе в целом. Заинтересованность Милорадовича в сохранении собственных начальственных позиций в противовес Аракчееву и прочим — тоже была ясна.
Но и Александру I также не нужна была безоговорочная победа «партии Аракчеева» (и его собственных младших братьев Николая и Михаила) над «партией Милорадовича».
Царь сам был опытным заговорщиком, и его всю жизнь устраивала возможность разбить договоренность людей, действующих за его спиной. Он всегда стремился разделять и властвовать. Зачем же ему теперь ворошить грехи полугодовой давности, унижать и наказывать вроде бы раскаявшихся заговорщиков-гвардейцев, а следовательно — и самого Милорадовича со всеми его сторонниками? Зачем без меры усиливать Аракчеева, тихо и с надеждой ожидающего царского вердикта и не рискующего напрямую выступить против Милорадовича? И еще один аспект, о котором никто не должен был догадываться — и до сих пор не догадался.
Разоблачение и осуждение гвардейского офицерства были бы косвенной, но недвусмысленной реабилитацией враждовавшего с ними Николая Павловича, который после прошлогоднего конфликта продолжал торчать за границей — и тоже наверняка ждал вердикта по делу о семеновском бунте; о тайном обществе он и вовсе не был осведомлен. Нужна ли была такая реабилитация Николая его брату-царю?
На этот непростой вопрос есть ответ: если бы Александра I не устраивала роль Николая как мальчика для битья в постоянных конфликтах с офицерами, то еще с 1818 года у царя было множество вариантов как-то исправить служебное положение брата — и, однако, это не было сделано!
Все эти соображения и заставили Александра I согласиться с Милорадовичем, прямо и косвенно просившего и настаивавшего не раздувать скандал и простить заговорщиков, взятых им, Милорадовичем, под личную ответственность.
Возможно, такое решение далось царю нелегко. Тем более неожиданным оно оказалось для Васильчикова, в беседе с которым Александр и высказал столь удивительные суждения.
Параллели между заговорщиками 11 марта 1801 года и 14 декабря 1825 года самоочевидны и отмечались многими. Это нисколько не умеряло беспокойств самого Александра и его нескрываемой враждебности к заговорщикам — так было и до мая 1821 года (причем, как известно, совсем незадолго), и после.
Что же случилось во время беседы с Васильчиковым? Разумеется то же, что и во многих других аналогичных случаях.
Васильчиков был неприятно поражен решением царя, не желавшего расширять расследование. Васильчиков посчитал это ошибкой и настаивал на исправлении. Очевидно, он пережал — Александр не выносил такого давления и, естественно, не имел желания объяснять собственные мотивы, о которых Васильчиков не сумел догадаться. Вероятно, на минуту Васильчиков увлекся и упустил из виду события 1801 года, непосредственным свидетелем которых был. Нападая на теперешних заговорщиков — а это было его позицией, хорошо понятной, — он, по-видимому, допустил какой-то выпад против конспираторов, который Александр, с его болезненной мнительностью на эту тему, мог принять на собственный счет. Такой вызов не прощался никому, и сейчас не простился Васильчикову!
Возможно, Александр вовсе не собирался снимать старого друга с должности, но теперь он это не просто сделал, а заменил его не кем-нибудь, а Уваровым — почти единственным остающимся в строю участником цареубийства 11 марта!
Такая вызывающая демонстрация была публичной реабилитацией, но не постаревшего сановника, а самого венценосного отцеубийцы!
Едва ли в таком назначении было рациональное служебное зерно. Сам Уваров настолько не был готов к исполнению командных обязанностей, что приступил к ним лишь через год — Александр, очевидно, счел необходимым настоять на неизменности собственного решения! Служить же Уварову, умершему в 1824 году, предстояло, как оказалось, совсем немного.
Приравняв себя с заговорщиками, царь немедленно сделал недискуссионным вопрос о возможности дальнейшего преследования конспираторов. Это, по-видимому, случилось импровизированно, и намного вышло за рамки того, о чем просил Милорадович и что было ему обещано. Но, что сказано, то сказано — тем более самодержавным императором! Индульгенция заговорщикам вышла почти всеобъемлющей.
Это повлияло и на судьбы оппонентов Милорадовича: Васильчиков был снят, а Бенкендорф — поощрен, но переведен. Его назначили командиром 1-й Кирасирской дивизии, тем самым тоже лишив непосредственной возможности продолжить наблюдение за всеми остальными гвардейцами. Аракчеев, вероятно, остался доволен своим решением держаться подальше от этого конфликта.
Вот какие кульбиты неожиданно выкидывает судьба!
Принял ли Александр I полностью точку зрения Милорадовича? Совсем не обязательно.
Ведь гвардия, ушедшая на запад, была выведена на всякий случай именно из-под контроля Милорадовича — следовало присмотреться и к ней, и к нему. В столице она отсутствовала больше года, вернувшись только летом 1822 года!
Понятно, что если даже гвардейцы действительно замыслили покуситься на государственный переворот, то в Пинских болотах его не проведешь! К тому же во время походов и маневров невозможно поддерживать агрессивный тонус заговорщиков, если в этом напрямую не заинтересованы руководители похода. А их, как видим, как раз заменили — Александр постарался предусмотреть буквально все!
Уварова, неспособного принять командование, фактически заместил Паскевич, именно теперь назначенный, как упоминалось, командовать 1-й Гвардейской пехотной дивизией.
Одновременная расправа над непосредственными участниками семеновского бунта продемонстрировала отсутствие какой-либо мягкости и либерализма верховной власти. Проект приговоров «мятежным» солдатам Александр изменил в сторону ужесточения. Тем самым четко было подчеркнуто различие между словом и делом правонарушителей!
Что же касается гражданского лидера заговора — Н.И.Тургенева, то вполне уместно было пугануть его, чтобы больше не путался под ногами. Это было вполне по-христиански — во всяком случае, в том стиле, в каком сам Александр I был христианином!
Все же последующие необходимые решения лучше было пока отложить.
В мае 1821 года Александр I года вынес вердикт о «бунте» Семеновского полка, освободил участников распущенного «Союза благоденствия» от юридической ответственности и разрубил тем самым напряженнейший узел политического противоборства. Противоречия в руководстве российских вооруженных сил, тем не менее, исчерпаны не были: они остались, перейдя из острой фазы в хроническую — ни «партия Аракчеева», ни «партия Милорадовича» решающей победы не добились.
Милорадович, как было показано, вынужденно взял заговорщиков под защиту. Столь же вынужденно он был обязан сохранять такую опеку и впредь.
Факт прежнего существования заговора был известен всему высшему командованию, в том числе и основным недоброжелателям Милорадовича — от Аракчеева до Васильчикова и Бенкендорфа. Имена руководителей заговора также хорошо были известны, и большинство из них сохранилось на своих местах. Следовало наблюдать за тем, что же они предпримут в дальнейшем и дадут ли шанс противной стороне добиться изменения царского вердикта и переиграть отнюдь не законченную кампанию.
Торопиться никому никуда не следовало, а потому опереточный сюжет развивался неспешными темпами: заговорщики вынашивали свои жуткие планы, а Милорадович «по-отечески» наблюдал за ними и одергивал.
Почему же эти люди, многие из которых были предупреждены о бдительном присмотре со стороны начальства, а иные и сами соучаствовали в нем, вообще не прекратили конспиративной деятельности? На этот вопрос можно дать исчерпывающий ответ.
Общая ситуация, в которой находилось дворянство, нами описана выше. Остается добавить, что на ее развитие влияли многие факторы, и поэтому ухудшение происходило не постоянно и постепенно, а волнами — как и положено экономическим процессам. Вот и в годы, предшествовавшие декабрю 1825, был период, крайне неблагоприятный для помещичьих хозяйств.
Еще политика Наполеона, пытавшегося установить «континентальную блокаду», сильно ударила по международной торговле. Поскольку она проводилась не один год, то всюду в Европе создались национальные и региональные рынки, защищенные от иностранной конкуренции. С падением Наполеона пали и все установленные им запреты. Запасы, не находившие сбыта внутри стран-производителей, были выброшены на международный рынок. Соответственно покатились вниз цены: на зерно, в частности, на Берлинской бирже — в три раза за несколько лет. И, о ужас! — волна банкротств, охватившая всю Европу, мгновенно доказала, что без таможенной защиты долее существовать невозможно.
Дружной ответной волной все государства, защищая каждое свою собственную экономику, воздвигали таможенные барьеры — покруче наполеоновских. Это также сказалось на вывозе сельхозпродуктов из России, занявших преобладающую роль в российском экспорте — взамен чугуна в донаполеоновскую эпоху.
Падение вывоза имело прямо-таки роковые результаты. В 1817 году экспорт зерна из России составил 143,2 млн. пудов, в 1820 году — только 38,2, а в 1824 году упал до 11,9 млн. пудов. Не случайно лозунг свободы торговли стал одним из главнейших пунктов всех программ декабристов.
В 1817–1825 гг. сокращение экспорта было прямым ударом по небогатым и без того помещичьим карманам. Кризис сбыта зерна и падение покупательной способности потребителей ударил и по российской промышленности.
Резко ухудшалось финансовое положение государства: только с 1820 года по 1822 государственный доход сократился с 475,5 млн. руб. (ассигнациями) до 399,0 млн. Соответственно дефицит бюджета вырос тогда же с 24,3 млн. до 57,6 млн. Осенью 1825 года министр финансов Канкрин писал к Аракчееву: «Внутреннее положение промышленности от низости цен на хлеб постепенно делается хуже, я, наконец, начинаю терять и дух. Денег нет».
Не хватало их и заговорщикам.
Спокойствие основной крестьянской массы и ее готовность поддержать власть и порядок базировались на том же фундаменте: коль скоро хлеб было трудно продать, то его можно было больше проесть, а на худой конец — выпросить, побираясь у сердобольных соотечественников. Так что кризис для дворян и государства — вовсе не кризис для крестьян. На этом мы еще остановимся, разбирая ситуацию уже второй половины ХIХ века.
Затруднения испытывали и богатые помещики, преобладавшие среди наиболее активных заговорщиков. Трудности сбыта урожая ударили даже по крупнейшим поместьям, сохранявшим оброчную форму эксплуатации крестьян: последние, естественно, не могли выплачивать дань в прежних размерах — ниже мы приведем красочные примеры. Вводить же барщину в данный момент было и хлопотно, и не имело никакого экономического смысла: к чему помещику увеличивать производство зерновой продукции, которую почти невозможно реализовать с выгодой?
Попытки найти полезное применение своей крещеной собственности, излишней для выращивания излишнего зерна, в той общеэкономической обстановке успеха не имели. Например, суконная фабрика, заведенная в своем имении декабристом Луниным, вступившим к тому времени во владение имуществом умершего отца (около двух тысяч душ крепостных), дала владельцу за 1824–1825 гг. только 2 % прибыли и была закрыта.
Кризис дворянства носил, таким образом, всеобъемлющий характер. Он рассосался лишь со временем, когда стабилизировалась международная таможенная политика, продолжился рост продовольственных потребностей в Европе, а Россия снова, с тридцатых годов ХIХ века, заняла доминирующую роль в экспорте зерна. Это позволило стабилизировать общеэкономическую и политическую ситуацию почти до конца царствования Николая I, но это уже не имело никакого касательства к декабристам и их политической борьбе.
Не удивительно, что у дворян рождались мысли о необходимости замены властей и порядков — это был дух времени. Дворянское недовольство никак не могло испариться.
Оппозиционные беседы, раз начавшись, уже не прекращались.
Показательно, что независимо от основного ядра заговорщиков, сформировавшегося в 1814–1817 гг., позже по сугубо собственной инициативе концентрировались совершенно иные группы людей со сходными настроениями. Одни из них находили рано или поздно выход к уже существующему Тайному обществу — так произошло летом 1825 года с «Соединенными славянами» на Украине, а другие так и существовали обособленно — например, кружок в Оренбурге, выданный предателем только в 1827 году.
В определенной степени декабристов, как и последующие поколения российских интеллигентов, можно считать жертвами режима: в России действительно вплоть до осени 1905 года отсутствовала возможность открытого и беспрепятственного выражения любых бредовых политических идей. Политическая активность, столь привычная и безобидная на Западе, встречала крайние опасения сначала царских, а много позже — и коммунистических властей. Но и это можно понять: далеко не при любой обстановке «народное представительство» и «свобода слова» столь безобидны, как теперь — да и то не так давно случился октябрь 1993 года!
Парламентский эксперимент Екатерины II завершился весьма плачевно, а мог бы привести и к худшим потрясениям, если бы Екатерина проявила слабинку. Так что вволю играть словами никто декабристам позволять не собирался. К существу их мнений Александр I также прислушиваться не хотел: примеры А.Н.Муравьева, Т.Э.Бока и даже Н.И.Тургенева — весьма красноречивы.
Все эти младшие собратья Милорадовича, Ермолова и Киселева были, кроме всего прочего, лишены возможности полноценного использования своих профессиональных качеств — увы, наступил тотальный мир!
Отдушиной оставалась лишь Кавказская война, куда действительно устремлялись самые нетерпеливые, предприимчивые и бессовестные: все-таки истребление кавказских народов — весьма специфическая работа! Но там делались и грандиозные карьеры. Пример — упомянутый Граббе: вняв совету Ермолова, он вернулся на службу и уже к 1838 году стал генерал-лейтенантом и командующим Кавказской линией.
Но на Кавказе офицерских и генеральских должностей было заведомо меньше, чем честолюбцев в русской армии — даже с учетом ротации кадров из-за непривычного климата, болезней и боевых потерь. Другие же войны — вплоть до начала Крымской — были маломасштабны, редки и скоротечны.
Вот и оставалось играть в Тайное общество, причем это носило характер именно игры, вовсе не чуждой обычному профессиональному характеру деятельности генштабистов в средних чинах и адъютантов высоких начальников, преобладавших в руководстве заговорщиков и лишенных реального поля для применения своих гипотетических стратегических талантов. Типичные «черные полковники» в различных странах ХХ века!
Неудивительно, что Милорадович должен был быть начеку, чтобы держать их в узде!
Целый год вплоть до начала лета 1822 года гвардия оставалась вне сферы непосредственного воздействия Милорадовича. Но, как и царь, Милорадович мог не беспокоиться относительно оппозиционных настроений подопечных, стесненных тяготами походов и неудобством и разобщенностью временных зимних квартир.
Зато состояние умов конспираторов в Тульчинской управе внушало тревогу. К тому же высланные офицеры Семеновского полка, пополнившие части 2-й армии, не могли не усилить оппозиционный дух. Несомненно, это не осталось секретом для Милорадовича — впредь, до самой осени 1825 года, его информаторы срабатывали безупречно. Но 2-я армия никоим образом не подчинялась Милорадовичу.
Как же он вышел из положения? Оказалось, очень просто.
Начальником штаба 2-й армии был, как упоминалось, Павел Дмитриевич Киселев. Он родился в 1788 году, когда Милорадович, как тоже упоминалось, уже испытал боевое крещение. Черед прославиться в боях пришел к Киселеву в 1807 году, когда он был (и оставался в течение нескольких лет) адъютантом все того же Милорадовича. Не оплошал он и позже, став в 1812–1815 гг. любимым флигель-адъютантом самого Александра I. Взаимное уважение и симпатии сохранялись между Киселевым и Милорадовичем и в последующие времена.
Разумеется, Милорадович не мог рисковать сразу весной 1821 года, когда ему стал известен отказ Пестеля с соратниками прекратить тайную деятельность. В то время все висело на волоске, и Милорадович мог вовсе вылететь в трубу, если бы не заручился должной поддержкой императора. Тогда оставалось только надеяться, что воинственные замыслы Пестеля не дойдут до конкурентов Милорадовича в Петербурге и не сыграют роковой роли, повлияв на позицию Александра I.
После благоприятного вердикта в конце мая Милорадович уже мог распространить свои методы, получившие высочайшее одобрение, за пределы собственной территории. Вполне естественно ему было обратиться к Киселеву.
О политических и социальных пристрастиях самого Милорадовича известно крайне мало: он не сочинял проекты и не тратил время на болтовню на эти темы. Киселев же, помимо того, что тоже был блестящим администратором, обладал незаурядным даром реформатора и теоретика, а в царствование Николая I выдвинулся на самые первые роли в государственном управлении и внутренней политике. О его взглядах имеется немало свидетельств, а сам он оставил массу писем, записок, докладов и прочих бумаг, заботливо собранных соратниками и родственниками — А.П.Заблоцким-Десятовским, Д.А.Милютиным и другими.
Взгляды Киселева на вольнолюбцев и тайные общества исчерпывающим образом иллюстрируются в его сугубо приватном письме к собственным родителям, вызванном намерением последних направить своего младшего сына Николая (впоследствии — крупного дипломата) на учебу в Иенский университет. Письмо написано в июле 1819 года, когда П.Д.Киселев, как мы помним, по совету Закревского должен был попытаться прибрать к рукам беспокойного Пестеля: «не понимаю, что побудило вас решиться на отдачу его [т. е. Николая Киселева] в буйственный университет, в коем правила якобинизма известны, в то сословие поместить молодого мальчика, из коего убийства и своеволия проистекают, теми заразить правилами, которые подняли руку на убийство Коцебу, и поручить вашего сына — кому? — слепой судьбе, под чей надзор? Товарищам студентам, безбожникам и бунтовщикам! — по чьему совету? — молодого, неопытного мальчика, которому хотелось видеть море, чужую землю и жить в независимости!» — в результате младшего брата отправили в более благополучный Дерптский университет. Неплохая исходная позиция для дружбы с Пестелем!
Заметим, однако, что из приведенного текста вовсе не следует безоговорочное осуждение прогрессивных политических веяний — речь идет о том, что политика — дело не мальчиков, но мужей!
Что же касается Пестеля, то нечто вроде дружбы действительно состоялось. Киселев, как известно, в 1816 году разработал собственный проект ликвидации крепостного права. Поспорить на эти темы им обоим было весьма небесполезно; известно, что Пестель читал Киселеву выдержки из своей «Русской Правды».
Пестель оказался и толковым сотрудником особого рода: с начала 1821 года Киселев трижды посылал его в Бессарабию — собирать сведения о разворачивающейся освободительной борьбе греков. Не исключено, что первая из этих поездок преследовала побочную цель: помешать присутствию Пестеля на Московском съезде «Союза благоденствия», куда тот очень рвался! Можно, конечно, допустить, что и две последующие были назначены Киселевым тоже для отвода глаз, но, вероятнее, Пестель действительно хорошо разобрался в особенностях балканской ситуации, что, однако, не сыграло практической роли — ввиду нежелания Александра I помогать революциям.
Близкое знакомство привело, однако, Киселева и к иным вполне определенным выводам (см. выше цитату из другого письма Закревского — от сентября 1820 года). Поэтому поручение Милорадовича взять под контроль «Южное общество» выполнялось Киселевым не в содружестве с Пестелем, а всячески обходя последнего. В этом Киселев нашел достаточно заметный отклик у самих соратников Пестеля по заговору.
В заговоре состояли оба адъютанта Киселева — И.Г.Бурцов (№ 7 в списке Грибовского) и Н.В.Басаргин. Первый из них, напоминаем, покинул Тайное общество сразу после Московского съезда — предупреждений Глинки ему оказалось достаточно. Второй так отзывался о Пестеле: «Со всем его умом и даром убеждения у него не было способности привязывать к себе; не было той откровенности характера, которая необходима, чтобы пользоваться общей доверенностью. Нам казалось, что он скорее искал сеидов, нежели товарищей».
Это, будто бы, быстро привело к новому отливу из рядов заговорщиков: «я сам не могу дать себе отчета, почему и как, но я и некоторые из моих друзей /…/ с половины 1821 г. по самое то время, как арестовали нас, не принимали уже прежнего участия в обществе и не были ни на одном заседании», — свидетельствует Басаргин. Представляется, что в данном случае это правда, но не вся — как, собственно, признал и сам Басаргин.
Середина 1821 года четко совпадает по времени с тем, что именно тогда Киселев вплотную занялся делами «Южного общества» и, как известно из официальных источников, создал тайную полицию при собственном штабе. Едва ли это не сопровождалось предупреждениями соответствующим лицам — начиная с его собственных адъютантов.
В результате численность заговорщиков сократилась более чем наполовину: с Пестелем остались только генерал-интендант 2-й армии А.П.Юшневский, еще один адъютант Витгенштейна штаб-ротмистр князь А.П.Барятинский и совсем юный поручик Н.А.Крюков — сын нижегородского губернатора.
Позднее прием новых членов и присоединение опальных офицеров Семеновского полка снова подняли численность заговорщиков — до двух десятков и более. В феврале 1822 года Пестель завербовал своего командира бригады — генерала князя С.Г.Волконского, зятя генерала Н.Н.Раевского, а также отставного полковника земельного магната В.Л.Давыдова. Позже были организованы две новые управы в дополнение к Тульчинской — Каменская (по Каменке — имении Давыдова в Чигиринском уезде Киевской губернии) и Васильковская; в последней заговорщиков возглавил Сергей Муравьев-Апостол.
Что же касается тайной полиции, то нелепо считать, что Киселев организовал ее для наблюдения за своим собеседником и собутыльником Пестелем (к тому же — экспертом по разведке!); это было бы столь же странно, как если бы Милорадович создавал полицию для наблюдения за Глинкой. Характерно, однако, что Пестель не был всерьез предупрежден об интересе со стороны властей — ни прежним соратником Никитой Муравьевым и другими петербуржцами (кроме заявления Глинки на Московском съезде, адресованного ко всем, включая Пестеля; и то неизвестно, в какой форме оно было передано Бурцовым и Комаровым), ни Киселевым, ни собственными сподвижниками из «Южного общества». Поскольку активность заговорщиков в течение последующих четырех лет инициировалась в основном усилиями Пестеля, то это сыграло едва ли не решающую роль в истории «Южного общества» и всего заговора декабристов. Почему же так происходило?
Дело опять же в репутации Пестеля, о котором известен и такой отзыв упоминавшегося выше Е.И.Якушкина — сына декабриста: «когда Северное общество стало действовать нерешительно, тогда он объявил, что если их дело откроется, то он не даст никому спастись, что чем больше будет жертв, тем больше будет пользы — и он сдержал свое слово. В Следственной комиссии он указал прямо на всех участвовавших в Обществе, и если повесили только 5 человек, а не 500, то в этом Пестель нисколько не виноват, с своей стороны он сделал для этого все, что мог» — как тут не вспомнить злодея более поздней исторической эпохи — С.Г.Нечаева! Можно предположить, что такому хитрому и бессовестному шантажисту просто невозможно было даже намекать на неформальные контакты заговорщиков с представителями высшей власти: он тут же бы взялся всех шантажировать — и своих соратников, обвиняя их в предательстве, и самих вельмож, за спиной царя пускающихся в сомнительные интриги. Так, возможно, думали о нем многие заговорщики. Но все же представляется, что не совсем так.
Вспомним известную мудрость, не лишенную оснований: ты сказал один раз — и я поверил, ты сказал дважды — и я стал сомневаться, ты повторил трижды — и я понял, что ты лжешь! Уж что-то больно много совершенно голословных обвинений в адрес Пестеля! А ведь он после ареста поначалу держался вполне твердо и стал давать показания, уличающие других, лишь когда остальные завалили обвинениями его самого. Правда, позднее случалось и так, что, например, Никита Муравьев, избегавший вначале обвинять Пестеля, сломался, ознакомившись с показаниями Пестеля против него. Но все же нет никаких особых оснований обвинять Пестеля в ответственности за чрезмерную откровенность на следствии и последовавшую жестокость наказания. Похоже, что декабристы старались собственные грехи списать на казненного собрата.
Разумеется, у Пестеля была особая ментальность, отталкивавшая других — недаром он был сыном собственного отца и братом собственного брата! Кандидат в диктаторы не импонировал многим. Но в бесчестности его было обвинить трудно. Более того, можно предположить, что его особая честность заговорщика и революционера (а следовательно и интригана, не чурающегося обмана) была вполне безупречной. Никто поэтому не рискнул посвятить Пестеля в хитрые отношения заговорщиков с высшими начальниками, под опеку которых попало Тайное общество — это могло вызвать бурю и скандал, ставящие под удар всякую возможность продолжения организованной мистификации!
Пестеля обвиняли в излишней рассудочности и черствости. Бестужев-Рюмин, например, писал: «Пестель был уважаем в обществе за необыкновенные способности, но недостаток чувствительности в нем был причиною, что его не любили. Чрезмерная недоверчивость его всех отталкивала, /…/ он делал множество ошибок. Людей он мало знал. Стараясь его распознать, я уверился в истине, что есть вещи, которые можно лишь понять сердцем, но кои остаются вечною загадкою для самого проницательного ума…»
Просто ум бывает разный. Теоретик и резонер Пестель, убежденный в собственной правоте, зашоренный и упертый в собственные идеи, годами не понимал, что ему морочат голову. Ясно, что людей он мало знал. Но скорее его нужно обвинять в недостатке практического ума и проницательности, нежели честности и душевной чистоты!
1 ноября 1821 года Пестель был произведен в полковники, а 15 ноября назначен командиром Вятского пехотного полка (вступил в командование в январе 1822). Киселев, без которого тут не обошлось, перевел его из Тульчина в Линцы — совсем небольшое гарнизонное местечко — не только для того, чтобы укоротить деятельность активного заговорщика, но, скорее всего, и потому, что не мог смотреть в глаза человеку, с которым постоянно был неискренен.
Теперь мы продемонстрируем, как Киселев использовал свою тайную полицию.
В феврале 1822 года в Кишиневе был арестован майор В.Ф.Раевский — за агитацию среди солдат и юнкеров.
Раевский, никого не выдавший, просидел под следствием до 1827 года, когда окончательно прояснились его связи с декабристами. Затем его сослали в Сибирь, где он и оставался до смерти в 1872 году (с 1856 года — сугубо добровольно).
Пострадавшим по этому делу можно считать его дивизионного командира — генерал-майора М.Ф.Орлова — одного из основоположников тайных обществ (№ 6 в списке Грибовского), еще одного зятя генерала Н.Н.Раевского. Ранее, одновременно с Киселевым, Орлов был флигель-адъютантом императора.
Независимо от того, что после Московского съезда Орлов покинул ряды заговорщиков, он был и оставался противником жестокого обращения с солдатами и инициатором повышения грамотности — в стиле Греча и Каразина; под его крылышком В.Ф.Раевский и пытался развернуть крамольные беседы. Арест последнего привлек пристальное внимание к 16-й пехотной дивизии. После царского смотра 2-й армии в октябре 1823 года Орлова, тоже нередко позволявшего публичные вольнолюбивые выходки, уволили в отставку; он поселился в Москве.
Арест Раевского сопровождался деталью, тогда оставшейся неизвестной, а много позже пересказанной все тем же И.Д.Якушкиным: среди бумаг арестованного оказался написанный рукой Раевского полный список всех членов Тульчинской управы — главного детища Пестеля! Каково же было удивление Бурцова, уже, напомним, отошедшего от заговора, когда тот обнаружил этот автограф среди бумаг, отданных ему Киселевым для служебного исполнения! Бурцов тут же сжег злополучную улику, а заговор благополучно просуществовал еще почти четыре года.
Этот эпизод можно было бы счесть небрежностью и невероятным стечением обстоятельств, если бы не молчание Киселева по поводу пропажи документа. Ниже мы поведаем о событиях, когда Киселев совершенно очевидно еще раз спас заговорщиков, сумевших не оценить и почти проигнорировать его усилия. Аналогичные действия Милорадовича также будут рассказаны и разобраны.
И Милорадович, и Киселев постарались не только приложить собственные руки к самому пульсу заговора, но и укрыли его от посторонних глаз шапкой-невидимкой размером с огромный шатер. М.Ф.Орлова и В.Ф.Раевского, явно зарвавшихся, спасти было невозможно; последний так и сидел почти пять лет, пока за него не взялись всерьез, уже получив массу показаний от его прежних товарищей. Но при всех других угрозах заговору, которую названные начальники имели возможность ликвидировать, они неизменно делали это.
В конце лета 1821 года великие князья Николай (с женой) и Михаил, возвращаясь из-за границы (Михаил лечился летом в Карлсбаде и Мариенбаде от последствий тяжелой болезни, которую перенес еще в 1819 году), встретились в Варшаве у брата Константина и провели вместе около недели.
Впервые после женитьбы последнего в мае предшествующего года произошла его встреча с Николаем. Николай отметил необычайную почтительность старшего брата, граничащую с прямой издевкой — вполне характерной для его манеры поведения. Михаил же позже показывал, что в это время Константин сообщил ему свое намерение не царствовать в случае смерти Александра. На самом деле, ничего еще не было решено.
Очень может быть, что принятие закона от 20 марта 1820 года Константин счел нарушением тех договоренностей его с Александром, суть которых, на самом деле, до публики не дошла. Вполне возможно, что поскольку нарушителем конвенции стал Александр, то и Константин счел свое устное обещание дезавуированным, и укрепился в намерении сохранить право на престолонаследие за собой. Во всяком случае, любые прежние устные взаимные обязательства Александра и Константина, сделанные наедине (ведь никто никогда не показывал, что был свидетелем этого!) никак нельзя рассматривать как юридически оформленные. Тем более не было никакого веса в подобных соглашениях после смерти кого-либо из них.
Поэтому, если Александра действительно не устраивало оставление Константина в роли его наследника, то приходилось снова возвращаться к прежним дискуссиям.
Летом 1821 года Александр I имел возможность основательно продумать меры, скоропалительно провозглашенные им самим в мае того года. Результаты воспоследовали в сентябре.
Прежде всего, не получил ожидаемого повышения по службе Ермолов. В начале сентября он был направлен назад на Кавказ. Возможно, он действительно что-то не так сказал царю в Лайбахе, а может быть до последнего дошли реплики, прозвучавшие при встрече Ермолова с Фонвизиным. Не исключены и другие поводы для недоверия — уж больно вызывающе держался Ермолов и бывал дерзок на язык! Еще в юности при Павле I это довело его до тюрьмы и ссылки. Так или иначе, но до начала царствования Николая I одна из сильнейших фигур была задвинута в самый угол политической шахматной доски, а затем и вовсе изгнана с поля!
Тщетно надеялся на хорошее назначение и Николай Павлович, доехавший до столицы 10 сентября 1821; его обязали вернуться к командованию бригадой.
Александр I выехал 12 сентября из Петербурга в Бешенковичи — производить смотр гвардии. На следующий день вслед за ним отбыл и Николай. Во время смотра оба младших великих князя командовали своими бригадами.
Царь остался доволен: подтянувшиеся в походах и маневрах гвардейцы выглядели отлично; недисциплинированностью и вольнодумством и не пахло. Тем не менее, он повелел гвардии остаться в Западных губерниях, а сам отбыл в столицу.
Поскольку Уваров так пока на службу и не явился, то Паскевич продолжал исполнять обязанности командира Гвардейского корпуса. Он был человеком тоже не без ловкости при дворе. Желая подсластить пилюлю Николаю, Паскевич назначил его исполнять обязанности командира своей 1-й Гвардейской пехотной дивизии. Штаб Паскевича расположился в Минске, а Николая Павловича — в Вильне.
Увы, Николай Павлович не был наделен даром руководить людьми. Он мог только командовать — с рыком и топаньем ногами, а выслушивать и исполнять его нелепые команды без возражений стали лишь тогда, когда он сделался императором — и то наиболее неглупые из подданных легко обучились не подчиняться грозному царю, а только делать вид, что подчиняются!
Вот и в этот период возник очередной острый конфликт с офицерством; уладить его примчался из Минска Паскевич. Николаю пришлось отбыть в Петербург — снова оправдываться перед царем. Последнего, очевидно, это вполне устраивало.
Николай был оставлен в прежней должности, а нескольких офицеров Егерского полка в наказание перевели из гвардии в армейские части — с сохранением чинов.
Капитан Гвардейского генерального штаба Никита Муравьев оказался в глуши провинциального Минска. В свободное от службы время общаться было совершенно не с кем: местное дворянское общество было там тогда преимущественно польским и не импонировало патриотичному заговорщику; не могло быть и регулярного общения с прежними единомышленниками. Но Никита не загрустил и не опустил руки, а занялся делом. К осени 1821 года относится начало его работы над проектом российской конституции.
Чуть позже тоже сидевший в глуши Пестель стал совершенствовать собственный проект — так называемую «Русскую Правду». С 1823 года теоретические дискуссии Муравьева с Пестелем о будущем России стали неизменным атрибутом быта Тайного общества. Пестель оставался по-прежнему республиканцем и ратовал за поголовное истребление царской фамилии, а Муравьев почему-то склонился к конституционной монархии.
Для российской прогрессивной интеллигенции еще XIX века, а тем более советских времен, вопроса не было в том, какой вариант прогрессивнее. Была правильно отмечена и связь изменений взглядов Никиты с его отказом от решительной революционной тактики — это только усугубляло печальную эволюцию Муравьева от прогресса к регрессу. Что же касается сути конституции, то и тут подчеркивалась очевидная прогрессивность отдельных пунктов Пестеля. Как обычно, существо возникшего конфликта осталось на перефирии интересов историков.
Мы не будем заниматься сравнением содержания проектов конституций Пестеля и Муравьева — во-первых, потому что это подробно сделано до нас, а во-вторых, потому что не считаем конституционные декларации существенным элементом государственного строя и политического режима.
Как известно, конституция Либерии, списанная с конституции США, не уберегла многострадальную африканскую страну от государственных переворотов и тоталитарных режимов. Советская конституция 1936 года не спасла от расправы даже ее автора — горе-теоретика Н.И.Бухарина. Борьбу же с коммунистическим режимом отечественные диссиденты-правозащитники, с легкой руки А.С.Есенина-Вольпина (наш брат — математик!), вели не против коммунистической конституции, а за ее соблюдение!
В наше время в Западной Европе и в остальном цивилизованном мире процветают как республики, так и конституционные монархии. Хотя каждая страна отличается от остальных, но едва ли ее прогрессивность и реакционность (что бы под этим ни понимать в рамках современных реалий) может оцениваться по тому, республика она или монархия. А вот в западноевропейских условиях XIX века отличия были действительно принципиальными. Дело в том, что в ту эпоху сходили со сцены абсолютные монархии, взамен которых и создавались конституционные монархии или республики. Именно в тот переходный период и была столь существенна разница между последними.
Конституционная монархия могла родиться как вследствие насильственной революции или государственного переворота, так и в результате ненасильственного или почти ненасильственного соглашения оппозиции с правящим монархом, не желавшим рисковать собственным свержением и полной утратой прежних государственных форм — таких сюжетов тогда хватало! Республики же рождались исключительно насильственным путем!
Еще в 1820 году и Пестель, и Муравьев считали возможным для России только последний вариант. В 1821 году Никита Муравьев так уже не считал — вот это и было самым важным! Похоже на то, что Никита Муравьев еще в Минске понимал, для чего берется за свой труд.
Отметим, что и его собственные личные настроения в данный период также никак не гармонировали со стремлением к насильственному внедрению республиканского строя! Он мечтал о будущем, и мечты эти носили весьма специфический характер. Никита писал к матери в декабре 1821 года: «Мне необходимо нужно приехать в Петербург, чтобы осмотреться и выбрать какого-нибудь генерала, — я готов идти в адъютанты ко всякому — непростительно в мои лета рассуждать, что теперь мне хорошо, стало быть и впредь так будет» — типичная философия кокотки на подходе к зрелым годам!
Между тем, убедившись в отсутствии непосредственной опасности государственного переворота, но на всякий случай предохранив столицу от возвращения гвардии, Александр I счел возможным вернуться к проблеме престолонаследия.
К 12 декабря 1821 года (день рождения Александра) в Петербурге собрались все великие князья и оставались затем в столице до начала февраля.
Когда Константин приехал в Петербург, на него насели две любимые им ближайшие родственницы — мать Мария Федоровна и сестра Мария Павловна — и уговорили, раз уж все так получилось, уступить право на трон младшему брату. Константин покорился, и 14 января 1822 года составил послание, которое подверглось правке Александра.
Сравним текст до правки Александра и после нее. Константин, сославшись на отсутствие дарования, сил и духа, нижайше попросил Государя передать его «право на то достоинство», которое по рождению принадлежит ему, Константину, тому лицу, кому это право принадлежит после него. Далее Константин написал (выделим слова, подвергшиеся правке): «Сим самым я могу дать еще новый залог и новую силу тому обязательству, которое я дал при случае развода моего с первой моей женой. Все обстоятельства нынешнего моего положения меня наиболее в сем убеждают и будут пред государством нашим и светом новым опытом и новым залогом в непринужденном моем на то согласии, будучи торжественно сделано».
После правки Александра получилось: «Сим могу я прибавить еще новый залог и новую силу тому обязательству, которое дал я непринужденно и торжественно, при случае развода моего с первой моей женой. Все обстоятельства нынешнего моего положения наиболее к сему убеждают и будут перед государством нашим и светом новым доказательством моих искренних чувств».
Как видим, Константин и Александр придерживаются различных оттенков, характеризуя прошедшие и настоящие события. Если Консантин рискнул на новый опыт заключения искреннего соглашения с братом, то его ожидал результат еще худший, чем предыдущий.
Так или иначе, но Александр заполучил бумагу, и мог, наконец, придать делу официальный ход. Константин же снова поведал Михаилу, что вот теперь-то его отказ от прав на престолонаследие окончательно решился!
Казалось бы, теперь ничто не мешало выполнить обещание, данное еще два с половиной года назад Николаю царем по собственному побуждению, никем извне не спровоцированному. Вместо этого Александр задумывается, и 2 февраля выдает ответ цесаревичу такого содержания: «По вашему желанию предъявил я письмо сие любезной родительнице нашей. /…/ Нам обоим остается, уважив причины, вами изъясненные, дать полную свободу вам следовать непоколебимому решению вашему, прося всемогущего Бога, дабы он благословил последствия столь чистейших намерений», — иными словами, благородный цесаревич нижайше попросил царствующего брата освободить его от докучливых обязанностей цесаревича, а еще более благородный царь с благороднейшей их обоих матушкой дали полное право цесаревичу самому решать вопрос о реализации его благородных намерений.
Чем был вызван такой странный ход? Возможно, действительно влиянием матушки, хотевшей, чтобы все решалось полюбовно. Но другое соображение, пожалуй, более весомо.
Хотя немедленное назначение наследником Николая на основании уже написанного заявления Константина юридически было бы совершенно оправданным, но оно все же выглядело бы мерой, дискриминационной по отношению к Константину (что на самом деле и имело место!) и должно было возбудить нежелательные толки и привлечь внимание заговорщиков к раздорам в царском семействе. Гораздо желательнее было бы, если бы публично выраженная инициатива отказа от престолонаследия изначально исходила от самого Константина. Практически к этому и призывает его Александр в послании от 2 февраля. Возможно, что матушка убедила Александра, что Константин теперь на это пойдет.
Последний же принял совершенно иное решение, доказывающее, насколько же отказ от престолонаследия не соответствует его личным желаниям. Константин счел послание от 2 февраля разрешением ему самому принять окончательное решение о судьбе престолонаследия, когда он сам того пожелает. Действительно, в послании от 2 февраля ничего не говорится о сроках. Поскольку же любая операция требует времени — даже погружение пера в чернильницу! — то имеет прямой смысл поразмыслить.
В полном убеждении, что все именно так и обстоит, цесаревич, пока не принимая никакого решения, так и пребывал вплоть до вести о смерти царя в ноябре 1825 года и даже еще неделю после того!
Остается только пожалеть несчастливого брата Николая, который тщетно дожидался объявления о назначении его наследником престола, а заодно подивиться, почему же никто ему ничего не объяснил, и только матушка, беседуя с ним наедине, позволяла себе какие-то таинственные намеки! Но не все так просто в этом мире, как полагали простаки Константин и Николай.
Весной 1822 года истек срок ссылки гвардии в Западные губернии — сколько ее можно было держать там безо всяких оснований?
22 мая Александр I принял парад гвардии в Вильне, после чего она направилась в столицу.
Парадом командовал приступивший, наконец, к исполнению обязанностей Ф.П.Уваров. Паскевич спустился на официально занимаемый пост командира 1-й Гвардейской пехотной дивизии, а Николай Павлович соответственно вернулся к командованию бригадой.
Ниже мы проиллюстрируем, насколько раздражала, тяготила и унижала великого князя занимаемая должность.
Даже смерть Уварова в 1824 году не изменила положения Николая Павловича — Уварова заменил генерал А.Л.Воинов, а Паскевич и Николай остались на своих местах.
Только 12 февраля 1825 года Паскевич был назначен командовать 1-м пехотным корпусом в Митаве, а Николай Павлович занял освобожденную им должность командира дивизии. На этой должности он и оставался вплоть до 14 декабря 1825 года.
Возвращение гвардии в столицу вновь поставило вопрос о прежде существовавшем Тайном обществе. Несомненно, встретившись и объединившись в привычной обстановке, бывшие заговорщики не могли не продолжить прежних бесед. Ведь вольнолюбивые разговоры — тот же душевный наркотик. Запрети пьяницам собираться у любимой пивной или наркоманам в облюбованном месте — и они тут же начнут тусоваться где-нибудь еще.
Более благообразный аналог тогдашнему Тайному обществу — современные политологические семинары в западных университетах. Там годами дискутируются самые животрепещущие проблемы современности — без практического выхода. Правда, иногда и серьезные политики прислушиваются к советам, выработанным на этих семинарах. Бывает, что на этих семинарах воспитываются и будущие политики-практики. Именно такую роль, как мы покажем позднее, и играли Никита Муравьев со своими коллегами.
Запрет преследовать их, недвусмысленно высказанный Александром I в мае 1821, создал неясную юридическую ситуацию: а как теперь относиться властям к подозрительным собраниям и, не дай Бог, к опасным планам?
Царь понимал суть возникшей коллизии.
Поэтому 1 августа 1822 года последовал его рескрипт на имя министра внутренних дел В.П.Кочубея, запрещающий все тайные общества — не больше и не меньше! «Все тайные общества, под каким бы наименованием они ни существовали, как-то: масонских лож или другими, закрыть и учреждения их впредь не позволять, а всех членов сих обществ обязать подписками, что они впредь, ни под каким видом, ни масонских, ни других тайных обществ, ни внутри Империи, ни вне ее составлять не будут».
Историков и читателей исторических трудов этот рескрипт повергает в изумление и недоумение: неужели можно быть таким наивным, чтобы считать, будто подобный указ способен искоренить крамолу? Неужели не ясно, что тайные общества на то и тайные, чтобы их участники не спрашивали разрешения ни на их создание, ни на деятельность?
Разумеется, наивность совершенно не была присуща императору Александру Павловичу. Просто ему необходимо было пресечь двусмысленность и кривотолки, вызванные его прошлогодним устным заявлением. Недаром тогда не предпринимались никакие попытки получать от кого-либо какие-либо подписки о лояльности, и царь на этом вовсе не настаивал.
На этом милосердию и сочувствию царя к вольнолюбцам был очерчен четкий предел: отныне ни сам царь, ни любые его верноподданные не обязывались проявлять терпимость к конспираторам — так себя впредь и повел Александр I.
5. Будни заговорщиков
Издав рескрипт 1 августа 1822 года о заговорщиках, Александр I снова должен был вернуться к проблеме престолонаследия.
Положение, в которое зашло дело после 2 февраля 1822 года, оказалось для него крайне неприятным: он сам захлопнул за собой ловушку!.. Заявление Константина от 14 января 1922 года давало царю полное право принять решение о переходе престолонаследия к Николаю. Но он лишился этого права после собственного письма от 2 февраля — ведь право решения теперь предоставлялось Константину!
Разумеется, царь, как и любое иное юридическое лицо, имел право в дальнейшем изменить свое собственное решение. Юридически это было возможно, но этически — нет! Если бы это произошло, то Константину оставалось бы только покориться — ведь его якобы добровольное заявление от 14 января пока никем пересмотрено не было, хотя Александр 2 февраля сделал такую возможность допустимой. Константин, однако, имел бы полное право с документами в руках доказать, что царь неверен собственному слову, а потому поступает бесчестно, на что Константин и пытался намекнуть еще в послании от 14 января! Моральное противоборство между Александром и Константином безоговорочно выигрывал последний. Он его и выиграл, признания чего до сих пор не удосужились сделать историки.
С некоторым опозданием Александр понял, что всеми предпринятыми демаршами только ухудшил собственное положение: теперь не он сам, а Константин держит в руках решение вопроса о том, кому быть наследником российского престола — как, собственно говоря, и обстояло дело еще до января 1822 года. Хуже же стало потому, что о добрых отношениях братьев теперь уже никак не могла идти речь. О возможности самому Александру распоряжаться судьбой трона, как он это себе позволил в 1819 году, беседуя с Николаем, речи также уже идти не могло. Отчасти поэтому и Николай не смог удостоиться откровенного разговора с царствующим братом — при полном объяснении последнему пришлось бы пойти на унижающие его признания.
Но Александр смиряться не хотел, тем более, что теперь демонстративное (в очень узком кругу посвященных, конечно!) нежелание Константина окончательно решить вопрос о престолонаследии заставляло подозревать и иные его тайные намерения. На подозрения, как мы знаем, Александр был скор.
В августе 1822 и в начале следующего года Александр дважды посетил Варшаву (по дороге за границу: в Вену и далее на конгресс «Священного союза» в Верону — и назад), и имел возможность беседовать с братом и наедине, и как угодно. Понятно, что сам Александр не мог вновь возвращаться к вопросу о престолонаследии после предоставления права решения Константину. Но и последний, как совершенно очевидно, не стал прояснять своих намерений — по сути это могло восприниматься как довольно угрожающее поведение.
Во время этой поездки российского императора за границу Меттерних заметил резкие изменения, происшедшие с ним — «утомление жизнью»; переживания последних двух лет дались Александру очень недешево!
Были ли основания у Александра подозревать Константина в недобрых намерениях? Вероятно — были.
«О заговоре кричали на всех перекрестках», — позже писал А.С.Пушкин, хотя это, конечно, поэтическое преувеличение. Все же круг действительно информированных и причастных был достаточно широк.
После декабря 1825 года Николай I всерьез терялся в догадках: не были ли заговорщиками Н.С.Мордвинов, М.М.Сперанский, А.П.Ермолов, П.Д.Киселев и целый ряд других. Ничего достоверного вроде бы установить не удалось: все они были предельно осторожны, а жестокость возможной расправы не способствовала их откровенности.
Круг подобных деятелей, как упоминалось, более всего беспокоил и Александра I. Недаром постоянно сменялся состав его ближайших помощников; на первых ролях теперь закрепились Аракчеев и Канкрин, а оставшиеся соратники юности и молодости императора (П.А.Строганов умер в 1817 году), не исключая А.Н.Голицына, были отодвинуты во второй-третий ряд. В 1823 году и В.П.Кочубей слетел с поста министра внутренних дел.
Если всех их подозревать в измене, то вполне допустим сговор любого из них с Константином Павловичем.
В принципе настроения Константина могли зондировать не только высочайшие олигархи, но и непосредственно заговорщики-декабристы. Это было нетрудно осуществить, благо один из самых решительных из них, М.С.Лунин, состоял теперь адъютантом великого князя.
Незадолго до того Лунин был вышиблен из гвардии за дуэль, рассорился с родственниками и одно время, находясь в Париже, зарабатывал на жизнь уроками на фортепьяно. Он обратился за помощью к Константину Павловичу, который до того его не очень жаловал, но тут проявил гуманность.
Трубецкой, тесно общавшийся с Луниным и до 1825 года, и в Сибири, рассказывает: Константин Павлович «принял его в один из уланских полков Литовского корпуса ротмистром (двумя чинами ниже того, который он имел)», а затем «перевел его в один из Гвардейских полков в Варшаву, и Лунин сделался его любимцем» — здесь имеются в виду части и соединения не Русской, а Польской армии.
Когда после 14 декабря «пришло приказание арестовать Лунина, цесаревич призвал его и сказал ему, что он его не даст, что в Петербурге его повесят и сказал ему, что он дает ему месяц сроку, которым он может воспользоваться. Лунин не захотел избежать готовящейся ему участи, и по вторичному требованию был отправлен в Петербург». Отметим, что на следствии Лунин был одним из немногих, кто не изливался в многословных и чрезмерно откровенных показаниях.
Факт, что мятеж декабря 1825 года не был сюрпризом для Константина. Об этом есть любопытное свидетельство принца Евгения Вюртембергского — племянника царицы Марии Федоровны и двоюродного брата царя и его братьев. Вюртембергский ехал в Петербург через Варшаву в ноябре 1825 года — до вестей о болезни и смерти Александра I; он так передает впечатления о встрече с Константином: «Константин Павлович, по обычаю своему, воевал с призраками. Он насказал мне ужасов о мятежном настроении русских войск и в особенности гвардии.
— Стоит кинуть брандер в Преображенский полк, и все воспламенится, — были подлинные его слова.
— Своих я держу крепко, — заметил он при этом, — поэтому в них я уверен.
Подозрительность великого князя могла основываться на восстании Семеновского полка 1820 года», — последнее предположение мы оставляем на совести «проницательного» принца. Да и о призраках, с которыми воевал великий князь, как-то странно писать после 14 декабря 1825!
Принц заметно старается подчеркнуть свое неуважение к кузену, но явное несоответствие эмоциональной окраски и сути изложения скорее подтверждает достоверность рассказа, чем возможность позднейшей выдумки.
Ниже мы покажем, что поведение Константина Павловича в ноябре-декабре 1825 года однозначно свидетельствует, что никаких обязательств перед заговорщиками (кем бы они ни были) он на себя не взял, хотя предварительный зондаж его позиции вовсе не исключен. Так или иначе, возможность подобного сговора зависела исключительно от доброй воли Константина Павловича, а вот именно в подобные химеры его старший брат никогда и не верил!
Время шло, Константин безмолвствовал, и царь решился приступить к более активным, но секретным мерам.
Никита Муравьев и его прежние товарищи, вернувшись в столицу, действительно возобновили тайные собрания, хотя даже с меньшей интенсивностью, чем ранее. Теперь число петербургских конспираторов колебалось около пятнадцати человек — как в давно минувшие времена «Союза спасения». Из них наиболее заметными были сам Муравьев, С.П.Трубецкой, И.И.Пущин, Е.П.Оболенский и А.Ф. фон-дер-Бригген (№ 3 в списке Грибовского). Пока по-прежнему числились Н.И.Тургенев и С.М.Семенов, изредка заявлялись приезжие М.С.Лунин и М.А.Фонвизин, постепенно отходили от общих собраний И.П.Шипов и П.И.Колошин, по служебной линии отбыл из Петербурга В.С.Норов. Были приняты и новые — М.Ф.Митьков и еще один-двое, мелькнувших ненадолго. Кружок этот приобрел, хотя не сразу (ниже мы отметим эту приблизительную дату), название «Северное общество».
Основной темой собеседников долгое время оставалась конституция Никиты Муравьева. Сложился как бы интеллектуальный штаб по редактированию конституции. Но с начала 1823 года пришлось реагировать и на настойчивую активность Пестеля.
Намерения Пестеля остались неизменны: государственный переворот, непременно начинаемый в столице и сопровождаемый истреблением царской фамилии, установление диктатуры (его личной — как предполагали его друзья-соперники), затем распространяемой на остальную Россию. Ни планировать, ни осуществлять такую акцию он самостоятельно не мог просто в силу собственного служебного положения и местонахождения — и прекрасно это понимал.
В самом начале 1823 года Пестель через приезжавшего в столицу своего бригадного командира С.Г.Волконского прислал запрос к Муравьеву о состоянии дел, прерванных гвардейским походом 1821–1822 гг. В ответ Муравьев послал ему экземпляр своего проекта конституции. Пестель, естественно, был ошарашен.
В феврале новый посланец Пестеля, В.Л.Давыдов, требовал ответа на вопрос о подготовке государственного переворота. Муравьев вроде бы подтверждал верность прежним планам, но жаловался на отсутствие людей. Между тем, он переправил С.И.Муравьеву-Апостолу, ставшему с 1822 года наиболее солидной фигурой после Пестеля среди южных заговорщиков, еще один экземпляр своей конституции, тщетно надеясь привлечь на свою сторону этого старого друга и родственника.
В мае-июне 1823 года переговоры с Муравьевым вели новые делегаты от Пестеля — князь А.П.Барятинский и А.В.Поджио — столичный житель, отставной подполковник, подпавший под обаяние Пестеля, с которым еще пока даже не был лично знаком. Муравьев, на их взгляд, уходил от ответов «по способу византийцев». На их предложение присоединиться к немедленному восстанию, готовому начаться на юге, Муравьев ответил: «Ради Бога! не начинайте, ибо вы там восстанете, а меня здесь генерал Гладков возьмет и посадит»; генерал Гладков — тогдашний петербургский полицмейстер.
Советский историк Н.М.Дружинин, из книги которого позаимствована последняя реплика, называет ее иронической. Как она звучала на самом деле, конечно, неизвестно, но, на наш взгляд, по смыслу тут никакой иронии нет и быть не может. Как еще яснее мог втолковать Муравьев тупым конспираторам то положение, в каком он фактически находился?
Но они не желали понимать, что же им говорят!
Барятинский, сознавая провал своей миссии в столице, решился на экстравагантный шаг: завербовал в члены «Южного общества» двух кавалергардских офицеров — ротмистра И.Ю.Поливанова и прапорщика Ф.Ф.Вадковского. Отъезжая, он, скрепя сердце, но соблюдая приличие, уведомил об этом С.П.Трубецкого.
Никита Муравьев, страшно возмутившись, «перепринял» их затем в «Северное общество». Тем не менее, непосредственные связи этих новобранцев с «Южным обществом» сохранились, и тем самым фактически был заложен специфический филиал «Южного общества» в Петербурге, находившийся под усиленной агитацией Пестеля и его сподвижников.
Мало того, деятельность этого филиала охватила ближайшее родственное окружение Никиты Муравьева — неясно, получилось ли это случайно или было специальной интригой, замысел которой затушеван целым рядом последующих обстоятельств.
Осенью того же года Матвей Муравьев-Апостол (старший из братьев), выйдя в отставку, вернулся в столицу и стал постоянным представителем «Южного общества». Он принял на себя руководство этим филиалом и затем привлек в его ряды совсем юных П.Н.Свистунова, И.А.Анненкова и еще нескольких юнкеров и прапорщиков. В начале уже следующего, 1824 года, он же завербовал младшего брата Никиты — двадцатидвухлетнего Александра Михайловича Муравьева. Еще позднее, весной 1825 года, уже сам Александр Муравьев вовлек в заговор Захара Чернышева. Этот последний был, с одной стороны, двоюродным братом Вадковского, а с другой — родным братом молодой супруги Никиты Муравьева, на которой тот женился в 1823 году.
Захар Чернышев и Александрина Муравьева были детьми богатейшего вельможи — обер-шенка двора миллионера графа Г.И.Чернышева (более 9 тысяч ревизских душ крепостных, порядка 25 тысяч десятин различных земельных угодий в тринадцати имениях, несколько фабрик и заводов). Как видим, Никита Муравьев распорядился своим будущим даже с большей выгодой, нежели бы отдался в адъютанты какому-нибудь генералу! Брак был по любви — по крайней мере со стороны жены, позже последовавшей вслед за сосланным мужем в Сибирь.
С учетом ближайших родственных и дружеских связей с одной стороны, а с другой — категорических требований Пестеля о совершеннейшей секретности «Южного» филиала от «Северного общества», создалось абсолютно нелепое переплетение конспиративных отношений. Так или иначе, но родственному трио (Н.М.Муравьев, Ф.Ф.Вадковский и З.Г.Чернышев) предстояло сыграть самую что ни на есть роковую роль и в падении царствования Александра I, и в последующем мятеже декабристов, и в уничтожении этого политического течения!
Император Александр, после ареста В.Ф.Раевского не получавший никаких сведений о тучах, мысленно нагнетаемых над его головой грозными заговорщиками, летом 1823 года решился разобраться с трясиной, в которую погрузилась проблема престолонаследия.
Князь А.Н.Голицын, в бытность министром духовных дел, ввел порядок, по которому церковные иерархи временно находились в столице для присутствия в Синоде. Один их последних, московский архиепископ (позже — митрополит) Филарет испросил летом 1823 года соизволения отбыть из такового присутствия в свою епархию. Голицын передал согласие царя, но и одновременную просьбу задержаться для составления важного секретного документа. Филарет повиновался. Вслед за этим Голицын передал Филарету письмо Константина от 14 января 1822 года (но не ответ царя от 2 февраля того же года!) и предложил составить Манифест о назначении Николая наследником престола. Затем этот документ должен был быть тайно доставлен в Москву и спрятан среди других важнейших бумаг в ризнице Большого Успенского собора.
Филарет резонно поставил вопрос, какой же смысл хранить этот документ в Москве, если вопрос о престолонаследии в случае смерти царя должен немедленно практически разрешаться в Петербурге? Царь, ведший переговоры через Голицына, вынужден был признать разумность такого возражения и дал согласие на изготовление еще трех копий, которые тайно же должны остаться в столице — в Государственном Совете, Синоде и Сенате.
Документ, составленный Филаретом, гласил:
«С самого вступления нашего не всероссийский престол, непрестанно мы чувствуем себя обязанными пред Вседержителем Богом, чтобы не только во дни наши охранять и возвышать благодействие возлюбленного нам отечества и народа, но также предуготовить и обеспечить их спокойствие и благосостояние после нас, чрез ясное и точное указание преемника нашего сообразно с правами нашего императорского дома и с пользами империи. Мы не могли, подобно предшественникам нашим, рано провозгласить его по имени, оставаясь в ожидании, будет ли благоугодно неведомым судьбам Божьим даровать нам наследника престола в прямой линии. Но чем далее протекают дни наши, тем более поспешаем мы поставить престол наш в такое положение, чтобы он ни на мгновение не мог остаться праздным.
Между тем /…/ возлюбленный брат наш, цесаревич и великий князь Константин Павлович, по собственному внутреннему побуждению, принес нам просьбу, чтобы право на то достоинство, на которое он мог бы некогда быть возведен по рождению своему, передано было тому, кому оное принадлежит после него. Он изъяснил при сем намерение, чтобы таким образом дать новую силу дополнительному акту о наследовании престола, постановленному нами в 1820 году, и им, поколику то до него касается, непринужденно и торжественно признанному», — сравните с вышеприведенными текстами и убедитесь, что это уже новые нюансы в трактовке мотивов заявления Константина!
Далее в Манифесте было: «с согласия августейшей родительницы нашей/…/, мы определили: во-первых: свободному отречению первого брата нашего, цесаревича и великого князя Константина Павловича от права на всероссийский престол быть твердым и неизменным; /…/ во-вторых, вследствие того, на точном основании акта о наследовании престола, наследником нашим быть второму брату нашему, великому князю Николаю Павловичу», — сообщалось в тексте и о местах хранения четырех экземпляров документа.
Как видим, документ не противоречит прямо заявлению Константина от 14 января 1822 года, но решительно противоречит ответу Александра от 2 февраля: Константин окончательно лишался права на престолонаследие, что бы он сам ни воображал на этот счет. Как отмечалось, юридически Александр имел на это право, но этически это было подлостью.
Это первый, но не единственный мотив того, что содержание Манифеста нужно было хранить в тайне. Тайне было подчинено и дальнейшее обращение со всеми экземплярами этого важнейшего акта.
Филарет отдал готовый текст Голицыну, а сам отбыл в Москву. Александр подписал Манифест 16 августа 1823 года и тоже выехал в Москву, куда и прибыл 25 августа. 27 августа А.А.Аракчеев вручил запечатанный экземпляр Манифеста Филарету и разработал с ним конкретный план тайного внесения пакета в ризницу, за исполнением чего и проследил 29 августа. Запечатанные три экземпляра, переписанные рукой Голицына, были доставлены в государственные учреждения столицы только 15 октября того же 1823 года, когда Александр I осуществлял инспекцию 2-й армии — тем самым затушевывалась связь этих документов непосредственно с царем и с его поездкой в Москву.
Отметим, что этот маневр, однако, не обманул внимательного наблюдателя, разрушившего в ноябре 1825 года все хитроумные замыслы Александра I сразу после его смерти. Заметим также, что круг посвященных не включал Сперанского, который после возвращения в 1821 году снова был автором текстов всех царских манифестов.
На всех экземплярах пакета было распоряжение вскрыть после смерти царя или выдать его царю по прямому распоряжению последнего. Почему Александр допускал возможность самоличного изъятия документа — на этот счет историки выдвигали разные догадки, приводить которые нет никакого смысла.
Запечатанные конверты видели непосвященные свидетели; это вызвало кривотолки, но, не получив дополнительной пищи, слухи как будто прочно заглохли. На самом деле и в этой ситуации внимательные наблюдатели могли сделать вполне правильные выводы.
Итак, теперь Константин перестал быть наследником престола, а Николай — стал таковым, но почти никто, включая их обоих, достоверно не знал об этом.
Такое намерение Александра сложилось не сразу. Известно, что в ноябре 1823 он почти одновременно допустил два различных эпизода утечки информации: сообщил о назначении Николая наследником престола брату его жены Александры Федоровны — Вильгельму Прусскому (будущему кайзеру Вильгельму I) и знаменитому историку Н.М.Карамзину. Последний тщательно хранил секрет, а прусский принц, приехав на родину, особо конспирировать не стал, так что даже в Берлинском придворном календаре на 1824 год Николай был назван наследником российского престола.
Но в дальнейшем Александр решил хранить молчание и сделал, по-видимому, соответствующие внушения: в Берлинском календаре на 1825 год Николай наследником уже не назван.
Сложившееся теперь положение вполне удовлетворяло Александра I. Оба брата — Константин и Николай — были теперь полностью в его власти: первый воображал, что судьба престолонаследия зависит от него; осведомленность второго и поныне не совсем ясна.
Едва ли Вильгельм Прусский не поделился секретом с сестрой и ее мужем, с которым дружил. Но помимо этого ходили слухи, что Николай Павлович, восторги от деятельности которого разделялись немногими, был не единственным претендентом, которого Александр примеривал в свои преемники. Конкурентом Николаю считался упомянутый Евгений Вюртембергский, которому в 1825 году исполнилось 37 лет и который был достаточно известным полководцем — храбрым и любимым войсками, но, по мнению А.П.Ермолова, не способным хоть к сколько-нибудь сложным соображениям. С 1807 года он состоял на русской службе, а в кампанию 1812 года командовал дивизией.
Очевидно, круг родственников Александра со стороны его матери давил на то, чтобы как-то провести этого достойного кандидата. Но понятно, что замена законного наследника престола его родным братом — еще куда ни шло, а вот двоюродным — дело гораздо более сложное! Тут без перекройки законодательства не обойдешься!
В конце концов на разногласиях по этому вопросу отношения между Александром и Евгением испортились, и последний в 1821 году покинул Россию, вернувшись, как рассказывалось, только в ноябре 1825.
Так или иначе, но круг этих родственников должен был очень внимательно относиться к тайным передрягам, происходившим в России, и неудивительно, что они были в курсе того, как же этот вопрос формально разрешился. Но с этим кругом у Николая заведомо не было доверительных отношений, а сведения, исходящие оттуда, вполне можно было расценивать как злостную провокацию. Благожелательные намеки, которые позволяла его собственная матушка, не могли полностью рассеять неведения Николая.
На основании известных фактов никак нельзя ставить под сомнение утверждение Николая, что до 27 ноября 1825 года он не был знаком с текстом Манифеста, как это делают современные историки: Николай, дескать, юлил 27 ноября, а потом не сознался в этом.
Это традиционное мнение восходит к свидетельству одного из современников Николая — декабристу С.П.Трубецкому. Вот что он писал в 1857 году: «Александр давно уже сделал завещание, которое хранилось в трех экземплярах в московском Успенском соборе, в Государственном совете и в правительствующем Сенате. Публике петербургской было очень известно, что этим завещанием Николай назначался наследником престола, и, конечно, это знала не одна петербургская публика. Как же этого не знал великий князь, до которого это всех более касалось?» — как видим, Трубецкой, в свою очередь, сам не знал о четвертом экземпляре документа.
Подобное же мнение пытался распространять граф Милорадович сразу после событий 27 ноября 1825 года — имеется об этом свидетельство литератора Р.М.Зотова; но это — из разряда всех прочих мистификаций Милорадовича того времени, о чем подробнее будет рассказано ниже.
Трубецкому собственное заявление, что о завещании знали многие, показалось несколько категоричным, и он решил обосновать его ссылкой на то, что это должны были знать многие, если он сам, Трубецкой, и такие как он, были в курсе событий — логика довольно своеобразная! «Это обстоятельство известно было не одной петербургской публике; слух о нем должен был распространиться между многими, проживающими внутри государства, когда многим лицам, подобным пишущему эти строки, он не был тайною».
Если мнение Трубецкого о том, что многие были в курсе назначения Николая престолонаследником, представляется все же натяжкой, то его заявление, что Николай должен был быть больше чем иные люди (включая Трубецкого) заинтересован в знании этого факта, выглядит бесспорным.
Но здесь, очевидно, нужно различать две степени знания. Утверждение Николая, что 27 ноября 1825 года он впервые ознакомился с текстом Манифеста от 16 августа 1823 года, вполне согласуется с той секретностью, какой было окружено создание и хранение этого документа. Нам представляется, что в данном случае Николай предельно честен, хотя 27 ноября ему и пришлось соврать — на этом мы остановимся позже.
Что же касается того, что назначение его престолонаследником было ему в принципе известно — в этом следует согласиться с Трубецким. Слухи, и не только от матушки, до Николая, несомненно, доходили, но в чем именно состояло содержание секретного документа и насколько юридически безупречно он был оформлен — этого Николай знать не мог. Его утверждение, на которое мы уже ссылались, что обо всем этом таинственно молчал сам царь, с которым Николай регулярно общался — вплоть до конца августа 1825 года, мог бы опровергнуть один только Александр I — но таких свидетельств не известно.
Александру с осени 1823 года было все-таки не очень трудно посвятить Николая в суть секретного акта, т. к. вовсе не обязательно было открывать младшему брату все нюансы и каяться во всех свершенных прегрешениях против чести и совести — которых даже не удосужились заметить историки! Неофициальный, но вполне серьезный и секретный разговор мог дать Николаю полную уверенность в незыблемости полученных прав и спасти и самого Николая, и всю державу от передряг, что случились впоследствии.
У Николая, разумеется, была вера в благоприятное для него разрешение проблемы престолонаследия, а иначе вовсе бы не было никакого весомого повода ставить вопрос о своих правах перед Милорадовичем 25 ноября 1825 года — еще при жизни царя, как считалось тогда в Петербурге; подробности этого эпизода — ниже. Но Александра I вполне устраивало неопределенное положение Николая, заставляющее последнего тянуть служебную лямку и не помышлять ни о каких замыслах против правящего брата. Вот это последнее и было важнее всего для Александра, опасения которого, вполне возможно, вышли на грань с манией преследования!
Понятно, зачем была оговорена возможность царя заполучить секретные документы назад — без рассекречивания их. Если бы царь решил вдруг снова передумать и отменить назначение Николая престолонаследником, то никакие устные обещения последнему царя бы не остановили. Запечатанные документы достаточно было уничтожить — и тогда престолонаследником вновь становился Константин, готовый решать судьбу престола по своему усмотрению в пределах возможных законных вариантов (заставить, например, его или любого иного претендента царствовать вопреки собственному желанию было невозможно — как это и случилось в 1825 году).
С другой стороны, если бы наивный Константин все же пришел бы к какому-то своему определенному решению и внезапно обнародовал его, то также возникали два противоположных варианта, вполне предусмотренные акцией, спланированной Александром.
Если бы Константин вопреки желанию старшего брата еще при его жизни или сразу после смерти стал публично настаивать на своих правах на престолонаследие, то Манифест 16 августа делал подобные заявления попросту незаконными.
Наоборот: если бы Константин вдруг публично объявил об отказе от прав на престол, то запечатанные документы опять же имело смысл тайно уничтожить — во избежание никому не нужных обид Константина и новых претензий и скандалов, которые действительно возникли в декабре 1825 года. Для этого конверты и должны были возвратиться к автору Манифеста невскрытыми. Сам же текст Манифеста о престолонаследии в этом случае, естественно, нуждался в коррекции.
Чрезвычайна интересна деталь с сокрытием экземпляра в Москве, тем более, что первоначально этот экземпляр предполагалось сделать единственным.
Чтобы содержание документов сделать публичным, достаточно придать гласности любой из четырех имевшихся. Прятать какой-либо из них имело смысл лишь в предположении, что остальные уничтожатся помимо воли царя. Ведь ясно, что Александр прятал этот экземпляр в Москве не от себя самого. Предполагалась, следовательно, возможность того, что Константину или его сторонникам (кому же еще?) удастся уничтожить документы, хранящиеся в Петербурге — еще при жизни Александра или после его смерти. Тогда оставшийся в Москве экземпляр должен был «выстрелить» против Константина.
Практическое развитие сюжета, однако, показало, что уверенность царя в Филарете и его верности и влиятельности оказалась ошибочной.
В конечном итоге, вся ситуация теперь оставалась полностью в руках Александра — пока он был жив. Положение двух его братьев, каждый из которых мнил себя престолонаследником, ограждало обоих от желания выяснить отношения между собой и составлять альянс за спиной правящего императора. Если Александр опасался участия в заговоре своего наследника, то невозможно изобрести более удачного профилактического средства, чем подобная неопределенность с престолонаследием.
И такое гениальное решение — несомненно величайшее по глубине и коварству замысла изо всех достижений великого Александра Благословенного! — до сих пор не нашло должной оценки у историков и политологов, не говоря уже о массах читателей исторических учебников!
При этом вполне можно было применять полумеры: угрожать Константину или Николаю репрессивным лишением прав на наследство, если бы что-либо в их поведении не устроило царя. Да эта угроза и так существовала, даже если Александр не применял ее явно. Такая ситуация вполне стандартна для богатых глав семей, имеющих алчных наследников — см. миллион примеров в мировых хрониках и художественной литературе!
Почему же никакие из этих мер царем так и не применялись? Да просто потому, что при жизни Александра за два с небольшим года существования секретных документов ни Константин, ни Николай не подали дополнительных поводов для недовольства царя. И вообще остается вопросом, насколько все эти сверхбдительные меры диктовались реальной, а не чисто воображаемой опасностью — к этому мы еще будем возвращаться.
Ясно, однако, что именно такое гениальное решение, предусматривающее все варианты, нагороженные воображением царя-отцеубийцы, и принесло неисчислимые беды его наследникам и их многочисленным подданным, а все предпринятые хитроумные шаги сделали по существу самого Александра соавтором сценария событий, развернувшихся в ноябре 1825 года.
Вот ведь как вредно слабонервным людям убивать своих родителей!
После летних маневров и учений гвардии в лагерях (на сей раз — близ Царского Села, что стало постоянной традицией), осенью 1823 года заговорщики собрались в столице. Встал вопрос, что же делать дальше.
Н.М.Муравьев в беседе с С.П.Трубецким высказал мнение, что столичному кружку, как он ни слаб численно, следует принять строгие организационные формы и активизировать деятельность — иначе в Петербурге возрастет влияние Пестеля, который уже пытается создавать здесь собственную организацию и, несомненно, продолжит попытки впредь. К тому же энергия принятого прошедшим летом поэта К.Ф.Рылеева с его первых шагов требовала какой-то целенаправленности.
В соответствии с этим в октябре 1823 года состоялось собрание, на котором выбрали руководство и приняли организационный устав.
Н.И.Тургенев наотрез отказался баллотироваться в руководители. Он дал ряд полезных советов (в частности — образовать две степени посвященности членов: «убежденных», имеющих право выбора Думы и вербовки новых членов, и «соединенных» или «согласных», лишенных этого права), но, по всему видно, подходило его время собирать чемоданы и двигаться за границу. Дума была избрана в составе Н.М.Муравьева, С.П.Трубецкого и Е.П.Оболенского. Этот момент и следует признать по-настоящему возрождением Тайного общества в Петербурге под новым именем — «Северное общество».
Между тем, судя по показаниям декабристов, данным на следствии в 1826 году, планы «Южного общества» выглядели грозно.
Несмотря на давление, оказываемое П.Д.Киселевым, «Общество» росло: даже без отставников список только действующих старших офицеров выглядит весьма солидно: П.И.Пестель, С.И.Муравьев-Апостол, А.П.Барятинский, А.З.Муравьев, В.К.Тизенгаузен, И.С.Повало-Швейковский, В.С.Норов, А.П.Юшневский и С.Г.Волконский. Последние двое были генералами, остальные — на уровне не ниже начальников штабов полков. Это была голова без тела: среди заговорщиков число полковников превышало численность младших офицеров. Лишь подпоручик М.П.Бестужев-Рюмин (правая рука Сергея Муравьева-Апостола) мог сравниться по активности со старшими офицерами и даже с самим Пестелем.
Только последний считался среди них самих настоящим революционером — государственный переворот вроде бы стал главной целью и главным смыслом его жизни. Остальные вспоминали о своих революционных стремлениях лишь время от времени, а к Пестелю, как отмечалось, не без оснований относились как к честолюбцу и карьеристу, метившему в диктаторы.
Вот как рассказывал Сергей Муравьев-Апостол о несостоявшихся событиях осени 1823 года: «полк наш был в Бобруйской крепости. Тогда назначен был смотр дивизии государем. Мы решились — Швейковский, Бестужев[-Рюмин], Норов и я — начать действие. Положили овладеть государем и потом с дивизиею двинуться на Москву. Сие осталось без исполнения по недостаткам средств», — звучит, что говорить, внушительно, но вот что это за штука такая — недостаток средств? Интендантство, что ли, не выделило средств на поход в Москву?
Никто, читавший подобные откровения, начиная с того времени, когда они писались (начало 1826 года) и до наших дней, не счел их параноидальным бредом. Понятно, почему: за этими строками стоял вполне реальный ужас событий 14 декабря 1825 года и восстания Черниговского полка. Однако эти революционные выступления имели, как известно, вполне разумный повод (отказ от повторной, предположительно незаконной присяги), обеспечивший сочувствие и поддержку заговорщикам со стороны многих в принципе законопослушных людей. Ничего подобного, естественно, в 1823 году не наблюдалось, а за перечисленными Муравьевым-Апостолом персонажами не стояло ровным счетом ни одного заранее предуведомленного сторонника.
Государственный переворот в России, совершаемый вдали от столицы четырьмя провинциальными офицерами, — замечательный сюжет для авантюрного романа, но не для реальной жизни. Даже самые экстравагантные из попыток, совершенных в XVIII веке (В.Я.Мирович и др.), имели гораздо более реалистический антураж, но и тогда те из них, которые не получали безоговорочную поддержку нового императора или императрицы, были обречены на гарантированную неудачу.
Как, интересно, можно было бы осуществить изложенный план, если его реализация требовала усилий множества исполнителей, а каждый из них — будь то солдат, офицер или генерал — в ответ на любое предложение или распоряжение заговорщиков обязан был поинтересоваться, а как оно соответствует принятой всеми присяге и почему это вдруг происходит насилие над священной особой государя?
Понятно теперь, каких именно средств тотально не хватало революционерам вплоть до начала междуцарствия в декабре 1825 года? Отдавали ли себе отчет в этом сами заговорщики еще в 1823 году?
К ответам на эти вопросы мы еще вернемся.
Николай Павлович, как известно, даже после августа 1823 года оставался командиром бригады. Насколько это его тяготило, об этом свидетельствует, например, запись в дневнике князя А.С.Меншикова от 15 ноября этого года. Последний оказался свидетелем разговора Николая с генералом А.Ф.Орловым (старшим братом М.Ф.Орлова), который признался, что хотел бы отделаться от командования бригадой в 1-й Кирасирской дивизии. Густо покраснев, Николай воскликнул: «Ты Алексий Федорович Орлов, а я Николай Павлович, между нами есть разница и ежели тебе тошна бригада, каково же мне командовать бригадою, имея под своим начальством инженерный корпус с правом утверждать уголовные приговоры до полковника».
Как видим, Николай Павлович считал принципиальной разницу между собой и опытным боевым генералом, причем разница была, по его мнению, в пользу великого князя!
В этом-то и коренилось противоречие Николая со всеми его подчиненными! Это противоречие подпитывалось секретным назначением Николая в престолонаследники: усилилось самомнение великого князя и, увы, его нетерпимость к подчиненным, а эти последние, не понимая, что имеют дело с будущим царем, излишне давали волю своим ответным чувствам.
Кстати, описанный эпизод мог быть как раз спровоцирован сведениями о назначении Николая престолонаследником, которые он мог только что получить от Вильгельма Прусского.
Отметим и ту специфическую особенность должности инспектора инженерного корпуса, которая более всего, оказывается, импонировала Николаю!
В конце 1823 года с юга в столицу снова приезжали С.Г.Волконский и В.Л.Давыдов, привезшие письма С.И.Муравьева-Апостола в защиту Пестеля. В переговорах с ними Никита Муравьев по-прежнему придерживался уклончивой линии. Резко возражал Муравьев только против контактов «Южного общества» с польским тайным обществом, сообщение о которых привезли делегаты; он считал изменой России идти на соглашение с ее врагами, ратующими за независимость Польши. Переговоры завершились лишь приглашением к приезду в столицу самого Пестеля.
Под предлогом этого предстоящего приезда Муравьев вовсе отказался что-либо обсуждать с новым делегатом южан — Повало-Швейковским, приезжавшим в Петербург в начале 1824 года.
На юге постепенно стало ясно, что препятствием для соглашений с севером остается только личная позиция Никиты Муравьева. Матвей Муравьев-Апостол писал к брату Сергею: «Северное общество останавливает Никита Муравьев, который только что толкует всем членам быть осторожнее», а вот «Рылеев в полном революционном духе». А.В.Поджио писал к Пестелю и Юшневскому: для успеха намеченных целей необходимо «удалить Никиту Муравьева от управления управы».
Эту цель и пытался осуществить Пестель, пробыв в отпуске в столице март и апрель 1824 года.
В 1824 году перед Пестелем стояла та же задача, что и за четыре года до того: навязать столичным заговорщикам идею цареубийства и военного переворота с последующим установлением республиканского строя — очаровательный виток карусели! Тогда, в 1820 году, он действовал совместно с Никитой Муравьевым, теперь предстояло действовать против. В ход с обеих сторон пошли прежние методы: прямые дискуссии с целью убеждения слушателей, манипуляции с подбором состава подходящей аудитории и закулисные интриги.
Муравьев уперся в вопросе о будущей форме правления, ратуя за конституционную монархию. Почему это было принципиально важно для него — этого почти никто не понимал. Не случайно только Н.И.Тургенев выступил против экономических постулатов «Русской Правды» Пестеля — это была последняя услуга Тургенева Тайному обществу и лично Никите Муравьеву. Для остальных вопрос о республике или конституционной монархии был чисто схоластическим — вроде известного: сколько чертей может уместиться на конце иглы?
Для всех представителей социальной среды, к которой принадлежали декабристы, не было сомнений в том, что что-то надо делать. Поэтому они охотно участвовали в дискуссиях о том, что же именно следует делать. Четыре года со времени предшествующей дискуссии, в течение которых не было сделано ничего, должны были бы убедить любого здравомыслящего человека, кроме упрямого Пестеля, что никто ничего делать и не собирается. При таких обстоятельствах вопрос был уже по существу не в том, что делать, а в том, чего не делать: республику или конституционную монархию! Это никого не могло всерьез задеть за живое — ни в 1820 году, ни тем более в 1824-м!
Точно с таким же жаром и с такими же практическими результатами уцелевшие в живых продолжали дискутировать и через десять, и через двадцать, и через тридцать лет — но уже в Сибири! Советским историкам было даже не лень анализировать, какую эволюцию претерпели за это время личные взгляды каждого! Эти изыскания все же принесли некоторые позитивные результаты: позднейшее отступничество декабристов от революционной идеологии в значительной степени лишило их ореола и избавило Советский Союз от памятников героям 14 декабря на всех перекрестках без исключения — их соорудили только на некоторых.
Неудивительно, что и в 1824, как и в 1820 году, заговорщики были готовы проголосовать за то, в чем их больше убедят их красноречивые вожди — все равно ведь из этого ничего практического не воспоследует! Упрямство Муравьева и Пестеля вызвало подозрение у присутствовавших (не лишенное оснований), что вся дискуссия — только вопрос личного самолюбия. Вот с учетом такого мнения вождям конкурирующих направлений и предстояло бороться за победу.
Пламенный Пестель практически убедил большинство — включая Оболенского и Рылеева. Трубецкой колебался — и Пестель предложил ему пост третьего члена южной Директории. Со ссылкой на пассивность Юшневского это была попытка достичь соглашения о разделе власти на двоих. Очевидно, номинальное место сопредседателя «Южного общества», фактически покинутое Муравьевым, до сего момента дипломатично оставалось незанятым. Таковым оно осталось и позднее: Трубецкой все же отказался. Только летом или осенью 1825 года на этот пост был избран Сергей Муравьев-Апостол.
На одном из собраний, воспользовавшись отсутствием Никиты Муравьева, Пестель добился резолюции о слиянии обоих обществ на республиканской платформе. Но Муравьев заявил о том, что никогда не согласится с позицией большинства по такому принципиальному вопросу и пригрозил полной собственной отставкой — вспомним Владимира Ильича Ленина в аналогичных ситуациях!
Одновременно усиленно нашептывалось мнение, что мотивы Пестеля нечисты и он метит в диктаторы, что визуально весьма смахивало на правду! Тут уже нужно вспоминать изумительные трюки, проделываемые с противниками самим товарищем Сталиным!
К концу пребывания Пестеля в столице вдруг возникли слухи (оказавшиеся совершенно неосновательными!), что «Южное общество» подверглось арестам и разгрому. Нетрудно сообразить, в чьих интересах было изобретение этой утки!
У Мурвьева в запасе оставалось еще одно сильнейшее средство — то самое, которое ранее применили против него самого Тургенев и Глинка: наиболее упорствующим в своей революционной активности следовало сугубо секретно и доверительно разъяснить роль петербургского генерал-губернатора, на территории которого и предполагается проведение революции и провозглашение республики.
Несомненно, что до осени 1825 года Оболенский и Рылеев подверглись такому воздействию и оказались помимо заговора декабристов еще и участниками «заговора графа Милорадовича». Когда и как в точности происходило такое превращение с каждым из посвященных — проследить довольно трудно.
Вот Трубецкой, не исключено, так и застрял на некоторой грани: несомненно, ему объясняли мотивы Милорадовича, явно игравшего самостоятельную политическую роль осенью 1825 года, и сообщали некоторые сведения, исходившие от графа и его окружения, но нет безусловных оснований считать Трубецкого посвященным во все тонкости взаимоотношений лидеров Тайного общества с петербургским генерал-губернатором. Возможно, такой неясностью мы обязаны хитроумности самого Трубецкого: с одной стороны, он более всех остальных заговорщиков употребил усилия для расшифровки истинной роли Милорадовича перед потомками; с другой — именно поэтому старался уйти от освещения вопроса, насколько сам в свое время был посвящен в суть этой страшной тайны.
Сумел ли Муравьев добиться победы над Пестелем без применения этого решающего аргумента — неясно. Но победы он, во всяком случае, добился.
А вскоре после отъезда Пестеля пришел черед Милорадовича (в первый раз с мая 1821 года) демонстрировать свое преобладание над столичными заговорщиками и над всей ситуацией в столице.
Пестель, задетый неудачей, поражения не признал и впредь решил действовать через собственный филиал.
На квартире П.Н.Свистунова собрались Ф.Ф.Вадковский, И.Ю.Поливанов, И.А.Анненков и Н.Н.Депрерадович (сын командующего гвардейской кавалерией); пришли Матвей Муравьев-Апостол и Пестель. Последний сделал доклад о целях и задачах заговора и о великой миссии, предстоящей присутствующим: «Нужно быть готовым, чтобы жертвовать своею кровью и не щадить и ту, которую повелено обществом будет проливать»! Это звучало особенно здорово для сосунков, никогда не видевших крови!
Спустя два года, 16 марта 1826, императрица Мария Федоровна записала в дневнике: «Князь [А.Н.]Голицын, Михаил, Бенкендорф, Николай рассказывали мне вчера, что на вчерашнем допросе Вадковский сообщил, что если бы тот, кто принял его в это общество, потребовал от него, чтобы он убил отца, мать, брата и сестру, то он бы выполнил это; его принял Пестель» — слова, слова, слова… Но кто знает?..
По существу это было уже новое поколение экстремистов, выросшее на смену тем, кто начинал в 1814–1817 гг., а затем погряз, с одной стороны — в семейном быте, а с другой — в трясине привычных идеологических споров. Новичкам (даже и старшему из них — двадцатишестилетнему Поливанову, успевшему понюхать пороха) по возрасту не досталось ни риска, ни почестей Аустерлица, Бородина, Березины и Лейпцига, от которых их старшие товарищи успели уже поостыть и успокоиться, а молодежь неудержимо тянуло на подвиги!
В отличие от участников завершившейся дискуссии в «Северном обществе», никто из слушателей не заинтересовался программными особенностями, но этим отпрыскам богатых и знатных фамилий показалось очень заманчивым проявить себя на политическом поприще — тем более столь «красивым» образом!..
В это же время Матвей Муравьев-Апостол, давно не получавший писем от брата Сергея, уверовал в справедливость слуха о разгроме «Южного общества». Встал вопрос о немедленном возмездии — и новоявленные энтузиасты безотказно откликнулись.
Двадцатичетырехлетний прапорщик Вадковский, наследник владельцев 1700 крестьянским душ, предложил истребить всю царскую семью на ближайшем придворном балу. Корнет Свистунов, 21 года, наследник владельцев пяти тысяч крестьянских душ, поддержал эту идею. Пестель немедленно одобрил их намерения.
Но тут Сергей Муравьев-Апостол возобновил переписку, Матвей понял, что ошибся, и охладел к террористическим замыслам, а Пестель отбыл восвояси. Позиция последнего наиболее интересна.
Казалось бы, такой горячий идеолог насильственного переворота должен был ухватиться за возможность террористического акта и постараться самолично подготовить его или хотя бы подтолкнуть исполнителей к практическим действиям — именно так и поступали идеологи и организаторы террора последующих времен. Вместо этого Пестель, у которого еще оставалось время официального отпуска, с начала мая и до середины июля 1824 года гостил в имении своего отца. Ниже мы еще вернемся к этой странной ситуации.
А в это время Вадковский уже маялся идеей самому застрелить царя из духового ружья: очевидно — для бесшумности, чтобы легче было потом скрыться. Отметим, что если позже, в 1866–1879 гг., было чрезвычайно просто застрелить Александра II (мы к этому, естественно, вернемся в соответствующих разделах хроники), то еще проще было убить Александра I, вовсе не пользовавшегося никакой охраной. Если замысел массового убийства во время бала отдает опереттой, то в цареубийстве не было ничего невозможного.
О намерениях Вадковского стали поговаривать — возникла реальная угроза крупного скандала, чреватого разоблачением всего заговора.
Вот тут-то и проявилось, что тайная полиция Милорадовича — вовсе не миф, а он сам — тем более не пустое место в столице.
Заметим, что Милорадовичу в деле Вадковского никакой особенной полиции вовсе не требовалось: для поступления сведений о намерениях Вадковского вполне было достаточно естественной цепочки: Вадковский — его товарищ по полку и соратник по заговору Александр Муравьев — старший брат последнего Никита Муравьев — Глинка — Милорадович. Но это, конечно, умозрительная гипотеза.
Факт, что проблема, созданная намерениями Вадковского, обсуждалась гвардейским начальством. В очередной раз скандал был замят, а самого Вадковского «за неприличное поведение» перевели из столицы в Нежинский конно-егерский полк, дислоцированный в Курске. Будущее показало, что более неподходящего места для Вадковского сыскать было невозможно!
Операция была проведена ювелирно: не тронули никого другого из заговорщиков: ни Свистунова с молодыми товарищами, ни Матвея Муравьева-Апостола, ни Пестеля. Ничего тревожного об этом деле не было доведено до сведения царя.
Тем не менее, дело сопровождалось серьезными треволнениями, хотя можно ссылаться только на факты, происшедшие приблизительно в то же время, без доказательств, что они логически связаны. К сожалению, мы не знаем точных дат всех значимых происшествий, имевших место с конца весны по начало осени 1824 года, а потому не можем восстановить всю логическую последовательность событий и поступков; восполнить этот недостаток легко могут историки-архивисты по бумагам многочисленных родственников Вадковского и иным источникам. Тогда можно будет пролить дополнительный свет на этот эпизод, остающийся достаточно загадочным ввиду недоведенности до законченных результатов, а потому и неясности намерений задействованных сторон.
Похоже, что несостоявшийся подвиг Вадковского оказался последней каплей для Н.И.Тургенева, уехавшего за границу. Но не один Тургенев устремился туда.
До царя, как подчеркивалось, подробности намерений Вадковского не дошли. Нельзя того же утверждать о Николае Павловиче: в своем рассказе о письме Дибича в декабре 1825 года об обнаруженных заговорщиках сам Николай называет Вадковского известным Вадковским, за год выписанным из Кавалергардского полка (об этом письме — соответственно ниже). Что же именно стало известно Николая Павловичу о Вадковском еще в 1824 году — нам не известно, но у великого князя, несомненно, мог возникнуть повод для беспокойства. И он немедленно, как и в 1820 году, увез жену лечиться за границу, где и провел всю вторую половину 1824 года!
Отметим, что Николай в этот раз объективно оказался среди тех, кому было крайне невыгодно раздувать скандал: если речь шла не о бунте, а о чистом цареубийстве, то теперь среди всех заинтересованных, а потому подозреваемых лиц Николай мог оказаться самым первым!
Его срочное исчезновение заставляет предполагать, что кроме прочего он всячески боялся скомпрометировать себя и спровоцировать перерешение вопроса о престолонаследии! Интересно и то, что затем, практически сразу после полугодового отсутствия за границей, его претензии на служебный рост были поддержаны гвардейским руководством, и он, как упоминалось, был повышен до командира дивизии.
Не за готовность ли держать язык за зубами поощрили великого князя руководители гвардии? Хотя именно тогда же параллельно с ним командиром дивизии сделали и Михаила Павловича: Бистрома подняли на ступеньку, назначив командиром гвардейской пехоты, а Михаил принял оставленную им 2-ю гвардейскую пехотную дивизию.
Описывая события осени уже 1825 года, мы будем вынуждены вернуться к вопросу о достаточно странном отношении великого князя Николая Павловича к возможному цареубийству.
Происшедшее сильнейшим образом повлияло и на Пестеля, и на Матвея Муравьева-Апостола.
Последний прямо бил отбой всем революционным планам в письме к брату Сергею в ноябре 1824 года: «Дух в гвардии и вообще в войсках и народе совсем не тот, какой мы предполагали. Государь и великие князья любимы; они с властью имеют и способы привязывать к себе милостями, а мы, что можем обещать вместо чинов, денег и спокойства? Метафизические рассуждения о политике и двадцатилетних прапорщиков в правители государства. Из петербургских умнейшие начинают видеть, что мы обманываемся и обманываем друг друга, твердя о наших силах, в Москве я нашел только двух членов, которые сказали мне: «Здесь ничего не делают, да и делать нечего».
/…/ царь в восторге от приема, оказанного ему в тех губерниях, которые он недавно посетил.
На большой дороге народ бросался под колеса его коляски, ему приходилось останавливаться, чтобы дать время таким проявлениям восторга. Эти будущие республиканцы всюду выражали свою любовь, и не подумайте, чтобы это было подстроено. Исправники не принимали в этом участия и не знали, что предпринять. Я знаю это от вполне надежного лица», — и т. д.
В конце 1824 года Пестель хотя и хорохорился, утверждая при непосредственном знакомстве с А.В.Поджио, что у него есть двенадцать решительных террористов для истребления двенадцати членов царской семьи (как они насчитали последнее число, подсчитывая только лиц мужского пола, — непонятно!), но это были только слова! И двух решительных террористов у Пестеля не оказалось, а если один и был (Вадковский), то Пестель ровным счетом ничего не сделал для его использования! Впрочем, к этой коллизии мы уже обещали вернуться.
Сам Пестель не только со второй половины 1824 года не предпринимал никаких активных действий, но и возражал против возобновления планов Сергея Муравьева-Апостола и его друзей — типа тех, что обсуждались в Бобруйске в 1823 году (к этому мы тоже еще вернемся). С одной стороны, эти планы противоречили его концепции государственного переворота, начинаемого в столице, а с другой…
С другой стороны, не был он таким законченным фанатиком-революционером, как рисовали его окружающие; не был и упрямым тупицей. Он должен был сделать выводы и из предупреждений Никиты Муравьева о необходимости воздерживаться от излишней активности и пустой болтовни, и из последовавшей тихой расправы над Вадковским. Позднее он, как мы расскажем, получил и новые предупреждения об опасном положении заговорщиков.
Осенью 1825 года, еще до вестей о кончине Александра I, Пестель занимался уже не подготовкой революции, а уничтожением компрометирующих документов и попыткой спрятать и сохранить экземпляры дорогой его сердцу «Русской Правды».
Среди соратников Никиты Муравьева в столице его прежние постоянные предупреждения о соблюдении осторожности после истории с Вадковским произвели должное впечатление. И Оболенский, и Трубецкой прекратили фрондировать против своего лидера.
Мало того, последний, будучи переведен осенью 1824 года на должность дежурного штаб-офицера в 4-й армейский корпус в Киев, занялся там переговорами с Сергеем Муравьевым-Апостолом с целью вывести последнего из-под идейного и организационного руководства Пестеля. Как тут избежать впечатления, что гвардейское и армейское начальство учитывало насущные потребности Тайного общества? Или наоборот?
Выбывшего из столицы Трубецкого в триумвирате «Северного общества» заменил И.И.Пущин. В начале 1825 года Пущин был переведен по службе в Москву, а на его место был избран К.Ф.Рылеев. Хотя с датами тут, при сопоставлении различных источников, возможна какая-то путаница — но для общего развития сюжета это несущественно.
Так или иначе, Рылеев развил бурную энергию, вербуя новых членов, которых соблазнял разветвленностью и могуществом Тайного общества. Сам он маялся идеей повторить испанский мятеж полковника Риего, а взамен острова Леон использовать Кронштадт — с этим планом он носился полгода…
Произошло характерное изменение и в составе столичного филиала «Южного общества»: самый старший, а потому благоразумный его участник — И.Ю.Поливанов — вышел в отставку со службы, а заодно и покинул ряды заговорщиков. Позже оказалось, что и молодые, начиная со Свистунова, в значительной степени порастеряли революционный пыл.
Кроме Рылеева с осени 1824 года только кружок С.И.Муравьева-Апостола (Васильковская управа) и продолжал активно фантазировать в прежнем стиле, хотя и остальным трудно было остановиться. Вот как об этом писалось в докладе Следственной комиссии по делу декабристов, представленном Николаю I в мае 1826 года:
«По всему видно, что и деятельнейшие в тайном обществе, точно не стыдясь, обманывали друг друга. Так, генерал-майор князь Сергей Волконский сообщал Пестелю, что он подговорил многих офицеров из всех полков 19-й дивизии, за исключением полка его личного неприятеля Бурцова, назвал некоторых, будто бы принятых им или приготовленных, и после должен был признаться, что все им вымышлено из тщеславия для доказательства его преступного усердия. Так, они говорили в Южном обществе, что их главные силы на Севере и там должно начаться действие, а в Петербурге, что все готово на юге, утверждали иногда, что Москва решит дело, а в Москве не было уже и управы, и очень мало членов, большою частью отставших от Союза; говорили также, что есть тайное общество на Кавказе и в Харькове, последнее будто бы под началом графа Якова Булгари. Но то же самое чувство тщеславия не допускало их ни сердиться за обман, ни признаваться в перемене образа мыслей».
С другой стороны, этой же осенью стало очевидным, что Милорадович успешно приручил проницательного А.Х.Бенкендорфа: когда разразилось знаменитое петербургское наводнение 7 ноября 1824 года, то Бенкендорф был назначен комендантом Васильевского острова — непосредственным подчиненным Милорадовича; вплоть до 14 декабря 1825 года будущий глава III Отделения старался не совать носа в дела заговорщиков.
Но на что же реальное могли надеяться заговорщики?
Для ответа на этот вопрос необходимо более пристально вглядеться и в социальное положение среды, к которой они принадлежали, и к их программным тезисам, целиком соответствующим этому положению.
Картина имущественного расслоения дворян, сложившаяся к рассматриваемому периоду, вполне характеризуется официальными статистическими данными, относящимися к 1835 году. Хотя цифры из года в год должны были меняться, но не принципиально: никаких крутых социально-экономических переломов после 1812 и до кануна реформы 1861 года не происходило — в этом смысле никак не повлиял и мятеж декабристов. Постепенные изменения шли лишь в одном направлении — в сторону повышения доли малоимущих помещиков (хорошее словосочетание!); усугубление представленной картины к 1861 году мы покажем ближе к описанию соответствующих событий.
Итак:
14,1 % общего количества дворянских семейств уже вовсе не имели земельной собственности; при этом многие из них оставались чистыми рабовладельцами: на каждое из семейств этой категории в среднем приходилось по 3 крепостные души;
70,5 % дворянских семей было мелкопоместными — менее чем по 100 душ на одно семейство; в среднем — по 22 души;
14,3 % было среднепоместных — от 100 до 1000 душ крепостных; в среднем — по 289;
и, наконец,
менее 1,2 % дворянских семей (1453 семьи из 126 103) было крупнопоместными и владело более чем по 1000 душ; в среднем — по 2448 душ на одно семейство; им принадлежало 33 % всех крепостных крестьян.
Нетрудно подсчитать, что около 85 % дворянских семей имели в среднем по 19 крепостных душ. Согласно статистике, на это же количество крепостных, помимо собственного помещика, приходилось еще в среднем полтора семейства российских граждан из неподатных сословий — гражданских и военных служащих и духовенства, которые, в конечном итоге, содержались за счет все тех же крепостных.
Могло ли условно 19 крестьянских душ (считались только взрослые мужчины) прокормить самих себя и всех этих нахлебников, включая целое дворянское семейство, пытающееся вести образ жизни, красочно описанный А.С.Пушкиным, И.С.Тургеневым и Л.Н.Толстым?
Разумеется, это было неразрешимой проблемой. Декабристам это было прекрасно известно.
В 1826 году подследственный А.А.Бестужев писал из Петропавловской крепости к Николаю I: «мелкопоместные составляют язву России; всегда виноватые и всегда ропщущие и желая жить не по достатку, а по претензиям своим, мучат бедных крестьян своих нещадно. /…/ 9/10 имений в России расстроено и в закладе».
Учитывая удельный вес мелкопоместных и беспоместных в общем количестве дворян, формулировку можно было бы и упростить: дворяне составляли язву России! Доля расстроенных имений, названная Бестужевым, подтверждает эту оценку. Дворянство никаким образом не могло быть аналогом современного среднего класса, по сей день отсутствующего в России.
Что же предлагали им (и дворянам, и России) декабристы?
Подавляющее число участников и «Северного», и «Южного» обществ (о «Соединенных славянах» — особая речь) за немногими исключениями (Рылеев и еще несколько) были аристократы: «В числе заговорщиков не было ни одного не дворянина, ни одного купца, артиста, ремесленника или выслужившегося офицера и чиновника. Все потомки Рюрика, Гедемина, Чингис-Хана, по крайней мере, бояр и сановников, древних и новых», — ревниво писал писал о них Греч, которого они в компанию не брали: он был сыном мелкого чиновника.
Почти все они принадлежали к числу крупных помещиков; среднепоместных среди них было меньшинство. Эти обстоятельства позволяют объяснить и то, почему данная публика составила костяк заговорщиков, и то, чего же они желали достичь в случае политического успеха.
Несмотря на богатство, поводов для недовольства у них хватало — все помещики, не исключая богатейших, теряли доходы в сложившейся экономической ситуации. Даже тесть Никиты Муравьева граф Г.И.Чернышев уже накопил долгов более чем на миллион рублей ассигнациями. Это была незначительная часть по сравнению с оценочной стоимостью его имущества, но речь теперь не могла идти об умножении владений; наоборот: на повестке дня стоял вопрос о распродаже — но где искать покупателя?
С другой стороны, все еще сохраняющееся богатство позволяло проявлять смелость. Рескрипт 1 августа 1822 года запрещал нелегальную деятельность — это знали все. Пока заговорщики особых преступлений не совершали, о серьезных наказаниях и речи не было. Однако трудно было бы сохраниться на службе, если бы вскрылся сам факт участия в Тайном обществе — это тоже было всем очевидно.
Но личное богатство давало гарантию от катастрофы при подобной неприятной перспективе: если обычный дворянин должен был цепляться за службу и опасаться прогневить начальство, потому что собственное имение либо просто отсутствовало, либо не могло обеспечить его потребности, то для богача это было не смертельно — и можно было рисковать.
Риску благоприятствовало и то, что по возрасту большинство декабристов еще не успело похоронить своих предков и унаследовать их имущество. Родителям же материально не угрожало ни лишение прав, ни конфискация имущества их детей: при тогдашних юридических нормах старшие не отвечали за своих совершеннолетних отпрысков — это не сталинские времена!.. Отсюда, кстати, и снижение революционной активности у старшего поколения заговорщиков: этим, при неблагоприятном исходе, предположительно уже было что терять!
Такие оптимистичные расчеты вполне оправдались: даже при заранее не предусмотренных ужасных обстоятельствах почти все осужденные, кроме повешенных в 1826 году, более чем успешно продолжали пользоваться материальными благами — даже на каторге!
Аграрные программы и Никиты Муравьева, и Пестеля отвечали чаяниям этой среды: безземельное раскрепощение позволяло сохранить земельную собственность, избавиться от излишних крепостных и перейти к использованию наемного труда.
«Демократическая» программа Пестеля предлагала отчуждать половину помещичьих земель в фонд, из которого наделять землей обезземеленных крестьян. Эта умозрительная эквилебристика также целиком могла относиться только к богатым поместьям: в своих теоретических расчетах Пестель брал среднее поместье размером в 1000 десятин, чему тогда приблизительно соответствовало 250 ревизских душ. Это была достаточно точная оценка среднего размера среднепоместного хозяйства, но 85 % дворян были обеспечены гораздо хуже!
Пестель действительно придерживался демократического принципа наделения неимущего крестьянства помещичьей землей — это было позднее и руководящей идеей реформы 19 февраля 1861 года! Но преимущество земельных владений крупнейших помещиков гарантированно сохранялось (пусть в половину урезанном виде), а для основной массы помещиков и значительной части крестьян его проект был совершенно нереальной утопией, не способной развязать переплетения интересов в подавляющем большинстве имений. Это заложило основы антиправительственных и антимонархических настроений разоряющегося дворянства уже после 1861 года!
Большинство помещиков всегда было против отмены крепостного права: так было и в XVIII веке, и в начале XIX, и позже — накануне 1861 года. Понятно, почему: только рабский труд полутора-двух десятков крестьянских семей страховал от нищеты самого помещика. Лишившись этой поддержки, можно было рассчитывать только на единственный источник существования: государственное жалованье — как при Советской власти!
Никакая свобода предпринимательства не могла помочь дворянам: своих денег не было, а по традиции, сохранявшейся почти до конца XIX века, дворяне у купцов не служили. Отсюда и предельное равнодушие позднейшей революционной интеллигенции к буржуазным свободам. Такие, как Рылеев, управлявший конторой Российско-Американской компании в Петербурге, были редчайшими исключениями: для поэтов — свой закон, как якобы прочитал в «Капитале» Сергей Есенин!
Ни интересы мелкопоместных дворян, ни интересы государства декабристами, таким образом, напрямую не учитывались — о крестьянстве и речь почти не шла! Декабристы были не только страшно далеки от народа (как писал Ленин), они были напрямую против народа!
В этом и секрет того, что Никита Муравьев, отпихиваясь от настойчивых приставаний сторонников Пестеля и выставляя взамен необходимость вести пропаганду, сам никакой пропаганды, выходящей за рамки собственных сподвижников, не вел и не мог вести. Она просто не встретила бы почти ни у кого ни малейшего сочувствия!
Заговор не имел никаких политических перспектив, если иметь в виду распространение его идей для получения массовой поддержки, дальнейшего расширения социальной базы и приобретения необходимых практических возможностей.
Вот это и было тем хроническим недостатком средств, о котором сожалел Сергей Муравьев-Апостол, что прекрасно объяснено в письме его старшего брата!
Но это вовсе не исключало теоретической возможности чисто верхушечного переворота в стиле XVIII века: непосредственного захвата власти с дальнейшей перспективой (хотя и далеко не ясной!) осуществить такую часть реформ, какая окажется возможной — запомним этот тезис!
Почти все, происходившее в лагере заговорщиков в 1823–1824 гг., не доходило до сведения подозрительного императора, хотя он усиленно интересовался настроениями этой опасной среды. После его смерти обнаружилась такая его записка, датированная 1824 годом: «Есть слухи, что пагубный дух вольномыслия или либерализма разлит, или по крайней мере разливается, между войсками; что в обеих армиях, равно как и в отдельных корпусах, есть по разным местам тайные общества или клубы, которые имеют при том миссионеров для распространения своей партии. Ермолов, [Н.Н.]Раевский, Киселев, Мих[аил] Орлов, Дмитрий Столыпин и многие другие из генералов, полковников, полковых командиров; сверх всего большая часть разных штаб и обер-офицеров» — как видим, недалеко от истины; вот только Милорадович никогда не поминался Александром I в числе подозреваемых, хотя среди них оказался едва ли причастный к конспирации дед П.А.Столыпина!
К лету 1825 года эта почти благостная картина мирного сосуществования власти и оппозиции должна была радикальнейшим образом перемениться.
6. Заговорщики и Александр I: на последней прямой
1825-му предстояло стать роковым, переломным годом.
Экономическое положение государства и дворянства продолжало ухудшаться, а верховная власть не предпринимала ничего, чтобы исправить ситуацию. Прошло уже пять лет с того времени, когда Александр I в последний раз попытался осуществить хоть что-то, что можно было интерпретировать как попытку обновления государственного устройства.
Как мы знаем, император был очень озабочен угрозой заговора и уделил массу сил и внимания тому, чтобы по возможности крепче связать по рукам и ногам собственных братьев.
Широкой публике все это оставалось неизвестным, зато постоянные поездки императора по стране и загранице, сопровождаемые бесчисленными смотрами и парадами, изрядно надоели всем, кроме заинтересованных сделать карьеру шагистикой — недаром в проекте конституции Никиты Муравьева появился пункт, запрещающий императору покидать Россию.
Убийца Милорадовича П.Г.Каховский писал из Петропавловской крепости в начале следующего, 1826 года, к новому императору про старого: «общее негодование громко говорило во всей России: Император занимается лишь солдатами, играет ими как игрушкой, не печется о благосостоянии нашем, тратит сотни миллионов на армию, бесполезным содержанием миллионов войск иссушая источники богатства народного. У нас нет закона, нет денег, нет торговли, — что составят для нас штыки внутри государства»!
Можно считать, что в последние годы правления Александр I не сделал ровным счетом ничего, полезного России. Так думали и его современники — независимо от политических направлений, к которым принадлежали; на этом сходятся и историки последующих времен.
Великий князь Николай Михайлович в своей книге «Император Александр I» даже озаглавил последнюю главу: «Общее разочарование. 1822–1825» — не уточнив, правда, чье разочарование имеется в виду. Сам он следующим образом расценил деятельность Александра I в эти годы: «усталый победитель Наполеона вручал бразды внутреннего управления Россией Аракчееву, а внешнюю политику отдавал на попечение Меттерниха».
При таких обстоятельствах царю нужно было бы готовиться к основательным столкновениям не с воображаемой, а вполне серьезной враждебностью: ведь возмущенным подданным вроде бы было невдомек, что терпеть осталось недолго, и этот год — последний в правлении Александра Благословенного!
В свою очередь заговорщики, запуганные за несколько лет до того целенаправленными предупреждениями Милорадовича, Киселева и Ермолова, успели успокоиться и привыкнуть, что ничего особенного им не угрожает, если избегать экстравагантного поведения в стиле В.Ф.Раевского или Ф.Ф.Вадковского. Они распустились, утратили бдительность, увлеклись привлечением к своим пустопорожним беседам все новых и новых людей и неудержимо вели дело к тому, чтобы рано или поздно нарваться на бдительных сограждан, которые почтут своим долгом, не без корыстных побуждений, поделиться с начальством тревожными сведениями.
Самое начало года еще не очень предвещало грядущих потрясений.
Руководство «Южного общества», собравшись на очередных киевских «контрактах» (традиционная Крещенская ярмарка, ежегодно проводимая с 15 января по 1 февраля; на нее, кроме прочей публики, съезжалось дворянство Юго-Западного края), обсудило план, представленный С.И.Муравьевым-Апостолом и М.П.Бестужевым-Рюминым.
Уже было известно, что на следующий, 1826 год, намечен очередной смотр корпусов 2-й армии. Известно было и предполагаемое место под Белой Церковью, где должен остановиться приехавший император. Предлагалось начать с его убийства, а затем двинуть войска для захвата столиц.
Пестель и Юшневский решительно забраковали этот план; С.Г.Волконский и В.Л.Давыдов послушно их поддержали. Пестель, как упоминалось, резонно считал необходимым совместить цареубийство с немедленным захватом власти в Петербурге, не находя в других вариантах возможности успеха.
Чуть позже, в феврале, в Москву приезжал Е.П.Оболенский. Вместе с Пущиным он попытался расшевелить москвичей, среди которых было немало ветеранов-заговорщиков, но инициатива не имела успеха. Тайное общество в Москве после 1821 года так и не возобновило никакой деятельности.
Тучи над головами заговорщиков стали сгущаться позднее — весной 1825 года.
Начало неприятностям положил еще года за три до того начальник Южных военных поселений граф И.О.Витт, когда обратил внимание на суету и страсти, кипевшие в Каменке — поместье В.Л.Давыдова.
Витт был весьма колоритной фигурой тех нескучных времен. Сын польского графа, перешедшего на русскую службу, и красавицы-гречанки, он в 1801 году, двадцати лет отроду, был уже полковником и кавалером боевых орденов. После контузии при Аустерлице вышел в отставку, а в 1809–1812 гг. служил в польском легионе у Наполеона — можно предположить, что с разведывательными целями, потому что с июня 1812 года оказался снова в русских рядах. Вновь выполнял какие-то таинственные секретные поручения, но нес и регулярную строевую службу: участвовал в боях, с 1814 года командовал дивизией, а в 1819 возглавил упомянутые военные поселения. В том же году (как докладывал сам Витт Николаю I уже в 1826 году) «повелено мне было иметь наблюдение за губерниями: киевскою, волынскою, подольскою, херсонскою, екатеринославскою и таврическою, и в особенности за городами Киевом и Одессою, причем его величество изволил поручить мне употреблять агентов, которые никому не были бы известны, кроме меня; обо всем же, относящемся до сей части, никому, как самому императорскому величеству, доносить было не позволено, и все на необходимые случаи разрешения обязан я был принимать от самого в бозе почившего государя императора».
Подобрать ключи к Каменке Витту долго не удавалось, пока он не завербовал одного из соседей-помещиков — А.К.Бошняка. Последний родился в 1786 году, служил по гражданской части, но в 1812 году был в ополчении. Затем на два трехлетних срока избирался в Костроме губернским предводителем дворянства, но разорился и утратил родовую вотчину — типичная судьба того времени! Не желая быть сирым и убогим там, где недавно был богат и славен, вышел в отставку и переселился на Украину. Получив от Витта соответствующее задание, Бошняк к апрелю 1825 года сблизился с частым гостем Давыдова подпоручиком В.Н.Лихаревым — главной движущей силой Каменской управы. Заговорщики были рады обрести нового толкового сообщника.
У Витта к этому времени чрезвычайно обострились отношения с cобственным начальством: в Южных военных поселениях вскрылись денежные недостачи, а граф Аракчеев, неприязненно и ревниво относившийся к Витту, которого считал серьезным личным конкурентом, постарался самым неблагоприятным образом расписать эти прегрешения перед царем. Поэтому возможность сенсационного разоблачения заговора показалась Витту подарком судьбы.
Он немедленно рекомендовал Бошняку предложить заговорщикам его собственное, Витта, деятельное сотрудничество. Сам Витт, дескать, находится под подозрением у начальства и под угрозой опалы (что соответствовало истине), но, пока еще имея в подчинении военные поселения на обширной территории, может направить их силы на пользу оппозиции. Это вполне соответствовало неоднократно высказанным стремлениям заговорщиков взбунтовать военных поселенцев — вот только далее намерений они не продвигались.
В силу указанных обстоятельств Витт, по-видимому (достоверность этого предположения мы оценим ниже) обратился для содействия своим планам истребления заговора не к Аракчееву — непосредственному начальнику, а к П.Д.Киселеву, с которым должен был сотрудничать в отношении обмена информацией, поскольку деятельность тайной агентуры обоих пересекалась на общей территории. Вот тут-то и разыгралась замечательная история, в очередной раз характеризующая роль, взятую на себя Киселевым.
В отчете, написанном уже после 14 декабря 1825 года, Бошняк рассказал: «Или испытывая меня, или в припадке недоверчивости, Лихарев упрекал меня, что граф Витт их обманывает, ибо еще в мае месяце предлагал генералу Киселеву захватить всю шайку заговорщиков. Я отделался смехом и шутками. Впрочем, мне неизвестно, были ли какие по сему предмету переговоры между генералом Виттом и генералом Киселевым» — ситуация почти вполне прозрачная! Киселев снова предупредил заговорщиков и постарался вывести их из-под удара. Если бы последние оказались поумнее, то на этом их контакты с Бошняком и Виттом пресеклись — и заговор избежал очередной опасности.
Пестель показывал: «После сношения с Бошняком находились мы в постоянном опасении» — едва ли так было бы без предупреждений Киселева. На самого Пестеля они, похоже, произвели впечатление — вспомним о его капитулянтских настроениях к осени 1825 года! Но вот Лихарев и Давыдов предостережению в должной степени не вняли.
В мае 1825, получив отпор Киселева, Витт не оставил намерений выйти на царя с предупреждением. Он сразу же написал письмо И.И.Дибичу, сопровождавшему императора в поездке в Варшаву, намекая на предстоящие разоблачения. Но до августа в этом направлении так ничего и не произошло — в силу, видимо, все же некоторой опаски заговорщиков. К другим объяснениям мы еще вернемся.
Крупные перемены в «Южном обществе» случились ближе к лету 1825 года — после того, как М.П.Бестужев-Рюмин обнаружил в 8-й артиллерийской бригаде целое тайное офицерское общество, называемое «Соединенными славянами» (оно включало и служивших в 9-й артиллерийской бригаде).
Основали его подпоручики (один из них — отставной) братья П.И. и А.И. Борисовы, численность превышала весь состав «Южного общества» (к моменту знакомства с Бестужевым-Рюминым — 36 человек; к концу 1825 года дошла почти до полусотни; 23 из них предстали перед судом над декабристами), а состояли в нем обычные незнатные и небогатые служилые дворяне в невысоких чинах; выделялся среди прочих лишь штабс-капитан барон В.Н.Соловьев.
Они были готовы бороться против «тиранства» (как утверждалось в их клятве), но для всей этой достаточно широкой среды беднеющего дворянства было трудно изобрести какой-либо разумный путь социального спасения. Поставленные ими задачи выглядели совершенно фантастически — с учетом их реальных сил и возможностей: установить республиканское правление и объединить в союз все славянские земли, как то: «Россию, Польшу, Моравию, Далмацию, Кроацию, Венгрию с Трансильванией, Сербию с Молдавией и Валахией»…
Сергей Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин постарались прибрать их к рукам и подключить к собственным революционным планам. В речи, приготовленной к торжественному коллективному вступлению «славян» в «Южное общество», Бестужев-Рюмин взывал к их самолюбию и честолюбию и сулил златые горы: «Век славы военной кончился с Наполеоном. Теперь настало время освобождения народов от угнетающего их рабства, и неужели русские, /…/ исторгшие Европу из-под ига Наполеона, не свергнут собственные ярма /…/, когда дело пойдет о спасении отечества, счастливое преобразование коего зависит от любви нашей к свободе?
Взгляните на народ, как он угнетен. Торговля упала; промышленности почти нет, бедность до того доходит, что нечем платить не только подати, но даже недоимки. Войско все ропщет. При сих обстоятельствах не трудно было нашему Обществу распространиться и придти в состояние грозное и могущественное. Почти все люди с просвещением или к оному принадлежат, или цель его одобряют /…/. Общество, по своей многочисленности и могуществу, вернейшее для них убежище. Скоро оно воспримлет свои действия, освободит Россию и, быть может, целую Европу».
«Славянам» захотелось поверить в эту мистификацию, а некоторые из них в декабре 1825 почли своим долгом пролить кровь во имя освобождения России и, быть может, целой Европы!
Ветераны-заговорщики с восторгом приняли появление нескольких десятков прапорщиков и подпоручиков, более чем удвоивших их ряды! В результате на Юге образовалась, наконец, опасная критическая масса отчаянных честолюбивых юнцов во главе с опытными командирами.
В Петербурге чуть было не произошла вспышка более опасной революционной активности.
В апреле или мае Рылеев познакомился с только что вернувшимся с Кавказа капитаном А.И.Якубовичем. Последний был выслан туда за дуэль еще в 1817 году. На Кавказе он прославился подвигами и был ранен пулей в лоб, но лоб оказался крепче…
Якубович считал, что его заслуги незаслуженно обойдены и грозил убийством императору Александру — логика, соответствующая травмированному черепу!
Насколько серьезно он сам относился к своей идее — так и осталось неясным, но Никита Муравьев и его коллеги отнеслись вполне всерьез — и правильно сделали: лучше перебдить, чем недобдить!..
Поначалу план Якубовича не мог осуществиться по чисто техническим причинам: еще в начале апреля император отбыл из столицы в Варшаву, где 15 апреля, как положено, провел войсковой смотр. Затем император присутствовал на сессии Сейма. Заседания Сейма (согласно упомянутому новому закону) проходили при закрытых дверях, кроме торжественных начала и закрытия — соответственно 1 мая и 1 июня. Только 13 июня Александр вернулся в Царское Село, но 26 июня уехал в Грузино к Аракчееву, где и пробыл десять дней, и лишь затем снова появился в столице.
Еще в мае Никита Муравьев собрал общее заседание «Северного общества», на котором выступил категорически против покушения. Муравьеву возражал Рылеев, которого эта идея, наоборот, вдохновила.
Похоже, вcлед за тем за кулисами Тайного общества произошел очередной «государственный переворот», приведший к вполе отчетливым последствиям.
Рылеев вроде бы изменил свою точку зрения и присоединился к тем, чьи настойчивые уговоры заставили Якубовича отложить исполнение собственного намерения. Рылеев, как рассказывали, стоял перед ним на коленях и умолял отложить покушение на месяц или два!..
Одновременно вспыхнула горячая дружба Якубовича с самим графом Милорадовичем. Это никого в столице не удивило: хотя Милорадович и был на двадцать пять лет старше, но дружбе великих героев все возрасты покорны.
Историки неоднократно повторяли предположение, ни на чем фактически не основанное, что дружба носила не бескорыстный характер: Якубович, вращаясь в окружении Милорадовича, имел возможность узнавать о планах администрации и предупреждать о них декабристов. Это, дескать, имело особое значение накануне 14 декабря… Первым такое подозрение высказал сам Николай I, описывая события 1825 года.
Нам представляется, что дружба совершенно точно имела не бескорыстный характер: Милорадович, если оказался в курсе намерения к цареубийству (а он обязан был быть и почти до конца жизни действительно был в курсе всего!) и не одобрил его, то не мог полагаться на усилия Муравьева и иже с ним, а должен был сам присматривать за опасным Якубовичем. Последний мог желать дружбы с Милорадовичем по множеству причин, но пойти ли навстречу его желаниям — это зависило целиком от воли Милорадовича!
Заметим, что Якубович не был ни посажен в кутузку, ни выслан подальше от столицы — вслед за Вадковским. То ли кавказский герой действительно вызывал больше симпатий у старого генерала (старого — в смысле стажа; в 1825 году Милорадовичу исполнилось только 54 года), чем желторотый экстремист Вадковский, то ли у Милорадовича наметился определенный сдвиг взглядов…
Еще более интересно, что Якубовича уговаривали отложить покушение, но фактически нет свидетельств, что его отговаривали вовсе отказаться от этой затеи!..
Что касается самого Якубовича, то вплоть до декабря 1825 он не проявлял ни малейшего интереса ни к программам заговорщиков, ни к их революционным планам.
В эти же самые дни Рылеев поставил крест на давно вынашиваемой им идее поднять мятеж в Кронштадте — это нам представляется не случайным совпадением!
2-3 июня он сделал то, что с самого начала должен был сделать, если всерьез планировал выступление (он же сам был офицером — отставным подпоручиком!), — провел рекогносцировку на местности. В сопровождении достаточно многочисленной свиты молодых поклонников (А.А.Бестужев, М.К.Кюхельбекер, Д.И.Завалишин и А.И.Одоевский) Рылеев посетил Кронштадт. Осмотр фортов и знакомство с местным командным составом показали, что ни по географическому расположению, ни по техническому состоянию крепости, ни по настроениям гарнизона Кронштадт на роль острова Леон тянуть не может.
Тем самым с замечательным планом было покончено. Причем Рылеев сделал это в виде как бы наглядного семинара, выступая в роли рьяного революционного руководителя, но вынужденного уступать неумолимым внешним обстоятельствам.
Позже ему еще раз предстояло выступить в такой же роли…
В начале июня 1825 года в Киеве проездом оказался А.С.Грибоедов. Он служил на Кавказе у Ермолова фактически в качестве «министра иностранных дел», обеспечивая дипломатические контакты русской администрации с Персией, Турцией и прочей заграницей. С лета 1824 он находился в отпуске в Петербурге, куда привез знаменитое «Горе от ума» — в тщетной надежде на разрешение опубликовать и поставить на сцене.
Одним из непреодолимых препятствий, кстати, оказался генерал-губернатор граф Милорадович: злые языки утверждали, что виной тому была неосторожная попытка Грибоедова ухаживать за знаменитой балериной Катей Телешевой — симпатией графа (к странным отношениям последней пары мы еще вернемся). Впрочем, едва ли это играло решающую роль: пьеса не была ни опубликована, ни поставлена и после гибели Милорадовича; этого не дождался Грибоедов, в свою очередь погибший в 1829 году…
В Киеве к Грибоедову слетелись Бестужев-Рюмин, Трубецкой, Артамон Муравьев, специально вызванный из Василькова Сергей Муравьев-Апостол и брат последнего Матвей, покинувший к этому времени Петербург. Совещания продолжались десять дней и завершились тем, что Грибоедов хлопнул дверью и уехал не простившись. Это хорошо согласуется с его знаменитой фразой в адрес декабристов: «Сто прапорщиков хотят переменить весь государственный быт России».
Во всяком случае, никаких тайных поручений Ермолову он передавать вроде бы не спешил, продолжив путешествие через Крым и добравшись до Тифлиса только в октябре 1825. Но роль Грибоедова так и осталась загадочной, а самый его маршрут от Петербурга до Тифлиса тоже смахивает на тайную миссию: и конфликт с Милорадовичем в столице, и вроде бы ссора в Киеве могли рассчитываться на легковерие сторонних наблюдателей…
В Крыму же, как известно, находилась штаб-квартира графа М.С.Воронцова — героя многочисленных сражений 1803–1814 гг., а теперь — генерал-губернатора Новороссии и Бессарабии. Последний вошел в историю благодаря главным образом насмешкам над ним А.С.Пушкина, причиной чего был их очевидный конфликт из-за жены Воронцова: любвеобильный на стороне Воронцов очень либерально относился к увлечениям собственной жены, но тут его что-то задело… Современники же числили Воронцова среди столпов верховной оппозиции — наряду с Н.Н.Раевским и Ермоловым, но на чем основывалась эта упорная молва — никто конкретно объяснить не мог…
На следствии декабристы попытались впутать Грибоедова в свой заговор. По приказу из столицы Грибоедов был арестован и отправлен в Петербург. Ермолов, вопреки присланной инструкции, дал возможность Грибоедову уничтожить все компрометирующие бумаги. Грибоедов отрицал знакомство с какими-либо преступными планами и вынудил заговорщиков, путавшихся в своих показаниях, забрать обвинения в его адрес назад — с тем и был выпущен и освобожден от ответственности…
Все перечисленные эпизоды, происходившие в разных концах России, носили уже привычный характер, постепенно расширяли круг привлеченных лиц и, как и было сказано и показано, не могли не достичь слуха тех, кто считал вовсе не лишним об этом донести.
Вот тут-то и выяснилось, что Милорадович, Киселев и другие влиятельные доброжелатели не в силах перекрыть все пути следования доносов к императору. Летом и осенью 1825 года поток этих сообщений буквально потряс последнего.
Александр I был одним из талантливейших политиков собственной эпохи; к тому же за ним не отмечалось ни провалов памяти, ни прегрешений против логики мышления. Он прекрасно знал, что до 1822 года существовал заговор, направленный против него, и сам издал рескрипт от 1 августа 1822 года, запрещающий всякую заговорщицкую деятельность. С тех пор о заговоре, вроде бы, не было слышно почти что ничего. Не известны никакие данные о том, что до Александра в это время доходили какие-либо сведения о заговорщиках, более определенные, чем упомянутые выше слухи о разговорах, ведущихся в окружении Ермолова, Киселева, Н.Н.Раевского, М.Ф.Орлова. Но это никак не могло успокаивать его.
Можно было, конечно, допустить, что заговорщики прекратили деятельность: по крайней мере один из самых активных — Н.И.Тургенев — точно это сделал, выехав за границу (и то можно было предполагать, что он и там занят какой-то подрывной работой!). Но зато оставались возможными и иные, гораздо более зловещие варианты: заговор не только не самоликвидировался, но и разросся до таких размеров, что захватил даже военное начальство и полицию, продажности которой Александр и раньше не доверял, а потому, как упоминалось, и разогнал в 1819 году Министерство полиции!
Согласитесь, что заговор, включающий М.Н.Тухачевского со всем руководством армии и Г.Г.Ягоду со всем руководством госбезопасности, — совершенно ужасная угроза, с которой удалось управиться только гениальному товарищу Сталину!
Похоже, с неким подобием того же столкнулся и император Александр!
Десятидневное пребывание императора в Грузине в июне-июле 1825 года сопровождалось эпизодом чрезвычайной важности: Аракчеев представил ему донос, присланный юнкером И.В.Шервудом. Александр пожелал в кратчайший срок выяснить у автора подробности — и за ним было послано.
17 июля 1825 года Александр принял в Каменноостровском дворце в Петербурге Шервуда, направленного к нему Аракчеевым. Беседа между юнкером и царем происходила без свидетелей.
Известно, что Аракчеев (как и Витт) имел свою тайную полицию при управлении военными поселениями. Она существовала со времени подавления бунта в Чугуевских поселениях в 1819 году; понятна ее роль для предупреждения возможных рецедивов.
До 1825 года и она не доносила никаких вестей о заговорщиках, причем тоже понятно почему: последние, как упоминалось, вопреки своим намерениям никакой деятельности среди поселенцев не вели. Поэтому и питомцы Аракчеева не могли ничего знать и тем более доносить о декабристах.
Но вот на горе последним был, как рассказано, выставлен из столицы Ф.Ф.Вадковский, который и попытался активизировать свою деятельность уже в провинции. Опять же, к несчастью для заговорщиков, он наткнулся на Шервуда, который не собирался упускать собственный шанс. Последний проявил незаурядную сообразительность и выдал себя за представителя несуществующего тайного общества, якобы сформировавшегося в военных поселениях.
Ситуация была вполне симметричной, так как Вадковский, наверняка переживавший провал собственных цареубийственных замыслов в столице, старался и откреститься от сумасбродных фантазий, в которых его прямо или косвенно упрекнули более сдержанные единомышленники, и перейти к более полезной и целенаправленной деятельности. Заговор в военных поселениях — это было кое-что, позволявшее надеяться получить признательность и уважение самого пламенного Пестеля. Ничего нереального в этом не усматривалось: ведь примерно в то же время заговорщики вышли на связь с совершенно независимыми от них «Соединенными Славянами».
Альянс Вадковского с Шервудом оказался необычайно плодотворным.
Легко представить, что наговорил Вадковский новоявленному единомышленнику: обычную чушь, которую внушали всем новообращенным, расписывая невероятную распространенность и всесильность заговора. Называть имена и факты при этом было необязательно и даже нежелательно — по элементарным требованиям конспирации. Наверняка были рассказаны всякие страсти, но ничего конкретного.
И вот весь этот звон вылился на несчастного саможержца!
Но в звоне том присутствовали рациональные ноты: ведь Вадковский был поклонником Пестеля, должен был усвоить азы его программы и обязан был именно эти азы донести до сведения новообращенного единомышленника.
В чем был гвоздь программы Пестеля? Во введении республиканского правления, а для того — в истреблении всей императорской фамилии! Вероятно, этой программой Шервуд и осчастливил императора!
Александр I санкционировал дальнейшее проникновение Шервуда в замыслы и планы заговорщиков, а Шервуд, как будет ясно из дальнейшего, проявил себя деятельным и инициативным провокатором.
Этот эпизод оказался поворотным пунктом истории России, что осталось незамеченным до сего времени.
Александр сразу оценил возможные варианты: или заговор не так важен, как его расписал Шервуд, или, наоборот, он настолько разросся, что включил в себя соратников царя, переставших с 1822 года докладывать ему состояние дел в оппозиции.
Тогда получалось, что Александр в еще большей степени окружен заговорщиками, чем его собственные отец и дед!
Нужно было не повторять ошибок последних, а спешно разрубать враждебный круг, пока еще оставались шансы бороться за жизнь!
А ведь было похоже, что ранее уже произошла роковая предопределяющая ошибка: во главе заговора стояли не его братья, как он этого опасался все прошедшие годы, а совершенно иные люди, грозящие смертью и ему, и братьям!
Возможно, его первой реакцией было желание отречься от престола. Такое высказывание (без объяснения мотивов) было будто бы им высказано в эти дни зарубежному родственнику — голландскому наследному принцу Вильгельму Оранскому, мужу его сестры Анны Павловны, если это сообщение — не апокриф!
Но Александр преодолел минутную слабость и решил не сдаваться.
Люди, знавшие Александра не один год, единодушно отмечали его почти постоянную и малообъяснимую мрачность в последние годы, а особенно — месяцы. Это сочеталось с радостью и признательностью, которыми он отвечал на проявления восторга, изливаемыми на него простолюдинами. Особенно его радовали эпизоды, когда это происходило при внезапно происходящих столкновениях, о которых встреченные солдаты или крестьяне никак не могли быть предуведомлены начальством и сами не могли подготовиться к возможно неискренним, но необходимым изъявлениям якобы горячей любви. Он действительно был любим народом, знал это и ценил.
Но ведь и его отец, Павел I, был любим — и было за что: один указ об ограничении барщины тремя днями в неделю чего значил! И, однако же, это не спасло Павла от гибели — и сам Александр к этому руку приложил! Поэтому никак нельзя было обольщаться повсеместными выражениями восторга, а нужно было бороться и побеждать!
Александр, как грамотный и дальновидный политик, не стал рубить с плеча — ведь оставалась еще теоретическая возможность ошибки Шервуда, из карьеристских соображений желавшего раздуть дело. К тому же еще не выяснились никакие подробности.
Нужно было во всем разобраться, но сначала бежать из Петербурга, причем бежать без видимой паники и без демонстрации беспокойства и страха, чтобы возможные заговорщики не всполошились и не предприняли какие-либо поспешные действия, в последний момент не позволяющие обрести спасение!
Так родился замысел побега в Таганрог, смысла которого не поняли историки. Не заметили они и того, что Александр I, не решившийся пока полностью поверить Шервуду и не посмевший поделиться с ближайшими родственниками полученными предупреждениями, тем не менее предпринял шаги не только для своего индивидуального спасения, но и для спасения братьев.
А вот кто из современников разобрался в планах императора — это нам еще предстоит рассмотреть.
В предшествующие времена Александр совершал весьма продолжительные поездки и по Европе, и по России. Все они так или иначе связывались с серьезными внешнеполитическими или внутриполитическими делами или, по меньшей мере, со смотром военных поселений и различных войск. Поездка в Таганрог, поэтому, сенсацией быть не могла. Пункт назначения, правда, вызывал некоторые недоумения, но и на это нашлось официальное объяснение: царь сопровождал супругу, отправлявшуюся на лечение — кое-чему император учился и у младших братьев!
Правда, и в этом случае выбор был все же странноват: никто никогда не слышал, чтобы Таганрог был курортом; не стал он таковым и после! Но тогда можно было предполагать, что какие-то свойства Таганрога широкой публике пока еще не известны, да и диагноз болезни императрицы Елизаветы Алексеевны — врачебная тайна.
Некоторой странностью была и сама забота царя о супруге: уже много лет они жили раздельно. Нам ясно, что поправка здоровья была необходимым предлогом, но, возможно, чувства императора к жене все же какую-то роль играли. Все меняется: с 1823 года очевидцы стали отмечать улучшение отношений венценосной пары, а летом 1824 года Александр пережил смерть любимой внебрачной дочери…
Теперь Александр окружил жену теплом и заботой, и она очень отзывчиво на это реагировала.
Разумеется, выбор Таганрога совершенно обоснован, если речь шла о спасении жизни императора. Конечно, на такую роль годились и другие города, вроде Урюпинска из анекдота советского времени, который мы позволим себе напомнить: вступительный экзамен в вуз; принимают, как положено, два экзаменатора; один из них ставит вопрос абитуриенту:
— Расскажите нам, что вы знаете о Марксе.
— Ничего не знаю.
— А кто такой Энгельс?
— И его не знаю.
— А Ленин??
— Тоже не знаю!
— А откуда вы сами взялись??? — спрашивает пораженный экзаменатор.
— Из Урюпинска.
Экзаменатор задумывается, а затем обращается к напарнику:
— Коллега, а не поехать ли нам с вами в Урюпинск?
В таком городке заведомо не было заговорщиков — делать им там заранее было просто нечего, а любое их появление (как грозился, например, Артамон Муравьев — о чем будет рассказано) тут же бросилось бы в глаза в месте, отнюдь не избалованном визитами приезжих.
С этой точки зрения никак не подходили ни известные и действительно полезные курорты на родине, ни заграница. У столичных вельмож, как и у самой царской семьи, за границей имелось изрядное число знакомых и родственников, а полицейские меры не могли эффективно осуществляться Александром и его окружением на чужой территории. Провести там террористический акт было так же легко, как просто плюнуть. Совсем в недавние времена, как упоминалось, в Германии в 1819 году был убит А.Коцебу, считавшийся агентом лично императора Александра I. Позже поляки в продолжении ХIХ века неоднократно пытались это проделать и с царем Александром II, и с царскими сановниками.
Так или иначе, но объявление о поездке в Таганрог панического характера не носило, сборы были спешными (как того требовало пошатнувшееся здоровье императрицы), но не чрезмерно, и оставалось время, чтобы осуществить меры, предварившие путешествие.
Последние оказались совершенно беспрецедентными: по приказу императора срочно были выстроены дороги, по которым он смог объехать все крупные города между Петербургом и Таганрогом. Это было воспринято публикой как нелепая прихоть, к проявлениям которой Александр успел приучить окружающих. Вот и в этот раз поднялось ворчание, что бессовестная эксплуатация крестьян, которых и обязали строить местные участки этих дорог, была использована зазря: после того, как проехал царь по хорошей погоде в начале сентября 1825 года, все эти наскоро сооруженные дороги были уничтожены осенними дождями.
Но в этот раз не было и намека на прихоть: нужно было избежать привычных манифестаций населения, спонтанно возникающих безо всякого поощрения местных властей и чреватых появлением неожиданного убийцы из толпы! Ведь любой встреченный дворянин представлял потенциальную опасность до тех пор, пока Александр не разберется досконально в составе заговорщиков — это и было его первоочередной целью.
Затем, в результате проведенной разведки, последовали бы неизбежные карательные меры — в этом можно не сомневаться, ибо именно так и стали развиваться события в октябре-ноябре 1825 года. Это был прямой аналог действиям Ивана Грозного и Петра Великого, покидавших в свое время столицу с такими же целями (правда — не столь далеко и надолго).
Александр прихватил с собой как бы полевую ставку во главе с генералами И.И.Дибичем, П.М.Волконским и А.И.Чернышевым, благодаря чему обладал действенным аппаратом, способным проводить любые мероприятия через голову и правительства в Петербурге, и даже через голову Аракчеева, формально занимавшего пост всего лишь командующего военными поселениями, но вместе со своим аппаратом выполнявшего гораздо более широкие функции.
Граф Витт, узнав о предстоящем переезде императора в Таганрог, 13 августа решился послать письмо непосредственно к последнему с просьбой об аудиенции для сообщения об обнаруженном заговоре.
Письмо пришло в Петербург за несколько дней до отъезда Александра. Разумеется, Витту было послано приглашение явиться для доклада.
Вот после этого Витт, которому деваться стало больше некуда, снова насел на Бошняка, а тот сумел растопить лед недоверия заговорщиков — тогда и состоялась описанная последним беседа с Лихаревым.
Бошняк, по-видимому, вполне владел даром убеждать и переубеждать людей. Давыдов и Лихарев не только пообещали Бошняку организовать встречу Витта со всем руководством заговора в январе 1826 года во время следующих киевских «контрактов», но и выдали, как известно, двойную игру Киселева!
Почему это сошло последнему с рук — к этому интересному вопросу мы еще вернемся!
Имея план ареста всех заговорщиков в январе 1826 года, Витт уже мог смело предстать перед царем в Таганроге.
Интересно, что любые неурядицы на службе сразу заставляли заговорщиков вспоминать свои радикальные замыслы. В последний раз это произошло в конце августа 1825 года и вроде бы никак не связано с таганрогской поездкой царя. Просто упоминавшегося Повало-Швейковского по какой-то причине сместили с командования полком. В Лещинах под Киевом, где стоял в летних лагерях их корпус, состоялось серьезное совещание Васильковской управы.
С.И.Муравьев-Апостол рассказывал: «решились опять действовать. Совещание о чем было на квартире Швейковского, где были Швейковский, Тизенгаузен, Муравьев Арт[амон], Бестужев[-Рюмин] и я. Мы предложили Швейковскому начать действие, овладев корпусным командиром и начальником штаба, что было всеми принято. Бестужев должен был ехать уведомить о сем Южную управу. При совещании сем Артамон Муравьев предложил ехать сам в Таганрог истребить государя; но ему сказали, что присутствие его нужно в полку. На другой день Швейковский упросил намерение взятое отложить, и /…/ было положено Бестужеву уже не ехать, а действие начинать при первом удобном случае, но никак не пропуская 1826 года. В продолжение же лагеря при открытии Славянского общества были из оного приготовлены несколько человек, для отправления в Таганрог для истребления государя, буде на то необходимость встретится. /…/ Артамон Муравьев один вооружился против отсрочки действия и /…/ приезжал ко мне в Васильков опять с предложением начинать; иначе, говорил, что он один в Таганрог отправится. Мы его остановили, говоря, что как уже решено не пропущать будущего года, то удобнее дожидаться назначенного смотра трех корпусов. После сего общество осталось некоторое время без действия, и тогда узнали о смерти государя».
В общем, как в еще одном известном анекдоте:
— Опять в Париж хочется!
— А вы там уже были?
— Нет, но уже хотелось.
Разумеется, к подобному рассказу никак нельзя относиться всерьез: что это за решение действовать, если на другой день один из участников добивается его отмены, а второй, посланный для приведения к готовности сообщников в других гарнизонах, до этого момента и не сдвигается с места!
Однако, данный анекдотический эпизод послужил толчком для реанимации опасных планов, намечавшихся на 1826 год.
Перед отъездом Александр предпринял фундаментальную чистку собственной канцелярии, которую осуществил вместе с князем Голицыным, о чем имеется красочный рассказ М.А.Корфа: «Незадолго перед назначенной, в осень 1825 года, поездкою в Таганрог, он признал нужным разобрать свои бумаги. Разбор их производился князем А.Н.Голицыным, в кабинете государя и всегда в личном его присутствии. Однажды, при откровенных беседах во время этой работы, Голицын, изъявляя несомненную надежду что государь возвратится в столицу в полном здоровье, позволил себе, однако, заметить, как неудобно акты, изменяющие порядок престолонаследия, оставлять, при продолжительном отсутствии, необнародованными и какая может родиться от того опасность в случае внезапного несчастия. Александр сперва, казалось, был поражен справедливостью замечаний Голицына; но, после минутного молчания, указав рукой на небо, тихо сказал: «Положимся в этом на Бога: он устроит все лучше нас, слабых смертных!»».
Мы дадим собственную трактовку этому известному эпизоду.
Неожиданный для Александра довод Голицына о крайнем неудобстве неразрешенного вопроса о престолонаследии не приходил в голову царя по той простой причине, что Александр просто не планировал умирать. Наоборот: он собирался производить следствие, вершить правосудие и осуществлять расправу над виновными. Объявлять публично о новом наследнике престола до завершения этого процесса было рискованно: все еще оставалась возможность того, что кто-то из его братьев замешан в заговоре, который он пока только собирался разоблачать.
Осенью 1825 года миновало уже более пяти с половиной лет после последних попыток царя предпринять реформаторские шаги. Это приводило в угнетенное состояние духа государственно мыслящих россиян — к какому бы политическому лагерю они ни принадлежали: вспомним, например, цитированное письмо Е.Ф.Канкрина к Аракчееву, относящееся именно к этому времени. Не прибавила надежд и поездка императора в дальний путь для лечения жены.
28 августа Александр I более трех часов беседовал с Н.М.Карамзиным. Прощаясь, знаменитый историк позволил себе такую вольность: «Государь! Ваши годы сочтены. Вам нечего более откладывать, а вам остается еще столько сделать, чтобы конец вашего царствования был достоин его прекрасного начала».
Учитывая, что началом было цареубийство, Карамзин как в воду глядел! — заметим мы. Александр же с одобрением кивнул и заявил, что непременно «все сделает: даст коренные законы России».
В тот день император еще с оптимизмом смотрел в свое будущее и будущее России. Но когда в октябре в Таганрог пришло послание Н.С.Мордвинова: «Благолепное преображение великой Империи Российской зависит единственно от решительной воли монаршею доверенностью облеченных лиц, которая бы, не убоясь затруднений, смело приступила к раскрытию нового светлого ее вида, отвращая тщательно все, что застесняет оный и что всеобщему благоденствию расцвесть воспрещает» — то едва ли уже такие намеки и призывы могли найти хоть малейший отклик у Александра!
В ночь на 2 сентября 1825 года, помолившись на прощанье в Александро-Невской Лавре, царь выехал из столицы — один, без свиты, практически украдкой!
Еще раньше, 30 августа, столицу покинули великие князья Николай и Михаил. Первый из них выехал в служебную командировку по инженерной части в Бобруйскую крепость и вернулся в октябре — до начала политических потрясений, а второй направился в Варшаву — гостить к брату, и возвратился в Петербург только в декабре.
Нет никаких данных о том, что Александр предупредил братьев о грозящей опасности. Но, поскольку поездки обоих совершались если не напрямую по его инициативе, то наверняка с его санкции, то нужно считать, что он целенаправленно постарался обеспечить их безопасность: мужская половина царской семьи рассыпалась в стороны как зайцы, максимальным образом усложнив задачу охотникам!
В наиболее угрожаемое положение влип Николай: ему предстояло скорое возвращение в столицу. Его можно было дополнительно предупредить позднее, но Александр этого как будто не сделал — и, как показала жизнь, Николаю действительно пришлось круче всех! Не исключено, что он сам оказался в том виноват, хотя нет данных, чтобы объективно обосновать такую возможность. Но, быть может, Николаю предстояли и другие какие-то служебные поручения вне столицы, а он, вместо этого, предпочел караулить трон, прослышав о болезни императора…
Миновав перед рассветом пригороды Петербурга, Александр I приказал кучеру остановиться: его внимание привлекла комета, отчетливо видимая над горизонтом — с четверть часа он смотрел на нее и на оставленную позади столицу. «Видел ли ты комету?» — спросил он затем у кучера. Тот подтвердил. «Знаешь, что она предвещает?» Не дожидаясь ответа, сам произнес: «Бедствие и горесть» — и добавил, помолчав: «Так Богу угодно!»
Елизавета Алексеевна выехала из столицы через два дня вслед за мужем, но не спешила так, как ее взволнованный супруг. Она доехала до Таганрога на десять дней позже него — 23 сентября.
Вскоре после отъезда императорской четы должен был срочно уехать в Грузино Аракчеев — об этом подробнее ниже.
Петербург, таким образом, оказался в безраздельной власти графа Милорадовича.
12 сентября состоялось еще одно знаменательное событие: из Петербурга в продолжительный (четырехмесячный) отпуск выехал Н.М.Муравьев. В солицу он вернулся только 25 декабря — уже под арестом и конвоем. Все бурные события осени и начала зимы 1825 года в Петербурге происходили, таким образом, при отсутствии признанного главы «Северного общества»!
Еще до отъезда Никита Муравьев развивал изрядную активность, главным образом — в отношении цареубийственных намерений Якубовича. Он отправил письмо к С.П.Трубецкому, предупредил через фон-дер Бриггена «Южное общество», а сам обязался уведомить сообщников в Москве. Трубецкой, приехавший позже в Петербург, крайне скептически оценил решимость Якубовича.
В Москве, куда незадолго до того переместились такие прежде энергичные деятели как А.А.Пущин и С.М.Семенов, ни они сами, ни другие заговорщики уже не имели пыла, чтобы поддерживать налаженную деятельность организации; Оболенский, побывав там в прошедшем феврале, мог в этом убедиться. Не слишком оживил ветеранов и приезд Муравьева.
Проведя беседы с москвичами и со специально вызванным из имения М.А.Фонвизиным, Никита получил полное сочувствие к своему отрицательному отношению к цареубийству. Фонвизин при этом, как вспоминал Муравьев, произнес по существу надгробное слово Тайному обществу: «хотя он уверен в душе своей, что Якубович не исполнит сие, но что долг наш ему в том воспрепятствовать. Сверх того, прибавил он, общество, по моему мнению, может сделать только хорошую вещь — разойтись и посоветовать своим членам заняться исполнением своих семейных обязанностей».
Специальную беседу Муравьев провел с отставным генералом М.Ф.Орловым, рассказав ему об общей политической ситуации, росте недовольства публики, слухах о предстоящем переводе гвардии на военное поселение (очередная антиправительственная выдумка!) и планах Тайного общества. Целью беседы, по-видимому, было склонить Орлова возглавить организацию. Но Орлов от этого уклонился, явно не испытывая энтузиазма.
Складывается впечатление, что Никита Муравьев собирался выйти в отставку с поста руководителя заговора и искал подходящего заместителя, которому мог бы передать все дело на ходу — вместе с бомбой замедленного действия в лице Якубовича. Иначе зачем было бы рассказывать про террориста и якобы искренне осуждать его намерения, если Муравьев затем и пальцем не пошевелил, чтобы довести также оказавшееся отрицательным мнение москвичей до соратников в Петербурге и до самого Якубовича? Ведь после бесед в Москве Никита преспокойно отправился далее в отпуск по своим делам! К мотивам такого поведения мы еще вернемся.
Возможно, что искомого заместителя Муравьев действительно нашел — в лице Пущина, прежнего члена столичной Думы; о действиях последнего во время междуцарствия и в самый день 14 декабря мы расскажем ниже.
Выбытие Муравьева из состава столичной Думы было официально оформлено. Вместо него в дополнение к Рылееву и Оболенскому был избран А.А.Бестужев — один из четверых братьев-заговорщиков, ближайший сотрудник Рылеева по их знаменитому альманаху «Полярная Звезда».
Еще до женитьбы Никиты Муравьева на дочери миллионера его семейные владения были разбросаны по четырнадцати уездам одиннадцати губерний. Все они теперь представляли собой хозяйственную проблему: выплата оброка, как упоминалось, повсеместно сократилась!
Объехать все имения было непросто, и Никита ограничился главнейшим. Как раз из этой поездки он писал к жене: «Я начал актами милости и приказал выпустить 5 крестьян, посаженных в исправительный дом за непослушание и неплатеж оброка. /…/ Я убежден, что ты смеялась бы до слез, присутствуя при моих проповедях к крестьянам. Иногда я громлю их, иногда забавляю их шуткою и заставляю их смеяться, минуту спустя я действую на их чувствительность и слышу и вижу, как плачут старики, тогда как молодежь остается твердокаменной. Через каждые четверть часа какой-нибудь крестьянин отделяется от всей группы и подходит положить на стол некоторую сумму денег, соглашаясь со справедливостью высказанных мною суждений», — сцена, достойная «Мастера и Маргариты» М.А.Булгакова!
Брат жены Муравьева, Захар Чернышев, двадцативосьмилетний ротмистр-кавалергард, не привыкший обременять себя ни размышлениями, ни заботами, вышел в отпуск одновременно с Муравьевым, но сразу прямиком направился к родителям в Тагино — любимое поместье Чернышевых на Оке возле Орла. Чуть позже туда приехала Александрина — жена Никиты.
В октябре 1825 года вояж Муравьева по имениям завершился, возможно — преждевременно: из-за болезни (хотя Н.М.Дружинин утверждал, что болезнь была фиктивной). Из Нижегородской губернии он приехал к родственникам и тоже загостил в Тагине.
Как оказалось, там на них уже был поставлен капкан.
Жизнь в Таганроге текла размеренно и скучно и начинала, по-видимому, раздражать царя, ожидавшего, но пока еще не получавшего крайне интересующие его сведения.
Тем более примечательно сообщение Елизаветы Алексеевны о его дальнейших планах. 8 октября 1825 в письме к своей матери императрица писала из Таганрога: «Я попросила его недавно сказать мне, когда он рассчитывает вернуться в Петербург /…/. Он ответил мне: «Как можно позже, я еще посмотрю: но во всяком случае не раньше нового года». Это привело меня в прекрасное расположение духа на весь день…»
На следующий день или через день Александр рискнул поехать в Новочеркасск и посетил еще несколько селений Войска Донского; 14 октября вернулся в Таганрог.
Наконец, приехал граф Витт. Он был принят императором в Таганроге 18 октября 1825 года. Витт изложил суть собранных сведений и получил санкцию на арест заговорщиков в Киеве в январе 1826 года.
Дибич то ли присутствовал при их беседе, то ли сам отдельно разговаривал с Виттом: так следует из сообщения Дибича в его письме в Петербург от 4 декабря 1825 года — подробнее о нем ниже.
Как мы знаем, сведения Витта не отличались обширностью. По существу к известному ему имени Вадковского царь мог присовокупить только два новых — Давыдова и Лихарева; все трое были явно второстепенными участниками заговора. Но ценность сообщения Витта была не в этом: учитывая его столкновения с Аракчеевым, информация Витта была совершенно независима от прежнего источника — пары Шервуд-Аракчеев.
Кроме того, Витт, несомненно, подтверждал программные цели Пестеля, а в переложении Лихарева и Бошняка они должны были выглядеть не менее грозно, чем лозунги Вадковского, сообщенные Шервудом.
Это значило, что заговор действительно существует, весьма обширен и представляет крайнюю опасность!
Александр был потрясен. Ему хотелось скрыть это от окружающих и успокоиться самому. Поэтому он решил воспользоваться приглашением графа М.С.Воронцова, 20 октября с небольшим конвоем покинул Таганрог и направился в Крым.
Странно, что о беседах императора с Воронцовым в тот критический момент существенных сведений вроде бы не сохранилось… Но в положении Александра вполне было уместно отпустить пару почти незначащих намеков и проследить за реакцией собеседника…
Среди сопровождавших императора был Яков Васильевич Виллие (или Виллье) — отнюдь не второстепенный персонаж российской истории. Он родился в Шотландии в 1765 году, баронет, приехал в Россию в 1790 году и дожил до 1854 года. Вышел в высокие чины: действительный тайный советник, лейб-медик Александра I, с 1806 года — главный медицинский инспектор русской армии, президент Петербургской медико-хирургической академии в 1808–1838 гг. Самое интересное, что в 1801 году он был хирургом Семеновского полка, состоял в заговоре и вошел в спальню Павла I вслед за убийцами. Он засвидетельствовал смерть Павла и накладывал грим на его лицо, скрывая нанесенные увечья.
После теплого Южного берега при подъезде к Севастополю 27 октября Александра продуло неожиданным холодным ветром, и он простудился. Болезнь текла сначала вяло и на планах дальнейшего маршрута не отразилась: 28 октября — Бахчисарай, 1 ноября — Евпатория, 2 ноября — Перекоп, но 4 ноября под Мариуполем у Александра начался озноб. Однако 5 ноября конец путешествия и возвращение в Таганрог принесли улучшение: «Несколько дней Александру было как будто лучше, в ночь с 8 на 9 ноября показался обильный пот, и врачи начали надеяться на благополучный исход болезни» — пишет великий князь Николай Михайлович.
Словом, как будто обычная простудная история.
Собирались ли заговорщики из Васильковской управы и в 1826 году действовать под Белой Церковью столь же «решительно», как в 1823 году в Бобруйске и в августе 1825 в Лещинах — неизвестно и выяснить невозможно. Факт тот, что несколько раз возникавшее побуждение к восстанию оказалось своеобразным психологическим треннингом и игровой репетицией: когда в декабре 1825 года возникла ситуация, потребовавшая немедленных решений, то Сергей Муравьев-Апостол и его ближайшие соратники действительно подняли мятеж!..
Осенью 1825 года наблюдалось достаточно серьезное отношение к выступлению в следующем году. Напоминаем, что Пестель и Юшневский решительно забраковали этот план еще на совещении «Южного общества» в январе 1825. Теперь, осенью того же года, Пестель, оповещенный Бестужевым-Рюминым, уже не возражал. Но это еще ни о чем не говорит: на него, как упоминалось, нашла апатия.
Более важно, что С.П.Трубецкой вроде бы сумел столковаться с С.И.Муравьевым-Апостолом за спиной Пестеля о компромиссе: северяне поддерживают выступление южан и провозглашение республики, а южане отказываются от аграрной программы Пестеля; фактически это оказалось и за спиной Никиты Муравьева, покинувшего столицу!
Трубецкой, направляясь в конце октября 1825 года в служебную командировку в Петербург, вез этот план на утверждение руководством «Северного общества». А вот чем завершилось обсуждение этого плана в Петербурге — неизвестно! Последовавшие затем события в столице совершенно затушевали этот момент.
Витт, вдохновленный полученным одобрением Александра I, вернулся восвояси.
Бошняк, на которого он сразу насел, собрался немедленно активизировать переговоры с заговорщиками. Витту и Бошняку, возможно, удалось бы решить судьбу Тайного общества уже в ближайшее время, но неожиданные обстоятельства этому воспрепятствовали.
Через два дня после возвращения, то есть примерно тогда, когда нежданный-негаданный ветер продул императора Александра, Витт свалился в сильнейшей «горячке»: не иначе как и его зацепило тем же ветром! Бошняк остался дежурить у его постели. Дней через семь или девять, как вспоминал Бошняк, Витту стало заметно лучше.
Бошняк его оставил, отправился в свое имение и в течение нескольких следующих дней возобновил встречи с заговорщиками, которым расписал мнимые подробности холодного приема Витта в Таганроге, а потому крайнюю заинтересованность последнего в ускорении переворота. Это будто бы вызвало энтузиазм Давыдова и Лихарева, подтвердивших свои намерения теснейшего сотрудничества с Виттом.
Но вдруг уже Бошняк опасно занемог и слег, по его словам, недвижим! Давыдов и Лихарев заботливо навещали его. В таком-то положении Бошняк узнал, что Витт, которого он оставил вроде бы почти здоровым, оказывается, совсем умирает! Едва обретя способность двигаться, Бошняк выехал назад к Витту — тот тоже постепенно оживал; теперь продолжили выздоравливать вместе…
На все это ушел уже целый месяц, и в таком состоянии застала их обоих весть о смерти царя. Витт и Бошняк выкарабкались из болезни и окончательно физически оправились лишь позднее того, как без их участия завершился полный разгром Тайного общества.
Бошняку в ближайшее время еще раз предстояло сыграть роль тайного агента. После 14 декабря его грамотные и толковые действия получили одобрение высшего начальства, а ему самому предложили летом 1826 года навестить в качестве тайного соглядатая пребывавшего в своем имении А.С.Пушкина и выяснить, насколько последний замешан в заговоре.
Бошняк справился с поставленной задачей. Под видом «ботаника» он заявился к Пушкину и его соседям, и, преследуя «научные интересы», собрал массу сведений. Бошняк категорически отверг предположение о виновности поэта — и это сыграло немалую роль в судьбе последнего.
Возможно, это было не совсем то, на что рассчитывало начальство, и на этом секретная карьера Бошняка благополучно завершилась. Он прожил относительно недолго и умер в 1831 году в возрасте 45 лет.
Витт сохранил свое начальствующее положение, но не выдвинулся в число первых лиц империи. Он скончался в 1840 году в возрасте 59 лет.
К зловещей истории болезни Витта и Бошняка мы еще вернемся.
Тагино было совсем рядом с Курском — по российским меркам, конечно. А в Курске, как известно, служил двоюродный брат Захара Чернышева и Александрины Муравьевой Федор Вадковский, с которым Шервуд уже разыгрывал свои опасные игры.
Вдохновленный приездом близких родственников — в том числе главы «Северного общества» Никиты Муравьева, Вадковский решил сыграть выдающуюся роль: объединить все три тайных общества («Северное», «Южное» и военнопоселенческое, существующее исключительно в воображении Шервуда и Вадковского) в одну грозную силу. С этим он и заявился в Тагино.
Как на это реагировал Никита Муравьев — толком неизвестно, но едва ли пришел в восторг; возможно, он действительно был болен в эти дни.
Зато пришли в общий восторг Захар Чернышев и сам Вадковский. Последний тут же решил поделиться своей грандиозной идеей и с Пестелем, и с Шервудом.
Пестелю «историческое» донесение так и не было послано — в ближайшие дни не нашлось подходящей секретной оказии, а обычной почте свои послания заговорщики резонно не доверяли. Для этого случая Вадковский решил организовать целую экспедицию — в стиле всех прочих его начинаний: сообщение должен был отвезти Захар Чернышев в Одессу и передать его поручику графу Н.Я.Булгари, а уже тот доставить к Пестелю. Но Захар не смог выехать из-за внезапной болезни матери, хотя впоследствии за это неисполненное обещание получил каторжный приговор.
А вот Шервуд получил-таки подарок от вернувшегося из Тагина Вадковского.
Названные последним имена — Никита Муравьев, Захар Чернышев и Петр Свистунов (остающийся в столице преемник Вадковского на посту главы филиала «Южного общества» в Петербурге) — были немедленно отосланы начальству.
Очевидно, сиюминутное местонахождение Муравьева и Чернышева осталось Шервуду неизвестным — это отсрочило их арест, который иначе мог произойти значительно раньше 14 декабря. Но зато сообщались какие-то подробности невыполненной миссии З.Г.Чернышева и Н.Я.Булгари, о которой последний даже не подозревал.
Граф Аракчеев, если не находился в инспекционных поездках, то обычно попеременно пребывал или в Петербурге, или в своем Грузине в Тихвинском уезде Новгородской губернии — достаточно неподалеку от столицы. Вскоре после отъезда царя в Таганрог, как упоминалось, Аракчеев умчался в Грузино.
Там случилась трагедия: кем-то была убита Настасья Минкина — постоянная крепостная любовница Аракчеева, жутко издевавшаяся над прислугой.
Поскольку она зверствовала уже не одно десятилетие, то этот эпизод определенно просится в компанию странных событий той осени, происходивших в разнообразных местах. Вместе с Аракчеевым в Грузино ворвался настоящий ужас: «Обезумевший от горя Аракчеев неистовствовал, предавал истязаниям огулом всю свою дворню, плакал, стонал, носил на шее платок, смоченный кровью убитой, и, не спрашивая на то ничьего разрешения, самовольно отстранился от всех дел» — рассказывает А.А.Кизеветтер.
Хотя виновным, как вроде бы в конечном итоге выяснилось, оказался грузинский повар, но для его обнаружения понадобилось почему-то вывести «следствие» за переделы селения — в самый Новгород, на что была получена санкция императора. Александр написал к Аракчееву: «Объяви губернатору мою волю, чтобы старался дойтить всеми мерами, не было ли каких тайных направлений или подущений» — как видим, и царю убийство представилось отнюдь не бытовой трагедией…
Вот как о последующем повествует А.И.Герцен, служивший в Новгороде шестнадцатью-семнадцатью годами позднее, и записавший рассказы очевидцев:
«Преступление было так ловко сделано, что никаких следов виновника не было.
Но виновный был нужен для мести нежного старика; /…/ виновные не открывались: русский человек удивительно умеет молчать.
Тогда, совершенно бешеный, Аракчеев явился в Новгород, куда привели толпу мучеников. Желтый и почернелый, с безумными глазами и все еще повязанный кровавым платком, он начал новое следствие; тут эта история принимает чудовищные размеры. Человек восемьдесят были захвачены вновь. В городе брали людей по одному слову, по малейшему подозрению, за дальнее знакомство с каким-нибудь лакеем Аракчеева, за неосторожное слово. Проезжие были схвачены и брошены в острог; купцы, писаря ждали по неделям в части допроса /…/.
Губернатор превратил свой дом в застенок, с утра до ночи возле его кабинета пытали людей. /…/
«Благословенный» Александр умер. Не зная, что будет далее, эти изверги сделали последнее усилие и добрались до виновного; его, разумеется, приговорили к кнуту. Средь торжества следопроизводителей пришел приказ Николая отдать их под суд и остановить все дело».
Ниже мы попробуем объяснить возможную подоплеку этого мрачного цирка; особенно — перенесения следствия в Новгород.
Сообщникам Аракчеева по следопроизводству грозили немалые кары — тем более, что Николай I убрал Аракчеева в отставку; об этом тоже подробнее ниже. Но никто из злодеев наказан не был: их подвели под амнистию, объявленную по случаю коронации Николая.
Несмотря на столь «смягчающие обстоятельства», поведение дисциплинированного министра по отношению к неизменно почитаемому им высшему начальству в этот период выглядит весьма экстравагантно: сначала он в ответ на послания Александра I, сочувствовавшего соратнику в постигшем его горе и усиленно зазывавшего его в Таганрог, «отписывался пошлыми письмами», как сформулировал Николай Михайлович. Затем Аракчеев долго никак не реагировал на весть о смерти императора, оттянув свой приезд в столицу до 9 декабря — дольше было некуда!
Да и в Петербурге он затем постарался ничем себя не проявить: навестив 9 и 10 декабря членов царской фамилии и выразив им соболезнование, он снова как бы растворился. Он присутствовал на заседании Государственного Совета в ночь на 14 декабря, когда Николай Павлович объявил о вступлении на престол, но, помимо этого, Аракчеев почти не упоминается во всех многочисленных воспоминаниях об экстраординарных событиях тех дней.
Очевидно, Аракчеев прекрасно понимал, что происходит, и решил самоустраниться. Это подтверждает, что прежнее недоверие Александра I к своему главному помощнику имело какие-то весомые основания.
Данному предположению несколько противоречит описанный эпизод с направлением доносчика Шервуда к царю — и это особенно интересно. Заметим, однако, что эпизод этот происходил в июне-июле, а известные события в Петербурге разразились существенно позднее: и Аракчеева за прошедшее время вполне могли просветить, и сам он имел возможность поразмыслить, а ведь глупость ему была совершенно несвойственна! И как раз дальнейшее поведение Аракчеева в деле с Шервудом в наибольшей степени бросает на него тень подозрения.
Оказывается, Шервуд, проникнув в замыслы Вадковского, прислал об этом донесение снова именно Аракчееву, прося последнего срочно прислать кого-нибудь доверенного в Харьков, где Шервуд мог бы устно изложить подробности, которые не решался доверить почте. Аракчеев же на это послание никак не реагировал. Шервуд, прождав десять дней, лишь затем обратился непосредственно к царю в Таганрог.
«Не будь этого промедления, — утверждал позже Шервуд, — никогда бы возмущения 14 декабря на исаакиевской площади не случилось; затеявшие бунт были бы заблаговременно арестованы. /…/ не знаю, чему приписать, что такой государственный человек, как граф Аракчеев, которому столько оказано благодеяний императором Александром I и которому он был так предан (!!), пренебрег опасностью, в которой находилась жизнь государя и спокойствие государства, для пьяной, рябой, необразованной, дурного поведения и злой женщины: есть над чем задуматься».
Воспользуемся советом Шервуда, но несколько позднее.
Сообщение Шервуда Александр I получил в Таганроге через пять дней после возвращения из Крыма. Едва ли кто в его отсутствие вскрыл бы это послание, если бы оно пришло без задержек. Аракчеев, таким образом, отсрочил разоблачение заговора только на пять суток.
В тот же день, 10 ноября 1825 года, царь отдал приказ Дибичу немедленно арестовать Вадковского. Самому Шервуду было послано распоряжение усилить разведывательные действия.
Елизавета Алексеевна писала в этот день в дневнике о муже: «Он должен был принять лекарство утром. /…/ Я отправилась на прогулку, возвратилась, окончила свой обед, а он все еще не присылал за мной. Я начала беспокоиться — приказала позвать Виллие. Виллие пригласил меня пройти к нему, и я нашла его лежащим в уборной на кровати: голова была очень горяча, однако он меня увидел и сказал: «Я за вами не посылал сегодня утром, потому что я провел ужасное утро, благодаря этому противному лекарству; у меня были боли в сердце, я должен был постоянно вставать, из-за этого я так ослабел»».
Пять лет назад, после бунта семеновцев и доноса Грибовского, царь держал в руках нить, способную распутать клубок заговора, но умелый игрок, граф Милорадович, выхватил ее из его рук. Сейчас снова в его руках оказалась нить, но кто держал за другой ее конец — этого царь еще не знал. Хватит ли у него теперь сил потянуть за нее и вытянуть спасение себе? В этом, во всяком случае, очень сомневался граф Аракчеев!
Новейшие сведения довершили формирование у Александра представления о масштабе и силе Тайного общества. Стоило царю выбраться из-под колпака, явно сооруженного заговорщиками в столице и распространенного на все местности и учреждения, с которыми ему приходилось ранее иметь дело, как тут же сведения о заговоре посыпались как из рога изобилия. Естественно, предположение о том, что он окружен заговорщиками, переросло у Александра в полную уверенность.
Интереснейший вопрос состоит в том, доверял ли он взятым с собой Дибичу, Волконскому и Чернышеву, предпочтя их своим вроде бы проверенным годами соратникам Аракчееву, Голицыну, Сперанскому и остальным? Ответ должен быть совершенно однозначным: нет, не доверял.
Доказательством этому является тот факт, что сведения о заговоре, скопившиеся у царя, названные царедворцы получили не непосредственно от него, а из его бумаг, разобранных после 1 декабря 1825 года, — и только тогда принялись энергично и самостоятельно действовать в направлении разоблачения заговора. Причем похоже, что Дибич и А.И.Чернышев (не родственник Захара Чернышева!) постарались обойтись без П.М.Волконского — атмосфера взаимной подозрительности была совершенно очевидной! А была ли она беспочвенной?
Ранее от царя к ним поступило лишь единственное распоряжение в отношении данного дела — упомянутый приказ об аресте Вадковского. Кроме того, Дибич был также посвящен в сообщение Витта (как отмечалось, он упомянул об этом в письме от 4 декабря, о котором ниже), но не получил и в связи с этим никаких ясных распоряжений, да информация Витта и не требовала немедленных действий.
Таким образом, задержка в разоблачении заговора достигла еще трех недель — вроде бы уже по вине самого царя, но никак не Аракчеева. Так случилось не по какой-то легендарной снисходительности к заговорщикам, а потому, что царь уже полностью утратил представление о том, кому же он может доверять!
Подозревая всех и каждого, Александр не мог торопиться и должен был прощупывать каждый свой шаг. Возможно, поэтому и не предпринял пока ничего для ареста Никиты Муравьева и двух его столичных товарищей, в которых тоже не должен был видеть первых лиц созревшего заговора. Тем более, что предположительно они должны были находиться в Петербурге; это было не совсем так (там оставался только один из них), но царь в тот момент знать этого не мог. Ворошить же столичное осиное гнездо царь вроде бы пока не решался. Даже ближайшим помощникам вроде бы не доверил он эту информацию!
Но не забудем и про состояние его здоровья в данный момент — оно отнюдь не способствовало энергичным умственным и физическим усилиям.
Какой же реальный выход был у человека, столь плотно окруженного врагами? Естественно — никакого. Точнее — почти никакого: его великий последователь, также окруженный врагами, дерзнул принять их действительный или мнимый вызов — и Советский Союз получил чудеса 1936–1939 гг., до сих пор ставящие в тупик «объективных» исследователей.
Александру I это оказалось не по плечу.
Теперь заметим, что в свете описанного приобретает совершенно новый смысл легенда о Федоре Кузьмиче, в которого якобы преобразился Александр, инсценировав свою мнимую смерть и бежав от трона.
Понятно, что графу Льву Николаевичу Толстому — такому знатоку человеческих и не только человеческих душ, одному из главных авторов теории загадочной русской души (об этом подробнее ниже), создателю бессмертных шедевров «Война и мир» и «Лев и собачка», данный сюжет пришелся очень по сердцу. Он весьма одобрил поступок императора, отметив, что особенность «русской народной души» состоит в том, что она «чужда страсти обогащения и захвата и льнет больше к чувству отречения и мира».
Возникает только недоуменный вопрос, какое же отношение почти чистый немец по крови и иностранец по воспитанию Александр I мог иметь к русской народной душе?! Надышался, что ли, русским духом?
Замечательное мнение Толстого почти не нашло единомышленников, а других серьезных версий, объясняющих добровольное исчезновение царя, не возникло, ибо, как сформулировано авторитетным современным специалистом — И.М.Пушкаревой, «никто не мог вразумительно ответить на вопрос, для чего это нужно было царю, в годы правления которого Россия прославила себя победой над Наполеоном, утвердив свой престиж в Европе» («Источник» № 6/19, 1994, с. 65).
Надеемся, что теперь никто не будет задавать вопрос, для чего это было ему нужно!
В середине ноября подвел итоги своей революционной деятельности П.И.Пестель. Он сжег наиболее опасные главы «Русской Правды», а остальные распорядился спрятать.
Пакет с его бумагами и документами его ближайших соратников А.П.Барятинского и Н.А.Крюкова был зарыт в землю сослуживцами последнего поручиками братьями Н.С. и П.С. Бобрищевыми-Пушкиными и подпоручиком Н.Ф.Заикиным неподалеку от Тульчина.
Некоторые предпочитают считать открытым вопрос, умер ли действительно Александр I 19 ноября 1825 года, скрылся ли из мира под видом Федора Кузьмича или еще как-нибудь по-другому. Почти наверняка ответ можно получить, вскрыв могилу Александра в Петропавловской крепости и произведя исследования, вполне доступные современным криминалистическим методам — но к чему такое кощунственное решение?
Очень похоже, что сердце Александра не выдержало тех испытаний, что свалились на него осенью 1825 года. Остановилось ли оно при этом или продолжало биться еще долгое время, подсказав как будто бы не слишком здоровому мозгу своего обладателя спасительный выход из сложившейся коллизии, — все это только вопрос личной жизни Александра, никак уже не влиявшего после 19 ноября 1825 года ни на дальнейшую судьбу России, ни на судьбы своих ближайших родственников.
На самом деле существует еще одна версия, которую мы считаем достоверной и изложим ее ниже.
Так или иначе, бесспорно одно: 2 сентября 1825 года Александр I, скрывшись из Петербурга, не смог ни убежать от преждевременного трагического завершения своего царствования, ни уберечь Россию от грядущих бедствий!
Не правда ли, закономерный конец карьеры царя-отцеубийцы?
В Таганроге Александра стал мучить страх отравления. Однажды он устроил скандал и заставил произвести расследование по поводу маленького камешка, попавшего в хлеб — насилу бедный пекарь сумел оправдать свою неумышленность!
11 ноября Елизавета Алексеевна писала в дневнике о муже: ««Хорошо, — сказал он, — побольше благоразумия, будем благоразумны»; он дал мне попробовать питье, которое, казалось ему, имеет какой-то посторонний привкус; я тоже находила это /…/. Вошел Виллие; он сказал ему про питье и сказал ему, что мы нашли; Виллие утверждал, что этого не может быть».
П.М.Волконский писал 12 ноября в письме к управляющему Министерством иностранных дел графу К.В.Нессельроде (пришло в Петербург 24 ноября): «Государь еще вынужден не покидать комнаты, но жар спал. Его величество еще испытывает время от времени небольшое повышение температуры, но она прекращается каждый раз, как наступает испарина. Виллье старается вызвать испарину, поскольку это является необходимым; я сообщаю вам эти подробности, чтобы вы могли опровергнуть все ложные слухи и успокоить общую тревогу».
Дальнейший ход событий в Таганроге выглядит следующим образом (снова воспользуемся книгой Николая Михайловича): «улучшение было только кажущееся, и в последующие дни лихорадка усилилась, слабость стала проявляться еще нагляднее при общем упадке сил, сон сделался тревожным, и замечалась сонливость в течение всех этих дней, очень смущавшая Виллие. 14 ноября Государь встал, хотел бриться, но с ним сделался обморок, продолжавшийся довольно долго. Врачи перепугались, а еще более Елизавета Алексеевна; больного окончательно уложили в кровать, с которой он более не поднимался».
В этот день, 14 ноября, Виллие записал в дневнике, что предложил царю лекарство, «но получил отказ, по обыкновению. «Уходите!» Я заплакал, и, видя это, он мне сказал: «Подойдите, мой милый друг. Я надеюсь, что вы не сердитесь на меня за это. У меня свои причины!»».
Со своей стороны напомним, что в те же самые дни наступило вторичное осложнение болезни графа Витта! Почему никому за сто семьдесят семь лет не пришло в голову сложить в единую картину все нагромождение жутких историй, происшедших в достопамятном 1825 году???
Николай Михайлович сообщает: «15 ноября Государь пожелал приобщиться Св. Тайн, которые были ему даны священником Федотовым, с которым он оставался больше часа наедине во время исповеди и причащения».
Но это еще был не конец: 17 ноября Елизавета Алексеевна писала в письме в Петербург: «Ему заметно лучше, но он очень слаб». В тот же день Виллие записал в дневнике: «Князь[П.М.Волконский] в первый раз завладел моею постелью, чтобы быть ближе к Императору, барон Дибич находился внизу». Если Волконский хотел помочь императору, то несколько запоздал!
Дневник Виллие на следующий день: «Ни малейшей надежды спасти моего обожаемого повелителя. Я предупредил Императрицу, князя Волконского и Дибича».
Николай Михайлович завершает трагический рассказ: «к утру 19 [ноября]положение ухудшилось, силы оставляли больного, дыхание было затрудненное, и все постепенно готовились к окончательной развязке. Около 11 часов утра Александра I не стало. /…/ Тело Императора было тщательно набальзамировано /…/.
Как акт о кончине Александра I, так и протокол вскрытия были подписаны находившимися при его кончине лицами, с тою разницею, что первый акт был подписан генерал-адъютантами князем Волконским и Дибичем и только двумя медиками, Виллие и Штофрегеном, а протокол — девятью врачами и скреплен подписью генерал-адъютанта Чернышева».
Согласно свидетельствам очевидцев, при вскрытии все «найдено здоровым, только в голове нашли 5 унций воды».
Фактически нужно считать, что диагноз болезни и смерти императора так и не был установлен. То, что пишет, например, Николай Михайлович: «специфическая форма горячки (тифозный вид запущенной лихорадки, по нынешним понятиям)» — всего лишь наукообразный набор слов — как для начала XIX века, когда умер Александр, так и для начала XX, когда писал Николай Михайлович.
Могут ли теперь врачи установить диагноз по столь невразумительным описаниям, но с учетом того, что Александр I, Витт и Бошняк болели скорее всего одной болезнью — только на двух последних лекарств, очевидно, не хватило?!
События ноября-декабря 1825 года продолжали, между тем, развертываться своим чередом — уж очень много людей было в них задействовано.
Разгром заговора начался еще Александром I, а решающим актом стал приход в Таганрог 1 декабря 1825 года доноса капитана Вятского полка А.И.Майбороды на полковника Пестеля. Последний сам завербовал своего подчиненного еще за год до этого.
Наряду с январскими киевскими «контрактами», 24 ноября было традиционным ежегодным днем сбора членов «Южного общества» в Каменке: это был Екатеринин день — день именин матери В.Л.Давыдова. Никаких подробностей про этот день 1825 года почему-то не сообщается — ниже мы попробуем это объяснить. Предположительно в этот день и состоялось избрание Сергея Муравьева-Апостола третьим членом «Южного» директората — в дополнение к Пестелю и Юшневскому. Но должно было произойти и еще что-то более важное.
Не случайно на следующий день, 25 ноября, Майборода, еще не слышавший о кончине императора, подал свое заявление, написанное на имя Александра I, непосредственно командиру 3-го пехотного корпуса генерал-лейтенанту Л.О.Роту — минуя, таким образом, самого Пестеля, заведомого заговорщика командира бригады С.Г.Волконского, а также и дивизионное начальство:
«Ваше императорское величество, Всемилостивийший государь!
Слишком уж год, как заметил я в полковом моем командире полковнике Пестеле наклонность к нарушению всеобщего спокойствия»…
В доносе значилось 45 имен и давалось обещание сообщить место хранения только что закопанной «Русской Правды».
Жизнь и смерть самого Майбороды сложились затем несладко: в 1844 году он покончил самоубийством — классический вариант судьбы иуды.
Рот, в свою очередь минуя Киселева, срочно отослал документ непосредственно в Таганрог: о смерти царя в украинских гарнизонах все еще не слыхали.
В силу понятного чрезвычайного положения, вызванного официальной кончиной Александра I, Дибич вскрыл письмо, адресованное императору. Тут же Дибич разобрал бумаги Александра и обнаружил и другие документы о заговоре.
4 декабря Дибич послал генерал-адъютанта А.И.Чернышева арестовывать Пестеля, а в Петербург ушло донесение Дибича о принятых мерах и сведения о петербургских заговорщиках — П.Н.Свистунове, З.Г.Чернышеве и Н.М.Муравьеве. Как нами упоминалось, присовокуплялось сообщение Дибича о сведениях Витта.
7 декабря П.М.Волконский писал из Таганрога к Г.И.Вилламову — секретарю императрицы-матери Марии Федоровны: «Мне необходимо нужно знать, совсем ли отпевать тело при отправлении отсюда, или отпевание будет в С.-Петербурге, которое, ежели осмеливаюсь сказать свое мнение, приличнее, полагаю, сделать бы здесь, ибо хотя тело набальзамировано, но от здешнего сырого воздуха лицо все почернело и даже черты лица покойного совсем изменились, через несколько же времени и еще потерпят; почему и думаю, что в С.-Петербурге вскрывать гроба не нужно и в таком случае должно будет здесь совсем отпеть, о чем и прошу вас испросить высочайшее повеление и меня уведомить через нарочного»!!!
О транспортировке гроба Николай Михайлович рассказывает: «При долгом следовании тела Государя по России до Петербурга, несколько раз осматривали положение усопшего в гробу, каждый раз с особого разрешения генерал-адъютанта графа [В.В.]Орлова-Денисова, на которого было возложено сопровождать останки Императора, и в присутствии всех сопровождавших лиц Государевой свиты, а также медиков».
Извиняемся за мрачный и циничный юмор, но не можем удержаться от реплики: несколько раз осматривали положение усопшего в гробу, чтобы проверить: не сбежал ли? И, как гласит легенда, ведь действительно сбежал!
Слухи об отравлении императора и почернении тела вырвались наружу. В Туле при следовании гроба пришлось разогнать толпу мастеровых, желавших вскрыть гроб и удостовериться, что же в нем. Затем обеспечению охраны уделялось повышенное внимание — и в Москве, и в Петербурге.
Процессия с гробом достигла сначала Царского Села, а затем и Петербурга только в конце февраля 1826 года. Неделю продолжались траурные обряды и доступ публики к закрытому (!) гробу. Погребение в Петропавловском соборе состоялось лишь 13 марта 1826 года.
Елизавета Алексеевна практически не перенесла смерти супруга. Она слегла, и так и оставалась в Таганроге, не в силах сопровождать перевозку гроба с телом мужа. 21 апреля она все же выехала из Таганрога, но 4 мая 1826 года умерла на пути в Петербург в Белеве — неподалеку от Орла.
Утром 13 декабря 1825 года Пестель был арестован в Линцах под Тульчиным. Если петербургские заговорщики действительно верили в готовность Пестеля выдать всех, то они могли считать, что заговор пришел к полному концу.
Конспираторам оставалось только тихо ждать ареста — именно так и вело себя подавляющее большинство членов тайных обществ, находившихся в провинции, включая и самых ярых инициаторов цареубийства. Вероятно, что так же повели бы себя и все остальные, если бы не грозные события, поразившие Россию.
Вопрос о задержании Н.М.Муравьева и З.Г.Чернышева был поднят Милорадовичем в Петербурге 12 декабря — после прихода письма Дибича от 4 декабря.
На тему о технических подробностях завязалась было целая дискуссия между Милорадовичем и московским генерал-губернатором князем Д.В.Голицыным, к чьей территории и принадлежало Тагино: последний явно не мечтал без должных оснований вламываться в имение одного из виднейших иерархов России и арестовывать в его присутствии его собственного зятя и единственного наследника-сына. Но основания тут же возникли: сначала в Москву пришла весть о восстании 14 декабря и гибели Милорадовича, а 16 декабря последовал категорический приказ об аресте названных заговорщиков и тщательном изъятии компрометирующих их бумаг, отданный А.Н.Потаповым — дежурным генералом Главного штаба, заместителем Дибича в Петербурге.
Арест Никиты Муравьева произошел в Тагине 20 декабря, а Чернышева — там же парой дней позднее (власти даже теперь еще колебались!). Но вот какие-либо бумаги Муравьева политического содержания обнаружены не были; у Захара Чернышева их и быть не могло!
Вот как это объясняет академик Н.М.Дружинин — автор солидного исследования, посвященного жизни и деятельности Муравьева: «На первом же допросе Н.Муравьев должен был ответить, в чем состояла его конституция и им ли одним была написана. «Написана была конституция мною одним, содержание оной было обширно и, буде желают, я оное изложу на бумаге» — таков был сжатый ответ Н.Муравьева. По-видимому, Н.Муравьев опасался, что [Следственный] комитет начнет поиски его проекта, и поспешил предупредить их следующим заявлением: «В Нижегородской губернии занемог я трудно, и как я при себе имел написанный проект конституции, то почел нужным его сжечь, что и исполнил». Вероятно, подлинный текст конституции действительно был сожжен Н.Муравьевым, но не в имении матери в Нижегородской губернии, а в Тагине — Чернышевых, немедленно после приезда жандармского офицера; в домашней обстановке орловской усадьбы у А.Г.Муравьевой была полная возможность быстро уничтожить компрометирующие бумаги. После увоза арестованных А.Г.Муравьева немедленно отправилась в Петербург и, по-видимому, постаралась и там заботливо изгладить всякие следы политической деятельности своего мужа. В приложении к следственному делу Н.Муравьева мы не находим никаких личных документов, изъятых при обыске. В бумагах Н.Муравьева, сохраненных его потомками, мы увидим разнообразные исторические и военные записки, но очень редко встретим обрывки отдельных политических записей. Обзор этого семейного наследства внушает определенную мысль, что из него сознательно изъяты малейшие намеки на политические интересы и занятия арестованного декабриста. Вероятно, спокойный и методический Н.Муравьев, застигнутый неожиданным арестом и предвидевший его неизбежные последствия, успел уничтожить руками своей жены все оставшиеся вещественные улики».
Кто же, кроме самого автора этой груды бумаг, мог безукоризненно точно разделить их на опасные и безопасные? И сколько времени для этого должно было потребоваться даже ему?
Совершенно ясно, что спокойный и методический Муравьев, предвидевший неизбежные последствия, сам успел уничтожить все оставшиеся вещественные улики. Он это сделал еще до отъезда из Петербурга в своем столичном доме, затем — в имении матери, где проводил немало времени в прошедшие годы и наверняка оставил немало записей (именно их уничтожение, а не комедия со сбором оброка, и было, по-видимому, главной целью поездки!), и, наконец, в Тагине, где едва ли дожидался для этого приезда жандармского офицера. Вот только последний эпизод не представляет интереса: ниже мы расскажем, кто именно предупредил Муравьева не менее чем за сутки до ареста — сведения об этом приведены в другой работе Дружинина, изданной за три года до того, как ему захотелось отметить фантастические заслуги А.Г.Муравьевой! Зато предшествующие поступки Никиты чрезвычайно любопытны!
Вместо того, чтобы объяснить такое, мягко говоря, странное предвидение (надо же, и у Пестеля случилось такое же и примерно в то же время!), советский историк изобретает Мату Хари в лице жены Муравьева, которая умудряется добраться из орловского имения в Петербург и уничтожить бумаги в доме, где обыск должен был быть произведен сразу после отдачи приказа об аресте Муравьева! Лучше уж придумать, что она их выкрала непосредственно из следственного дела или из личного сейфа Николая I — так даже интереснее!
Не меньшее внимание должно привлечь предположение Дружинина, что Муравьев опасался, что комитет начнет поиски его проекта, и поспешил предупредить это не чем-нибудь, а немедленным предоставлением требуемого текста — чтобы не искали! Вот с этим соображением следует согласиться. И дело было, разумеется, не в тексте конституции (написанный Муравьевым по памяти вариант вполне согласуется с сохранившимися экземплярами его черновиков и копий), а в том, где могут найти этот текст, если систематически примутся за поиски!? И что еще могут там найти!?
Ко всему этому нам еще предстоит возвращаться.
Внезапная смерть Александра или исчезновение, как гласит легенда, направили историю по совершенно особому руслу.
И вот тут-то четко выяснилось, что вовсе не был император Александр никаким сумасшедшим, страдающим манией преследования: официальное сообщение, пришедшее в столицу о его смерти, мгновенно инициировало осуществление государственного переворота, который, несомненно, не был импровизацией.
Может быть Александр и не понял, кто именно лично противостоял ему в качестве незримой и неслышной неотвратимой угрозы, но ее наличие этот гениальный политик и интриган ощутил и оценил совершенно безошибочно.
7. Государственный переворот 27 ноября 1825 года
Дибич, остававшийся при больном Александре I и после его смерти за главного в Таганроге, информировал курьерами царицу-мать в Петербурге и великого князя Константина Павловича в Варшаве; последнего Дибич, как и почти вся Россия, считал законным наследником престола.
Первые сведения о заболевании императора были отмечены в столице, согласно воспоминаниям и дневникам членов царской семьи, 22 ноября 1825 года, а в Варшаве — точно не известно когда (по причине, указанной парой строк ниже).
В Варшаве о смерти Александра I узнали 25 ноября 1825 года. В этот же день по официальным данным до Петербурга дошло лишь сообщение о серьезной опасности болезни, а о смерти — только 27 ноября.
Первую весть о болезни царя, равно как и последующие, Константин Павлович скрыл от окружающих (в числе их был, как мы помним, и великий князь Михаил Павлович), но впал когда-то тогда, по общему свидетельству, в тяжелую задумчивость, возраставшую со дня на день. На целые сутки вплоть до вечера 25 ноября он практически заперся от публики. Но в 7 часов вечера 25 ноября, получив извещение о смерти старшего брата, Константин немедленно объявил о кончине Александра I ближайшему окружению, а затем собрал руководство своей администрации — во главе с Н.Н.Новосильцевым.
Цесаревич поведал соратникам всю эпопею решения вопроса о престолонаследии, завершившуюся, как он ошибочно считал, письмом императора от 2 февраля 1822 года. Затем он высказал свое безоговорочное решение отказаться от престола, о чем и намеревался уведомить царицу-мать, будущего царя Николая Павловича и штаб Александра в Таганроге.
Ночь ушла на составление писем в Петербург и Таганрог, затем их начисто переписали, и под вечер 26 ноября с письмами в столицу самолично выехал Михаил Павлович.
Константин Павлович декларировал четкий отказ от трона — со ссылкой на разрешение принять самостоятельное решение, выданное ему императором Александром 2 февраля 1822 года. Еще, как мы помним, Константин просил младшего брата оставить ему титул цесаревича. К самому Николаю в этом же письме Константин обращался: Ваше величество. Свое послание Константин просил принять как присягу новому царю.
Согласно законам Российской империи, Николаю Павловичу необходимо было теперь объединить содержание всех документов, включая свежее послание Константина, в собственном Манифесте, провозглашающем вступление на престол и объявляющем о принесении присяги; затем должен был последовать соответствующий указ Сената, а уже позже — официальная коронация в Москве.
Таким образом, Константин Павлович, продолжавший воображать, что ему по-прежнему принадлежит право распоряжаться судьбой российского престола, распорядиться именно так, как этого требовал (или настойчиво просил) покойный Александр. Как видим, это далось Константину не без тяжкой внутренней борьбы — тем благороднее его решение!
Но независимо от этого в столице развернулись совершенно невероятные события.
Решающее сообщение о смертельной опасности болезни царя дошло до Петербурга, как упоминалось, 25 ноября: все члены царской фамилии, зафиксировавшие происходившее в своих личных дневниках и воспоминаниях, сходятся на этой дате.
Еще раньше, начиная с самого первого момента поступления сведений о болезни императора, ничего об этом официально не публиковалось — так распорядился военный генерал-губернатор С.-Петербурга граф М.А.Милорадович. И впредь, вплоть до утра 14 декабря, публика и пресса держались Милорадовичем на голодном пайке — он самолично контролировал распространение сведений о событиях в царском семействе.
Объяснение столь странной ситуации императрицей-матерью Марией Федоровной звучит невразумительно. В ее дневниковой записи за 24 ноября необходимость такого решения обоснована ссылкой на приведенный нами выше фрагмент письма из Таганрога П.М.Волконского к Нессельроде от 12 ноября. Что именно в этом тексте наводит на необходимость секретности, и вообще почему письмо свитского генерала к руководителю Министерства иностранных дел может служить основанием для такого официального общеполитического, а главное — внутриполитического режима ограничения гласности, совершенно непонятно! Остается подозревать, что столь хитроумное разъяснение принадлежит самому Милорадовичу, самым плотным образом опекавшему в эти дни великого князя Николая Павловича и его мать.
Вот как это выглядело 25 ноября.
Дневник Марии Федоровны: «Утро прошло без известий. К нам приходил граф Милорадович; он старался меня ободрить, но сердце мое сжималось в смертельной тоске и тревоге. У меня обедали мои дети; в 8 часов вечера во дворец приехал почт-директор Булгаков, чтобы повидать Вилламова и передать ему письмо от ген[ерала] Дибича; тем временем граф Милорадович поспешил к Николаю, который был у себя. /…/ Я /…/ прочла это ошеломляющее письмо Дибича, в котором он писал, что считает своим долгом сообщить сведения о состоянии здоровья государя от 15 ноября; /…/ врачи, не теряя еще окончательно надежды, все же не скрывают того, что состояние государя является крайне опасным; Дибич дал распоряжение Потапову ежедневно отправлять отсюда курьеров; точно так же будут прибывать курьеры и оттуда.
Подобные же письма были на имя гр[афа] Милорадовича, князя [П.В.] Лопухина и ген[ерала] Воинова; от Виллье не было никакого бюллетеня».
Отметим, что здесь нет никакого упоминания о причащении и исповеди — едва ли об этом забыли упомянуть Мария Федоровна и остальные получатели; очевидно, эти акты состоялись позже отправки писем от 15 ноября.
Тем временем в данном тексте означает только то, что Милорадович, получив свои письма (немного раньше, чем к Вилламову приехал Булгаков, что в данном случае не составляет ничего подозрительного), немедленно поспешил к Николаю.
О том, что происходило там и затем, рассказывает М.А.Корф (в оригинале — некоторые фразы по-французски): «25 ноября, вечером, великий князь Николай Павлович играл в Аничкином доме с своими детьми, у которых были гости. Вдруг, часов в 6, докладывают что приехал с. — петербургский военный генерал-губернатор граф Милорадович. Великий князь вышел в приемную. Милорадович ходил по ней скорыми шагами, весь в слезах и с платком в руке. «Что это, Михайло Андреевич? Что случилось?» — /…/ старый воин, взрыдав, подал письма от князя [П.М.]Волконского и барона Дибича: «Император умирает, — прибавил он, — остается только слабая надежда» — У Николая Павловича подкосились ноги. /…/ Первая мысль сына обратилась к матери; но пока он обдумывал как бы с возможной осторожностью передать ей ужасную весть, все было уже объявлено императрицеприближенным ее секретарем Вилламовым, к которому также были письма из Таганрога. В ту минуту, как великий князь, рассказав о полученном известии своей супруге, готовился ехать к родительнице, она сама прислала за ним из Зимнего дворца. Великий князь нашел ее в том смертельном встревожении, которого боялся. Состояние императрицы было до того ужасно, что нежный сын не решился ее покинуть и остался на всю ночь близ ее опочивальни».
Вот как описывает последний отрезок времени Мария Федоровна: «Ко мне прибежали Николай и Александрина [т. е. Александра Федоровна — жена Николая], также пришел граф Милорадович. Этот ужасный вечер был предвестником страшного утра 27-го; я не в состоянии его передать. Николай хотел быть около меня и оставался во дворце. Я провела ночь в моем кабинете, на диване, ожидая и в то же время страшась получения известий; ужасный отдых!», — хотя, как очевидно, данная запись сделана позже 27 ноября, но нет оснований ей не доверять.
Иное дело, как Корф излагает происходившее вслед за тем, что императрица Мария Федоровна удалилась в свой кабинет, а Александра Федоровна также отправилась куда-то ночевать (вероятно — к себе в Аничков дворец): Николай Павлович остался на всю ночь близ опочивальни матери «с адъютантом своим и товарищем молодости, Владимиром Федоровичем Адлербергом. Разговор их сосредоточился естественно на полученной из Таганрога вести и великий князь, между прочим, сказал: «Если Бог определит испытать нас величайшим из несчастий, кончиной государя, то, по первому известию, надобно будет тотчас, не теряя ни минуты, присягать брату Константину». Ночью императрица часто призывала к себе сына, ища утешений, которых он не в силах был ей подать. Под утро [уже 26 ноября], часов в 7, приехал фельдъегерь с известием о перемене к лучшему и с письмом от императрицы Елисаветы Алексеевны. «Ему заметно лучше, — писала она, — но он очень слаб»» — последнюю цитату мы уже приводили.
Рассказ Корфа страдает некоторым пробелом, о чем свидетельствует странное заявление Николая, сделанное его адъютанту: оно противоречит всем прошлым и последующим стремлениям и действиям будущего императора. Тем не менее, данное свидетельство, по-видимому, совершенно правдиво. Просто Корфу не рассказали или запретили писать о промежуточном важнейшем эпизоде, несомненно имевшим место где-то неподалеку от закрытого кабинета (опочивальни) царицы-матери в середине ночи с 25 на 26 ноября.
Прежде чем о нем поведать, вернемся назад — к тому моменту, когда великий князь принял рыдающего Милорадовича и у него (у великого князя!) подкосились ноги.
Совершенно естественно, что Николай Павлович, узнав от Милорадовича о возможно близкой кончине императора, решил предпринять шаги к последующему вступлению на престол, что, как он прекрасно понимал, должно было стать сюрпризом для всей страны, а для многих — сюрпризом очень неприятным.
Вот тут-то роковым образом и проявилось, что Николай, будучи уверен в своем праве на престолонаследие, вовсе не был в курсе конкретики событий 1820–1823 гг. и не знал, насколько безукоризненно это право юридически оформлено.
Если бы его не терзали сомнения, то ему следовало бы вести себя предельно тихо и дожидаться, когда после сообщения о смерти Александра I вскроются запечатанные документы, хранящиеся в главных государственных учреждениях, что весьма четко предписывалось указаниями на конвертах. Не знал он и того, кто именно из царского окружения мог бы оказать ему помощь, если бы она вдруг внезапно понадобилась.
Увы, никто и никак не надоумил Николая обратиться к А.Н.Голицыну, а тот раньше времени тоже решил не вылезать с раскрытием секретов: ведь это было бы прямым нарушением царской воли — мы помним последний разговор между Голицыным и Александром I! А потом уже все оказалось слишком поздно!
Также совершенно естественно, что столкнувшись со столь затруднительной ситуацией, Николай постарался первым делом прибегнуть к помощи матери: она неоднократно намекала ему о назначении его престолонаследником. Вполне вероятно, что он действительно получил бы от нее полезную и исчерпывающую консультацию, хотя и не факт, что она самолично читала все составленные документы, а главное — знала, что из находящихся в столице вельмож один Голицын действительно в курсе всех дел.
Но и тут незадачливого престолонаследника подстерегала неудача: Милорадович совершенно точно все предусмотрел и рассчитал. Он просто оказался третьим, отнюдь не лишним — между сыном и матерью, сорвав тем самым их доверительную беседу. Вероятно, он проявил трогательную заботу о ее нервах и вежливейшим образом выпроводил ее в опочивальню.
Затем, естественно, получилось так, что великий князь и Милорадович остались лицом к лицу. Кто из них явился инициатором состоявшегося выяснения отношений — можно понять совершенно четко, хотя заинтересованы были оба.
Великий князь, беседа которого с матерью сорвалась, горел нетерпением. Поэтому нет ничего невозможного в том, что Николай не удержался и обратился именно к Милорадовичу, который отвечал за дисциплину и спокойствие столицы и содействие которого все равно было необходимо для беспрепятственного восхождения на престол.
Но у Милорадовича был заметно более неотложный повод для выяснения отношений: он должен был сразу поставить претендента на место, а не дожидаться ни последствий возможного объяснения между великим князем и его матерью, ни дискуссий при раскрытии запечатанных документов, при которых он оказался бы в юридическом проигрыше. Поэтому он заведомо более Николая был заинтересован в разговоре, который не трудно было спровоцировать: великий князь решил никуда не уходить, а упорно дожидаться возможности говорить с матерью наедине, а Милорадовичу и вовсе некуда было спешить при таких обстоятельствах. В силу этих соображений указанный момент наиболее подходил для беседы, свидетельства о которой мы теперь приведем.
Первое из них принадлежит перу многократно цитированного князя С.П.Трубецкого, приехавшего в это время из Киева в столицу в служебную командировку и одновременно привезшего план восстания в 1826 году. Недостаток в том, что это свидетельство — не из первых рук. Итак:
«В Петербурге жил тогда частным человеком д[ействительный] с[татский] с[оветник] Федор Петрович Опочинин. Он был некогда адъютантом цесаревича и по выходе в отставку остался его другом. Помещение имел с семейством в Мраморном дворце /…/. Сближившись с Ф[едором] П[етровичем] и его женой за границей, я оставался с ними в самых коротких отношениях. Они жили, ограничиваясь малым кругом тесного знакомства. Приехав в первых числах ноября 1825 года на короткое время в Петербург, я с ними виделся почти ежедневно. Когда я приехал к нему 26-го Ноября, он рассказал мне, что в[еликий] к[нязь] Николай Павлович, как скоро получил известие о болезни императора Александра Павловича, пригласил [к] себе председателя Государственного совета князя Петра Васильевича Лопухина, члена Гос[ударственного] Сов[ета] князя Александра Борисовича Куракина и военного генерал-губернатора С[анкт]-Петербургского графа Михаила Андреевича Милорадовича и представлял им, что в случае кончины императора, он по праву, уступленному братом его Константином Павловичем, и по завещанию Александра должен наследовать престол /…/. Гр[аф] Милорадович решительно возразил, что в[еликий] к[нязь] Николай не может вступить на престол, что законы империи не дозволяют государю располагать престолом по духовному завещанию, что воля Александра об изменении престолонаследия оставалась тайною для народа, так как и отречение цесаревича, что Александр не объявил воли своей всенародно, что во всем государстве признается наследником Константин Павлович, что если покойному государю угодно было, чтоб наследовал после него в[еликий] к[нязь] Николай, то он должен был при жизни своей объявить его наследником, и что, наконец, ни народ, ни войска не согласятся на нарушение прав законного наследника, и припишет дело измене, тем более что и государь и законный наследник в отсутствии, и гвардия решительно откажется принести присягу Николаю в таких обстоятельствах, и оттого неминуемо последует возмущение в столице, которого нечем будет утушить. Совещание продолжалось до 2-х часов ночи».
В другой редакции воспоминаний Трубецкого аналогичный текст имеет еще более выразительное продолжение и завершение: «Великий князь доказывал свои права, но гр[аф] Милорадович их признать не хотел и отказал в своем содействии. На том и разошлись».
Заметим, что Опочинин, женатый на дочери знаменитого победителя 1812 года фельдмаршала М.И.Голенищева-Кутузова и бывший адъютантом Константина Павловича в 1800–1808 гг., был действительно человеком, лично близким к цесаревичу. Опочинин в эти дни вошел в моду — перед ним прямо заискивали. Едва ли от делать нечего торчал около Опочинина и Трубецкой. И сам Николай Павлович, как будет рассказано, тоже был вынужден прибегнуть к его услугам.
Неудивительно, что после состоявшейся ночной беседы впавший в отчаяние великий князь склонился к капитуляции, о чем и поведал адъютанту, — но это еще не было его окончательным решением! Возникает вопрос: почему Николай все-таки не решился снова обратиться к матери за помощью — ни этой же ночью, ни утром, ни позднее? Это мы рассмотрим чуть ниже.
Остается еще разобраться с упоминанием о присутствии при объяснении между великим князем и генерал-губернатором еще и князей Лопухина и Куракина; последний — председатель департамента экономии Государственного Совета. И здесь мы должны прибегнуть к еще одному свидетельству — свидетельству самого Николая Павловича.
Николай I приложил массу усилий, чтобы утаить от современников и потомков ту роль, которую он сыграл в событиях ноября-декабря 1825 года. Об этом, например, буквально с дрожью негодования писал его внук — великий князь Николай Михайлович: «многие источники отсутствуют, благодаря систематическому истреблению их Императором Николаем I; другие хотя и существуют, но с большими пробелами, как, например, вся переписка Императрицы Марии Федоровны с сыном-первенцем». И большую часть дневника самой Марии Федоровны Николай сжег сразу после ее смерти в 1828 году.
Косвенным оправданием варварству Николая Павловича служит то, что его преемники, пришедшие к власти в России через век, уже не ограничивались уничтожением первоисточников, а ликвидировали также и историков, в частности — того же Николая Михайловича.
Но Николай I вовсе не был варваром, а просто истреблял нежелательные улики — вплоть до уничтожения свидетелей: по крайней мере одному из главнейших, К.Ф.Рылееву, он точно заткнул рот. Неудивительно, что современники вполне оценили подобные стремления долго правившего императора, и откровенных мемуаров главных действующих лиц ноября-декабря 1825 года практически не осталось — и это при обилии источников, принадлежащих перу второстепенных персонажей!
Совершенно не случайно одним из немногочисленных исключений являются записки С.П.Трубецкого, чудом избежавшего участи Рылеева. В данном случае Николаю I пришлось отступить перед напором влиятельнейших родственников, ходатайствовавших за этого блистательного аристократа. Это оказалось несомненной ошибкой императора, прятавшего концы в воду. Трубецкой, писавший весьма сдержанно и взвешенно и в сибирской ссылке (сказался, вероятно, пример расправы над М.С.Луниным, чересчур неосторожно рекламировавшим собственные литературные труды), и даже после ее завершения, оставил все же массу бесценных подробностей.
Свидетельства самого Николая Павловича весьма типичны для честного политика. В них нелегко обнаружить преднамеренную ложь (мелкие погрешности имеют место — как и у всякого мемуариста), хотя один такой эпизод мы все же позднее отметим. Желательного для него искажения истины этот монарх достигал общепринятым способом — умолчанием некоторых эпизодов и собственных соображений. Вот и в данном случае он вполне имел возможность скрыть от М.А.Корфа, который работал над своей книгой с 1847 года, содержание своих бесед не только с Милорадовичем, но и с Лопухиным, Куракиным и Воиновым — все они к тому времени уже умерли и не оставили мемуаров (по крайней мере — дошедших до потомков). А если Корф, будучи современником всех упомянутых лиц, успел узнать от них или о них что-либо нежелательное, то это несомненно подверглось цензуре или самоцензуре: Корф ведь был вовсе не глуп и в то же время — законопослушен.
Зато почти все засвидетельствованное Николаем действительно имело место. Тем более это относится к его собственному дневнику, сохранившемуся, как мы полагаем, в первозданном виде (об этом, впрочем, должны судить специалисты, непосредственно знакомившиеся с оригиналом данного документа). Особенностью этого дневника является то, что в нем пунктуально фиксировались имена людей, с которыми встречался и беседовал Николай Павлович, но не содержание бесед! Это обстоятельство, очевидно, и удержало автора от соблазна уничтожить и собственный дневник — наряду с другими компрометирующими свидетельствами.
Так вот, в дневниковых записях великого князя за 25 декабря наличиствует беседа с Милорадовичем, но нет упоминания о совещании с участием князей Лопухина и Куракина. С ними обоими Николай встречался в прилегающие дни, но порознь (с Лопухиным — 22 ноября, а с Куракиным — только 28-го). Зато, согласно дневнику, третьим возможным участником дискуссии в ночь на 26 декабря был генерал А.Л.Воинов — тогдашний командующий гвардией.
На этот счет имеется исчерпывающе четкое свидетельство Опочинина, записанное не спустя тридцать лет, а непосредственно в те дни, причем практически под диктовку самого Николая Павловича.
3 декабря 1825 года Опочинин составил описание основных событий, состоявшихся в предыдущие дни, для представления этой хроники Константину Павловичу (ниже мы остановимся на подробностях этой акции). В этом тексте совершенно недвусмысленно говорится о совещании великого князя именно с Милорадовичем и Воиновым в Зимнем дворце поздно вечером 25 ноября. Адаптировано, разумеется, содержание беседы: там якобы обсуждалось, «какие бы нужно принять меры, если бы, чего Боже сохрани, получено было известие о кончине возлюбленного монарха», причем Николаю приписывается, что он настаивал на немедленной присяге «старшему своему братцу, как законному наследнику престола» — будто бы кто-то этому возражал!
Едва ли этот текст был известен Трубецкому, который 3 декабря мог видеться с Опочининым лишь мельком и в последний раз в жизни.
Как видим, Николай Павлович в те дни придерживался версии, немедленно после совещания высказанной Адлербергу! Спустя годы Николай I решил полностью отделаться от неприятного эпизода.
Теперь легко объясним и закат карьеры Воинова после 14 декабря — иначе Николай и не мог относиться к нежелательному очевидцу. Нескрываема и антипатия Корфа в его книге к этому генералу — наряду с мелкими выпадами по адресу Милорадовича; это четко зафиксировали безжалостные критики Корфа — Герцен и Огарев, хотя и не догадались о причинах.
Упоминание Лопухина и Куракина в свидетельстве Трубецкого очень любопытно. Конечно, в рассказе, адаптированном по меньшей мере тремя рассказчиками (последовательно Милорадовичем, Опочининым и Трубецким) и записанном многие годы спустя, могли появиться любые прегрешения против истины. В данном же эпизоде наличие персонажей, отсутствовавших на месте действия, представляется неслучайным, а разъяснение этому дается зачеркнутой черновой записью в другой редакции воспоминаний Трубецкого.
Там рассказу о совещании великого князя с Милорадовичем, Лопухиным и Куракиным предшествует прямая речь Опочинина к Трубецкому утром 26 ноября (в этой редакции названо ошибочно 25 ноября — тут, вероятно, Трубецкой танцевал от даты своей предшествовавшей беседы с Рылеевым, позабыв, какой интервал времени разделял эти эпизоды, и не сразу сообразив, что эта беседа не происходила одновременно с указанным совещанием — см. ниже!): «Знаешь ли, что я теперь попал в честь и люди, которые давно уже раззнакомились со мною, начинают делать мне визиты; сегодня был у меня даже кн[язь] Алексей Борисович Куракин, который уже три года не был у меня. Потом он мне рассказал, что вчера поздно вечером»… — и далее рассказ о совещании великого князя с Лопухиным, Куракиным и Милорадовичем, аналогичный вышеприведенному, с незначительным отличием словесных формулировок — его хвостик мы также уже привели выше.
Таким образом, инстанций, передававших этот рассказ, было, оказывается не три, а даже четыре. От этого свидетельство, хотя и содержащее неточности, приобретает дополнительный смысл: позиции Милорадовича, Лопухина и Куракина были строго согласованы и быстро корректировались за кулисами.
И без этого ясно, что безмолвная поддержка Лопухиным и Куракиным речей Милорадовича на заседании Государственного Совета 27 декабря (об этом ниже) позволила последнему одержать верх при столкновении с Голицыным. В то же время, если бы Лопухин с Куракиным действительно присутствовали при беседе Милорадовича с великим князем 25 ноября, то едва ли имели право молчать, когда Милорадович декларировал заведомую ложь (об этом тоже ниже), а если бы так все же получилось, то они гарантированно лишились бы милости нового императора после 14 декабря, чего, как известно, не произошло.
В сочетании с дневниковой записью Николая становится понятным и упоминание Лопухина в рассказе Куракина, то ли не совсем точно переданным Опочининым или Трубецким, то ли приукрашенным самим Куракиным, пытавшимся преувеличить собственную роль в глазах Опочинина — имея в виду последующее попадание информации к Константину. Николай вполне мог поднять животрепещущий вопрос о престолонаследии в разговоре с Лопухиным еще 22 ноября (после прихода самой первой вести о болезни императора), но, получив уклончивый ответ (Лопухин, несомненно, был докой в придворном поведении!), не стал настаивать, тем более что это было неуместно при совершенно сомнительных еще перспективах болезни государя. Факт тот, однако, что прямой поддержки Лопухина великий князь не получил.
Именно эта беседа, имевшая место один на один, но затем ставшая достоянием Куракина и остальных, должна была послужить сигналом к концентрации усилий противников великого князя в Петербурге.
Решающим совещанием в ночь на 26 ноября не исчерпались дискуссии между Милорадовичем и великим князем — оба остались на самом деле при своих мнениях! В дневнике Николая за 26 ноября значится: «говорил несколько раз с Милорадовичем; постоянно приходил и уходил».
Как видим, 25 ноября Милорадович придерживался почти законной позиции. Разумеется, юридически все обстояло совсем по-другому: Манифест 16 августа 1823 года основывался на собственноручном заявлении Константина Павловича от 14 января 1822 года и отменял первоначальное распоряжение Александра I от 2 февраля 1822 года. Все было формально законно, и царем должен был стать Николай! Но последний-то никаких подробностей не знал!
Похоже, Милорадович гораздо лучше понимал ситуацию и шаткость своей юридической позиции, чем демонстрировал в этой беседе.
Насколько жесткой в этом разговоре была угроза гвардией — этого никто никогда не узнал. Но, так или иначе, великий князь пожинал плоды, посеянные собственным стилем обращения с непосредственными подчиненными. Своих гвардейских офицеров великий князь действительно побаивался — и имел основания для этого; никто, кроме него самого, не был в том повинен. Теперь ему только и оставалось уговаривать Милорадовича вступиться за себя — можно представить себе, насколько это было унизительно!
Но мы должны обратить внимание на другой аспект изложенного выяснения отношений, который неизменно упускался из виду всеми многочисленными читателями и комментаторами приведенных выше текстов. Увы, люди (даже профессиональные историки!), читающие свидетельства исторических персонажей, видят события собственными глазами, прочно пригвожденными ко всем известным стереотипным сведениям: 19 ноября Александр умер в Таганроге; 25 числа Николай и Милорадович еще об этом не знали, и только спорили о судьбе трона, а 27 ноября о смерти стало официально известно и наступил момент принятия формальных решений — что же тут удивительного? Сейчас объясним.
В жизни, а следовательно — и в истории, все происходит не совсем так, как в учебниках истории. В реальности человек, находящийся в одном месте, не может знать, что делается в других — удаленных и изолированных от него, если не имеет отношения к организации происходящих там событий. Обратно: если человек ведет себя так, что это согласуется с событиями в иных местах, то он заранее каким-то образом посвящен в них — хотя бы путем собственных проницательных размышлений. Это очевидно, но такие эффекты часто пропадают в исторических книгах, в которых события описаны не такими, как виделись непосредственным свидетелям, а такими, как их позже продиктовала внутренняя логика происшедшего, вышедшая на свет лишь когда все завершилось и стало ясным.
Самое важное, что имело место в дискуссиях между Николаем и Милорадовичем 25 и 26 ноября 1825 года, согласно передаче Трубецкого, — это их твердая уверенность, что Александр I практически мертв. А ведь такой уверенности не должно было быть! Если они знали только то, что официально сообщалось в письмах, отправленных из Таганрога 15 ноября и полученных в Петербурге 25 ноября, то это не давало серьезной уверенности в фатальной безнадежности болезни.
Действительно, 15 ноября состояние Александра I внушало опасения, но умер он только через четверо суток (версию об исчезновении отбросим, ограничиваясь только официально подтвержденными фактами). В эти четверо суток в его самочувствии происходили и улучшения, и ухудшения. Сознание он терял на короткие промежутки времени и оставался до последних суток в уме и памяти. Был он и юридически дееспособным лицом: причащение и исповедь — не есть акты юридической смерти! Если бы он все же поправился, то не требовались дополнительные юридические процедуры, восстанавливающие его дееспособность.
Александр I прожил, повторяем, четверо суток, но, при фактически неустановленном диагнозе, это могли быть и четыре часа, и четыре недели, и сорок четыре года — все в пределах обычных человеческих возможностей! Даже врачи, находившиеся в Таганроге, испытывали неопределенность: Виллие не очень спешил высказываться и был прав — даже вскрытие вроде бы ничего не показало! Тем более это не могло быть видно из Петербурга — за тысячу верст!
Александр I, следовательно, все еще мог принимать решения — и даже чрезвычайной важности: издать, например, новый манифест или потребовать, чтобы ему вернули нераспечатанными все четыре конверта с секретным манифестом — и лишить тем самым Николая первоочередности прав на престол, или, например, отдать приказ об аресте Милорадовича. Ведь отдал же он приказ арестовать Вадковского всего за несколько дней до того! Утвердил и награждения, представленные из Варшавы — как будет рассказано ниже. В ноябре же был запрещен выход в свет первого тома перевода Библии на русский язык: это был один из заключительных ударов по Библейскому Обществу — любимому детищу А.Н.Голицина; правда, мы не знаем, насколько в этом акте проявилась инициатива императора. Так или иначе, он не только мог принимать решения, но и принимал их! Неважно, успел бы он проследить за окончательным их исполнением — это совершенно иной вопрос.
На чем же основывалась убежденность Милорадовича и Николая, что им не грозит ни одна из упомянутых неприятных возможностей и никакая другая тоже?
В отношении Николая ответить вроде бы нетрудно: он поддался гипнозу плачущего генерала — слезы этого кремневого вояки убедили бы любого! Затем, увлекшись спорами с этим внезапно отошедшим от волнений головорезом, Николай мог утратить всякое чувство меры. И эффектная концовка беседы напрашивалась сама собой: Милорадович вполне мог поинтересоваться: почему это Николай так спешит поделить шкуру своего еще не убитого брата? Вот тут-то замок и должен был навеситься на уста великого князя, не рискнувшего ни заговорить с матерью этой же ночью, хотя никто уже не мешал, ни продолжить днем поиски ответов на свои недоуменные вопросы у других царедворцев. Письмо от Елизаветы Алексеевны, пришедшее рано утром, подтверждало, что Благословенный царь еще жив и ему лучше!
Иное дело, что наедине с Милорадовичем можно было продолжить уже начатые споры. Так Николай и оказался фактически и заложником, и сообщником хитроумного генерал-губернатора вплоть до самого полудня 27 ноября. Зато потом Николай, совсем не будучи дураком, мог задуматься о причинах такой странной осведомленности и уверенности своего оппонента, если, добавим пока без комментариев, не догадался об этом раньше!
Что же касается официальной царской историографии, то в нее (в частности — в книгу Корфа) никак не могли попасть рассказы о том, как Николай Павлович и Милорадович пытались решать судьбу российского престола еще 25 и 26 ноября 1825 года!
Теперь попробуем выяснить, на чем основывалась уверенность Милорадовича в том, что за порядок престолонаследия, провозглашенный им в беседах с великим князем Николаем Павловичем 25 и 26 ноября и положенный в основу решений, осуществленных на практике 27 ноября, он никогда не подвергнется осуждению и наказанию.
В эти дни и Милорадович, и великий князь Николай Павлович, хотя и были должностными лицами, но не самого высшего уровня. Генерал-губернатор, кстати, много выше, чем командир гвардейской дивизии и даже генерал-инспектор по инженерной части, а в силу дислокации дивизии на территории генерал-губернаторства Николай и вовсе был прямым подчиненным графа. Разговоры между ними тем более носили вполне частный характер. Сам же Николай не имел никакого прямого отношения к юридическому оформлению актов, против которых выступил Милорадович. Поэтому формально никаких преступлений против незадачливого престолонаследника Милорадович не совершал — и даже в условиях того, что произошло в дальнейшем, не должен был опасаться ответственности за это, хотя бы и с учетом всем известной мстительности своего оппонента.
Преступлением было другое: прямо продекларированное намерение к неподчинению царскому манифесту или какому-то другому категорическому распоряжению, предположительно, но с высочайшей вероятностью находящемуся в запечатанных конвертах. В своем послании от 3 декабря 1825 года (об этом подробнее ниже) великий князь Константин Павлович квалифицировал такое неподчинение, действительно осуществившееся 27 ноября, как прямую измену присяге, принесенной императору Александру I — и юридически был совершенно прав!
При скудности сохранившихся сведений нельзя безоговорочно утверждать, что эта же тема поднималась и в разговоре Николая с Лопухиным 22 ноября, и тем более утверждать, что позиция Лопухина тогда полностью совпадала с позицией Милорадовича. Но если это было так, тогда обвинения Константина Павловича, обращенные в упомянутом заявлении в адрес Лопухина как председателя Государственного Совета, попадают прямо в цель к нему и как к личности! При таком раскладе получается, что Лопухин рискнул на тяжелейшее преступление еще 22 ноября, когда состояние здоровья императора (согласно информации в столице) было и вовсе неопределенным!
Разумеется, Милорадович прекрасно понимал преступность своих действий — потому и попытался, даже полностью контролируя ситуацию в собственных руках и умело ведя дело к запланированному результату, принять меры, чтобы вовсе не распечатывать указанные конверты, а Лопухин 27 ноября старался не высовываться на передний план — из чего бы он при этом ни исходил!
Вот и Николай Павлович, слушая речи Милорадовича по существу преступного характера и не пытаясь им противостоять должным образом, а 27 ноября совершенно не попытавшись помешать осуществлению этого преступления, сделался соучастником уже и юридическим! Это был уже не морально-этический проступок, каковым были рассуждения о живом человеке как о мертвом!
Это усугубляет мотивы того, почему разглашение фактической канвы событий 25–27 ноября оставалось совершенно недопустимым и в царствование Николая I, и значительное время спустя.
Обзаведясь таким сообщником, Милорадович, повторим, мог не бояться юридической ответственности перед императором Николаем I — тем более, что озаботился наличием свидетеля в лице Воинова.
Ничем ему не мог угрожать и Константин I, если бы таковой все же состоялся — ведь Милорадович хотя и действовал противозаконно, но вроде бы прямо в интересах цесаревича.
Но вот почему Милорадович не опасался и Александра I, до которого, останься он жив, могли бы дойти крамольные взгляды и намерения Милорадовича? Ведь Николай, обнаружив теперь столь непримиримого противника собственным вожделениям на престол, наверняка должен был постараться восстановить справедливость, уличить зловредного генерал-губернатора перед своим выздоровевшим братом-императором, а одновременно обелить себя самого! Для этого существовала тысяча способов помимо того, чтобы предстать перед Александром I на очной ставке с Милорадовичем и Воиновым и краснеть от их встречных обвинений!
Совершенно очевидно, что такой опасностью Милорадович полностью пренебрег. Зафиксируем это наблюдение!
Разберемся теперь, какой именно информацией из Таганрога располагал Милорадович.
Коль скоро никто из читателей, знакомых с неоднократно опубликованными первоисточниками, процитированными выше, не взял на себя труд прочесть все слова, то нам придется их повторить: «Дибич дал распоряжение Потапову ежедневно отправлять отсюда курьеров; точно так же будут прибывать курьеры и оттуда» — это письмо, доставленное обычной почтой (ведь принес его в Зимний дворец самолично почт-директор — явно для ускорения), шло из Таганрога ровно десять суток. Упомянутое предыдущее, полученное накануне (от П.М.Волконского к Нессельроде), шло даже двенадцать суток — для его ускорения вовсе не предпринималось никаких мер. Это, очевидно, и было в те дни нормальной скоростью доставки писем по обычной почтовой линии.
Напомним, что очень спешивший в Таганрог Александр I добрался в сентябре из Петербурга примерно за одиннадцать с половиной суток. Результаты согласуются между собой и не вызывают никаких недоумений.
Сообщение о смерти царя, последовавшей в 11 часов утра 19 ноября, ровно через восемь суток принес в Зимний дворец сам Милорадович. Тут уже не могло быть существенной задержки, хотя и здесь напрашиваются определенные подозрения в рассчитанности действий; ниже мы это разберем. Заметное ускорение по сравнению с прошлыми письмами объясняется вполне понятной причиной: за доставку, согласно распоряжению Дибича, взялись фельдъегери — они, не щадя ни себя, ни других, двигались гораздо быстрее, чем обычная почта.
Таким образом, в Петербург сообщение о смерти императора шло примерно на двое суток быстрее, чем предшествующие письма обычной почтой, и пришло лишь на двое суток позднее, чем первое почтовое сообщение об опасности болезни, отосланное по обычной почте из Таганрога 15 ноября.
Задержка в доставке завершающего фельдъегерского сообщения в Петербург примерно на 40 часов по сравнению с Варшавой тоже вроде бы объяснима: Варшава несколько ближе к Таганрогу, чем Петербург; дороги в Польше лучше, чем в России, а погода зимой — мягче. Также почти все сходится и не вызывает недоумений; только вот разница в 40 часов, на наш взгляд, слегка великовата — здесь возникает подозрение о дополнительной искусственной задержке в пределах нескольких часов, цель которой обсуждается ниже.
Но ведь Дибич 15 ноября распорядился задействовать фельдъегерей для связи между Петербургом и Таганрогом немедленно и ежедневно — т. е. фактически со следующего дня. Невозможно заподозрить типичного пунктуального немецкого генштабиста в невыполнении собственных распоряжений!
Значит, должны были быть и другие срочные письма, предшествующие извещению о смерти (посланного, повторяем, 19 и полученного 27 ноября) — они и были. Напоминаем: 26 ноября под утро, «часов в 7, приехал фельдъегерь с известием о перемене к лучшему и с письмом от императрицы Елисаветы Алексеевны»!
Но, исходя из гипотезы, что Дибич своих слов на ветер не бросал, всего таких посланий должно быть минимум четыре: от 16, 17, 18 и 19 ноября — последнее с сообщением о кончине Александра I.
Косвенным доказательством того, что таковых посланий, предшествующих последнему, должно было быть не одно, а больше, является свидетельство Михаила Павловича.
Дибич одновременно слал вести и в Петербург, и в Варшаву, а Корф, со слов Михаила, приводит следующие подробности: «во второй половине ноября 1825-го /…/ [в] цесаревиче /…/ происходило что-то странное. /…/ Он даже часто не выходил к столу и на вопросы брата своего отвечал только отрывисто, что ему нездоровится. Вдруг Михаил Павлович стал замечать по дневным рапортам коменданта, что беспрестанно приезжают фельдъегери из Таганрога.
— Что это значит? — спросил он у своего брата.
— Ничего важного, — равнодушно отвечал цесаревич, — государь утвердил награды, которые я выпросил разным дворцовым чиновникам за последнее Его здесь пребывание.
И действительно, на другой день награжденные чиновники явились благодарить цесаревича; но сам он с тех пор казался еще скучнее, еще расстроеннее. /…/ 25 числа /…/ цесаревич, все погруженный в то же расстройство, опять не выходил к столу» — и далее сообщение о приходе вести о смерти императора.
Попробуем проследить судьбу четырех фельдъегерских посланий из Таганрога в Петербург, исходя из известных фактов и разумных предположений.
Учитывая продолжительность доставки последнего из них (8 суток), положим, что и остальные шли тоже восемь суток плюс-минус, допустим, 6 часов — в зависимости от погоды и других случайных факторов. Ни о каких серьезных стихийных бедствиях в те дни не упоминается; происходил лишь ледостав на реках: он вызвал затруднения у Михаила Павловича и его спутников при переправе в Риге через Двину по дороге из Варшавы в Петербург, но всюду на пути из Таганрога в Петербург таких серьезных препятствий не было и почти везде имелись мосты; Ока в Серпухове и Волга в Твери — это все же не Двина в Риге, а между Таганрогом и Варшавой тоже были Днепр и другие немалые реки!..
Первое из писем (от 16 ноября) должно было содержать информацию о дальнейшем ухудшении состояния императора. Отправленное, предположительно, к вечеру этого дня, оно должно было придти в Петербург от середины дня 24 ноября до начала следующих суток. Поскольку никто в столице еще не ожидал фельдегерской почты, то получатель, обладавшей всей полнотой власти в Петербурге, вполне мог скрыть сам факт прихода этого сообщения и его содержание — если бы захотел и если мог рассчитывать, что в дальнейшем (скажем — после приезда Дибича из Таганрога) ему не придется отвечать за этот проступок.
Никаких официальных сведений о таком послании не имеется, зато есть неофициальное свидетельство. Мало того, если предполагать, что задержку в доставке информации Милорадович использовал не только для собственных раздумий, но и для совещений с доверенными лицами, то это же свидетельство проливает свет и на то, кем было по крайней мере одно из последних.
Трубецкой написал уже после выхода книги М.А.Корфа в 1857 году: «Странно, что Корф пишет в своей книге, что гр[аф] Милорадович приехал к в[еликому] к[нязю] с известием о болезни имп[ератора] Александра вечером 25 Ноября. Накануне были имянины моей жены, у меня было вечером довольно гостей, между прочими Рылеев. Он сказал мне первый, что есть известие из Таганрога, что Александр отчаянно болен. 25-го я должен был выехать из Петербурга, и остался единственно для того, чтоб знать чем разрешится болезнь».
Хотя это и свидетельство спустя более чем тридцать лет, но, как видим, Трубецкой имел личные основания не путать даты: как и мать В.Л.Давыдова, жена Трубецкого (урожденная графиня Лаваль) тоже была Екатериной. Если свидетельство Трубецкого — не ошибка, то руководители заговора Рылеев, а затем и Трубецкой получили данную информацию о событиях в Таганроге приблизительно на сутки раньше, чем великий князь Николай Павлович!
Но зачем было задерживать такую информацию? Ответ несложен.
В течение последующих дней Милорадович действовал с точностью и целенаправленностью хорошего взрывного механизма. Вполне резонно предположить, что его безукоризненные решения были не совсем импровизацией, а являлись отчасти и результатом выигрыша времени. Заметим, что тем самым он создавал и выигрыш времени Константину, находящемуся в Варшаве, чем последний, однако, совершенно не воспользовался — занятая им личная позиция в таких преимуществах не нуждалась; это, очевидно, явилось сюрпризом для Милорадовича.
Минимум сутки разрабатывался план, который и начал осуществляться в тот момент, когда под вечер 25 ноября в Петербург пришла пачка писем об осложнении болезни Александра I. Для Милорадовича ее приход оказался лишь сигналом к старту подготовленной решающей кампании! При этом максимальным образом был использован столь любимый и ценимый военными фактор внезапности!
Обратимся теперь к следующему посланию — от 17 ноября. Из тех же соображений оно должно было придти в столицу от середины дня 25 ноября тоже до начала следующих суток — т. е., скорее всего, до решающего столкновения Милорадовича и Воинова с Николаем в ночь на 26 ноября в Зимнем дворце. Пришло же оно по официальным данным позже — около 7 часов следующего утра, и говорилось в нем об улучшении состояния Александра I.
Самое естественное предположение, что Милорадович знал его содержание, но намеренно утаил до утра. В его беседе с Николаем максимальным образом была односторонне использована информация, что в текущий момент состояние Александра критическое, но вскоре после беседы оно должно внезапно улучшиться: сообщение об этом было принесено к утру — к тому моменту, когда Мария Федоровна должна была окончательно проснуться и прийти в себя. Это сообщение и заткнуло рот Николаю, позволившему себе в беседе с Милорадовичем и Воиновым слишком неосторожные формулировки. Тем не менее, Милорадович не дал себе и минуты утраты бдительности: про это утро Мария Федоровна записала в дневнике: «Милорадович заходил часто в продолжение утра».
Это было, повторяем, сообщением, посланным 17 ноября. Заметим, кстати, что Милорадович, который сам медицинскую информацию не изобретал, а пользовался полученной от Дибича и других таганрогских корреспондентов, нисколько не был смущен вестью о кажущемся выздоровлении Александра и продолжал действовать так, как будто располагал полной гарантией его неминуемой смерти!
Фактически преступные манипуляции с письмами начались 24 ноября — уже тогда действия Милорадовича решительно противоречили законным интересам все еще живого Александра I (по сведениям в Петербурге, конечно)!
Еще более чудовищно выглядит предположение, что на тех же основаниях основывал свое поведение и Лопухин еще 22 ноября!
Позже в этот день (26 ноября) обычной почтой пришло более раннее письмо от Виллие от 16 ноября, описывающее предшествующее осложнение болезни и рассказывающее о причащении и исповеди императора; оно было, очевидно, послано за несколько часов до того, как согласно распоряжению Дибича в первый раз на рассматриваемом промежутке времени было послано сообщение фельдъегерской связью. По-видимому, Виллие еще не знал, что через несколько часов возникнет гораздо более быстрая оказия для передачи сообщений. Незначительная разница во времени поступлении этих двух сообщений (а ведь должна была быть порядка суток!) — дополнительный аргумент в пользу того, что послание из Таганрога от 17 ноября было задержано Милорадовичем.
Все эти беспорядочные вести, разумеется, усиливали сумятицу и волнения в Зимнем дворце.
Несмотря на меры по сокрытию информации, слухи о болезни государя распространялись по городу, в связи с чем на утро 27 ноября было назначено богослужение о выздоровлении государя: столичные верхи приглашались в Александро-Невскую Лавру, а царская фамилия с ближайшим окружением должна была молиться во внутренней церкви Зимнего дворца.
Неизвестно, кому принадлежала такая инициатива частичного нарушения принятого режима публичного молчания о болезни государя; до солдат и широкой массы горожан и эта весть не дошла. Отметим этот момент!
И после 11 часов утра 27 ноября в Петербург продолжали поступать письма, где об Александре писалось как о живом. Они ударяли по нервам и заставляли проверять: когда и откуда именно отправлено послание. Впрочем, тогда уже всем все в этом отношении стало ясно, и людей волновали совсем иные проблемы.
Поэтому неудивительно, что тогда же как-то выпали сведения о фельдъегерской почте из Таганрога от 18 ноября: возможно, ее и вовсе не посылали, с часу на час ожидая трагического исхода — Виллие ведь действительно в тот день утратил надежду на выздоровление. Но в то же самое время такая информация представляла исключительно важное значение для Петербурга!
Едва ли ошибемся, предположив, что Милорадович получил и это сообщение в тот же расчетный интервал времени — от середины дня 26 ноября. Имея информацию о неминуемой смерти императора в ближайшие часы, он сохранил ее при себе, как важнейший фактор, обеспечивающий последующую внезапность, и, скорее всего, изобрел гениальный трюк с богослужениями, смысл которого мы объясним чуть ниже.
Технические детали деятельности Милорадовича никогда не подвергались серьезному расследованию. И Николай I предпочитал не ворошить прежнее, учитывая трагическую гибель Милорадовича 14 декабря, и историки никогда не интересовались всерьез упомянутыми обстоятельствами.
Милорадович, выигрывая последнее столкновение с бывшим царем и первое — с будущим (как все-таки оказалось позднее), тщательно планировал дальнейшую кампанию — ведь он был не только храбрейшим рубакой, но и самым решительным и хладнокровным военным профессионалом своего времени!
Следующий день, 27 ноября 1825 года, должен был стать поворотным пунктом истории России!
Когда Милорадович принес 27 ноября весть во дворец о смерти Александра I, все царское семейство молилось о здравии императора. Императрица-мать Мария Федоровна едва не лишилась чувств.
Когда-то Мария Федоровна стоически перенесла убийство мужа. Мало того: в ту страшную ночь с 11 на 12 марта 1801 года она попыталась самостоятельно взять правление страной в собственные руки — и получила крутой отпор со стороны старшего сына и его сообщников. Но с тех пор прошли неумолимые годы, в 1825 году вдовствующей императрице исполнилось 66 лет, расшатанная нервная система уже не повиновалась воле. Самым роковым образом это проявилось в эти критические минуты.
Пока ее утешали, Милорадович увлек Николая Павловича в дворцовую церковь и буквально заставил присягнуть Константину и тут же оформить присягу в письменном виде. Никем не сообщалось, куда и как затем последовала эта бумага (обычным образом все присяжные грамоты передавались на хранение в Сенат), но можно не сомневаться, что Милорадович позаботился об ее сохранности. Тут же Милорадович заставил Николая привести к присяге присутствующих генерал-адъютантов, а сам, своей волей, распорядился о приведении к присяге столичного гарнизона.
Едва ли случайно именно в данный момент, когда о смерти императора могли знать лишь Милорадович и его предполагаемые сообщники, в Зимний дворец заявился и С.П.Трубецкой. Он рассказывает: «27-го числа поутру я поехал во дворец, и взошел по известной так называемой комендантской лестнице, и был крайне удивлен, нашедши в комнате, отделявшей церковь от внутреннего пехотного караула, графа Милорадовича, отдававшего тихо, но так что я мог слышать, приказание коменданту [Петербурга П.Я.]Башуцкому разослать плац-адъютантов по караулам с приказанием привести их к присяге» — вчитайтесь в подробности того, как именно был принужден к присяге Константину весь столичный гарнизон: шепотом!
Особая миссия была возложена на адъютанта самого Милорадовича штаб-ротмистра графа Г.А.Мантейфеля — он помчался в Москву. Одновременно о смерти императора и необходимости присяги Константину оповещался А.А.Закревский, тогда — генерал-губернатор Финляндии.
В Варшаву же выехал один из адъютантов самого Николая — штабс-капитан А.П.Лазарев — с посланием такого содержания:
«Любезный Константин!
Предстаю перед моим государем с присягой, которой ему обязан, которую уже и принес ему, со всеми меня окружавшими, в церкви, в ту самую минуту, когда разразилась над нами весть о жесточайшем из всех несчастий. Как сострадаю я тебе и как мы все несчастливы! Бога ради, не покидай нас и не оставляй одних.
Твой брат, твой верный подданный на жизнь и на смерть.
Николай».Никогда позже ни единым словом Николай не признался, как он мог позволить совершить Милорадовичу такое насилие над ним: ведь задержись Николай с присягой на четверть или на полчаса — и все события его царствования пошли бы совершенно по-другому. Как бы это на самом деле ни происходило, но Николай проявил себя просто жалким щенком, спасовавшим перед матерым волчищем Милорадовичем, которому не пришлось прибегать ни к оружию, ни к физическому насилию. Это была минута позора настолько дикого и глупого, что никак ни оправдать, ни объяснить его было невозможно. Оставалось лишь скрывать истину и уверять всех, что Николай присягнул по доброй воле и сообразно с собственным намерением. И врать это пришлось буквально через несколько минут.
Как только императрица-мать немного пришла в себя, она тут же озаботилась делами ее единственного присутствовавшего сына и тут же с ужасом узнала, что он уже присягнул брату Константину! «Что сделали вы, Николай? Разве вы не знаете, что есть акт, который объявляет вас наследником?» — вскричала она (разумеется, по-французски).
Вот тут-то и понял несчастный наследник престола, какую глупость успел совершить! Но ведь присяга уже была принесена, а заниматься выяснением юридических тонкостей, чтобы узнать, насколько она законна и чем грозит ее нарушение, уже не было чисто практической возможности. Нужно было либо пытаться начинать царствование с громкого вопля, что он на минуточку ошибся и просит считать его присягу недействительной (ведь ясно, что Милорадович не собирался разрешить спустить эту историю втихую на тормозах!), либо делать вид, что никакой глупости не совершено, а все сделано сугубо правильно.
Разумеется, оставалось только второе. И Николай отвечал: «Если и есть такой акт, он мне неизвестен, никто о нем не знал; но мы все знаем, что наш повелитель, наш законный государь — брат Константин, и мы исполнили наш долг — будь, что будет!»
От курьеров, рассыпавшихся из дворца, столица узнала о смерти императора. Сановники находились на богослужении в Лавре. Теперь они поспешили в Зимний дворец.
Вот теперь нужно вернуться к упомянутым выше странностям с пропажей фельдъегерской почты от 18 ноября, назначением публичного богослужения на 27 ноября и предполагаемой дополнительной задержкой фельдъегерских сообщений в самом Петербурге.
Милорадович вполне мог, получив еще 26 ноября сообщение из Таганрога о безнадежном состоянии императора, скрыть это от всех остальных, но осуществить собственную инициативу по назначению одновременных богослужений царской семьи и гражданского правительственного руководства на следующий день заведомо в разных концах города. Наконец, дополнительная задержка уже следующей (от 19 ноября) полученной почты в руках самого Милорадовича позволяла использовать запас времени в несколько часов, чтобы совершенно точно синхронизировать подачу информации о смерти императора в Зимний дворец со временем после начала назначенных богослужений.
В противном случае могли возникнуть еще худшие для Милорадовича осложнения, чем описанные непосредственно ниже.
Примчавшийся князь А.Н.Голицын с ужасом узнал о присяге — его опоздание, как видим, скорее всего было искусно организованным. Сначала он набросился с упреками на Николая, а затем сделал решительную попытку исправить происшедшую ошибку и потребовал собрания Государственного Совета.
Трубецкой, затесавшись в компанию к адъютантам Николая Павловича (мы помним, что и они некогда состояли в заговоре!), присутствовал то ли непосредственно в зале заседания, то ли (согласно другой редакции его воспоминаний) в соседней комнате, а затем оказался свидетелем и последующего.
Голицын потребовал принести ларец с пакетом, на котором собственной рукой покойного императора было начертано: «Хранить в Госуд[арственном] совете впредь до моего востребования, а, в случае моей кончины, раскрыть прежде всякого другого действия в чрезвычайном собрании».
Милорадович пытался возражать, но затем заявил, что из уважения к памяти покойного государя с этими документами нужно ознакомиться, но согласно закону императором все равно должен стать старший после покойного брата Константин Павлович, и что он по праву уже есть император.
Ларец был внесен, и документы зачтены. На основании бумаг, составленных и Александром, и Константином, не оставалось сомнений в законности престолонаследия Николая. Принесенная присяга была явно незаконной, т. к. как же можно присягать человеку, письменно отказавшемуся от прав на престол!
Возможно, Государственный Совет нашел бы в себе решимость и государственную мудрость, чтобы правильно разобраться с возникшей юридической коллизией, как это сделал сам великий князь Константин Павлович, ознакомившись с нею же, но с вполне понятной задержкой — только 2–3 декабря 1825 года (об этом ниже). Но в этой критической ситуации Милорадович заявил, что Николай был знаком с содержанием документов и несмотря на это признал законным наследником Константина — по существу это была прямая ложь.
В защиту членов Государственного Совета нужно, однако, заявить, что они были поставлены формально Николаем, а фактически Милорадовичем в совершенно нелепое положение: если абсурдно присягать Константину как лицу, уже отказавшемуся от престола, то также нельзя присягать и Николаю, уже присягнувшему Константину, а следовательно — тоже отказавшемуся от престола.
Н.С.Мордвинов первым предложил принести присягу Константину — за это он надолго лишился доверия Николая, все пытавшегося отыскать связи адмирала с заговорщиками. Но Совет все же решил сначала выслушать мнение самого Николая, и члены Совета направились к последнему.
По позднейшим показаниям Николая, тут он в первый раз ознакомился с текстами от 14 января 1822 года и 16 августа 1823 года, получив их из рук председателя Государственного Совета князя П.В.Лопухина. Все было ясно, но что делать с уже принесенной им самим присягой? Заявить, что он не знал текста этих бумаг и потому присягнул? Но разве это не такая же глупость, как и торопливая присяга до четкого выяснения вопроса о том, существуют ли на этот счет какие-либо формальные распоряжения и документы? В любом варианте Николай, признавший, что зря принес присягу, выглядел именно таким идиотом, каким он и оказался действительно в лапах Милорадовича.
И Николай предпочел тянуть единственную линию, спасающую его репутацию: заявил, что он действительно знаком с документами, но все равно присягнул брату. Это тоже была прямая ложь, но игра в благородный отказ от трона — все, что оставалось Николаю, буквально позорно изнасилованному Милорадовичем.
Хитрый граф Ю.П.Литта обратился к Николаю: «По воле покойного государя мы, не присягнувшие Константину Павловичу, признаем вас нашим государем; вы одни можете нам повелевать, и буде воля ваша непреклонна, мы должны вам повиноваться, но просим, ведите нас сами к присяге» — и Николай повел членов Государственного Совета присягать Константину.
Секретные же бумаги, копии которых были тут же изготовлены для пересылки Константину, были вновь запечатаны и упрятаны в архив Государственного Совета.
Между тем, распоряжения о принесении присяги продолжали распространяться, и к концу дня присягнула практически вся столица.
Вопреки надписи на запечатанном конверте, экземпляр Манифеста 16 августа, хранящийся в Сенате, так и не вскрывался, а по распоряжению министра юстиции князя Д.И.Лобанова-Ростовского был передан ему запечатанным. Сенат же сразу 27 ноября вынес Указ о воцарении Константина.
Экземпляр, хранившийся в Синоде, также остался нераспечатанным — по соглашению петербургского митрополита Серафима с Николем Павловичем. Таким образом, и он не сыграл никакой роли.
Всюду чиновники присягали просто по прямому распоряжению вышестоящего начальства, и совершенно незаконная присяга не встречала ни малейшего сопротивления. Словом, все происходило так, как и было бы, если бы Константин совершал государственный переворот, в подготовке которого его и подозревал Александр. Неважно, что переворот совершал не Константин, а Милорадович, действовавший, как мы знаем, вопреки решению Константина!
Не помог даже хитроумный маневр Александра, спрятавшего экземпляр Манифеста в Москве.
В Москве, находящейся на полпути между Таганрогом и Петербургом, неофициально узнали о смерти Александра I 28 ноября.
29 ноября Филарет сообщил московскому военному генерал-губернатору князю Д.В.Голицыну, какого рода документом он располагает. При этом Филарет, прекрасно оценивший замысел покойного императора, предупредил, что можно ожидать манифеста из Варшавы о воцарении Константина, но нельзя сразу вслед за этим присягать Константину в силу секретного документа. Осторожные московские начальники, посовещавшись, решили ждать вестей из Петербурга и действовать по обстановке.
Приехавший вечером 29 ноября Мантейфель привез указание Милорадовича немедленно присягать Константину — хотя Москва вовсе не подчинялась петербургскому генерал-губернатору. Но если бы не Филарет, то так бы и поступили. Филарет с трудом добился задержки до первой половины следующего дня, 30 ноября: когда пришел официальный Указ Сената, тогда присягнули и в Москве.
Быстро ускакавший из Петербурга Мантейфель об Указе Сената не знал и не мог использовать этот аргумент для усиления своей позиции. Мантейфель пересилить Филарета не смог — дело решила общая победа, достигнутая Милорадовичем в Петербурге. Филарет, учитывая коньюнктуру дня, не рискнул опубликовать бумаги Александра, как был обязан сделать в случае сообщения о смерти последнего.
Впоследствии действия Филарета были официально одобрены Николаем I, признавшим, что одновременная присяга разным императорам в Петербурге и Москве могла привести к ужасающим последствиям, не исключая гражданской войны. Такую оценку нужно считать объективно верной.
Этот замысел Александра I оказался, таким образом, хитрым, но не умным. В конечном итоге он был и раскрыт, и побит Милорадовичем.
Вечером 27 ноября к Константину в Варшаву были посланы дополнительно письма, подробно уведомляющие о происшедших событиях, приложен текст Манифеста 16 августа 1823 года и свежий журнал только что прошедшего заседания Государственного Совета.
Присяга Константину формально отдавала Россию в его власть.
Несколько позже, однако, Николай послал навстречу Константину и Ф.П.Опочинина. Позже со ссылкой на Опочинина возникли слухи, что тайная цель, которую поставил Николай перед Опочининым, была в том, чтобы уговорить Константина отказаться от престола — в соответствии с ранее данными последним обязательствами перед покойным Александром. В эти дни (27, 28 и 29 декабря) Опочинин неоднократно вызывался во дворец и беседовал с великим князем Николаем Павловичем. Наконец, в ночь на 30 ноября, он выехал в сторону Варшавы, но до встречи с великим князем Михаилом Павловичем успел добраться лишь до Нарвы.
Трубецкой мог самолично наблюдать, как члены Государственного совета направились сначала к Николаю, а потом вмести с ним — к присяге. Позже вечером он посетил и Сенат, где получил информацию о только что принятом Указе также из первых рук: обер-прокурор С.Г.Краснокутский тоже был участником заговора, причем — «Южного общества»!
Любопытно, что в Сенат Трубецкого привело, по его собственному признанию, желание выяснить судьбу помещенного туда экземпляра запечатанного пакета с завещанием Александра I!
На заговорщиков произвело сильнейшее впечатление, насколько легко было заставить чиновную Россию принять какое угодно распоряжение — лишь бы оно исходило от вышестоящих начальников.
Не меньшее впечатление произвела и реакция единственной инстанции, которая попыталась усомниться в законности происходившего. Это случилось во время присяги членов Государственного Совета. Вот рассказ Трубецкого: «В комнате, где стоит обыкновенно внутренний караул, бывший в тот день 1-го взвода роты его величества лейб-гвардии Преображенского полка, стоял аналой с крестом и евангелием. Солдаты спросили, что это значит? «Присяга», — отвечали им; они все в один голос: «Какая присяга?» — «Новому государю». — «У нас есть государь». — «Скончался». — «Мы не слыхали, что он и болен был». Пришел комендант Башуцкий и стал им рассказывать, что известно было о болезни и смерти государя. Тогда головной человек вышел вперед и начал те же возражения, прибавив, что они не могут присягать новому государю, когда есть у них давно царствующий, и верить о смерти его не могут, не слыхав даже о болезни. Дежурный генерал штаба его величества Потапов пришел на помощь коменданту, подтвердил его слова и начал уговаривать людей принять требуемую присягу. Солдаты настаивали упорно на своем отказе. Между тем великий князь Николай Павлович и члены Государственного Совета успели уже присягнуть в церкви, и Николай вышел к упорствующему караулу и подтвердил слова генералов и объявил, что он сам уже только что присягнул новому государю Константину Павловичу. Волнение утихло, и солдаты присягнули».
Готовность солдат стоять на страже интересов правящего царя и недоверие к чистоте помыслов высочайшего начальства стали важнейшими факторами, положенными в основу замысла выступления 14 декабря.
Резюме всему виденному и слышанному в день 27 ноября 1825 года Трубецкой сформулировал так: «Верю очень, что в[еликий] к[нязь] Николай мог заставить себя провозгласить императором от членов Совета, Сената и двора, хотя многие его и не желали, но робость противников его в выражении их мыслей заставляет меня оставаться в уверенности, что никто из них не осмелился бы явно противуречить. Сверх того, надобно признаться, что и Константин был не такая находка, для которой нашлось бы много охотников порисковать своею безопасностью. Один граф Милорадович смел бестрепетно высказывать свои убеждения и противиться всякому незаконному поползновению. Он держал в своих руках судьбу России, и спас столицу от общего и всенародного возмущения, которое непременно бы вспыхнуло, еслиб тотчас после кончины Александра потребована была присяга Николаю. Если Николай добровольно покорился убеждениям графа, то заслужил признательность Отечества; но еслиб он захотел силою добыть престол, то не сомневаюсь, что не нашел бы в графе Милорадовиче себе сообщника».
Внезапная смерть императора Александра и присяга Константину ударили большую часть заговорщиков, как обухом по голове. Ведь все их прежние планы, точнее — намерения, сводились к попытке произвести переворот в случае убийства или смерти прежнего государя. И вот эта смерть случилась — и выяснилось, что на самом деле заговорщиками за столько лет существования заговора ничего не предусмотрено и не приготовлено. Стало очевидным, что никакого заговора просто не было, а была одна говорильня.
Заметим, что и утверждение Трубецкого о всеобщем возмущении в случае присяги Николаю, а не Константину, по существу остается бездоказательной гипотезой — ведь и сами заговорщики пока ничего не предпринимали, чтобы выступить в подобной ситуации. Их самих с полным основанием следует отнести к тем робким противникам Николая, которые не осмелились бы явно противуречить — они также по-существу спрятались за спину Милорадовича! Иное дело, неизвестно что бы получилось, если бы Николай не спасовал и дело дошло до прямого открытого конфликта между великим князем и Милорадовичем, привыкшим к безоговорочному повиновению своих гвардейцев — это-то его и погубило 14 декабря!
Теперь же рядовые участники заговора были просто обескуражены.
Рылеев показал на следствии, что Якубович ворвался к нему с криком: «Царь умер, это вы его у меня вырвали!»
Подполковник корпуса путей сообщения Г.С.Батенков, недавно принятый в «Северное общество», говорил Бестужевым (Николаю и Александру): «Потерян случай, которому подобного не будет в целом 50 лет: если б в Государственном совете были головы, то ныне Россия присягнула бы вместе и новому государю, и новым законам. Теперь все для нас пропало невозвратно».
Николай Бестужев, которому Рылеев протрубил уши одами о всесилии Тайного общества и неизбежности его выступления сразу после убийства или естественной смерти Александра I, высказал обоснованные упреки своему вождю. Рылеев не мог найти слов для оправдания, хотя, как мы понимаем, тут уже совершенно нечестная игра: сам Рылеев был предуведомлен по меньшей мере за трое суток до происшествия и мог бы принять какие-нибудь меры для активизации заговорщиков, если бы это соответствовало его намерениям.
Мало того, известно, что когда весть о тяжелой болезни государя достигла членов филиала «Южного общества» в Петербурге П.Н.Свистунова и А.С.Горожанского (очевидно, вечером 26 или уже утром 27 ноября — в связи с назначением богослужения о выздоровлении), то через своего однополчанина А.М.Муравьева (младшего брата Никиты) они запросили позицию «Северного общества». Рылеев и Оболенский передали: «если будут присягать цесаревичу, то присягнуть, в противном случае сопротивляться».
Запрос вызвал, по-видимому, ответный интерес Е.П.Оболенского: в докладе Следственной комиссии Николаю I, представленном в мае 1826 года, сказано: «Князь Оболенский посылал в сей самый день спрашивать у кавалергардского корнета Александра Муравьева, можно ли надеяться на их полк для произведения бунта, Муравьев отвечал, что это намерение безумное».
Но теперь Рылеев счел нужным отступить перед энтузиазмом Бестужевых. Они вместе бросились наверстывать упущенные возможности: принялись было составлять воззвание к войску, но, не имея средств его размножить, решили сами — Рылеев и два Бестужевых (Николай и Александр) — обойти ночью все посты в столице и сообщить солдатам, что их обманули, «не показав завещания покойного царя, в котором дана свобода крестьянам и убавлена до 15 лет солдатская служба». Жадное ответное внимание вдохновило заговорщиков. Одно было плохо: от усталости они с ног валились, а Рылеев даже простудился. Пришлось прекратить эту агитационную деятельность.
В последующие дни рассматривалось предложение Рылеева поставить все же эту пропаганду на широкую ногу и использовать для возбуждения войск и захвата власти в столице в собственные руки. Было, однако, общепризнанно, что эта идея не имеет никаких шансов на успех. Таким образом, практически получилось нечто вроде урока на тему о бессильности Тайного общества, и, очень похоже, что провел его не кто-нибудь, а сам Рылеев — совсем как в Кронштадте в начале прошлого июня…
Рылеев, как мы покажем ниже, просто не мог, не имел права сообщить большинству своих сторонников, что переворот на самом деле уже произведен — и это было именно то, на что реально только и могло рассчитывать трезвомыслящее руководство заговора.
Тем, в сущности, и завершилось бы выступление Тайного общества, если бы не выяснилось, что Россия присягнула вовсе не тому наследнику, какому было положено.
А вот какими были бы последующие действия Милорадовича, если бы Константин решился вступить на престол — это нуждается в серьезном анализе, которого просто никто не потрудился сделать.
Мотивы Милорадовича, вроде бы в одиночку гениально осуществившего государственный переворот, так и остались загадкой. Каких только пошлейших мнений об этом ни высказывалось!..
Барон В.И.Штейнгель, отставной подполковник, заговорщик с недавним стажем, но автор проекта манифеста, с которым мятежники вышли 14 декабря на Сенатскую площадь, слабо разбирался в петербургских реалиях. Рылеев ему объяснил 13 декабря, «что если прямо не присягнули Николаю Павловичу, то причиною тому Милорадович, который предупредил великого князя, что не отвечает за спокойствие гвардии». Заинтригованный загадочным поведением графа, Штейнгель решил разобраться в причинах и пришел к глубокомысленным выводам: «Он был чрезвычайно расточителен и всегда в долгу, несмотря на частые денежные награды от государя, а щедрость Константина была всем известна. Граф мог ожидать, что при нем заживет еще расточительнее» — такая сплетня широко гуляла по тогдашнему Петербургу.
Трубецкой возмутился такой глупостью и несправедливостью: «Это непростительно в отношении человека, действовавшего в это критическое время прямо и благородно. Конечно граф мог ожидать, что если дело как слишком видимо было должно кончиться воцарением Николая, то этот не простит ему оказанной оппозиции. Мнение же высказанное, будто бы известная щедрость К[онстантина] могла быть побуждением гр[афу] М[илорадовичу] стоять за К[онстантина], в надежде зажить еще расточительнее, вовсе не заслуживает никакого уважения, тем более что никогда К[онстантин] не считался таким щедролюбивым».
Сам Трубецкой, по-видимому, достаточно знал о планах Милорадовича, но предпочел унести эту тайну с собой в могилу, ограничившись лишь намеком, приведенным выше, что и Константин был не такая находка, для которой нашлось бы много охотников порисковать своею безопасностью.
Главное было, следовательно, не в замене Николая Константином!..
8. Междуцарствие 1825 года
В полном спокойствии почти целую неделю столица ждала прибытия нового императора из Варшавы.
Вместо этого 3 декабря 1825 года в 6 часов утра до Петербурга добрался великий князь Михаил Павлович. Еще по дороге, начиная с Митавы и особенно после Риги, до него и его спутников доходили слухи о присяге в Петербурге Константину Павловичу. Наконец в Нарве, встретив Опочинина, направлявшегося в Варшаву, великий князь узнал подробности событий, происшедших в столице. С ним же вернулся в Петербург и Опочинин: из рассказов великого князя и его спутников он уяснил излишность своей тайной миссии.
Отметим чрезвычайно любопытную деталь путешествия великого князя. Рассказ о нем записан бароном М.А.Корфом со слов самого Михаила в декабре 1847 года, полностью опубликован еще в 1908 году, а затем неоднократно переиздавался. В текст вкраплена одна неточность — то ли ошибка памяти ввиду давности происшедшего, то ли просто описка: конец пути датирован 1 декабря, тогда как все иные источники называют приведенную дату — 3 декабря (это отмечено и публикаторами названной ниже книги). Все же это — косвенное указание на возможность и других неточностей. Об этом, конечно, нужно помнить, но со свидетельством всегда следует считаться, если оно ничем не опровергнуто.
Так вот, фрагмент о первой вести, полученной великим князем Михаилом о присяге в столице, в этом рассказе выглядит следующим образом: «На всем протяжении пути до Митавы никто еще не подозревал постигшего Россию несчастия, и все было тихо по обыкновению. В самой Митаве жил тогда, по званию командира 1-го корпуса, Иван Федорович Паскевич /…/. В проезд великого князя Паскевич явился к нему и от него первого услышал о кончине Александра Благословенного. Но до самого великого князя слухи о событиях петербургских достигли не прежде, как на первой следующей станции, Олае. При нем в коляске находился адъютант его [И.П.]Вешняков; за ними, во второй коляске следовали другой его адъютант князь Долгоруков и медик Виллье. В Олае, пока перепрягали лошадей, Долгоруков донес, что в Митаве, между тем как у великого князя был Паскевич, один проезжий из Петербурга рассказал им, что великий князь Николай Павлович, а за ним все войско, все правительства, весь город принесли присягу государю императору Константину Павловичу. /…/ Эта весть повергла великого князя в большое волнение» — и он, очевидно, поспешил с несколько большим пылом.
Таким образом, в Митаве (ныне Елгава), куда никто специально фельдъегерей в те дни не посылал, на полпути между Варшавой и Петербургом сошлись вести о кончине Александра (случившейся 19 ноября в Таганроге), присяге Константину (происшедшей 27 ноября в Петербурге) и отказе Константина от престола (сделанном 25 ноября в Варшаве и посланным сутками позже). Эпизод этот, исходя из скорости движения Михаила Павловича и его попутчиков, с достаточной точностью можно отнести к 30 ноября. Во всем этом нет ничего примечательного, кроме наличия Виллье среди спутников Михаила Павловича.
В именном указателе к книге «14 декабря 1825 года и его истолкователи (Герцен и Огарев против барона Корфа)» (М., «Наука», 1994, с. 435) констатируется, что это — тот самый Я.В.Виллие, который вплоть до 19 ноября безуспешно лечил в Таганроге умиравшего императора Александра I. Такой комментарий никак не разъясняет достаточно странную ситуацию.
Мог ли практически Виллие, заведомо находившийся в Таганроге днем 19 ноября, ровно через неделю вечером выехать из Варшавы в Петербург?
Если очень хотел, то мог: для этого достаточно было ехать от Таганрога до Варшавы со скоростью фельдъегеря, что для немолодого медика трудно, но возможно. Дальнейший путь в компании с великим князем и вовсе был достаточно комфортабельным.
Значительно труднее допустить возможность его выезда из Таганрога не позднее утра 20 ноября — ведь у него там хватало дел с посмертным обслуживанием тела и оформлением официальных бумаг. Но здесь нужно сделать поправку, исходя из предполагаемой цели путешествия Виллие.
Сам маршрут указывает, что Виллие хотел встретиться с царем (зачем — мы рассмотрим несколько позже) — не обязательно с Константином персонально, а с новым императором — кто бы им ни был. Выезжая из Таганрога, Виллие, выполнивший неотложные обязанности, мог предполагать, что не успеет в Варшаву до отъезда Константина в столицу. Как он должен был поступить, если хотел встретиться с царем как можно скорее?
В XIX веке, понятно, не умели стрелять по движущимся танкам и самолетам, но логика стрелка, целящего в летящую птицу или скачущего всадника, была предельно ясна. Поэтому опаздывающий Виллие должен был ехать не в Варшаву, а нацелиться с упреждением — в Ригу или Митаву, а уж там, выяснив, что новый император не проезжал, ждать или двигаться навстречу. От Таганрога до Риги или Митавы, если ехать быстрее почты, но медленнее фельдъегеря — суток восемь-девять пути. Чтобы перехватить там Константина (или Михаила, оказавшегося вместо него), можно было выехать из Таганрога уже числа 21 или даже 22 ноября. Вот это уже в пределах разумных возможностей, и даже не нужно было изобретать предлог для страшной спешки, а просто собрать все официальные медицинские бумаги о смерти, вскрытии и прочих посмертных процедурах и самолично выехать для высочайшего доклада!
Михаил Павлович (не самый проницательный мыслитель своего времени!), если не придал значения самому факту пребывания Виллие в своей свите, то не должен был придавать и особой роли появлению его в ней — не позднее, чем в Митаве. Если Виллие хотел видеть царя по весьма уважительной причине, то ему вполне естественно было присоединиться к Михаилу, уже не заезжая в Варшаву: ведь спутники Михаила или он сам объяснили, что Константин царем быть не собирается.
Ниже мы дадим разъяснение загадочной подвижности лейб-медика. Вот только почему на таком удивительном факте никто из историков и читателей не сконцентрировал внимания?
Приехав в столицу, Михаил первым делом заехал в собственный дом к своей жене. Сразу же его навестили вместе Николай Павлович и Милорадович. Последний не только желал услышать о позиции Константина из первых рук, но и старался все эти дни самым плотным образом опекать Николая и держать под контролем все его действия. Только пожар, вспыхнувший в тот момент «где-то в строениях Невского монастыря», потребовал немедленного присутствия генерал-губернатора и позволил братьям остаться наедине.
Тут, судя по всему, между братьями произошел довольно неприятный разговор. Михаил, разогретый сведениями, дошедшими до него по дороге, никак не мог понять, каким образом Николай мог допустить происшедшую нелепость, а последний, естественно, не мог ничего объяснить вразумительно. «Михаил высказывал такие ложные мысли о благородном поведении Николая, которое он называет революционным!», — с обидой записала на следующий день в своем дневнике Александра Федоровна — супруга Николая.
Не найдя общего языка, оба брата отправились к матери, причем, если верить запискам Николая, то Михаил даже не соизволил объяснить брату, что же решил Константин. Михаил больше часу говорил с матерью один на один, а Николай смиренно дожидался вердикта в соседней комнате.
Царица-мать поздравила Николая (в оригинале — диалог по-французски): «Ну, Николай, преклонитесь перед вашим братом: он заслуживает почтения и высок в своем неизменном решении предоставить вам трон».
На это Николай, изнервничавшийся за последнюю неделю, возразил: «Прежде чем преклониться, позвольте мне, матушка, узнать, почему я это должен сделать, ибо я не знаю, чья из двух жертв больше: того ли, кто отказывается (от трона), или того, кто принямает (его) при подобных обстоятельствах».
Милорадович, успевший управиться с пожаром, немедленно подтвердил, что поздравлять Николая пока что не с чем. Другим участником совместной беседы стал князь А.Н.Голицын.
Последний, напоминаем, оказался на заседании 27 ноября практически в полном одиночестве против всего состава Государственного Совета. Его конфликт с Милорадовичем стал самым острым моментом того достопамятного дня. Затем позиция князя существенно переменилась.
По-видимому, Милорадович сумел убедить этого друга детства Александра I, что желания покойного императора и государственные интересы все еще живой России — по сути вещи принципиально разные. За прошедшие дни противоречия между ними не только исчерпались, но Милорадович и Голицын вплоть до утра 14 декабря действовали вместе, практически единым сплоченным дуэтом. Это подчеркивает гениальность Милорадовича в общении с людьми!
Впрочем, в его арсенале на подобные случаи находились и достаточно тупые и доходчивые аргументы!
Едва ли Милорадович мог угрожать непосредственно Марии Федоровне — тут он наверняка действовал только обаянием. По всем внешним признакам, вдовствующая императрица была вполне убеждена, что все происшедшее совершено исключительно ради блага правящей фамилии и во избежание кровавого сопротивления неудачно подготовленному закулисному переходу престолонаследия. Недаром в последующие дни Милорадович был награжден царицей-матерью драгоценным перстнем — в знак искреннего признания его выдающихся заслуг!
Милорадович отказался признать отречение Константина, привезенное Михаилом, и рассуждал вполне резонно: 25 ноября Константин волен был решать вопрос как хотел и в соответствии с тем, что из себя представляла ситуация в Российской империи на момент смерти Александра I; теперь же все радикально переменилось. Теперь на Константине лежит бремя ответственности за большую часть империи, присягнувшей ему как императору. В эти дни присяга продолжала распространяться по России на юг, север и восток, добираясь до последних медвежьих углов. Право и долг Константина — не отказываться от такого тяжкого дара, возможность которого обременяла его с самого рождения. Против такой логики — крыть нечем!
Милорадович исподволь позволял себе угрожать недовольством гвардии и настаивал на непременном исполнении одного из трех условий, возможных для Константина: либо вступление на трон, либо самоличный приезд в Петербург для четкого публичного разъяснения недоразумений, либо недвусмысленный Манифест от его имени, как императора, которому страна уже присягнула, с отречением от престола. В противном случае Милорадович не ручается за сохранение спокойствия и поддержание порядка. Крыть, опять же, было нечем.
Николаю оставалось теперь только поддерживать Милорадовича, ибо эта линия и оправдывала его собственное капитулянтское поведение 27 ноября, и максимальным образом обеспечивала безопасность перехода трона к нему, если с этим в конечном итоге соглашался Константин.
Позиция Милорадовича не вызывала личных подозрений ни у кого из членов царской фамилии, за исключением, возможно, Николая — и то несколько позднее.
Сейчас же, оправившись от первых потрясений от вестей из Варшавы, отразившихся в столь непочтительной реплике в адрес старшего брата, Николай снова ожил: возобновлялись его надежды на немедленное занятие трона! В последующем разговоре двух братьев наедине (во время обеда позже в этот же день), уже Николай не испытывал опасений перед новой грядущей присягой, что вызывало серьезную озабоченность младшего великого князя.
В эти дни Милорадович полностью контролировал ситуацию и в столичном гарнизоне, и среди населения столицы, и во всех главнейших учреждениях России, и в царском дворце — т. е. по существу держал в руках власть над всей империей — за некоторыми досадными исключениями.
Междуцарствие 1825 года вошло в учебники чуть ли ни как период безвластия, позволившего разгуляться революционным страстям. На самом деле в это время (практически — еще со 2 сентября 1825) власть в столице и России находилась в руках самого выдающегося по качествам политика из ее руководителей на протяжении по крайней мере всего XIX века! Только вот в последние два дня его правления власть заколебалась и выскользнула из его рук!..
При отсутствии законного государя никто не мог поколебать власти Милорадовича! Это вытекало и из его формальных прав, и обеспечивалось его личным превосходством над любым, кто осмелился бы противоречить! Но это — при отсутствии законного государя, повторяем, и при условии, что сам Милорадович не выступает против признанного законного государя. В последнем случае решающим фактором становится присяга, заставляющая людей, независимо от несравненных личных качеств Милорадовича, подчинять себя приказам или интересам уже императора, а не кого-либо еще. Такой порядок сохранялся в России почти неколебимо вплоть до февраля 1917 года. Это и было условием, ограничивающим всемогущество великого воина, и вынуждающим его самого четко удерживать собственные решения и поступки если и не строго в рамках, то не слишком далеко за границами допустимого.
Великим князьям Николаю и Михаилу было бы трудно согласиться, что эта опека — исключительно им во благо, если бы они ее замечали. Но, похоже, к действиям Милорадовича они пока должным образом не присматривались. Во всяком случае, их обоих совсем не заинтриговал побег Милорадовича утром 3 декабря на тушение какого-то горящего сарая — вместо присутствия при их диалоге. Мы же не ошибемся, предположив, что Милорадович мог пренебречь присутствием при выяснении отношений двух очень занимавших его персонажей только исключительно ради более актуального дела.
Таковым могла быть, на наш взгляд, только беседа с приехавшим Виллие. Коль скоро последний так жаждал что-то поведать главному начальству, то Милорадовичу нужно было ему объяснить, кто здесь самый главный и выяснить, чего же хочет лейб-медик. Последний, очевидно, был вполне удовлетворен выяснением волновавших его проблем, и в дальнейшем оставался так же незаметен, как Аракчеев, прибывший, напоминаем, в столицу несколькими днями позднее.
Генерал-губернатор по существу вел себя как диктатор (недостижимая мечта Пестеля!), а царской фамилии нужно было теперь либо соглашаться с его позицией, либо вступать в борьбу. Причем у членов царской семьи, находящихся в Петербурге, выбора по существу не было — и они подчинялись!
Сделать что-либо против Милорадовича великие князья в Петербурге практически все равно ничего не могли — нравилось ли это им самим или нет. Гораздо хуже для Милорадовича было то, что ему не подчинился Константин, и, похоже, не собирался подчиняться. Вот эта ситуация уже грозила трагическими последствиями и нуждалась в срочном исправлении.
Оказалось, в конечном итоге, что фатальную ошибку в этот момент совершил Милорадович, снова предоставив право решающего выбора Константину: вердикт последнего единым махом перечеркнул все ожидаемые результаты переворота 27 ноября и всю титаническую работу, затраченную для осуществления этого переворота, которая, как мы покажем, отнюдь не ограничивалась личными усилиями Милорадовича!
Сформулированные условия были изложены в письмах к Константину, которые в 9 часов вечера 3 декабря повез в Варшаву фельдъегерь Белоусов. Позже ночью туда же снова послали и Ф.П.Опочинина, который до этого, как упоминалось, составил под диктовку Николая всю хронику прошедшей декады.
Здесь опять предоставим слово Трубецкому: «Опочинин поехал с намерением употребить все средства, чтоб уговорить Константина приехать в столицу империи, и даже имел надежду, что слова его подействуют достаточно, чтоб заставить Константина принять царство. Он вспомнил, что когда Константин писал к Александру по настоянию его величества в 1822 г[оду], то он сказал Федору Петровичу, что имеет полную уверенность, что не переживет своего брата. Жена же Опочинина Дарья Михайловна /…/ не разделяла надежд своего мужа и говорила мне, что она уверена, что Константин не примет престола, что он всегда говорил: «Меня задушат, как задушили отца»» — как видим, заговорщики и тут непосредственно контролировали каждый шаг действующих лиц, хотя коллективное постановление, вынесенное спонтанно сформированным «политбюро» (императрица-мать, оба великих князя, Милорадович и Голицын) было решено сохранить в этом узком кругу: только так обеспечивалась свобода рук для принятия дальнейших решений без возбуждения публики и ее вмешательства в келейную политику.
В конечном итоге, запрет был наложен на распространение любых сведений о решениях, принятых Константином 25 ноября. В этом был резон, пока сохранялись шансы на то, что Константин передумает и взойдет на престол — так что спорить не приходилось.
Другим достижением Милорадовича стала необходимость дожидаться ответа на депеши, посланные с Белоусовым. Тем самым 3 декабря междуцарствие автоматически продлялось до 12–13 декабря — когда можно было ожидать возвращения Белоусова и когда он действительно вернулся с ответами Константина Павловича; ниже мы объясним, почему это было важно.
Опочинин же и вовсе не успел возвратиться в столицу до 14 декабря.
Как известно, отсутствие информации — тоже информация! Тем более, что Михаил и его спутники не могли не делиться хоть какими-то сведениями!
Отсутствие официальных сообщений после приезда Михаила породил в столице море слухов. Весь Петербург облетела весть, полученная от его свиты, что в Варшаве Константину не присягали!.. Мало того, и прибыв в столицу Михаил и его спутники приносить присягу Константину явно не собирались — только один из прибывших, оказавшись во власти своего постоянного местного начальства, был немедленно приведен к присяге!.. Развивались невероятные события!
Положение Михаила становилось нестерпимым: все приставали к нему, в пределах вежливости, конечно, но настойчиво пытаясь выведать суть происходящего, а Михаил должен был молчать: ведь ясно, что прими Константин в этот момент царствование, подчиняясь как бы внезапным, хотя и не вполне законным обстоятельствам — и никто в России и словом бы не пикнул, но тем более незачем было оставлять такую возможность и на будущее.
5 декабря в дневнике Александры Федоровны записано: «В течение нескольких часов споры и горячие обсуждения у матушки с обоими великими князьями и Милорадовичем. Последний передавал все ходящие по городу толки и разговоры солдат.
Матушка решила, что Михаил должен тотчас же поехать в Варшаву, чтобы умолять Константина дать манифест; она написала Константину, на коленях заклиная его приехать и покончить все. Михаил уехал в 6 часов [вечера]».
Официально Михаил ехал, чтобы успокоить Константина о состоянии здоровья матушки, а фактически — за окончательным решением старшего из великих князей. Его снабдили предписанием, написанным императрицей-матерью Марией Федоровной, дающим ему право вскрывать всю почту, перевозимую курьерами — чтобы Михаил был в курсе всех происходивших событий.
«Когда ты увидишь Константина, скажи и повтори ему, что если так действовали, то это потому, что иначе должна была бы пролиться кровь», — напутствовала Михаила мать. «Она еще не пролита, но пролита будет», — в сердцах ответил великий князь.
С собой Михаил Павлович вез письма к Константину от матери, от Николая и от Милорадовича — вот бы прочесть это последнее!
Между тем, Константин Павлович еще 2 декабря получил послания от 27 ноября.
Легко представить, как неприятно ему было ознакомиться с Манифестом от 16 августа 1823 года! Александр опять его обманул, а ведь Константин поверил, что действительно ему предоставлена свобода выбора! Каково, приняв самое тяжелое решение в своей жизни, вдруг узнать, что ты, оказывается, вовсе ничего и не решал!
Но ситуация, созданная Милорадовичем, предоставляла Константину фактическую возможность все опять решать заново. Константин, однако, предпочел остаться верным закону, себе самому и собственному слову.
Несомненно, в то же время, что совершенно справедливая обида на покойного старшего брата в определенной степени обратилась и на Николая. Последний, вроде бы, никак не был виноват в происках Александра и даже сам был жертвой этих происков. Но всем (и Константину, конечно, тоже) должно было быть ясным, что Александр мог предпринять все сделанные им шаги, только опираясь на принципиальное согласие Николая принять трон. И такое согласие, как мы понимаем, действительно было дано: Николай же практически никак не возражал на предложение Александра, сделанное еще летом 1819 года, а только молча в дальнейшем ждал, как же все это разрешится. Окажись на месте Николая более порядочный человек — хотя бы такой, как Константин! — и он должен был бы добиваться у Александра и Константина, чтобы все решалось по справедливости и по ясно выраженной воле Константина, по рождению имеющему все права на занятие престола. Николай же никак не возражал против таинственного и подлого поведения царя — за что в значительной степени и поплатился.
В ответах на письма, отосланных 3 декабря в Петербург, Константин подтверждал свой прежний отказ от принятия престола, а в письме на имя председателя Государственного Совета князя П.В.Лопухина указал на вопиющие юридические изъяны решений, принятых 27 ноября. Здесь Константин, каким бы сумасбродным правителем он ни был (даже варваром — согласно приведенному ниже отзыву С.П.Шипова), проявил себя абсолютно трезвомыслящим человеком с безупречным юридическим чутьем.
Первое, на что он указал, был текст прежней присяги, которую все подданные принесли императору Александру I: «в коей, между прочим, именно упомянуто, что каждый верно и нелицемерно служит и во всем повиноваться должен, как его императорскому величеству Александру Павловичу, так и его императорского величества всероссийского престола наследнику, который назначен будет. Каковая присяга, будучи повторяема при производстве в чины и других случаях, тем вящше должна быть сохраняема в памяти каждого верноподданного.
А как, из раскрытых бумаг в Государственном совете, явно обнаружена высочайшая воля покойного государя императора, дабы наследником престола быть великому князю Николаю Павловичу: то, без нарушения сделанной присяги, никто не мог учинить иной, как только подлежащей великому князю Николаю Павловичу, и следовательно присягу ныне принесенную, ни признать законной, ни принять оную не могу», — можно спорить, насколько текст присяги, написанный еще в марте 1801 года, соответствовал закону Павла I о престолонаследии, но Константин совершенно справедливо указал, что присяга, принесенная почти всей Россией ему самому, Константину Павловичу, является формально изменой присяге, сделанной ранее!..
Разумеется, абсолютное большинство россиян, не ознакомленных с текстом Манифеста от 16 августа 1823 года, не знали этого. Поразительно, однако, как это не пришло в голову никому из ученых мужей, заседавших в Государственном Совете!..
Очень любопытно, что россияне, неоднократно повторявшие, как справедливо заметил Константин, текст присяги, никогда, очевидно, о нем не задумывались!
Повторим, однако, что Государственный Совет был поставлен в нелепое положение: если абсурдно присягать Константину как лицу, уже отказавшемуся от престола, то также нельзя присягать и Николаю, уже присягнувшему Константину, а следовательно — тоже отказавшемуся от престола.
Заметим, что 27 ноября оставались, в сущности, только следующие претенденты, которые могли бы принять царство безо всяких юридических нарушений, а первым из них был малолетний Александр Николаевич!
Правда, уже 3 декабря положение было исправлено Константином.
До недавних изысканий российских историков не было известно, что накануне 14 декабря и даже прямо в этот самый день существовало нечто вроде заговора с намерением возвести на трон царицу-мать Марию Федоровну и тем исчерпать все возникшие противоречия. Во главе этого дела называют ее брата — герцога Александра-Фридриха Вюртембергского (дядю упомянутого Евгения Вюртембергского), находившегося в то время на русской службе и пребывавшего в эти дни в Петербурге. 14 декабря он принял меры к тому, чтобы оба его юных сына-офицера (21 и 18 лет) не участвовали в возникшей междоусобице.
Если к идее возведения на престол императрицы Марии Федоровны был причастен и Милорадович, то нужно заметить, что он сам 3 декабря упустил возможность реализовать это решение: появление Михаила с отказом Константина от царствования лишало Россию уже второго претендента на престол — первым отказался Николай 27 ноября. Вот именно теперь и можно было провозгласить императрицей непосредственно Марию Федоровну (это было бы незаконно, но столь тщательное соблюдение законности никого в России не интересовало — прагматические виды здесь всегда преобладают над юридическими) или даже лучше Александра Николаевича (поскольку именно он был законным наследником престола, в пользу которого Николай и обязан был уступить трон при своем добровольном отречении), а Марию Федоровну — регентшей до его совершеннолетия. Последний вариант не казался бы даже нарушением закона, да и не был таковым, если считать присягу Николая 27 ноября добровольным актом.
Прошел ли Милорадович 3 декабря мимо такой перспективы или предпочел рискнуть ради шансов на приезд Константина, но он лишился в тот момент наиболее реальной возможности довести собственную интригу до логического завершения.
Возможно, однако, и другое объяснение, освобождающее Милорадовича от упреков именно в этой ошибке: до 3 декабря вообще не ожидался отказ Константина от престола, и никаких иных вариантов попросту не планировалось. Идея же возведения на престол Марии Федоровны и появилась в ответ на решение Константина, но не сразу в первый же момент и, увы, в конечном итоге безнадежно запоздало!
Теперь Константин, не признав принесенную ему присягу и юридически безупречно объявив ее противозаконной, освободил от нее и всех присягнувших, в том числе — и Николая. Таким образом, Николай оказался освобожден и от неявного отречения от права на престол, каковым, как упоминалось, и стала для него присяга Константину — очень существенный момент с юридической точки зрения!
С того момента, как письма Константина от 3 декабря попадали в столицу (это случилось 7 декабря), вся ситуация с престолонаследием возвращалась, благодаря решению и разъяснению Константина, к той же позиции, что имела место утром 27 ноября — до присяги Николая. В результате чего, следовательно, последний вновь становился первым законным претендентом на престол.
Заметим кстати, что из множества людей, присягнувших Константину, один Николай не нарушил прежнюю присягу, но это уже просто курьез: оказывается, что никто никогда не озаботился о приведении к присяге Александру I Николая и Михаила, бывших еще малолетними в 1801 году. Почему так получилось и был ли здесь какой-нибудь умысел — неизвестно.
Второй ужасающий промах, указанный Константином, заключался в незаконности всей процедуры присяги, импровизированной тем же Милорадовичем: «сказать должен, что присяга не может быть сделана иначе, как по манифесту за императорским подписанием» — так действительно гласили законы Российской империи.
Константин завершил данное послание уточнением, что сам принес присягу в своем предыдущем письме от 26 ноября ранее царского манифеста исключительно потому, что из устных заявлений покойного императора знал его волю — таким образом Константин ставил точку в юридическом разборе действий сторон.
В письме же к матери Константин высказался вполне определенно о мотивах подтверждения своего первоначального решения: «Более чем когда-либо я настаиваю на своем отречении, чтобы эти господа не воображали себя в праве распоряжаться по своему усмотрению императорской короной», — значение этого известного текста до сих пор не оценили историки!
Нет оснований утверждать, что Константин догадался, что 27 ноября действительно произошел государственный переворот. Но он понял, что члены Государственного Совета руководствовались не законными соображениями, а каким-то задним умыслом!
Можно заподозрить, что это стало важным мотивом решения Константина: ведь прими теперь Константин трон — и он становится заложником тех людей, которым он за это обязан. А вот было бы Константину так же легко избавиться от этих благодетелей, как в свое время управился Александр с графом П.А.Паленом и другими убийцами их отца — это в декабре 1825 года был большой вопрос!
Ранее того, как до Петербурга дошли послания Константина от 3 декабря, во дворец пришло 6 декабря письмо из Варшавы от одного из ближайших приближенных цесаревича — графа А.П.Ожеровского, написанное после двухчасовой беседы с великим князем. Ожеровский писал, еще ничего не зная о том, что случилось 27 ноября в столице: «если в Петербурге уже принесли присягу вел[икому] кн[язю] Константину как законному монарху, то он волей-неволей уже император. Но если еще ничего не сделано в Петербурге, если здесь ждали указа из Варшавы, тогда императором будет Николай. Великий князь решился не изменять принятого им решения вопреки всем письмам и депутациям» — довольно сложная логическая конструкция, отражающая, возможно, тот разброд мыслей и чувств, который охватил Константина в период между 25 ноября и 2 декабря.
Александра Федоровна, однако, отметила в дневнике, что царица-мать сделала тот вывод из письма Ожеровского, что Константин все-таки будет царствовать — акции Милорадовича в данный момент подскочили!
Но 7 декабря в Петербург пришли письма Константина от 3 декабря — и ситуация снова перевернулась.
Еще по дороге курьера встретил Михаил Павлович. Содержание писем не оставляло сомнений в том, что Константин вступать на трон не намеревается.
Что же теперь решат в Петербурге?
Михаил Павлович тут же остановился на промежуточной станции Неннале в трехстах верстах от столицы, чтобы выждать вдали от любопытствующей публики окончательного разрешения всех проблем и получить затем прямые указания будущего вышестоящего начальства — об этом он, естественно, немедленно сообщил в Петербург.
О событиях в Зимнем дворце рассказывается в дневнике Александры Федоровны за 7 декабря: «Вечером, около 8 часов — курьер из Варшавы от 3 декабря с письмом к матушке и с копией официального письма кн[язю] Лопухину, прямо-таки громового. Он [т. е. Константин] не признал себя императором. Милорадович и Голицын у Николая; туда же пришла матушка с письмами и с бумагами. Решено пока держать все в тайне» — письмо к Лопухину также не было передано.
Хотя последнее и было зачтено Николаем на заседании Государственного Совета в ночь на 14 декабря, но текст его и впредь оставался практически засекречен. Позже в публике сложилось мнение, что так было необходимо из-за совершенно неприличных слов, обращенных Константином к Совету и его председателю (опубликованы они были впервые в книге Корфа в 1857 году). Дело было, конечно в другом: сам Совет упрекался в измене присяге и в провокации всей страны на ту же измену — обвинение справедливое, но совершенно убийственное! Естественно, Милорадович не мог допустить такую публичную порку себя и своих сообщников! Позже на это не пошел и Николай I.
7 декабря немногочисленным посвященным стало ясно, что все юридические проблемы Константином разрешены. Теперь следовало издавать манифест от имени Николая о вступлении на престол с разъяснением причин происшедшего сбоя — а это было и непросто, и очень боязно! Тем не менее, прояви Николай волю и решимость — и все, скорее всего, окончилось бы вполне благополучно. Но не тут-то было: препятствием по-прежнему оставался Милорадович, стоявший на том, что ни одно из выдвинутых им необходимых условий (воцарение Константина, приезд его в Петербург или манифест от его имени с отречением) еще не выполнено, а последние письма Константина не учитывают решений, принятых в Петербурге 3–5 декабря: все-таки аппелировать к важности того, что присяга Константину принята большей частью России, а ее отмена грозит недоразумениями и беспорядками.
У посвященных в содержание писем Константина (их число потихоньку увеличивалось, несмотря на меры к соблюдению секретности) уже могло создаться впечатление, что Милорадович руководствуется чистейшим упрямством.
Мы со своей стороны отметим, что Милорадович, исходя из собственных планов, был теперь вынужден тянуть дело до 12–13 декабря — не только ожидая возвращения Белоусова, но и ради другой вести, которую нельзя было получить ранее того.
Ни 7 декабря, ни в последующие дни не было опубликовано никаких сведений о содержании писем Константина, пришедших из Варшавы. С.П.Трубецкой, ознакомившись с их текстом лишь после выхода книги Корфа в 1857 году, счел необходимым в связи с этим осудить общественную позицию, сложившуюся в период междуцарствия:
««Цесаревич не поступил так, как следовало бы поступить, при уважении к своему Отечеству, буде не к Сенату».
Так все мыслили о цесаревиче, и имели на то полное право потому, что ничего более не знали, как только то, что он не принял посланных от Сената. Но обвинения на Константина оказались несправедливыми /…/. Письма цесаревича к Николаю, к князьям Лопухину и Лобанову-Ростовс[ко]му, с приложением торжественного объявления к народу, совершенно его оправдывают. Почему это торжественное объявление не было обнародовано? Его достаточно было, чтоб предупредить не только возстание 14-го Декабря и на Юге, но и всякое противудействие».
Со стороны Трубецкого — это чистейшей воды риторический вопрос. Более откровенно о Милорадовиче и его мотивах Трубецкой не рисковал высказаться и в столь отдаленные годы.
Максимум, который он себе позволил, это пересказать эпизод, прочно вошедший затем в канонизированную историю декабристов: «когда стало известно, что Константин не принимает данной присяги и между тем отказывается и ехать сам в Петербург и издать от себя манифест о своем отречении, граф, проходя в своих комнатах, остановился пред портретом Константина и, обратившись к сопровождавшему его полковнику Федору Николаевичу Глинке, сказал: «Я надеялся на него, а он губит Россию»».
Ни одного из условий, поставленных Милорадовичем, Николай обеспечить не мог, хотя бы и хотел, а Константин, заняв юридически безупречную позицию, более ничего предпринимать не собирался. Николай только терял драгоценное время, не получая положительного отклика. Но пока он не провозгласил себя царем, то ничего не мог поделать против генерал-губернатора, хотя уже определенно стал действовать в направлении этого провозглашения: он сам набросал проект манифеста о вступлении на престол, 9 декабря обсудил текст с Н.М.Карамзиным, а 10 декабря отдал редактировать М.М.Сперанскому; последний завершил этот труд к вечеру 12 декабря… Таким образом, сведения о предстоящей новой присяге потихоньку расползались.
Николай, со своей стороны, проявлял максимум осторожности. Характернейший пример: 8 декабря из Могилева в Петербург с докладом о принятой присяге Константину приехал начальник штаба 1-й армии барон К.Ф.Толь. Узнав, что Константина тут все еще нет, он направился ехать в Варшаву. Ни Мария Федоровна, ни Николай ничего ему не объяснили, но вслед за Толем, обогнав его, выехал курьер к Михаилу с указанием последнему остановить генерала. Самому Толю было послано разъяснение: «Обстоятельста, в коих я нахожусь, не допустили меня лично объяснить вам, что поездка ваша и предмет оной в Варшаве — бесполезны. Брат мой Михаил Павлович вам лично все объяснит» — и 11 декабря Михаил подтвердил курьером, что задержал Толя и оставил при себе до дальнейших распоряжений.
Тем самым Николай избавил столицу от еще одного возможного источника распространения слухов, а Варшаву — от появления влиятельного генерала, способного поколебать позицию Константина, настроившегося на отказ от престола.
Милорадович же продолжил свою кампанию запугивания. Вот, например, рассказ уже цитированного выше свидетеля Евгения Вюртембергского: «10 декабря отречение Константина было для меня уже несомненно.
Около этого времени /…/ я /…/ встретил /…/ графа Милорадовича. Он шепнул мне таинственно:
— Боюсь за успех дела: гвардия очень привержена к Константину.
— О каком успехе говорите вы? — возразил я удивленно. — Я ожидаю естественного перехода престолонаследия к великому князю Николаю, коль скоро Константин будет настаивать на своем отречении. Гвардия тут ни при чем.
— Совершенно верно, — отвечал граф, — ей бы не следовало тут вмешиваться, но она испокон веку привыкла к тому и сроднилась с такими понятиями.
Эти достопримечательные слова произнес сам военный губернатор Петербурга, а потому они имели особое значение в моих глазах. Я упрашивал его сообщить, что им замечено; но он отвечал, что не имеет на то положительного приказания».
Обратим внимание, что речь идет не о 25 или 27 ноября и даже не о 3 декабря, а о времени заведомо после 7 декабря!
С одной стороны, естественно, что Милорадович продолжает повторять прежние угрозы: окончательные решения еще не приняты, а его отказ от прежней позиции обесценивал бы ее и ронял его авторитет.
Но каким же образом, с другой стороны, можно их повторять, не имея в виду того, что случилось 14 декабря — или чего-либо эквивалентного? Ведь если все эти упорно повторяемые угрозы не реализуются, то что же останется от авторитета Милорадовича после присяги Николаю, происшедшей безо всякого противодействия гвардии? Тогда генерал-губернатор неизбежно будет выглядеть вралем и шантажистом, упорно мистифицировавшим царскую семью совершенно вымышленными угрозами ради непонятных, но едва ли благих целей!
Заметим, кстати, что регулярно повторяемые угрозы Милорадовича играли двойственную роль: они не только заставляли Николая и прочих подчиняться его сиюминутным требованиям, но и стали предупреждением, в определенной степени лишившим фактора внезапности последующее выступление 14 декабря.
Впрочем, скрытная и двусмысленная политика Милорадовича не могла удерживать линию его поведения от заносов то в одну, то в другую сторону…
Разумеется, позже не один исследователь задавался вопросом о том, а не состоял ли Милорадович напрямую в заговоре декабристов? Доказать это почему-то никому не удалось, хотя, на наш взгляд, одно только приведенное свидетельство принца Евгения является безупречным логическим обоснованием. Можно лишь сомневаться в том, не является ли оно апокрифом. Но ниже мы приведем и другие фактические и логические подтверждения столь очевидной для нас истины.
Не заговорщиками, а вполне посторонней публикой было замечено, что Милорадович, рассыпая угрозы публичного возмущения, не считал нужным даже мобилизовать деятельность подчиненной ему полиции. В России после 14 декабря писать об этих событиях было запрещено долгие годы, но за границей сразу стали выходить публикации, в которых отмечалась невероятная активность заговорщиков в первые две недели декабря, когда они бегали с совещания на совещание на глазах всего города. Заметим притом, что сам Милорадович отнюдь не терял бдительности.
Согласно действовавшим правилам, на городских заставах строго фиксировался приезд и отъезд каждого лица. При этом проверялись документы, удостоверяющие цель проезда: разрешение на проезд нужно было получать заранее или иметь привилегированное право беспрепятственного проезда, какое получали лишь высокие должностные лица, специальные и почтовые курьеры. Списки ежедневно приезжавших и отъезжавших подавались непосредственно генерал-губернатору — для контроля. Последний, таким образом, полностью контролировал въезд и выезд из столицы — прошедший и будущий. Если он, например, хотел или был обязан запретить чей-нибудь проезд, то для этого достаточно было отдать соответствующее распоряжение заставам — и легально проскочить было бы попросту невозможно! Запомним это!
Характернейший пример из тех дней: Милорадович внимательнейшим образом просматривал эти списки и сразу среагировал, обнаружив, что в Петербург приехал М.Л.Магницкий — один из прежних фаворитов Александра I и соратник Сперанского, участь которого Магницкий разделил в 1812 году, и одним постановлением с ним был в 1816 году освобожден от опалы.
Магницкий теперь был всего лишь попечителем Казанского учебного округа, но жаждал известности и приобщения к власти. В 1817 году он ударился было в пропаганду отмены крепостного права, но быстро заметил, что теперь на этом далеко не уедешь. Тогда он резко сменил курс, сделался ярым патриотом и открыл войну всем проявлениям западного духа.
Казанский университет подвергся буквальному разгрому — были уволены почти все лучшие профессора. Между прочим, Николай Павлович охотно принимал уволенных к себе в Инженерное училище.
Так вот, опасаясь прежнего влияния и авторитета Магницкого в царском семействе, Милорадович немедленно выставил из столицы этого интригана.
Что же касается Константина Павловича, то принятые им решения, вопреки позднейшей оценке Трубецкого, все же сыграли роковую роль. Формально он был совершенно прав, считая, что сделал все, чтобы освободить трон младшему брату. Не был он обязан и вытаскивать Николая из дыры, в которую того засадил Милорадович. Но, разумеется, позиция Константина этим не исчерпывалась.
Прореагировав мгновенно и очень грамотно на материалы, высланные из столицы 27 ноября, он, по-видимому, постепенно задумался над текстом Манифеста от 16 августа 1823 года, и все больше приходил от него в ярость. Когда же он получил просьбы о помощи, присланные в ответ на его исчерпывающие решения, то это показалось ему уже слишком! Люди, подло лишившие его права на трон, еще и не могут самостоятельно распорядиться узурпированным правом!
Нежелание сделать хоть что-нибудь, чтобы предотвратить беспорядки в столице (а ведь нельзя утверждать, что он о них заранее не знал или не догадывался: вспомним его слова о брандере, кинутом в Преображенский полк!), выдает вполне враждебное его отношение к брату, восходящему на трон вместо него.
Наиболее четко позиция Константина сформулирована в его послании к матери от 8 декабря, написанном в ответ на петербургские письма от 3 декабря: «Что касается моего приезда в Петербург, дорогая и добрая матушка, куда вы меня приглашаете, я позволю себе очень почтительно обратить ваше внимание, дорогая и добрая матушка, на то, что я нахожусь в жестокой необходтмости отложить мой приезд до тех пор, пока все не войдет в должный порядок, так как если бы я приехал теперь же, то это имело бы такой вид, будто бы я водворяю на трон моего брата; он же должен сделать это сам, основываясь на завещательной воле покойного государя», — вот он, ответ на Манифест 16 августа 1823 года! В этот момент Константин Павлович порывает с интересами ближайших родственников.
Выразилось это и в фактическом разрыве отношений: хотя 20 декабря 1825 года Константин в торжественном послании и поздравил Николая с восшествием на престол, а затем прислал толковые соображения о событиях 14 декабря (об этом — ниже), но связи между Петербургом и Варшавой сузились до самого формального и необходимого минимума. Позже Николай, обеспокоенный таким развитием событий, нашел способ подействовать на княгиню Лович, а та уговорила мужа приехать на коронацию Николая, состоявшуюся в Москве 22 августа 1826 года. Только тогда произошло определенное примирение братьев.
Но и позднее, вспоминая при свидетелях события прошедших лет и придерживаясь версий, максимально лояльных по отношению к покойному брату и к ныне царствующему императору, Константин Павлович неизменно скрежетал зубами!
Возражения же Константина Павловича против дальнейшего его участия в возведении брата на престол убедительными не выглядят: Константин ведь и так действительно сам возвел Николая на трон — и сделал это исходившими от него документами от 14 января 1822 года и 26 ноября и 3 декабря 1825 года — первый и третий из них играли решающую юридическую роль. Но 8 декабря 1825 года он окончательно отказывается приехать в Петербург и подтвердить своим присутствием (пусть даже безмолвным!) добровольность своих решений. Почти прямым текстом он заявил: вы выпустили Манифест 16 августа, дорогие и добрые покойный Александр и живой Николай (а также и матушка!) — ну так и получайте! А ваш не очень добрый брат и сын Константин предпочитает издали посмотреть, как это без него Николай сумеет уцелеть, столкнувшись с Преображенским полком!
Разумеется, Константин нисколько не повинен в сокрытии от публики своих ясных и четких решений, но при сложившейся ситуации он своим отказом присутствовать в столице дает недвусмысленную санкцию на выступление мятежников!
Парадокс ситуации состоял в том, как мы объясним ниже, что этим же самым решением Константин спас династию от утраты самодержавия или даже всякого правления целиком!
Заговорщики же стали в определенной степени заложниками своей предшествовавшей почти десятилетней нелегальной деятельности, точнее, как уже говорилось, — бездеятельности.
Верховной власти в столице и стране не было уже с 27 ноября, а фактически и раньше — с болезни Александра в Таганроге. Это не могло быть замечено сразу, т. к. Александр I был великолепным главой государства: высшая администрация, тщательно подобранная им, умело руководила Россией и во время нередких и продолжительных заграничных отлучек императора, и во время его поездок по стране. Но всей столице с 3 декабря стало ясно, что высшая власть в государстве отсутствует — самым принципиальным и нешуточным образом.
Не воспользоваться таким уникальным обстоятельством после многолетней пропаганды друг другу и в сочувствующих кругах необходимости захвата власти — это означало для заговорщиков окончательно и бесповоротно признать себя полными ничтожествами, каковыми они, по большому счету, и были на самом деле!
Это очень четко сформулировал И.И.Пущин. Никак не откликнувшись на сообщение о смерти Александра I и на присягу Константину, он живо реагировал на весть об отсутствии присяги Константину в Варшаве. 5 декабря, поняв, что началось междуцарствие, он взял на службе отпуск и ринулся из Москвы в Петербург. Оттуда он написал накануне 14 декабря московским друзьям — М.Ф.Орлову, М.А.Фонвизину и С.М.Семенову, адресуясь к последнему: «Нас по справедливости назвали бы подлецами, если бы мы пропустили нынешний единственный случай. Когда ты получишь это, все уже будет кончено. Нас здесь 60 членов, мы можем надеяться на 1500 рядовых, которых уверят, что цесаревич не отказывается от престола. Прощай, вздохни от нас, если и прочее».
Таким образом, идея выступления, вроде бы окончательно отброшенная сразу после 27 ноября, вновь возрождалась — хотя пока что трудно объяснить, почему заговорщики не желали смиряться со вступлением на трон Николая, а вполне удовлетворялись воцарением Константина — это, напоминаем, было позицией Рылеева и Оболенского еще накануне 27 ноября. Она заставляет подозревать наличие тайных предворительных договоренностей с цесаревичем, которые, однако, ни в чем практически не проявились. Ниже мы дадим разгадку этого пародокса.
Замысел будущего выступления был фактически уже продиктован Милорадовичем в его угрозах Николаю и царской семье: в момент приведения войск к присяге Николаю объявить последнего узурпатором и призвать солдат к защите якобы законного императора Константина — это был единственный способ поднять сопротивление против по-настоящему законной власти.
Запрет на публикацию сведений, наложенный Милорадовичем, делал свое черное дело: «судьбами отечества располагал один граф Милорадович», — этот тезис на разные лады повторял в своих воспоминаниях Трубецкой, тщетно надеясь привлечь к нему внимание потомков. Он твердил, что и возможность выступления 14 декабря определилась сокрытием до последнего момента Милорадовичем от публики истинных решений Константина: «Если б это объявление не было скрыто, а было объявлено всенародно, то не было бы никакого повода в сопротивлении в принятии присяги Николаю и не было бы возмущения в столице».
Весы общественного мнения вполне определенно качнулись за последние две недели в пользу заговорщиков: ничего не способные понять люди, лишенные элементарных сведений о происходящем, совершенно оправданно возмущались отсутствием власти. И образованному обществу, и солдатам, и многочисленной столичной черни — всем, кто тщетно ждал в столице появления законного императора, было одинаково обидно за себя и обидно за державу!
Солдаты и народ плохо разбирались в реалиях и закулисных течениях на верхах власти. Но странная неопределенность положения угрожала вполне понятными опасностями: еще не забылись слухи об обстоятельствах гибели Петра III и Павла I — и беспокойство солдат в Зимнем дворце 27 ноября было вполне обосновано.
Образованное общество подходило к делу более грамотно, но с гораздо меньшим почтением к верховной власти. Нельзя сказать, что кто-либо из претендентов на престол пользовался симпатиями у публики.
Вот характерный диалог С.П.Трубецкого с С.П.Шиповым — некогда соратником по заговору, а теперь — генералом и командиром Семеновского полка, что представляло для заговорщиков особый соблазн. Но склонить Шипова к сотрудничеству не удалось. Итак:
Шипов: «Большое несчастье будет, если Константин будет императором.
Я [Трубецкой]. — Почему ты так судишь?
Он. — Он варвар.
Я. — Но Николай человек жестокий.
Он. — Какая разница. Этот человек просвещенный, а тот варвар».
В это время вспомнилась и давно происшедшая история жены француза-ювелира, зверски изнасилованной по приказу Константина, — и широко гуляла по столице.
Дамы высшего света вполне определенно склонялись к кандидатуре Николая — и то из совершенно специфических соображений: они считали бы себя униженными, если бы были обязаны преклоняться пред женой императора — незнатной полькой!
И.Д.Якушкин, отошедший к этому времени от всякой политики и погрузившийся в проблемы собственного поместья (уже безо всяких планов к освобождению крепостных), случайно оказался в эти дни в Москве: «В конце [18]25 года я отправился с своим семейством в Москву и прибыл туда 8 декабря. На пути я узнал о кончине императора Александра в Таганроге и о приносимой везде присяге цесаревичу Константину Павловичу. Известие это меня более смутило, нежели этого можно было ожидать. Теперь, с горестным чувством, я представил бедственное положение России под управлением нового царя. Конечно, последние годы царствования императора Александра были жалкие годы для России; но он имел за себя прошедшее; по вступлении на престол в продолжение двенадцати лет он усердно подвизался для блага своего Отечества, и благие его усилия по всем частям двинули Россию далеко вперед.
Цесаревич же славный наездник, первый фрунтовик во всей империи, ничего и никогда не хотел знать, кроме солдатиков. Всем был известен его неистовый нрав и дикий обычай. Чего же можно было от него ожидать доброго для России?» — так рассуждал несостоявшийся цареубийца.
В то же время возрождались все прежние претензии к якобы бездарной и неумелой власти и муссировались новые. В частном письме из Петербурга от 10 декабря 1825 года жена российского министра иностранных дел графиня М.Д.Нессельроде писала к брату — графу Н.Д.Гурьеву — послу в Гааге: «Нельзя скрыть того, что внутренние дела в печальном состоянии. /…/ падение цен на предметы продовольствия /…/ приводит к тому, что дворянство находится в трудном положении и что его доходы в общем сократились более чем наполовину. Прибавь к этому, что зажиточные крестьяне, находясь в соседстве с крестьянами, которые не платят, следуют их примеру. Власти слабы и не имеют мужества предавать суду тех, кто злоупотребляет общей неурядицей. В связи с этими серьезными недостатками очень часто происходят в разных местах бунты против помещиков. Один такой был и у вас; к счастью, за ним не последовало других. Конечно, твои крестьяне отнюдь не угнетены, но, зная, что многие не платят, они хотели поступить подобным же образом; это-то и является в большинстве случаев истинной причиной их бунтов. Дорожная повинность разоряет крестьянина, не улучшая дорог», — и т. д., и т. п. Чем не революционное выступление и даже с марксистским уклоном?
Настроения в столице передает тот же Трубецкой: «негодование не смело выразиться речами дерзкими или решительными, но выражалось насмешками. Были заклады, кому достанется престол. Спрашивали, продаются или нет бараны? Смеялись над тем, что от Сената послан был к императору Константину с объявлением о принесенной ему присяге чиновник, бывший за обер-прокурорским столом как картежный игрок, хорошо предугадовавший карты» и т. д.
Предложить всей подобной публике под предлогом защиты интересов Константина совершенно новое правительство с совершенно новой программой — в этом проглядывало что-то практически возможное!
Начало осуществления этой программы могло — по крайней мере чисто умозрительно — упрочить власть нового правительства, попытаться привлечь к ней солидных и известных профессионалов (типа тех же Мордвинова, Сперанского и Ермолова) — а там видно будет! В конце концов тот же великий Наполеон говаривал, что главное — ввязаться в бой, а без этого никакие победы просто невозможны!
Разумеется, конечные успехи были очень проблематичны: обман легко вскрывался бы позднейшим появлением на поле действий самого Константина, которого едва ли могли привлечь лавры вождя новой Пугачевщины, а приверженность солдат и вообще всех народных масс к монархической власти создавали смертельную угрозу затеянной авантюре — но ведь когда еще реально Константин появится!
Конечно, вполне возможной перспективой становилось всеобщее возмущение черни против бар — т. е. все та же Пугачевщина, и это не очень привлекало декабристов: «Мы более всего боялись народной революции; ибо оная не может быть не кровопролитна и не долговременна» — объяснял позже А.А.Бестужев — один из самых решительных вожаков! Поэтому и было отвегнуто предложение Якубовича разбить кабаки и захватить власть, возглавив пьяные солдатские и народные толпы — вполне реальный план, но, к чести заговорщиков, они на него не пошли.
А ведь лозунг «грабь награбленное», так хорошо сработавший осенью 1917 года, а еще раньше практически примененный тем же Пугачевым, едва ли не был столь же действенным и в промежутке между этими эпохами!
В целом же все было очень неопределенно, тревожно и неприятно, но отступать — означало признаваться в полной собственной никчемности и даже, как сформулировал Пущин, подлости.
8 декабря (не раньше и не позже!) С.П.Трубецкой стал исходить из реальной возможности предстоящего переворота. В этот день он, будучи старшим по чину и стажу штабной деятельности среди столичных конспираторов, провел совещание с самым авторитетным среди них же специалистом по гражданскому управлению — подполковником путей сообщений Г.С.Батенковым, не так давно служившим под началом М.М.Сперанского в Сибири.
Составленный ими обоими план в докладе Следственной комиссии к Николаю I выглядел следующим образом:
«Воспользоваться случаем, чтобы:
1) Приостановив действие самодержавия, назначить временное правительство, которое учредило бы в губерниях камеры для избрания депутатов;
2) Стараться, чтоб были установлены две палаты, из коих в Верхней члены были бы определяемы на всю жизнь (хотя Батенков и желал, чтоб они были наследственные);
3) Употребить на сие войска, кои не согласятся присягать вашему величеству, не допуская их до беспорядков и стремясь только к умножению числа их.
Впоследствии же для утверждения конституционной монархии:
Учредить провинциальные палаты для местного законодательства;
Обратить военные поселения в народную стражу;
Отдать городовому правлению (муниципалитету) крепость Петропавловскую /…/, поместить в ней городскую стражу и городовой совет;
Провозгласить независимость университетов: Московского, Дерптского, Виленского».
Едва ли теоретические концепции новообращенного Батенкова представляли для заговорщиков особый интерес: их собственные ветераны-теоретики годами продумывали подобные мечты. Дело было в другом: на повестке дня внезапно оказался давно желанный, но все никак не наступавший государственный переворот. К власти должно было прийти, естественно, давно запланированное Временное правительство.
Вот тут-то заговорщики вдруг обнаружили, что в предполагаемом составе нет ни одного вполне своего человека, который мог бы разбираться в государственной деятельности!.. Естественно, они ухватились за Батенкова. При этом последнего не информировали о планируемом составе его коллег. Очень интересно!
Эта ситуация была отмечена и Следственной комиссией: «сочиняя вместе сии планы для ниспровержения порядка, как видно, во многом не понимали, или обманывали друг друга. Трубецкой и сообщники его назначили Батенкова только правителем дел временного правления, а он воображал, что будет членом оного и предавался мечтам неограниченного честолюбия в надежде быть лицом историческим /…/. /…/ я, говорит он, управлял бы государством и обратил бы временное правление в регентство малолетнего Александра II. (Из слов Трубецкого он полагал, что присяга, данная вашим величеством цесаревичу, будет объявлена отречением от престола, а по слышанному от Рылеева, что, быть может, во время замышляемого мятежа покусятся на жизнь вашу.) /…/ Впрочем я, все худо верил, чтоб было что-нибудь предпринято» — заключительные слова Батенкова очень показательны!
Заметим так же, что неведение декабристов о предполагаемом составе правительства могло быть вполне искренним — ниже мы обоснуем такую возможность.
Что касается их настроений, то декабристы стали тоже как бы жертвами ложной присяги: еще заранее продекларировав перед собой и своими единомышленниками необходимость государственного переворота, они не могли предать эту присягу — под угрозой полной потери чести. Вероятно, это действительно было мотивом, заставившим Пущина примчаться в столицу. Но и погибать задаром не хотелось, и многие из них явно хотели как-то от этой присяги избавиться.
Пока они продолжали фактически прятаться за спину Милорадовича, можно было сколь угодно горячо и пространно обсуждать эту ситуацию, но отказ Константина принимать трон, становившийся все более очевидным, заставлял еще и еще раз возвращаться к проклятому вопросу — быть или не быть?
И тут новые, заранее совершенно не учтенные обстоятельства ворвались в их дискуссии. Получилось так, что вопрос о возможном выступлении перешел из области абстрактной политической целесообразности и сомнительной этики в вопрос жизни и смерти.
И решать его было суждено не им самим!
9. Утро и день 12 декабря 1825 года
Наступило 12 декабря 1825 года — день рождения Александра I, не дожившего до своих 48 лет. Подобно тени отца Гамлета покойный император возник в этот день в своей столице, чтобы продиктовать волю остающимся в живых.
В 6 часов утра великого князя Николая Павловича разбудили в связи с появлением гонца из Таганрога от Дибича.
Запечатанное письмо было на имя императора. Фельдъегерь — полковник барон А.А.Фредерикс — не знал содержания послания, но сообщил, что аналогичное одновременно направлено в Варшаву: Дибич страховался, не зная, где именно окажется Константин к моменту прибытия пакета.
Учитывая крайне нервозную обстановку, порожденную угрозами Милорадовича, Николай решился вскрыть адресованный не ему конверт, о содержании которого и о принятых мерах позже рассказал: «Пусть изобразят себе, что должно было произойти во мне, когда, бросив глаза на /…/ письмо /…/, увидел я, что дело шло о существующем и только что открытом пространном заговоре, которого отрасли распространялись чрез всю Империю, от Петербурга на Москву и до второй арьмии в Бессарабии.
Тогда только почувствовал я в полной мере всю тяжесть своей участи и с ужасом вспомнил, в каком находился положении. /…/ К кому мне было обратиться — одному, совершенно одному без совета!
Граф Милорадович казался мне, по долгу его звания, первым, до сведения которого содержание сих известий довести должно было; князь [А.Н.]Голицын, как начальник почтовой части и доверенное лицо Императора Александра, казался мне вторым. Я их обоих пригласил к себе, и втроем принялись мы за чтение приложений к письму. Писанные рукою генерал-адъютанта графа [А.И.]Чернышева для большей тайны, в них заключалось изложение открытого обширного заговора, через два источника, показаниями юнкера Шервуда /…/ и открытием капитана Майбороды /…/. Известно было, что заговор касается многих лиц в Петербурге и наиболее в Кавалергардском полку /…/. Показания были весьма неясны, неопределительны; но однако еще за несколько дней до кончины своей покойный Император велел генералу Дибичу, по показаниям Шервуда, послать полковника лейб-гвардии Измайловского полка Николаева взять известного Вадковского, за год выписанного из Кавалергардского полка. Еще более ясны были подозрения на главную квартиру 2 арьмии, и генерал Дибич /…/ решился послать графа Чернышева в Тульчин, дабы уведомить генерала Витгенштейна о происходящем и арестовать князя С.Волконского, командовавшего бригадой, и полковника Пестеля, в оной бригаде командовавшего Вятским полком.
/…/ решено было узнать, кто из поименованных лиц в Петербурге, и не медля их арестовать; /…/ решился граф Милорадович послать адъютанта своего генерала Мантейфеля к генералу Роту, дабы, приняв Майбороду, доставить в Петербург. Из петербургских заговорщиков по справке никого не оказалось налицо; все были в отпуску, а именно — Свистунов, Захар Чернышев и Никита Муравьев /…/. Граф Милорадович должен был верить столь ясным уликам в существовании заговора и в вероятном участии и других лиц, хотя об них не упоминалось; он обещал обратить все внимание полиции, но все осталось тщетным и в прежней беспечности».
Заключительные слова Николая совершенно не соответствуют истине: все внимание на происходящее графом Милорадовичем было обращено, только не полиции, которая по-прежнему бездействовала, а заговорщиков. Теперь мы получаем возможность не гипотетически, а вполне точно установить истинное отношение Милорадовича к декабристам.
Разумеется, все розыски по полицейской части легли на Милорадовича — не Николаю же, остающемуся пока по должности лишь одним из гвардейских генералов (причем Кавалергардский полк ему не подчинялся), и не «почтовику» А.Н.Голицыну было заниматься этим делом!
Николай все же решил внести в расследование собственную лепту. Оставаясь в Петербурге почти совершенно бесправным, он отослал к Дибичу то ли повеление, то ли просьбу: «Выслать навстречу [Н.Я.]Булгари и [З.Г.]Чернышеву фельдъегерей для взятия их под арест за городом и сюда отправить в крепость» — так захватила великого князя возможность перехватить послание от Вадковского к Пестелю!
Совещание Николая с Милорадовичем и Голицыным состоялось еще в первой половине дня 12 декабря. Когда-то позже, очевидно — в этот же день, Милорадович представил сведения об отсутствии всех троих названных заговорщиков.
И вот этим сообщением Милорадович ловится на совершенно прямой лжи!
Как мы помним, Муравьев и Чернышев действительно с 12 сентября числились в отпуску, а в эти дни пребывали в Тагине под Орлом. Характерно, что Милорадович без труда выяснил их местонахождение и немедленно предпринял меры к доставке в столицу: о его послании к московскому генерал-губернатору Д.В.Голицыну мы уже рассказали. Как и Майбороду, Милорадович хотел их прибрать к рукам как можно скорее!
Но, получив его директиву, Д.В.Голицын 15 декабря затеял дискуссию, не желая, как мы рассказывали выше, портить отношения с самим графом Г.И.Чернышевым, также находившимся в Тагине. Лишь получив вести о происшедшем 14 декабря, Голицын решился на арест Н.М.Муравьева. Но и тут был совершен чрезвычайно любопытный реверанс: сначала Тагино навестил самолично орловский губернатор, подчиненный Д.В.Голицыну, чтобы поведать обитателям о трагических событиях в столице, и лишь на следующий день или даже через день за Муравьевым явился жандармский офицер.
Понятно, что после такого предупреждения Никите Муравьеву нужно было бы быть клиническим идиотом, чтобы не уничтожить собственноручно все компрометирующие бумаги, если они еще оставались — что, отметим, нисколько не объясняет мотивы более раннего истребления таковых в предшествующих местах его пребывания.
Еще через два дня в Тагине был произведен арест З.Г.Чернышева.
Как видим, Милорадович сработал весьма оперативно, а все возникшие потом задержки произошли не по вине уже погибшего петербургского генерал-губернатора.
Тем более выразительны меры, предпринятые Милорадовичем в отношении Свистунова.
Корнет Кавалергардского полка П.Н.Свистунов после отбытия из Петербурга Вадковского числился лидером филиала «Южного общества» в столице — сборища самых решительных экстремистов. Но в декабре 1825 года Свистунов и его товарищи (среди них — юный князь А.А.Суворов, внук великого Суворова, один из заглавных наших героев эпохи уже 1860-х годов), приняв участие в прениях заговорщиков, поменялись ролями с коллегами из «Северного общества» и проявили исключительно скептическое отношение к происходящему — на этом довольно странном политическом кульбите мы остановимся чуть ниже. Странность же заключается в том, что подобное кардинальное изменение мнений произошло не с одним человеком или двумя-тремя, а с целым десятком достаточно независимых личностей, хотя и очень молодых, пошедших на прямое противоречие с более взрослыми и авторитетными заговорщиками.
Так или иначе, если бы Милорадович действительно хотел арестовать Свистунова 12 декабря, как обещал это сделать Николаю Павловичу и А.Н.Голицыну, то ничто этому не могло помешать.
Согласно официальным версиям, изложенным в описаниях восстания декабристов, когда совсем запахло жареным, Свистунов будто бы выпросил у начальства служебную командировку и выехал из Петербурга прямо накануне 14 декабря. Эта сказка не выдерживает проверки фактами!
Николай Павлович сообщение о Свистунове получил, напомним, в 6 часов утра 12 декабря. Допустим, что Милорадович и Голицын ознакомились с этим спешным делом двумя-тремя часами позже — не может же быть позднее: ведь они заведомо находился в маленьком тогда Петербурге, а их секретари и адъютанты всегда должны были иметь возможность срочно вызывать их во дворец!
Сколько требуется затем времени, чтобы узнать, где именно служит Свистунов (если этого не знал Милорадович, знакомый практически со всеми гвардейскими офицерами!), связаться с его начальством и выяснить факт свежей командировки? Совершенно очевидно, что немного — ничуть не более того, чем выяснить, где же находятся Никита Муравьев и Захар Чернышев. И это как бы подтверждается воспоминаниями Николая.
Но дело в том, что в последних говорится об отпуске Свистунова, а не о командировке!
Могло ли это быть недоразумением или неточностью памяти царя, записавшего свои воспоминания через десять лет?
В принципе — да, т. к. в приведенном тексте содержится несколько неточностей, в том числе довольно существенная: участие С.Г.Волконского в заговоре выяснилось лишь после показаний Майбороды генералу А.И.Чернышеву в Тульчине 22 декабря и С.П.Трубецкого Следственной комиссии в Петербурге 23 декабря; арестован же Волконский был только 7 января 1826 года в Умани. Далее: в 1825 году А.И.Чернышев еще не был графом, а получил этот титул лишь в следующем году — за рвение в разоблачении декабристов. Так же и штаб-ротмистр Г.А.Мантейфель не был тогда генералом. Кроме того, неверно указан полк казачьего полковника С.С.Николаева, посланного Дибичем за Вадковским. Однако, эти детали не имеют непосредственного отношения к событиям 12–14 декабря в столице.
А вот если бы Милорадович сообщил о командировке Свистунова, то сразу бы возникли вопросы: куда она, когда началась и т. д., а главное — нет ли практической возможности ускорить арест Свистунова? Ничего подобного, однако, не происходило. Ясно, что сообщив об отпуске Свистунова, Милорадович просто солгал.
Командировка, в которую Свистунов уехал вместе с близким к нему корнетом того же Кавалергардского полка Н.А.Васильчиковым (тоже состоящим в заговоре), несомненно, имела место; во время нее Свистунов и был арестован, когда за дело взялись уже преемники погибшего Милорадовича.
Когда же Свистунов отправился в командировку?
Хорошо известно, что весь день 12 декабря 1825 года Свистунов провел в Петербурге. Утром или даже днем Свистунов совещался со своими товарищами — молодыми заговорщиками из Кавалергардского полка. Затем двое из последних — поручик И.А.Анненков и корнет Д.А.Арцыбашев — ездили к Е.П.Оболенскому, где застали и Рылеева.
Там собралась довольно интересная компания: помимо двоих названных кавалергардов представители от еще трех гвардейских полков и флотского Гвардейского экипажа: поручик А.Н.Сутгоф (сын генерала), подпоручик Н.П.Кожевников, поручик барон А.Е.Розен, корнет князь А.И.Одоевский, лейтенант А.П.Арбузов.
В официальном докладе Следственной комиссии говорится: «Князь Оболенский сообщил им приказ диктатора и Думы стараться в день, который назначится для присяги, возмутить и вести за собой на Сенатскую площадь сколько им будет возможно нижних чинов из полков своих, а если не удастся, то по крайней мере быть самим». При этом был изложена и четкая схема восстания: «приготовлять солдат к возмущению изъявлением сомнений в истине отречения государя цесаревича и с первым полком, который откажется от присяги, идти к ближайшему, а там далее, увлекая один за другим. /…/ потом все войска, которые пристанут, собрать перед Сенатом и ждать, какие меры будут приняты правительством. Они думали, /…/ что ваше величество, не употребляя силы для усмирения мятежников, решитесь скорее отказаться от прав самодержавия и вступите с ними в переговоры».
В мятеже действительно приняли самое горячее участие все перечисленные мальчишки, кроме кавалергардов: Анненков и Арцыбашев сразу проявили нерешительность, ссылаясь на слабость авторитета заговорщиков в своем полку, а затем, в отличие от других участников данного совещания, не появлялись на дальнейших собраниях, имевших место на квартире уже у Рылеева.
Отметим поразительный факт: выступление Оболенского перед собранными молокососами — первое по ходу событий указание на директивное решение, принятое о восстании. Не существует никаких других упоминаний об обсуждении этого вопроса, которое завершилось бы голосованием или каким-либо иным коллективным или даже индивидуальным окончательным решением.
На всех совещаниях заговорщиков, имевших место до 11 декабря включительно, происходивших преимущественно на квартире Рылеева, такое решение не принималось — происходило как бы предварительное обсуждение вариантов.
На совещаниях, происходивших там же 12 (после описанного выше) и 13 декабря, такое решение тоже не принималось. Обсуждалось множество принципиальных и технических подробностей; некоторые отбрасывались, а другие принимались к практической реализации, высказывалась масса сомнений, но и тогда не решелся вопрос: или-или. Похоже, все уже было решено до появления Рылеева в квартире Оболенского, а затем — вызова туда же семерых перечисленных молодых людей, которым была спущена прямая директива.
Кто же принял это решение?
Прежде чем дать очевидный ответ на этот вопрос, рассмотрим до конца, кто и как распорядился судьбой Свистунова.
Помимо совещания у Оболенского, там же имело место, как очевидно из нижеследующего, и сообщение Анненкова и Арцыбашева руководителям «Северного общества» о командировке Свистунова.
Свистунов оставался в Петербурге до позднего вечера 12, более вероятно — до 13 декабря и даже возможно до раннего утра 14 декабря — это следует из перечисленных ниже фактов.
Известно, что Анненков и Арцыбашев, вернувшись от Оболенского, продолжили совещания с товарищами, уговаривая Свистунова остаться и принять участие в восстании, о котором до этого и речи не было. Свистунов отказался.
Кроме того, отправляясь в поездку, он отказался взять на себя передачу «Южному обществу» решения о восстании, о чем его просил Оболенский, но согласился передать в Москву к М.Ф.Орлову письмо от С.П.Трубецкого и какое-то устное сообщение к С.М.Семенову. Следовательно, он не только сносился, но, возможно, и непосредственно виделся с самими руководителями «Северного общества» уже после окончательного решения о восстании, продекларированного на дневной встрече Оболенского и Рылеева с его однополчанами и другими молодыми заговорщиками.
Следственная комиссия утверждала, что это письмо Трубецкого было отправлено одновременно с тем письмом А.А.Пущина туда же в Москву, которое цитировалось нами выше, и также было написано после окончательного решения о выступлении заговорщиков. Третье письмо, отправленное тогда же, было написано Трубецким к С.И.Муравеву-Апостолу и послано с другим добровольным курьером — девятнадцатилетним прапорщиком Ипполитом Муравьевым-Апостолом, самым младшим из братьев. Все эти письма были отправлены 12 или 13 декабря (последнюю дату указывала Следственная комиссия) — точнее установить трудно, но не ранее вечера 12-го, когда все их отправители и инициаторы (Трубецкой, Пущин, Рылеев и Оболенский) едва успели уяснить собственные планы, о которых они хотели уведомить единомышленников в провинции.
Сразу после 14 декабря остававшиеся на свободе Ипполит Муравьев-Апостол и Свистунов уничтожили находившиеся при них письма, и их содержание восстановить невозможно. Письмо же Пущина, отправленное с официальным курьером Российско-Американской компании (управляющим ее конторой в Петербурге был Рылеев), дошло до Семенова, распространившего его содержание среди московских друзей, а затем оно попало в руки властей. И.Д.Якушкин оказался среди читателей этого письма в те сутки, пока до Москвы еще не дошла весть о событиях 14 декабря. Якушкин упомянул в мемуарах, что письмо было датировано 12 декабря.
В принципе можно допустить, что командировка П.Н.Свистунову и Н.А.Васильчикову была выписана их непосредственным начальством еще до утра 12 декабря (такую возможность мы рассмотрим ниже), когда Милорадович принялся за поиски заговорщиков. Но в любом варианте они выехали из столицы заведомо позже того момента, когда Милорадович мог убедиться, что их выезд из Петербурга еще не произошел, после чего должен был бы отдать приказ задержать их на заставе. Проще всего было бы арестовать Свистунова просто дома — ведь он ни от кого не прятался!
Интересно также, что весть о неудачном выступлении 14 декабря настигла Свистунова раньше, чем полиция, которая теоретически должна была последовать за ним в погоню — иначе бы он не уничтожил письмо, которое вез.
Не сделал Милорадович и очевиднейшего шага, о котором почти прямо говорит Николай — даже не попытался выяснить у друзей и сослуживцев Свистунова и Вадковского, что же им известно о заговоре. А ведь откровенное признание любого из них в критические дни 12–13 декабря (на что почти все декабристы быстро и охотно шли после 14 декабря) заведомо разрушило бы все планы заговорщиков — ведь молодые кавалергарды знали главных руководителей мятежа!
Все это позволяет сделать вывод, что Милорадович не принял никаких мер к аресту Свистунова ни 12-го, ни 13, ни с утра 14 декабря!
Мало того: совершенно очевидно, что именно Милорадовичем Свистунов и был выставлен из Петербурга — без содействия генерал-губернатора, контролировавшего въезд и выезд из столицы, этого просто не могло произойти!
При этом, разумеется, Милорадович не должен был сноситься с корнетом самолично: скорее всего, он использовал Мантейфеля, который, помимо того, что состоял его адъютантом, был еще и сослуживцем Свистунова по полку. Ясно, что еще до отъезда за Майбородой, Мантейфель (или все же кто-то другой) мог и должен был выполнить и эту щекотливую миссию: предупредить Свистунова и, возможно, организовать командировку, выписанную задним числом.
Что этот посланец объяснил Свистунову — теперь уже не узнать. Но это должно было быть категорическим указанием уехать, угрожающим недвусмысленными карами при промедлении. Разумеется, должно было быть сделано и предупреждение (если собеседникам это не было очевидным), что никаких дальнейших панических слухов Свистунов не должен распространять и — уж совершенно обязательно! — не ссылаться на источник полученных предостережений!
Свистунов и после этого действовал неторопясь и без паники, а вплоть до 14 декабря — явно и без особой опаски попасться в руки властей. Так же отнеслись к его отъезду и более старшие и опытные заговорщики — иначе не старались бы навязать ему столь опасные послания.
Что еще должен был сделать Свистунов, получивший предупреждение об опасности, если был порядочным человеком? Разумеется, предупредить товарищей, хотя форма этого предупреждения должна была быть достаточно сложной: ведь Свистунов был обязан хранить источник предупреждения в тайне.
Как он решил эту проблему — осталось полным секретом: ни он сам, ни его товарищи по полку, ни Рылеев с Оболенским (если до них дошел смысл предупреждения, полученного кавалергардами) ни слова об этом на следствии не произнесли! Но никакого иного мотива для совещания Свистунова с сослуживцами утром или днем 12 декабря просто быть не может.
Что должны были сделать последние? Также распространить предупреждение дальше.
Они так и сделали — отсюда и мотив их поездки к Оболенскому, хотя тут мог иметь место и встречный вызов: Рылеев и Оболенский уже собирали представителей полков на инструктаж. Но кавалергарды относились к другому «ведомству» — к «Южному обществу»; неизвестно, вызывали ли их вообще на этот сбор! Дальше возникает интересная вещь: на этом распространение предупреждения явно обрывается — никто из участников выступления 14 декабря не сообщил, что знал хоть что-то о содержании письма Дибича или о предупреждении, полученном Свистуновым, да и вообще об угрозах Тайному обществу, возникших до вечера 12 декабря!
Почему?
Ответ мы дадим ниже, а сначала напомним, что же известно о таинственном диктаторе, принявшим решение о восстании и разработавшим его план. Кто же это был?
Разумеется, этот вопрос возник и на следствии — сразу начиная с вечера 14 декабря. Из доклада Следственной комиссии, тем не менее, нужно сделать заключение, что вопрос этот для нее до самого конца следствия в мае 1826 года так и остался открытым. Описывая совещания, имевшие место у заговорщиков 12 и 13 декабря, доклад сообщает: «К Рылееву, как в определенное сборное место, являлись члены с предложениями, планами или за приказаниями Думы. Их совещания в сии последние дни представляли странную смесь зверства и легкомыслия, буйной непокорности к властям законным и слепого повиновения неизвестному начальству, будто бы ими избранному».
По поводу странного последнего обстоятельства на следствии давались такие противоречивые разъяснения: «Чтобы прекратить несогласия в мнениях, — говорит Рылеев, — положили мы (он, Оболенский, Александр Бестужев и Каховский, за себя и за всех принадлежащих к их отраслям): назначить князя Трубецкого полновластным начальником или директором, хотя сие название иным (Александру Бестужеву) казалось смешною игрушкою. С тех пор он один делал распоряжения. Но князь Трубецкой утверждает, что истинным распорядителем всего был Рылеев, что он управлял всеми намерениями и действиями, только употребляя имя мнимого диктатора».
Все поведение Трубецкого накануне 14 декабря и прямо в этот день нисколько не соответствует роли диктатора. В большей степени этой роли действительно соответствуют поступки и распоряжения Рылеева, но ни он сам и никто другой не называли его диктатором в те дни.
Поскольку распоряжения Диктатора, не названного по имени, тогда вполне реально фигурировали (в том числе на описанном инструктаже, проведенном Рылеевым и Оболенским днем 12 декабря), то арестованным заговорщикам пришлось как-то выпутываться из этого положения — ведь рассказать правду они не могли! Тогда и Трубецкой смирился с участью диктатора.
Хотя мы ниже подробно разберем запутанную логику следствия над декабристами, но уже теперь укажем на удивительный кульбит: избавление якобы диктатора Трубецкого от смертной казни в то время, как был казнен формально менее виновный Рылеев!
Факт, что на следствии Трубецкой признал себя диктатором, хотя и не сразу. После этого он был вынужден заниматься оправданием своей пассивной роли, не соответствующей принятым обязанностям, и придумал следующую изумительную формулировку: «Не хотел я, чтобы члены заранее могли рассуждать о моих предположениях, чтоб тем не унизить звание Диктатора, которое они мне дали, и чтобы после не было прекословия, или ослушания, если я переменю мысли согласно с обстоятельствами; потому я часто говорил, когда меня спрашивали о том, что я предполагаю или, когда что мне предлагали, что обстоятельства покажут, что надобно будет делать» — это, разумеется, новое слово в военной науке и воинском искусстве: командующий не должен раскрывать рта, чтобы не подвергать свои высказывания критике подчиненных! До такого даже Лев Николаевич Толстой не додумался!
Ниже мы расскажем, что же именно показали Трубецкому обстоятельства в день 14 декабря. Но и сейчас можно констатировать полную его беспомощность при подготовке и проведении восстания.
Советские историки много позже сочли своим долгом пресечь все возможные сомнения и безоговорочно утвердили назначение Трубецкого диктатором, а Оболенского — начальником штаба восстания.
Между тем, в конце жизни Трубецкой вновь стал отрицать факт своего диктаторства, хотя тогда, казалось бы, можно было признаваться в гораздо более тяжких преступлениях, чем ранее: ведь за это по всем юридическим нормам уже не угрожали никакие кары. Нельзя, разумеется, верить и новым его заверениям: он нисколько не был в данном случае объективным свидетелем, как это имело место во множестве эпизодов, рассмотренных выше. Ведь в роли диктатора он выглядел удивительно смешным: руководитель восстания, на место восстания не явившийся! Действительно, совершенно уникальный случай в истории! Оставаться и перед потомками таким же посмешищем ему, понятно, не хотелось.
Но Трубецкой выдвинул совершенно серьезные соображения, которые должны были бы приниматься в рассмотрение, если бы диктатора действительно выбирали или назначали: с 1819 года Трубецкой служил не в гвардии, а в армейских штабах, а с осени 1824 и вовсе находился в Киеве. Таким образом, он почти совершенно не был известен столичным гвардейским солдатам и младшим офицерам, а потому не годился для публичного командования. Не правда ли, резонно?
Понимая, что тем самым «обезглавливает» давно прошедшее восстание, Трубецкой, как и в других аналогичных ситуациях не имеющий возможности высказать правду, самым неуклюжим образом постарался заштопать образовавшуюся брешь: заявил, что диктатором был избран популярный в столице полковник А.М.Булатов, только что назначенный командовать одним из армейских полков, а до того командовавший 1-м батальоном Лейб-гренадерского полка. Это заявление Трубецкого — заведомая ложь.
Булатов был одной из самых трагических фигур среди участников 14 декабря. По-видимому, он был тяжело болен: до 14 декабря окружающие этого еще не замечали, но в день восстания он вел себя очень странно (его посещали видения), после ареста мучился головными болями — даже возникли слухи, что его пытали, сжимая голову — при гарантированном отсутствии того, что принято называть физическими пытками в отношении всех прочих подследственных! Его отец — один из прославленных героев 1812 года генерал-лейтенант М.Л.Булатов — скоропостижно скончался после ареста сына, а вскоре (19 января 1826 года) умер в крепости и сам А.М.Булатов — ему было только 32 года. Типичная картина быстро прогрессирующей мозговой опухоли, хотя невозможно настаивать при такой поверхностной информации на серьезности подобного диагноза.
Но Булатова никак не могли ни избрать, ни назначить диктатором, поскольку среди заговорщиков он был совершеннейшим новичком: только 6 декабря 1825 года, будучи вовлечен в пьяном виде в политические разговоры, он был «завербован» однополчанином поручиком Н.А.Пановым — одним из неожиданных героев 14 декабря: «Булатов /…/ сам не понимая каким образом, принял на себя обязанность быть пособником мятежников, с коими едва был знаком. Рылеев открыл ему намерения их; Булатов часто спрашивал: «Но где же польза Отечества? Я вижу одну перемену в правителях; вместо государя вы хотите иметь диктатора князя Трубецкого»; однако же обещал действовать с ними и, как бы предвидя погибель, прощался с своими детьми-младенцами и плакал, но отказался ехать в Лейб-гренадерский полк для возмущения рядовых» — рассказывается в Докладе Следственной комиссии.
Идея «назначить» Трубецкого диктатором возникла у Рылеева только 13 декабря, когда он понял, что незримый и не называемый по имени Диктатор вызывает странную реакцию, особенно у людей, недавно состоявших в заговоре и не имеющих вкуса к таинственным мистификациям. Возможно, это «назначение» было отчасти и мистификацией по отношению к самому Трубецкому, который заметно колебался и которого Рылеев попытался стимулировать, взывая к его честолюбию — ведь и не пропадать же вовсе титулу диктатора, коль скоро его никто явно не занимает!..
На более или менее солидных новобранцев сами лидеры декабристов серьезного впечатления не производили: «Батенков /…/ сам говорит, что в Рылееве видел не что иное как агента настоящих, сокровенных правителей общества и средоточием оного считал главную квартиру 2-й армии» — отмечено в Докладе Следственной комиссии. Там же расписаны такие сцены: «Ввечеру 13 числа, заметив, что на слова Рылеева о князе Трубецком: «Не правда ль, что мы выбрали прекрасного начальника?» Якубович отвечал, усмехнувшись: «Да! он довольно велик» [— мы не знаем, какого роста был Трубецкой и в чем тут юмор!], Булатов вышел из комнаты вместе с Якубовичем и дорогой спрашивал: «Как вам кажется? Полезно ли, хорошо ли обдумано предприятие наших товарищей и довольно ли они сильны?» «Не вижу пользы, — отвечал Якубович, — и для меня они почти все подозрительны». «Дадим же друг другу слово, — продолжает Булатов, — что если, как завтра должно открыться, средства их не соразмерны замыслам и в их предположениях нет истинной пользы, то мы не пристанем к ним». Якубович согласился» — так они фактически и поступили.
Упорно именует Трубецкого диктатором В.И.Штейнгель — и в показаниях на следствии, и в мемуарах. Этот тоже был относительным новичком в Тайном обществе, а после 14 декабря оставался некоторое время на свободе (22 декабря уехал в Москву, где и был арестован) и успел принять участие вместе с Рылеевым в разборе проигранной партии. В тот момент Рылеев тем более был заинтересован в рациональном разъяснении неудачи, в снятии вины лично с себя и в обвинении диктатора, бросившего своих подопечных на произвол судьбы.
Подводя итоги, констатируем поразительный факт неизвестности и незримости главного руководителя восстания, не вызвавший ни малейшего интереса у последующих историков! Только и остается при всех возможных вариантах признать, что это был некто, отдавший распоряжение о восстании непосредственно Рылееву перед его совещанием с Оболенским и молодыми офицерами днем 12 декабря.
Между тем, поведение Милорадовича по отношению к Свистунову красноречиво выявляет позицию столичного генерал-губернатора. Он не остался в стороне, а принял прямые меры, чтобы спасти Свистунова от немедленного ареста. Этот факт позволяет построить строгую логическую цепочку в отношении других намерений и планов Милорадовича.
Если бы Милорадович не имел в виду восстания 14 декабря, то спасать Свистунова не было никакого смысла: все равно его бы изловили, а после этого выяснилось бы буквально все: и то, кем и когда была выписана командировка, и то, кто и как способствовал отбытию Свистунова из столицы вместо немедленного ареста. Наверняка все это позднее и выяснилось, но после 14 декабря ни Николай I, ни Следственная комиссия никак не могли очернять память Милорадовича, а уцелевшие возможные соучастники в деле сокрытия Свисунова могли оправдываться полным неведением и валить всю ответственность на погибшего генерал-губернатора.
С другой стороны — не убери генерал-губернатор Свистунова целенаправленно из столицы, и тот помимо воли Милорадовича может оказаться в руках властей — мало ли какое розыскное рвение проявит вдруг Николай Павлович или случится еще что-нибудь! Тогда и восстание может в последний момент сорваться, если Свистунов с испугу заговорит откровенно!
Следовательно, Милорадович не только исходил из возможности и желательности восстания 14 декабря — как об этом свидетельствовали и приведенные выше воспоминания Евгения Вюртембергского, но и прямо ему способствовал. Учитывая же власть и независимость Милорадовича, остается сделать законченный вывод: он сам и был инициатором восстания.
К этому выводу легко могли подойти и историки предшествующих поколений, если бы не смущались очевидным фактом не только неучастия Милорадовича в восстании, но и попытки прекратить его, стоившей Милорадовичу жизни.
Несомненно, эта заключительная позиция Милорадовича тоже была результатом его собственных решений. Однако момент, в который он принял такие решения, до сих пор никем не выяснялся. Директивная же ссылка на неизвестного Диктатора, продекларированная Рылеевым и Оболенским днем 12 декабря, вовсе не обязательно должна была соответствовать этой заключительной позиции: ведь они разделялись целой эпохой — полными двумя сутками!
Мотивы, которыми Милорадович руководствовался, уклоняясь от прямого участия в восстании, достаточно очевидны: он не мог допустить своего морального крушения, обнаружив собственную лживую двойственную роль перед всем царским семейством и другими лицами, которых он мистифицировал по меньшей мере с двадцатых чисел ноября — в том случае, если бы царское семейство оставалось у власти хотя бы даже формально. Едва ли его терзали угрызения совести, и едва ли его мог смутить формальный акт принесения им самим новой присяги Николаю I в ночь на 14 декабря (о чем мы расскажем ниже), что он вполне должен был предвидеть еще утром 12 декабря, если не раньше! Но соблюдение определенных моральных принципов совершенно необходимо для высокого начальствующего лица, сохраняющего свое положение — в отличие, например, от П.А.Палена и его соратников, немедленно изгнанных после переворота.
Очевидно, что Милорадович страховался, стараясь обеспечить сохранение своего служебного положения и в случае неудачи восстания.
Такой подход к делу можно рассматривать как сугубо эгоистический, особенно в сочетании со стремлением погнать заговорщиков на вооруженный мятеж: ведь без этого, как уже упоминалось, Милорадовичу грозило бы просто увольнение как злостного враля и мистификатора!
Но, не игнорируя эгоистических мотивов, согласимся, что сохранение Милорадовича при власти оставалось единственной надеждой для заговорщиков, если бы они проиграли в столкновении 14 декабря или вовсе не решились на выступление и пребывали в полной пассивности: ведь аресты и последующая расправа были неизбежны — это стало очевидным уже после прихода письма Дибича 12 декабря. Стремление же Милорадовича заполучить в собственные руки и Майбороду, и Никиту Муравьева с Захаром Чернышевым подтверждает его намерение подгрести под себя будущее следствие — как было сделано и в 1820–1821 гг.
Разумеется, Милорадович мог бы и рискнуть, выступив самолично с утра 14 декабря во главе восставших — и это, как мы покажем, скорее всего принесло бы и им, и ему успех, и сохранило бы в тот день их жизни. Победа же восстания освобождала его и от всяких моральных обязательств по отношению к царскому семейству, к которому он не испытывал ни малейшего пиетета — как однозначно следует из всего рассказанного. Но, так или иначе, Милорадович на этот риск не пошел!
Еще раз теперь вернемся к указанию на фактор времени: с утра 14 декабря Милорадович исходил из высокой вероятности поражения восстания, а затем выступил напрямую против восставших, а за двое суток до этого его позиция могла быть совершенно иной.
Теперь мы покажем, что она действительно была иной, а затем, еще ниже, расскажем и то, почему она переменилась.
Зафиксировав позицию Милорадовича днем 12 декабря как инициатора мер, обеспечивающих успех или хотя бы старт последующего восстания, мы без труда разглядим его конкретные руководящие действия.
Предупреждать руководителей «Северного общества» просто о грозящих карах, как это было проделано со Свистуновым, не имело никакого смысла: ведь не могли же все они поголовно бежать из Петербурга — да и куда и зачем? Не мог Милорадович полагаться и на их способность самостоятельно принять решение о восстании и организовать его — не те это были люди, что и подтвердилось целиком и полностью 14 декабря. Следовательно, одного предупреждения заговорщикам о грозящей опасности в данный момент было мало.
Таких предупреждений было мало и в 1821 году — тогда, как мы рассказывали, Милорадовичу понадобилось затратить массу усилий, чтобы добиться фактической амнистии заговорщикам со стороны Александра I.
Теперь амнистия могла исходить только от Николая I, еще не ставшего царем исключительно благодаря упрямству Милорадовича. Но рассчитывать на амнистию со стороны этого самодержца было бы, согласно всеобщему тогдашнему убеждению, просто абсурдом!
Письмо же Дибича исключало возможность избежать последующей ответственности! Следовательно, на повестку дня действительно встал государственный переворот с совершенно четким мотивом, продиктованным этим письмом!
Это и было решением, сначала принятым Диктатором, а уже затем спущенным Рылееву и далее Оболенскому — ведь первый пришел в критический момент 12 декабря ко второму, а не наоборот!
Теперь мы можем вернуться и к вопросу, почему днем 12 декабря заглохло предупреждение о грозящих разоблачениях, так и не поступив к основной массе мятежников.
В какой бы форме Анненков и Арцыбашев ни обсуждали с Рылеевым и Оболенским предупреждение, полученное Свистуновым, или вообще этого не делали, но ни те, ни другие никак не могли распространять его среди всех остальных участников заговора: широкое оповещение об опасности необходимо было веско мотивировать, а потому сопровождать ссылкой на источник предупреждения. Разглашать же среди всех заговорщиков сведения о предупреждении, исходящем от Милорадовича или его приближенных, было и неконспиративно, и непорядочно.
Тем более это относится ко второму предупреждению, полученному от Милорадовича непосредственно Рылеевым, особенно если оно сопровождалось сведениями, исходящими из письма Дибича.
Поэтому два предупреждения, сделанные Милорадовичем — Свистунову и Рылееву, сомкнулись в единое неразрывное кольцо. Последующая гибель Милорадовича сделала эту тайну неразглашаемой в принципе!
Что же касается Свистунова и других кавалергардов, то будучи посвященными в угрозу, нависшую над заговором, значительно более мотивированно и подробно по сравнению с другими младшими офицерами, непосредственно организовавшими выступление 14 декабря, они, в отличие от этих последних, не нашли душевных сил участвовать в столь безнадежном предприятии. Увы, это не спасло многих из них от последующих суровых наказаний!
Учитывая реалии тогдашних личных отношений, нетрудно догадаться, кто был промежуточным звеном цепочки, донесшей 12 декабря предупреждение до Рылеева.
Этот персонаж нам давно известен: прежний адъютант Милорадовича, Ф.Н.Глинка, будучи писателем, поддерживал близкие связи с Рылеевым — также известным автором и, главное, редактором популярного альманаха «Полярная звезда». Именно этим Глинка оправдывал две встречи с Рылеевым накануне 14 декабря, всплывшие на следствии в результате показаний третьих лиц.
Первая из них имела место в конце ноября, а вторая — 13 декабря. После этого Глинке не сладко пришлось на следствии: его арестовали, затем — выпустили, потом снова арестовали и снова выпустили. От суда Николай I его освободил, но уволил на гражданскую службу, и вплоть до отставки в 1834 году его мурыжили по провинции — он служил в Петрозаводске, Твери, Орле. Умер Глинка в 1880 году девяноста трех лет отроду. Его патриотические произведения широко печатались во время Крымской войны и много позже — в 1941–1945 гг.
Учитывая, что две данные встречи Глинки с Рылеевым стали известны следствию только в результате показаний других лиц, можно предполагать любое число таких встреч вовсе без свидетелей. Отсюда, напоминаем, и сверхъестественная осведомленность Рылеева в двадцатых числах ноября, и полная ясность для заговорщиков роли Милорадовича в последующие дни, и стремительный старт событий в середине дня 12 декабря.
Вернемся непосредственно к событиям этого судьбоносного дня.
Между 4 и 5 часами дня 12 декабря приехал из Варшавы долгожданный фельдъегерь Белоусов с письмами Константина Павловича от 8 декабря. Последние подтверждали прежние решения цесаревича: царем становится Николай, а Константин ни под каким видом в Петербург не приедет!
Николаю Павловичу предстояло, таким образом, начинать царствование с издания собственного манифеста и самому выпутываться из всех возможных осложнений, о которых ему Милорадович уже уши прожужжал! Не удивительно, что Николай заметно трусил, а потому не решился приступить к публичным действиям без поддержки хотя бы младшего брата.
С Михаилом же случилось недоразумение: Белоусов почему-то проехал другой дорогой и миновал великого князя, сидевшего в ожидании в Неннале. Николай немедленно послал за Михаилом курьера, а все дальнейшие мероприятия (кроме окончательного рассмотрения текста манифеста со Сперанским) отложил до возвращения младшего брата; первым из них должно было стать заседание Государственного Совета, на котором Николаю следовало провозгласить себя императором — в порядке исправления решения, принятого Советом 27 ноября.
С этим заседанием возникает очередная неясность: оно было назначено заранее, но не известно, когда именно: вечером 12-го или утром или даже днем 13 декабря. П.В.Лопухин, с которым Николай согласовал только сам факт проведения заседания (неважно, что Лопухин должен был полностью понимать смысл и цель!), должен был быть предупрежден достаточно заблаговременно, чтобы оповестить всех участников. Назначено же было заседание на 8 часов вечера 13 декабря, но началось только в полночь: считается, что Николай оттягивал начало, все продолжая ждать прибытия Михаила в качестве моральной поддержки. Но это устоявшееся мнение противоречит здравому смыслу.
Даже если курьер к Михаилу был послан сразу около 5 часов вечера 12 декабря, то сначала ему, а потом Михаилу в обратном направлении предстояло проехать по триста верст! Проделать шестьсот верст на лошадях зимой (даже при частой их замене) невозможно ни за 27 часов, остававшихся до 8 часов вечера 13 декабря, ни за 31 час, остававшийся до полуночи с 13 на 14 декабря! Так что ждать Михаила к заседанию Госсовета не было никакой возможности! И действительно, он появился в Зимнем дворце только около 10 часов утра 14-го, хотя мчался изо всех сил, а отставший от него К.Ф.Толь (ему не хватало запаса отдохнувших почтовых лошадей, которых забирал себе Михаил) — еще на три-четыре часа позже.
В чем дело? Изменила вдруг Николаю его почти маниакальная пунктуальность и способность к аккуратным расчетам? Но уж больно велика ошибка! Или все-таки случилось нечто другое, что заставило его по сути иррационально затягивать время, возможно — борясь с охватившей его паникой перед приходом на Совет, который он заранее назначил безо всякого расчета на помощь Михаила?
Разумеется, нам еще предстоит возвращаться к этим интересным вопросам.
Так или иначе, теперь уже приблизительно наметился момент начала восстания, к которому только что призвали Рылеев и Оболенский юнцов-офицеров.
Следует ли считать, что Милорадович изначально исходил из неизбежной обреченности восстания? Ни в коем случае, хотя, как мы объясним ниже, у Милорадовича были серьезные основания для сомнений в окончательной победе даже независимо от того, чем завершатся события 14 декабря в столице. Но план, спущенный участникам дневного совещания 12 декабря, мог и должен был привести к захвату власти в самой столице даже при том незавидном соотношении сил, какое вызывало обоснованные опасения у квалифицированных военных профессионалов Булатова и Якубовича. Для этого не хватило немногого: последовательности в осуществлении назначенного плана.
Применение сослагательного наклонения в исторических исследованиях под запретом: невозможно рассуждать, что было бы, если бы случилось то, чего на самом деле не случилось! Совершенно нелепы поэтому рассуждения Герцена и Огарева типа: «попытка 14 декабря вовсе не была так безумна, как ее представляют; книга Корфа это доказывает, она не удалась, вот все, что можно сказать, но успех не был безусловно невозможен. Что было бы, если б заговорщики вывели солдат не утром 14, а в полночь, и обложили бы Зимний дворец, где ничего не было готово?»
Ответ на такой дурацкий вопрос очевиден: среди декабристов не было ни одного командира полка или лиц, формально способных исполнять обязанности командиров полков. Поэтому декабристам не были подвластны никакие передвижения войск — до момента приведения последних в состояние неповиновения законным властям. Привести же войска в неповиновение можно было лишь приказом о присяге Николаю I.
Вот предварительно обмануть солдат, убедив их в незаконности этого приказа, было возможно — в чем декабристы частично преуспели. Начать же распоряжаться войсками декабристы могли лишь после приказа о присяге. Если бы этот приказ был отдан до полуночи между 13 и 14 декабря, то вопрос Герцена и Огарева имел бы смысл. Если бы Николай I задержал присягу до вечера 14 декабря, то и декабристам тоже пришлось бы ждать вечера. Но приказ был отдан утром, а потому события и развивались так, как, с некоторыми погрешностями, и описано в книге Корфа.
Выдавать же задним числом полезные или вредные советы Николаю I, Рылееву, Милорадовичу или кому-либо еще — занятие не для историков, хотя и это в некоторых случаях разумно — как урок для потомства!
Мы же используем возможность, нереальную для Герцена и Огарева, хотя вполне доступную для всех историков после 1917 года. Увы, последние ею до сих пор не воспользовались!
Дело в том, что ситуация, сложившаяся в Петербурге в ночь на 14 декабря 1825 года, оказывается практически полностью повторилась там же в ночь на 27 февраля 1917 года.
Такие случаи — не редкость в истории. Хорошо известно и знаменитое утверждение Маркса, что все значительное в истории происходит дважды: сначала как трагедия, потом — как фарс! Подтверждений этой идиотской формуле мы в истории России не обнаружили: до фарса тут редко доходило дело, зато трагедий, в том числе повторяющихся (порой не один раз!) — хоть пруд пруди!
И вот с утра 27 февраля 1917 года чистейшим образом сработал план, провозглашенный незримым Диктатором еще днем 12 декабря 1825 года! Повторим: «с первым полком, который откажется от присяги, идти к ближайшему, а там далее, увлекая один за другим» — вплоть до полного захвата власти в столице и свержения прежней!
Рассмотрим теперь для сравнения, что же произошло в 1917 году.
10. Исторические параллели: краткий экскурс в 1917 год
Еще до окончания Первой Мировой войны ее стали именовать Великой войной. После следующей мировой войны название это вышло из общеупотребительных, а зря, ибо Великая война была и осталась действительно величайшей войной современности, поскольку завершилась только в наши дни — и то это пока под вопросом! Многочисленные мирные соглашения: Брестский мир, Версальский, Рижский (завершивший войну между Польшей и Советской Россией в 1920 году) и т. д. — вплоть до Потсдамского, расчлененившего Германию в 1945 году, оказались вовсе не началом мирного сосуществования стран и народов, а всего лишь временными передышками.
Снова и снова все те же противники (с незначительным изменением состава союзников) оказывались непримиримыми врагами — либо сцепившимися в непосредственной военной схватке, либо наращивающими свою военную мощь. Период 1945–1991 гг. был самым мирным по внешности и по числу непосредственных людских потерь, но самым грандиозным по экономическим ресурсам, вложенным в борьбу. Результатом был полный и беспощадный крах одного из заглавных героев мировой драмы — Советского Союза.
После этого пожар Великой войны догорал и догорает там же, где и разгорелся в начале ХХ века, хотя цели Великой войны теперь практически достигнуты.
События 11 сентября 2001 года можно, по-видимому, посчитать стартом новой Великой войны — уже с несколько иным сюжетом. Так ли это — покажет будущее.
Что бы ни говорили и ни писали накануне 1914 года и много позже политические лидеры Запада (Великобритании, Франции, а затем и США), но, судя по их решениям в самых разнообразных ситуациях, калейдоскопически сменявших друг друга в ХХ веке, идеальным исходом для них был бы разгром четырех великих империй Востока (речь идет, конечно, о Европе) — Германской, Российской, Австро-Венгерской и Турецкой — и возведение на их обломках желательно демократических, а главное — безопасных для Запада режимов. В такой, увы, эгоистической цели не было и нет ничего ни противоестественного, ни аморального.
В настоящее время диссонанс безоговорочной победе Запада создает лишь ядерное оружие, остающееся в российских руках…
Оставим пока в стороне важнейший вопрос о персональных виновниках Великой войны — ответ на него емок и не прост. Слишком много тумана напущено для того, чтобы скрыть обстоятельства, позволяющие оценить виновность каждого из действующих лиц. Рассмотрим сразу, в какую ситуацию попало человечество уже через несколько месяцев после начала общеевропейской войны.
Особенностью Великой войны, определившей ее дальнейшую беспрецедентную (по сравнению с войнами ХIХ века) продолжительность, было то, что в период 1914–1918 гг. ее невозможно было закончить военной победой одной из сторон. Это было и остается до сего времени одной из важнейших политических тайн ХХ века.
Невозможность же победы объяснялась чисто техническими факторами.
В истории человечества были периоды, порой весьма продолжительные, когда уровень военной технологии (если можно употребить такой термин) предопределял безоговорочное преобладание оборонительной стратегии над наступательной. Так было, например, в средневековье, когда годами продолжались осады неприступных крепостей, иногда завершавшиеся позорным отступлением осаждавших, истощенных не менее осаждаемых бесплодным противоборством.
Эпоха великих полководцев и блистательных военных кампаний ХVII-ХIХ вв. заставила забыть этот опыт, печальный для милитаристов. Между тем, именно такая ситуация сложилась и к 1914 году.
Важнейшим фактором, изменившим все стратегические возможности, было создание железнодорожной сети, покрывшей Европу. Железные дороги создали колоссальный разрыв скорости передвижения армий по дорогам в собственном тылу и тех же армий непосредственно на поле боя.
Сражения Первой Мировой войны, начавшись как обычные маневренные военные действия, не приведшие, однако, к победным результатам, в дальнейшем происходили по одному сценарию. Наступавшая сторона запасалась боеприпасами, обрушивала артиллерийский огонь на окопы противника, превращала их в пыль, а затем продвигалась вперед. Скорость продвижения равнялась скорости пешего человека: появление пулеметов сделало бесполезной конницу, снова и в последний раз вырвавшуюся на просторы сражений Гражданской войны в России — исключительно благодаря огромным пространствам и слабой организации войск, не позволявшим создать сплошную линию обороны. На фронтах же Первой Мировой конные массы оказывались бессильны.
Тогдашние танки, тысячами возникшие на Западном фронте в 1918 г., были неуязвимы для пулеметов, но ползали все с той же скоростью пешеходов.
Зато оборонявшаяся сторона свободно перемещала подкрепления в своем тылу по железным дорогам. Они успевали не только подъехать, но и подготовиться к обороне или даже сосредоточиться для контрудара. Наступавшие же, продвигаясь все дальше и дальше, оставляли за своей спиной пространства, превращенные в пустыню, где железные дороги нужно было снова налаживать. В конце концов, преодолев одну или несколько полос, разрушенных своей артиллерией, медленно бредущие наступающие массы натыкались на хорошо подготовленную новую линию обороны, и все нужно было начинать сначала.
На российско-германском фронте трудности наступления усугублялись еще и разницей железнодорожной колеи: наступавшие захватывали железные дороги, непригодные для собственного транспорта.
Никаких глубоких прорывов, способных решить судьбу войны, при такой технологии быть не могло. Их и не было в течение всей войны 1914–1918 гг.
Перелом мог наступить только тогда, когда на полях сражений появились быстроходные танки, превосходившие по скорости и ресурсам пробега не только пехоту, но и прежнюю кавалерию. Сверх того понадобилась авиация, наносившая удары по вражеским подкреплениям еще задолго до того, как те могли приблизиться и занять новую линию обороны.
Все это появилось, но значительно позже — к началу Второй Мировой войны. Последнюю уже можно было закончить чисто военной победой, что и состоялось, хотя и потребовало многих лет почти беспрерывных военных действий.
Первую же Мировую войну выиграть было невозможно. Даже в самый первый месяц войны, когда сплошные линии фронтов не успели установиться, оборона имела колоссальное преимущество перед наступлением.
Вспомните «Август четырнадцатого» А.И.Солженицына с описанием множества причин того, почему вдруг русская армия в Восточной Пруссии так обидно оскандалилась перед немцами. А ведь все было просто: русские солдаты браво маршировали походными колоннами, огибая озера, леса и болота, в то время, как их противники по собственной территории комфортабельно разъезжали по железным дорогам, постоянно имея запасы времени и возможность более продуктивного маневра.
Если бы наступали немцы, они на чужой территории оказались бы в таком же положении. Они и оказались, но в другом месте: французы, поначалу не разобравшиеся в направлениях немецкого наступления, позволили им маршировать до Марны — почти до Парижа, а уж дальше — стоп!
Разумеется, если у страны не было достаточной территории, ее могли и победить, и полностью захватить. Так и произошло с Бельгией, Сербией, Румынией. Но чуть покрупнее и посильнее страна — и ничего с ней не сделаешь! Так устояли Турция и Италия. О Франции, Германии, Австро-Венгрии и России нечего было и говорить.
Причем парадоксом ситуации было то, что наступать было относительно легко по бездорожным горам (так Карпаты несколько раз переходили из рук в руки), но, спускаясь после гор на равнину, наступавшие неизменно останавливались.
Невозможность выиграть Первую Мировую войну — величайшая тайна ХХ века. До сих пор об этом не было ни строчки, ни полстрочки.
Самая сильная критика, позже обрушенная на политических и военных стратегов 1914 года, сводилась к тому, что те не сумели предвидеть столь длительную протяженность войны и вовремя перевести экономику своих стран на военные рельсы; это, в свою очередь, утяжелило необходимые военные усилия и замедлило достижение окончательной победы.
Характерно, что подобная критика отчасти была конструктивно воспринята (но не в Германии, где политики и генералы упорно вплоть до 1942 года рассчитывали только на «блицкриг» и, таким образом, полностью повторили ошибки своих предшественников в предыдущей войне!), и ко Второй Мировой войне готовились уже более основательно.
Сам же по себе факт принципиальной невозможности выиграть Первую Мировую войну чисто военным путем так никогда и не был обнародован.
Почему?
Война не желала заканчиваться естественным образом — для этого не было никаких реальных возможностей. Это оказалось чрезвычайно неприятным сюрпризом для политиков и военных.
Накануне 1914 года среди военных специалистов господствовали буквально инфантильные представления о грядущей войне, совершенно не учитывавшие грандиозные экономические и технические изменения, происшедшие за предыдущие почти полвека неучастия западноевропейских стран в крупных войнах.
Уважаемые военные авторитеты свободно высказывались в стиле бравых завсегдатаев пивных. Особенно этим отличались немецкие стратеги с их традиционной национальной прямолинейностью:
Х.Мольтке-Старший: «Вечный мир — это мечта и даже далеко не прекрасная; война же составляет необходимый элемент в жизни общества. В войне проявляются высшие добродетели человека, которые иначе дремлют и гаснут»;
Ф.Бернгарди: «Если мы желаем приобрести то положение, которое соответствует мощи нашего народа, то обязаны отказаться от всяких мирных утопий, рассчитывать только на силу нашего оружия и смело смотреть опасности в глаза».
В соответствии с подобным сверхоптимизмом и разрабатывались принципы военной стратегии и конкретные планы: и немецкие, и французские, и российские генштабисты исходили из необходимости и возможности если не единственного решающего сражения (все же нужно было считаться с огромным численным составом тогдашних армий, разворачивающихся при проведении мобилизации), то, во всяком случае, не более чем серии последовательных ударов, требующих в сумме от нескольких недель до нескольких месяцев активных боевых действий.
Что касается продолжительности каждого такого удара, то А.Шлиффен — идеолог и создатель германских планов, приведенных в действие летом 1914 года (умер в 1913 году, не дожив до краха собственных теорий), утверждал, что хотя при новых грандиозных масштабах боев решающая операция уже не может ограничиться одним-двумя днями, но при грамотном командовании никак не должна затянуться до двух недель, как это случилось под Мукденом в Русско-Японскую войну.
На самом деле, с учетом столкновений передовых отрядов, Мукденская битва прдолжалась даже три недели — но что такое три недели по сравнению с длительностью сражений Первой Мировой войны!
Наступление и только наступление — таким был девиз всех без исключения военных теоретиков. Оборона рассматривалась как исключительно временная мера, необходимая, например, для прикрытия каких-нибудь направлений в начальный период войны — пока не полностью развернуты собственные войска.
Немцкое командование рассчитывало в шесть, максимум — в восемь недель полностью покончить с Францией, а затем для завершения победоносной войны с Россией ему требовалось по плану всего два, три, максимум — четыре месяца. В любом варианте военные действия, стартовав в начале августа 1914 года, должны были победно завершиться с наступлением следующей зимы.
Не больше времени отводили себе на разгром Германии и ее союзников и штабы держав Антанты. Англичане и вовсе не собирались всерьез воевать на суше. Заранее подготовив экспедиционный корпус (семь дивизий и одну бригаду) и отправив его в августе 1914 года во Францию, они больше не имели сухопутных войск в метрополии и не планировали их создавать, полагая, что это все равно невозможно до момента скорого завершения войны.
Единодушие в этом вопросе военного руководства противоположных воюющих сторон выглядело бы фантастически комичным, если бы все это на деле не вылилось в трагедии сотен миллионов людей и неисчислимого количества их родившихся и неродившихся потомков. Короли оказались голыми (вновь вспомним А.В.Карташева!), и это было совсем не смешно!..
Предвидел ли кто-нибудь истинную продолжительность грядущей мировой катастрофы?
Да, такая возможность тоже учитывалась: сведущие военные специалисты должны считаться со всеми теоретически возможными вариантами! Поэтому и подобная перспектива была рассмотрена в 1910–1911 гг. (как чисто академическое допущение) одним из российских стратегов, генералом Н.П.Михневичем, но из проведенного анализа не следовало ничего тревожного, поскольку «время является лучшим союзником» российских вооруженных сил, огромные пространства обеспечат России возможность ведения продолжительных военных действий и позволят менее болезненно, чем противникам, выдержать бедствия будущей войны, «как бы долго она ни затянулась и каких бы жертв ни потребовала».
Совсем близкую к печальной реальности оценку продолжительности военных действий высказал уже прямо накануне начала войны британский военный атташе в Петербурге полковник А.Нокс: война может «затянуться на шесть лет, а возможно и больше».
Знамением времени было то, что почти никто из российских экономистов и политиков тогда не пожелал обратить внимания на подобные разглагольствования бравых вояк, а если и обратили — то нисколько не обеспокоились. П.Н.Милюков, например, придерживался той же позиции, что и Михневич: России легче справиться с трудностями сухопутной войны, чем противникам. Никаких расчетов при этом не делали, ограничиваясь, по-видимому, взглядом на карту полушарий — руководить по глобусу стало модным (по недостоверным слухам) только в следующую мировую войну!..
Значительно печальнее, что до сих пор такое же поверхностное отношение к проблемам России в Первой Мировой войне встречается у казалось бы серьезных специалистов — правда, по совершенно иным разделам военной истории:
«Затяжная война прежде всего гибельна для Германии. Это у Германии нет природных ресурсов для войны. Это у Германии небольшая территория, которая при технике того времени не могла прокормить такое количество населения. Это Германия оказалась в клещах, это ей выпало воевать на два фронта. Все великие немцы считали такую ситуацию гибельной. Достаточно посмотреть на карту: Германия отрезана от всего мира и окружена со всех сторон. А подвоз морем блокирован британским флотом. Не надо было никаких битв и операций — ноги Германии подкосились бы сами собой. Понимая это, германский кайзер 12 декабря 1916 года обратился к русскому царю с предложением о заключении мира.
Для России в тот момент /…/ война была не проиграна». В этом заявлении В.Суворова справедливо только одно: фактическое признание, что воевать и тем более наступать не имело ни малейшего смысла.
Осознали ли военные специалисты хотя бы позже, в какой именно тупик зашла военная стратегия? Для наиболее квалифицированных это стало вполне очевидным уже в первые месяцы сражений — примеров их откровенных признаний более чем достаточно.
Но подобная откровенность была не более чем брюзжанием под нос: слишком страшной была истина, заключавшаяся в невозможности достичь военной победы; она противоречила всем прежним представлениям, вошедшим в плоть и кровь профессионального генералитета и офицерства.
Это был подлинный крах всей идеологии милитаризма. Для его осознания помимо ума нужна была исключительная честность мышления, а публичное признание этой горькой истины требовало такой силы гражданского мужества, какой не нашлось практически ни у кого из вояк. Единственное исключение — военный министр Временного правительства А.И.Верховский, заплативший за свою решимость изгнанием из правительства и осмеянный современниками. Британский посол в России Дж. Бьюкенен, например, так записал в своем дневнике: «Верховский /…/, по-видимому, окончательно потерял голову и заявил, что Россия должна немедленно заключить мир».
Еще хуже, чем военные, вели себя профессиональные политики, привыкшие полагаться на военную силу как на последний и решающий аргумент политических споров.
Ситуация оказалась слишком нестандартной, чтобы историческая и политическая эрудиция, какой обладали, например, П.Н.Милюков или А.И.Гучков, могла компенсировать невысокий уровень их мышления. О дилетантах типа А.И.Терещенко или А.Ф.Керенского и говорить не приходится: их зарубежные коллеги могли водить их за нос сколько угодно…
Упомянутая попытка Верховского объяснить политическому активу России бессмысленность дальнейших усилий продолжения военных действий вызвала буквально поросячий визг негодования у тогдашнего главы российского МИД Терещенко. Последнего тут же поддержал Керенский и фактически уволил Верховского (самого энергичного и решительного генерала в 1917 году!) прямо накануне большевистского переворота!
Естественно, невозможность выиграть войну не стала предметом обсуждений ни внутри высшей военной среды, ни между военными и политиками — ни в России, ни за границей, и ни в 1914–1918 гг., ни позже.
Тем более от чего-либо подобного постарались оградить широкую публику. Даже термин «война на истощение» — как главный стратегический принцип борьбы — получил право на гражданство только в годы Второй Мировой войны, бывшей в гораздо большей степени обыкновенной войной, чем просто войной на истощение, как Первая.
Но чем дольше война продолжалась, тем больших жертв требовала от участников. Время шло, и конечные результаты войны приобретали все большую и большую ценность — тем более, что объективно исход носил явно ничейный характер.
Не слишком большие территориальные захваты (как в Европе, так и в колониях), происшедшие к концу 1916 — началу 1917 года, в целом взаимно компенсировались и позволяли вернуться после переговоров к прежним, довоенным границам.
Спорными оставались только судьбы Польши, юго-западных славян, Эльзаса и Лотарингии и всего прочего, что и было предметом споров еще до начала войны и что все равно имело смысл решать чисто договорным путем. Это, в конце концов, и было сделано, хотя и не скоро, да и не окончательно: в Косово по-прежнему стреляют!..
Самым естественным было бы приступить к мирным переговорам — к этому еще в сентябре 1914 года призывало правительство Германии, бывшее, вопреки легенде, созданной пропагандой его противников, наименьшим среди виновников начала войны. Раньше всех Вильгельм II и его приближенные поняли и то, к какому результату должна привести Германию война на истощение.
Но уже осенью 1914 года жертвой мирных переговоров могли стать почти все правительства: возмущенные народы были вправе предъявить к ним обоснованные претензии за величайшую политическую глупость и безответственность!
К тому же, в сентябре 1914 года, по мнению правительств главных противников Германии — Великобритании и России, война по существу даже не начиналась: еще не был разгромлен германский флот, а Константинополь — «богатейшая добыча всей войны» (по выражению меморандума британского МИД в марте 1915 года) — по-прежнему пребывал в руках Турции, все никак не желавшей вступать в войну.
Мало того: в течение всего августа 1914 года Турция пыталась вести переговоры о своем вступлении в войну на стороне… России! Все эти попытки были российской стороной спущены на тормозах: не имея Турцию противником, невозможно отобрать у нее столицу и проливы!..
Понятно, что в 1914 году это оставалось дипломатическим секретом, но очень характерно, что советская историография послесталинских времен взяла под защиту прежнюю российскую дипломатию, делая упор на коварство и лживость турецких политиков!
Единственным спасением для тогдашних правительств было продолжение обещаний своим народам невозможной, но так необходимой (не народам, а правительствам!) победы. От суда их могла спасти только общеупотребительная формула: победителей не судят!
И война была обречена продолжаться, доведя число только убитых к осени 1918 года более чем до 7,5 млн.; из них почти треть пришлась на Россию. Такие потери заведомо превышают суммарную численноть убитых во всех европейских войнах предшествующего тысячелетия!
Это стало величайшим политическим преступлением ХХ века, поскольку все последовавшие естественно вытекали из ситуации, в которую все глубже и глубже погружалось человечество.
Неудивительно, что близкая военная победа, которой на самом деле не могло быть, фигурирует в качестве вполне возможной реальности во всех мемуарах тогдашних политиков и всех научных и пропагандистских трудах последующих историков — вплоть до наших дней.
Победители 1945 года, безоговорочно выиграв очередной тур войны, начатой еще в 1914 году, постарались и сумели стереть в памяти людей столь болезненный вопрос о виновниках начала и беспрецедентной затяжки Первой Мировой войны.
Но если Первую Мировую войну невозможно было выиграть военным путем, то чем же она должна была завершиться?
Естественно, экономическим крахом, поскольку все возраставшие военные усилия и приносимые жертвы приводили к ухудшению экономической ситуации.
О масштабах создавшегося напряжения свидетельствуют такие цифры: в России, начиная с довоенных призывов, к концу 1917 года было набрано в армию более 19 млн. человек — это была самая большая армия за всю прошедшую историю человечества. И, тем не менее, с учетом общей численности населения, Россия была далеко не самой мобилизованной среди основных участников мировой бойни.
В России в армию и флот призвали 10,5 % общей численности населения страны (считая стариков, женщин и детей), в Англии (где долго сохранялся принцип добровольности призыва) — 10,8 %, в Италии — 15,5 %, во Франции — 17,2 %, в Австро-Венгрии — 17,3 %, а в Германии — даже 19,7 %! В последней, как легко прикинуть, мобилизовали практически всех мужчин, способных носить оружие. Почти вся мужская работа, кроме требующей уникальной квалификации, в германском тылу легла на женщин и военнопленных!
И вся эта масса мобилизованных людей могла только ценой сверхусилий подвинуть линию окопов на пару сотен метров на западноевропейском фронте или на пару сотен километров — на восточноевропейском, где было больше пространства и меньше дорог и применяемой военной техники.
Неудивительно, что дезертирство и уклонение от призыва стали массовым явлением — в России война утратила всякую популярность уже к лету 1915 года. Вот какие оценки приводит С.П.Мельгунов — известный историк и публицист: «Растет дезертирство. Сколько было в действительности таких дезертиров? Никто не знает. Керенский исчисляет их к моменту революции 1200 тысяч; [И.П.]Демидов, на основании данных военной комиссии Государственной Думы, доводит эту цифру до 2 с половиной миллионов. О «громадном размере» дезертирства говорит 30 июля [1915 года] в Совете министров ген[ерал А.А.]Поливанов. Дезертиры образуют шайки с атаманами и представляют такую опасность общественному порядку, что министр внутренних дел [князь Н.Б.]Щербатов в заседании Сов[ета] Мин[истров] 6-го августа [1915 года] не ручается за безопасность Царского Села».
Но вечно так продолжаться не могло, и должен был наступить крах. Причем крах должен был наступить не во всех странах одновременно (о чем мечтали в свое время К.Маркс и Ф.Энгельс), а по очереди. И не было проблемы в том, чтобы угадать, в какой последовательности это должно было произойти.
Вот показатели среднедушевого национального дохода основных воевавших стран, за полгода до начала войны, в 1913 году, в английских фунтах стерлингов:
Англия -49,0
Франция -37,0
Германия — 30,9
Австро-Венгрия — 24,9
Италия — 24,3
Россия 8,0
Добавьте к этому Канаду, Австралию, множество британских и французских колоний с их безграничными людскими ресурсами, а затем и колоссальный экономический потенциал США, с весны 1917 года усиливший экономику Англии, Франции и Италии, но в весьма малой степени помогший России — ввиду сложности транспортной связи и заметного охлаждения западных союзников к материальной помощи государству, увязшему в трясине революции.
Поскольку вся война распадалась на два основных и практически не связанных театра военных действий, то и ее исход был строго предопределен: сначала должна была пасть Россия, затем — Германия с Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией (других союзников у Германии не было), а оставшиеся имели формальное право объявить себя победителями, что и произошло.
Заговоры и интриги, приведшие к созреванию политического кризиса и началу войны, развивались не один год, и в первую половину 1914 года ее неизбежность (ничего общего не имевшая с теорией неизбежности войн при империализме!) не составляла секрета в информированных политических кругах. Исход же войны тоже был тогда ясен трезвомыслящим людям, не опьяненным политическими амбициями, а, наоборот, строившим четкие планы, чтобы воспользоваться грядущей ситуацией.
Лидер Партии социалистов-революционеров В.М.Чернов свидетельствует, что в январе 1914 года в Париже, в зале Географического общества, Ю.Пилсудский сделал доклад, в котором сообщил, что в ближайшем будущем произойдет столкновение между Россией и Австро-Венгрией из-за Балкан, которое приведет к общеевропейской войне. В этой войне Россия потерпит поражение, а затем потерпят поражение и Германия с Австро-Венгрией от соединенных сил Англии, Франции и США, вступление в войну которых Пилсудский гарантировал. Из этого вытекал изложенный им план завоевания независимости Польши: на первом этапе войны поляки выступают на стороне Германии против России, на втором этапе — на стороне западных союзников против Германии.
План этот, как всем известно, был четко реализован и привел к полному успеху (хотя после двух фаз, предусмотренных Пилсудским, наступила и третья — война с воспрянувшей Советской Россией, в которой Польша едва вновь не утратила только что обретенную независимость; опять же, как известно, мытарства Польши и после этого продолжались почти до конца ХХ века).
Чернов, к его чести, отказался от конкретных предложений поляков к сотрудничеству в рамках этого плана (хотя в 1917 году противники справа обвиняли его именно в пораженческих настроениях), но, не к чести для его проницательности, Чернов даже позже считал предвидения Пилсудского случайным выигрышем в лотерее…
У англичан были великолепные перспективы пересидеть побоище — в войне на истощение очередь их поражения должна была подойти последней. Если бы не германские подводные лодки (важнейшая роль которых до войны не предвиделась, да и было их поначалу ничтожное количество!), то жизнь вообще была бы комфортной! Вот к Великобритании и подходит идеально «совет» В.Суворова ничего не делать, а просто ждать, когда у Германии подкосятся ноги. И это прекрасно понимали ведущие британские политики.
Так бы они и действовали, но необходимо было поддерживать и у союзников иллюзию возможной победы — иначе они прекратят борьбу и разрушат сложившуюся коллизию, неминуемо ведущую к победе Великобритании. Необходимо было по возможности сохранить все фронты, осуществляющие экономическую блокаду Германии, которые одновременно фактически обеспечивали и экономическую блокаду России.
Это оказалось заранее непредвиденной, но невероятно благоприятной ситуацией для англичан: оба главных довоенных конкурента Британской империи одновременно шли к экономическому краху и поражению — чем не блестящая перспектива?!
Недаром по Европе к 1917 году стала ходить популярная «шутка», что Англия готова вести борьбу до последнего… русского солдата! Неважно, что эта шуточка скорее всего была придумана германскими пропагандистами — от этого она не становится менее справедливой. Но, чтобы российских солдат продолжали гнать в бой — для этого необходимо было поддерживать иллюзию искреннего стремления самой Англии к военной победе! Поэтому приходилось гнать на бойню и англичан, а заодно и французов, итальянцев и всех прочих!..
У французов, отдавших немцам чуть ни треть собственной метрополии (вместо желанного возвращения Эльзаса и Лотарингии!), не было никаких степеней свободы для собственного выбора: им оставалось слушаться англичан и ждать общей победы.
Замысел англичан вполне удался, и победу они получили. Досталась она им, однако, слишком дорогой ценой: в результате Первой Мировой войны мир настолько изменился и пошел в дальнейшем таким путем, что наивные мечтания англичан об устранении конкурентов, отравлявших до войны их существование, даже исполнившись, утратили всякий разумный смысл. В мире ХХ века, созданного Великой войной, места для Британской империи просто не осталось!
Но до этого, конечно, в 1914–1918 гг. было еще далеко.
Совершенно определенную позицию заняло и германское правительство: мир и только мир хоть в какой-то степени сохранял могущество Германии, достигнутое к началу Великой войны. Отсюда и непрерывные попытки к его заключению, неоднократно возобновляемые, начиная с сентября 1914 года. Отсюда и безуспешные попытки привлечь на свою сторону Россию, которую также неминуемо ждал крах в случае продолжения войны, причем еще раньше, чем Германию.
Весьма печально, что уроки Первой Мировой войны не были извлечены вовремя: ведь ситуация в 1945–1991 гг. чрезвычайно напоминала ту, что сложилась в 1914–1918 гг. — исход противоборства решался не непосредственно военными действиями, а итогом соревнования экономик. Вновь, как и раньше, слабейшей стороной оказалась Россия (хотя и под другим названием), что все мы теперь и расхлебываем.
Экономические бедствия в России начались еще в конце 1913 года, причем по инициативе вполне конкретного и определенного человека — экс-премьера графа С.Ю.Витте. Находясь в отставке и тяжело переживая это состояние, он изыскивал все мыслимые и немыслимые возможности для возвращения в состав действующего правительства. Он не придумал ничего более подходящего, чем затеять политическую интригу против тогдашнего премьера и министра финансов, своего прежнего многолетнего соратника и сотрудника В.Н.Коковцова.
Витте вменил Коковцову в вину то, что последний строит благополучие государства и укрепляет бюджет главным образом за счет доходов от государственной винной монополии, т. е., по существу, спаивая народ.
Зерно истины в этом обвинении было, ибо в 1907–1913 гг., когда Россия переживала период бурнейшего экономического роста (в том числе благодаря и чрезвычайно грамотной финансовой политике Коковцова), поступления от винной монополии дошли до четверти доходной части всего государственного бюджета.
Заметим, однако, что в этом не было ничего принципиально нового. Например, в России, разоренной Крымской войной, еще сильнее налегли на продажу водки, доведя доходы от этого в 1858 году до 33 %, а в 1860 году — даже до 46 % годовых поступлений в государственную казну!
Тем не менее, Витте удалось опорочить Коковцова в глазах Николая II, вдохновить усилия всех его недоброжелателей, и в январе 1914 года Коковцов был уволен в отставку. Самому Витте это, как оказалось, ничего не дало. Однако увольнение Коковцова сыграло решающую роль для России: из правительства был удален самый твердый и, по существу, единственный к этому времени противник возникновения общеевропейской войны; главный поборник мира — П.А.Столыпин — погиб еще в сентябре 1911 года.
С уходом Коковцова начались меры по сокращению продажи водки, что уже в первую половину 1914 года уменьшило поступления в бюджет — пока, правда, в незначительных размерах.
Зато 22 августа 1914 года, в самом начале войны, Николай II принял единоличное решение о введении полного «сухого закона» (вторым столь же мудрым отечественным политиком ХХ века стал, как известно, М.С.Горбачев — результаты получились аналогичными!). Войну, которую с 1914 года называли в русской печати и Второй Отечественной, и Великой Отечественной, и Священной, надлежало вести, по мнению царя, трезвой нации. Поскольку победу ожидалось отмечать через какие-нибудь несколько месяцев, большой беды в этом воздержании не предвиделось.
Однако победа не пришла, а конец войны отдалился на непредсказуемый срок.
Государство, которое в военных условиях должно было не сокращать, а увеличивать расходы, столкнулось с проблемой потребности в денежной массе. Вот тут-то и начало играть роль то, что доходы одновременно не только не увеличились, но и резко сократились — за счет прекращения доходов от винной монополии.
Первоначально это не грозило большими бедствиями, поскольку накануне войны, благодаря усилиям того же Коковцова, Россия накопила гигантский золотой запас, намного превышавший золотой запас в любой иной стране.
Строго говоря, первоначальное увеличение денежной массы еще не было инфляцией. Она пришла позже — спустя немногим более полугода с начала войны, но затем нарастала со все большим ускорением.
Результатом введения «сухого закона» было и нарушение баланса товарооборота между городом и деревней.
Сельские жители производили продовольствие, в российских условиях — прежде всего хлеб, и обменивали его на промышленные товары, среди которых государственная водка занимала первое место. Теперь стимул для продажи зерна резко уменьшился, а никаких других способов для заготовки продовольствия царская Россия не имела!
Крестьяне должны были увеличить и собственное потребление зерна: закон — законом, но пьянство — не только вредная привычка, но, начиная с некоторой индивидуальной фазы, и наркотическая потребность — с этим также пришлось остро столкнуться в эпоху Горбачева! Крестьяне, следовательно, должны были гнать самогон, а на это тогда использовалось, в основном, то же хлебное зерно.
Мало того, создалась массовая подпольная индустрия: хлеб, перегнанный в вино, стоил много дороже хлеба в чистом виде!
Другим фактором, разрушавшим товарооборот между городом и деревней, стала мобилизация промышленности.
К началу 1917 года порядка трех четвертей всех промышленных рабочих работало на войну. Военное производство достигло таких масштабов, что запасов оружия и боеприпасов хватило, как известно, еще на добрых пять лет злейшей Гражданской войны — при почти полном параличе промышленности после 1917 года! Объем товаров, требуемых сельским жителям, сократился и по этой причине.
Ударило по товарообмену и фактическое установление экономической блокады России: были перерезаны традиционные торговые пути через Балтийское и Черное моря и полностью закрыты вся западная и закавказская сухопутные границы. С портами, свободными для продолжения торговли — Архангельском и Владивостоком — центр России связывался единственными одноколейными железнодорожными линиями. Архангельск, кроме того, замерзал на зиму, а железнодорожную колею к незамерзающему Мурманску построили только к 1917 году. В море же транспортные суда встречались вражескими подводными лодками.
Итогом стало почти полное прекращение международной торговли мирными товарами — причем и экспорта, и импорта.
До войны же, оказывается, даже подавляющее большинство самого распространенного сельскохозяйственного инструмента — обычных ручных кос! — ввозилось из Австро-Венгрии; понятно, наладить достаточное их производство в условиях мобилизации промышленности оказалось нереальным.
С начала 1915 года стали возникать перебои транспорта, все более переходившие в знаменитую железнодорожную разруху, окончательно разразившуюся уже в послереволюционное время. Оказалось, что и это бедствие было заранее рассчитанным, причем исходя исключительно из благих целей.
Военные перевозки были тщательно спланированы, а планы эти прекрасно выполнены. Было рассчитано, например, что в результате жестокой эксплуатации большая часть паровозов выйдет из строя к концу первого полугодия войны, что и произошло.
До начала войны такой план не вызывал никаких тревог: никто же не ждал, что война продлится дольше! После победоносной войны поверженные противники или благодарные союзники, конечно же, должны были с легкостью восполнить российские потери!
Перебои транспорта стали резко сказываться на доставке товаров, тем более что на военное снабжение постоянно обращали главные заботы.
Следствием всего перечисленного стал неудержимый рост цен.
Казалось бы, больше должны были расти цены на промышленные товары, производство которых резко упало; продовольствия же хватало, поскольку с лета 1914 года прекратился его экспорт и запасы возросли (до этого времени Россия занимала первое место в мире по экспорту зерновых, вывозя треть общего объема мировой хлебной торговли в весовом исчислении). Но рыночные законы не подчиняются такой примитивной логике; в большей степени росли цены на то, что имело больший спрос.
К тому же и продовольствие, которого в 1914–1916 гг. в России был избыток, имелось отнюдь не там, где в нем была наибольшая нужда: его еще нужно было перевезти. Здесь-то и сказался в первую очередь перевод транспорта с мирных грузов на военные: в июле 1914 года было перевезено только 72 % объема хлебных перевозок июля 1913 года, в августе 1914 — 35 % объема августа 1913 года (столь значительное падение объясняется и внезапным прекращением экспорта через западную границу), в сентябре — соответственно 47 %. И позже объемы хлебных перевозок ни разу не превысили 60 % нормы мирного времени.
Человек может лишний месяц походить в изношенной одежде или обуви, а вот прожить месяц без еды еще никому не удавалось! И цены на продовольствие полезли в первую очередь. Если к весне 1915 года общий прирост цен составил 25 % от уровня 1913 года, то цены на муку и хлебные товары поднялись уже на 40–50 %.
В условиях общей инфляции средняя зарплата рабочих Петрограда выросла к октябрю 1916 года в 2 раза по сравнению с довоенным временем, а цены на продукты питания там же — в 4 раза.
Осенью 1915 года от хлебных перебоев страдало население уже большинства городов России.
Определенную гарантию снабжения давала карточная система. И в Первую, и во Вторую мировые войны к ней прибегали во всех воюющих европейских государствах. Исключением не было и царское правительство, но в Петрограде и в Москве ее в феврале 1917 года еще не было, хотя она успешно функционировала совсем недалеко — в Пскове.
Принципиально было принято решение о введении карточек и в столицах, и как раз в феврале это стало предметом пересудов и слухов. До этого правительство пыталось сделать хорошую мину при плохой игре: создавало иллюзию вполне нормальной и не затронутой военными бедами жизни хотя бы в столицах — типично российский вариант показухи!
Постепенно сложился порочный круг: производители зерна почувствовали, что задержки в его продаже ведут к повышению цен, опережающему рост цен на остальные товары. Следовательно, чем позже продашь хлеб, тем больше выиграешь. Все новые и новые задержки в поставке хлеба давали селянам и торговцам-посредникам все большую и большую выгоду!
Выгоднее всего было вести дело к голоду в городах. Противовесом этому стремлению было только гражданское чувство долга, которое вступало в противоречие с элементарной жаждой наживы. Но чувство долга оказалось не безграничным, и городское население было бы обречено, если бы не прибегло в ответ к методам внеэкономического принуждения.
Россия выползла из этой ситуации только весной 1918 года, когда в деревни были посланы продотряды, приступившие к реквизициям. Найденная «палочка-выручалочка» оказалась с двумя концами: в 1921–1922 гг. вымерло от голода порядка десяти миллионов дочиста ограбленных к тому времени сельских жителей.
Вскоре Россия снова попала в почти аналогичную ситуацию, и после перебоев в хлебном снабжении 1928–1929 гг. крестьян попросту коллективизировали, лишив права собственности на продукты их труда; непосредственным результатом стал голод уже 1932–1933 гг.
Царское правительство, об антинародной сущности которого столько писала оппозиционная пресса до революции и вся советская пресса после революции, оказалось неспособно к таким методам обращения с собственными подданными. Оно было обречено ждать, когда же продовольственные затруднения в городах поставят существующий режим на колени.
Другой вопрос: кто же при всех этих ситуациях был виноват в том, что крестьянам стало невыгодно продавать хлеб в города?
В 1914–1917 гг. ответ был очевиден: инициаторы дальнейшего продолжения войны.
Витте, нужно отдать ему должное, понял все достаточно быстро. Поскольку его личные цели оставались прежними — возвращение к власти! — он и сделался первым в России глашатаем необходимости мирных переговоров. Его внезапная смерть 28 февраля /13 марта 1915 года вызвала заметный вздох облегчения у западноевропейских дипломатов. Его более молодые и глупые преемники решили не следовать его примеру (неумышленно неудачно написанная фраза оказалась двусмысленно зловещей!).
Политическая оппозиция, окопавшись в Государственной Думе, заняла в вопросе о мире гораздо более непримиримую позицию, чем правительство: воинственные П.Н.Милюков и А.И.Гучков, демонстрируя полное непонимание объективной реальности, рвались к власти, обещая под собственным руководством добиться решающей военной победы, которой не могло достичь «бездарное» царское правительство!
Милюков был лидером Партии Народной Свободы (партии кадетов — конституционных демократов) и Прогрессивного блока в Государственной Думе (невольно вспоминается каламбур: советский паралич — самый прогрессивный!). Гучков — лидером партии, точнее — политического движения «Союз 17 Октября» («октябристов»). Созданное в поддержку Манифеста 17 октября 1905 года, от провозглашенных «свобод» которого постоянно отступало царское правительство, оно было оппозиционным движением, максимально приближенным к официальной власти.
Царское правительство, разумеется, было бездарным, но все последующие намного его в этом превосходили!
А ситуация приобретала все более зловещий характер; об этом прямо предупреждало руководство Петроградского Охранного отделения Департамент полиции: ««Кончайте войну, если не умеете воевать»,— слова одного из ораторов больничной кассы Петроградского вагоностроительного завода, — сделались лозунгом петербургских социал-демократов» — это написано и подано начальству за четыре месяца до Февральской революции!
В столице было тревожно: в октябре 1916 года войска, вызванные для разгона забастовщиков, стреляли не в рабочих, а в полицию — это было грозным предзнаменованием грядущих событий.
С этого же времени военная контрразведка, контролировавшая переписку фронтовиков, свидетельствовала о заметном росте антивоенных настроений: солдаты были готовы на любой мир, даже самый «похабный».
Под Ригой в начале февраля 1917 года были зафиксированы отказы боевых частей идти в атаку.
Тем не менее, политическая оппозиция, фактически распространившаяся на большинство Государственной Думы, тщетно надеялась на поддержку народных масс.
14 февраля 1917 года открылась очередная сессия Думы.
Прогрессивный блок через подпольную меньшевистскую организацию, с которой он тесно контактировал, звал в этот день рабочих на всеобщую демонстрацию поддержки.
Большевики Петрограда, состоявшие в оппозиции и к царю, и к Думе, призывали рабочих на другую демонстрацию: 13 февраля исполнилось два года с момента завершения суда над пятеркой большевиков — депутатов Думы.
Это было пробным камнем: те, на чей призыв рабочие откликнулись бы в большей степени, и располагали большим влиянием и популярностью. Проиграли обе стороны: на демонстрации никто не вышел — у рабочих оказались иные заботы.
12 февраля 1917 года православная Россия прощалась с Масленицей. В последний раз перед многими десятилетиями голода и лишений пеклись блины. Столы были уставлены закуской, и пились, всеми правдами и неправдами раздобытые, водка и вино.
Столь миролюбивая, казалось бы, атмосфера в столице и полное равнодушие ее жителей к политическим проблемам не могли не подействовать и на воинственных думских депутатов.
Британский посол сэр Джордж Бьюкенен, до того крайне обеспокоенный нагнетением политических страстей, облегченно вздохнул: «Сессия Думы началась 27 февраля (н. ст.) и первое ее заседание, на котором я присутствовал, прошло настолько спокойно, что я думал, что могу без всякой опасности воспользоваться коротким отдыхом в Финляндии. В течение десяти дней, проведенных мною там, до меня не доходило никаких слухов о приближающейся буре».
Привычка ожидать грозные бури исключительно от парламентской палаты сыграла с британским джнтельменом дурную шутку: от открытия сессии Думы до падения царской власти в столице оставалось ровно столько дней, какова разница между старым и новым стилем: революция состоялась 27 февраля по старому стилю.
С понедельника 13 февраля 1917 года наступил Великий Пост.
Магазины столицы продолжали ломиться от разнообразной еды; правда, цены были много выше довоенных. Рацион же питания православных должен был резко сузиться, но и это не создавало особых проблем, поскольку хватало и разрешенных продуктов, в том числе — хлеба. Тем не менее, сразу после начала поста дефицит ржаного хлеба стал ощущаться.
Власти утверждали, что этого не могло быть: пекарни получали муку с государственных складов по установленным нормам, оправдавшим себя в предшествующие месяцы.
Не факт, что это было полной правдой: в этом можно сомневаться, поскольку хорошо известно, что из-за погодных условий, имевших место до середины февраля, многие эшелоны, в том числе и с хлебными грузами, застряли в пути и прибыли на разгрузку уже только в первых числах марта.
По подсчетам советского историка Т.М.Китаниной, в первые два месяца 1917 года подвоз продовольствия и в Петроград, и в Москву составил лишь 25 % необходимой нормы; однако для правильного анализа ситуации необходимы сведения и о состоянии предшествующих запасов, а о них достаточно достоверных данных не имеется.
Так или иначе, пшеничный хлеб имелся в булочных, а дефицит более привычного и дешевого ржаного хлеба был налицо.
Не всем, стоявшим в эти дни в очередях, оказавшимися уже обыденными за последние месяцы, достался хлеб. Для правильного уяснения политической ситуации необходимо знание лексических особенностей: в Питере всегда (и до сих пор!) хлебом называют черный хлеб, а белый хлеб именуется булкой!
Есть свидетельства, что многие покупатели, купив хлеб в одной булочной (отпускался он явно в ограниченных размерах; такие нормы стихийно быстро устанавливаются русскими людьми в подобных ситуациях), тут же становились в очередь в другую булочную. Возникли ажиотаж и паника.
Это было в Петрограде не впервые — аналогичное происходило и в начале февраля. Тогда, после двух-трех дней усиленных закупок хлеба в булочных, публика в течение последующих дней была вынуждена торговать сухарями. Выход из ситуации был не слишком вдохновляющим: на всей этой операции население понесло убытки, никем не компенсированные.
В следующий раз никто с этим смиряться не захотел.
Уже 13 февраля в нескольких «хвостах» (там, где хлеба не досталось) женщины начали волнения.
Полиция наводила порядок, не проявляя, как это и было принято, особой гуманности.
14 февраля в ответ начались забастовки. С 15 февраля число бастовавших измерялось десятками тысяч — и возрастало изо дня в день.
С 21 февраля началась забастовка в некоторых цехах Путиловского завода; на следующий день он встал целиком, а вслед за ним и другие крупнейшие предприятия.
Этот критический момент власти явно проспали! А ведь развитие дальнейших неприятностей пока что имело почти дремотный характер!
22 февраля Николай II, находившийся после гибели Распутина в столице (об этом подробнее ниже), выехал в Ставку в Могилев, куда и прибыл к вечеру следующего дня. После его отъезда события в Петрограде понеслись со страшной скоростью.
Начиная с 23 февраля стачка в столице стала всеобщей: перестали ходить трамваи, прекратился выход газет.
Внезапно нарастающему развитию забастовки способствовало стремление забастовщиков в хлебные «хвосты» — вместо того, чтобы работать и думать о том, встретят ли их дома с хлебом. Разумеется, длина «хвостов» при этом непрерывно росла.
Пока это носило еще более или менее мирный характер, хотя любой «хвост» мог тут же превратиться в стихийный митинг.
Говорили кто хотел и что хотели.
Все это продолжалось при заметной пассивности властей. Приказ командующего округом, извещавший о том, что хлеб в столице имеется и оснований для волнений нет, никакого эффекта не дал. Публика предпочитала больше доверять своим глазам, не видящим хлеба в свободной продаже, чем уверениям начальства.
Именно в это время спали морозы, и восстановилась регулярность железнодорожного движения: хлебные эшелоны уже приближались к станциям разгрузки!
Но изменение погоды повлияло и на поведение людей в Петрограде: 23 февраля морозов не было, и толпы забастовщиков высыпали на улицы. Более или менее организованную демонстрацию провели бастующие работницы на Выборгской стороне — сказалась, вероятно, социал-демократическая агитация: этот день (8 марта н. ст.) был уже известным международным днем солидарности работниц.
Произошли беспорядки и столкновения с полицией на окраинах, и в этот же день массы рабочих впервые появились в центре города.
Вот как это прокомментировала 24 февраля царица Александра Федоровна в послании из Царского Села к Николаю II: «Погода теплее /…/. Вчера были беспорядки на Васильевском острове и на Невском, потому что бедняки брали приступом булочные. Они вдребезги разнесли [булочную] Филиппова, и против них вызывали казаков. Все это я узнала неофициально.»
На следующий день она писала: «Стачки и беспорядки в городе более чем вызывающи /…/. Это — хулиганское движение, мальчишки и девчонки бегают и кричат, что у них нет хлеба, — просто для того, чтобы создать возбуждение, — и рабочие, которые мешают работать другим. Если бы погода была очень холодная, они все, вероятно, сидели бы по домам. /…/ Некоторые булочные также бастовали. Нужно немедленно водворить порядок, день ото дня становится все хуже. /…/ Не могу понять, почему не вводят карточной системы и почему не милитаризуют все фабрики, — тогда не будет беспорядков. Забастовщикам прямо надо сказать, чтобы они не устраивали стачек, иначе будут посылать их на фронт или строго наказывать. Не надо стрельбы, нужно только поддерживать порядок и не пускать их переходить мосты, как они это делают. Этот продовольственный вопрос может свести с ума. Прости за унылое письмо, но кругом столько докуки.»
Характерно, что общее отношение к войне было таково, что даже царица рассматривала отправку рабочих на фронт как наказание.
В целом же эта женщина, занятая в те дни уходом за тяжело больными детьми (как раз 23 февраля заболели корью две ее дочери, а позже и остальные дети), верно оценивала положение: движение действительно носило хулиганский характер, никем не руководилось, но уже напоминало зачаточную степень массового погрома немецких магазинов и лавок в Москве в мае 1915 года.
Характерно и желание царицы избежать стрельбы, но наивен ее расчет на закрытие мостов для публики: Нева и все ее рукава еще раньше замерзли, и проход по льду был свободен.
Власти проявляли нечто худшее, чем бездействие: бессильные полумеры только возбуждали страсти осмелевших хулиганов, поначалу не встречавших действенного отпора. В результате стрельбы избежать не удалось.
Еще с 14 февраля — в опасении не происшедших в тот день политических демонстраций — на помощь полиции и казакам выводились на улицы подразделения гвардейских полков, дислоцированных в столице.
В 1905–1906 гг. гвардейцы сыграли решающую роль в подавлении революции. Теперь они были гвардией больше по названию: основная часть полкового состава была на фронте, где гвардия, начиная с лета 1914 года, несла ужасающие потери, поскольку ее пытались использовать для достижения решающих успехов. В столице же оставалось по запасному батальону и по учебной команде каждого полка.
Запасные батальоны состояли из обученных резервистов и гвардейцев, выздоравливавших или выздоровевших после ранений. Учебные команды — каждая имела структуру батальона — комплектовались необученными новобранцами.
Численность рядового состава этих «батальонов» и «команд» была непомерно раздута; зато не хватало офицеров и унтер-офицеров — обычно тоже фронтовиков, выздоравливавших после ранений. Таким образом, в каждом полку было по 15–20 тысяч солдат при нескольких офицерах и нескольких десятках унтер-офицеров.
Казармы были катастрофически переполнены и не приспособлены для полноценных учебных занятий такого количества солдат. В результате последние маялись от безделья, на фронт не рвались, но заинтересованно присматривались к столичной жизни. Использовать их для подавления волнений населения, тем более вызванных недостатком хлеба, было явно рискованно.
Ни министр внутренних дел А.Д.Протопопов, ни командующий округом генерал С.С.Хабалов не имели разумной концепции борьбы с беспорядками. 23 февраля это подтвердилось в полной мере.
Вот как об этом рассказал командир учебной команды Финляндского полка подполковник Д.И.Ходнев, оказавшийся на этой должности после фронтовой контузии: «Нарядам вменялось не допускать перехода рабочих групп через мосты — мы должны были их разгонять; но если те же рабочие шли через мосты не группами, а поодиночке — мы не имели права их задерживать (!?). То же самое, если они переходили реку Неву не по мосту, а по льду: группами нельзя, одиночным — можно! /…/ когда я указал, что, разрешая одиночным рабочим переходить Неву, этим допускали их скопление в центре — то получил следующий наивный, если не сказать более приказ: пропускать одиночных через мосты, у кого будут чистые, не рабочие руки…(!!)
Вспоминается еще и такое распоряжение: не под каким видом не допускать никаких политических демонстраций с красными флагами, но, в то же время употреблять против демонстрантов оружие отнюдь не позволялось. И вот так, везде и во всем — «полумеры»! /…/ В этот день к фабрикам и заводам неоднократно подходили толпы и снимали силой с работ. /…/
С утра 23 февраля начались нападения на полицейских чинов, из числа которых многие были жестоко избиты и ранены. Вследствие этого в полдень было приказано: занять «второе положение», т. е. охрана порядка и спокойствия в столице передавалась военным властям».
В связи с последним распоряжением, офицеры, командовавшие солдатами и имевшие предписание рассеивать бунтовщиков, отдавали уже на законном основании приказ открыть огонь.
В результате солдаты либо стреляли в безоружную толпу, либо выходили из повиновения.
Уже днем 24 февраля солдаты запасного батальона Литовского полка захватили винтовки, самовольно оставили казарму и собрались на Марсовом поле, желая присоединиться к рабочим. Эта демонстрация оказалась почти полным аналогом стояния на Сенатской площади 14 декабря 1825 года; отличием стал лишь хэппи-энд, не получившийся в 1825 году.
Полковой священник с крестом в руках убедил солдат вернуться в казарму — это единственный эпизод Февральской революции, когда служитель церкви оказался активным действующим лицом; других священников в эти дни в столице как бы и не было.
Скандальное выступление литовцев было решено замять и по возможности не предавать огласке.
В эти дни, помимо посланий от жены, Николай II получал чрезвычайно тревожные телеграммы от председателя Думы М.В.Родзянко и чрезвычайно успокоительные — от Протопопова.
Но Родзянко еще накануне открытия сессии Думы (приблизительно 10–12 февраля) подал царю доклад, в котором подробно анализировалось трагическое экономическое положение страны; выводом из него была настойчивая просьба передать власть правительству, ответственному перед Думой.
Николай II не без оснований заподозрил Родзянко в целенаправленном нагнетании страстей, и, к сожалению, то же отношение сохранялось и к его последующим реляциям.
Между тем, 24–26 февраля страсти в столице накалились до предела.
Вот как три месяца спустя описывал события, свидетелем и участником которых был он сам, старший фельдфебель учебной команды Волынского полка Тимофей Иванович Кирпичников.
Утром 24 февраля один взвод учебной команды под его началом был послан на Знаменскую площадь (у Московского, тогда — Николаевского вокзала) с задачей рассеять толпу:
«Публика окружила нас сзади, идущие на нас кричат: «Солдатики, не стреляйте». Я сказал: — «Не бойтесь, стрелять не будем». — Толпа людей с красными флагами приблизилась к нам. Я в то время, что называется, обалдел. Думаю: «стрелять — погиб, не стрелять — погиб». Офицер стоял здесь. Я подхожу к нему и говорю: «Они идут, хлеба просят, пройдут и разойдутся». Он взглянул на меня, улыбнулся и ничего не сказал. Он стоит, ничего не говорит, и жестом показывает — проходить — говорит: «Проходи, проходи».
Толпа прошла — обогнула нас по обеим сторонам, и остановилась около памятника [Александру III]. Проходя кричали: «Ура, молодцы солдатики». Там говорили ораторы: что говорили не слышно было.
Пробыли мы там до 6 ч[асов] вечера.»
То же было и 25 февраля: солдаты-волынцы, действуя без офицеров, постарались самоустраниться от горячей ситуации.
Однако рядом с ними происходили очень характерные для этого дня события, чему, вероятно, волынцы были свидетелями. Вот как об этом повествуют полицейские донесения:
«Около 5 часов дня /…/ толпа в несколько тысяч человек устроила митинг около памятника Александру III. Разгонять эту толпу явился со Старого Невского пристав Крылов с отрядом донских казаков. Увидев красный флаг, он ворвался в толпу и, схватив флаг, повернул назад, но тут же упал, сбитый ударом в спину, а затем был убит. Полицейский чин, сообщивший об этом, добавил, что Крылов убит казаками».
Вечером 25-го в казарме стало известно, что назавтра учебную команду Волынского полка поведет сам командир — двадцатипятилетний штабс-капитан И.С.Лашкевич.
Кирпичников, хорошо его зная, понимал, что теперь избежать стрельбы не удастся. И Кирпичников попытался организовать ядро сопротивления, что ему в данный момент не удалось: «Собрались взводные, фельдфебель Лукин и я. Я говорю: «Завтра пойдет Лашкевич. — Вы будете стрелять? Предлагаю: давайте лучше не стрелять». Он упирается: «Нас, говорит, повесят». Стал говорить, что будто зашиб рану и завтра идет в лазарет. Утром, действительно, ушел в лазарет.»
Утром 26-го Кирпичникову ничего не оставалось, как следовать на Невский проспект за своим командиром: «Я в толпе отстал, пошел за дозором. Подхожу и говорю: «Настает гроза. Цельная беда — что будем делать?». Солдаты говорят: «Действительно беда — так и так погибать будем». Я сказал: «Помните, если заставят стрелять, — стреляйте вверх. Не исполнить приказа нельзя — можно погибнуть. А Бог бы дал вернуться сегодня вечером в казармы, там решим свою участь».
Лашкевич приказал горнисту играть сигнал, приказал колоть, бить прикладом и стрелять».
Лучшим исполнителем приказов Лашкевича оказался старший в роте прапорщик Воронцов-Вельяминов: «Воронцов приказал горнисту играть 3 сигнала. Люди очевидно сигнала не понимали — стояли на месте» — то же самое когда-то происходило и 9 января 1905 года: гражданская публика не понимала звуковых военных сигналов, и последующая стрельба оказывалась для нее полной неожиданностью!
Кирпичников продолжает рассказ: «Я стоял шагах в 50 сзади. Командует: «Прямо по толпе пальба — шеренгою. Шеренга 1, 2, 3, 4, 5… пли».
Раздался залп. С верхнего этажа дома по Полтавской (улица, пересекающая Гончарную) посыпалась глина. Толпа разбежалась — убитых ни одного человека. Он сказал: «Целить в ноги, в бегущую толпу». 2-ой залп. Рикошета не видно было [т. е. в этот раз солдаты целились выше домов]. Ни убитых, ни раненых. Говорит: «Вы стрелять не умеете. Зачем волнуетесь, стреляйте спокойно». Я говорю солдатам: «Верно, верно. Вы, ребята, волнуетесь. Вы лучше стреляйте».
Толпа не вся разбежалась, одни прижались к парадным, другие — к воротам. Издали видны черные костюмы. Он кричит: «Уходи». Один старичок показался с правой части Гончарной. Он приказывает ефрейтору Слескаухову: «Стреляй в этого». Тот дал 3 выстрела и 3-м сшиб фонарь. Старик скрылся во дворе. Тогда Воронцов схватил у Слескаухова винтовку и стал стрелять по жавшимся у дверей.
Ранил женщину. Барышня села и плачет: держится выше колена. Неизвестный генерал подходит к офицеру и говорит: «Нужно ей оказать помощь». Подошел, расспросил и вызвал 2-х солдат, которые ее увезли на автомобиле в городскую больницу.
Тогда Воронцов сел на тумбочку и стал стрелять по черным костюмам. Стрелял метко. После выстрела упал человек. Убил он 3-х человек, ранил женщину и мужчину, который тут же ползал по панели. (Вызвана была скорая помощь, и эти люди были убраны). Ехал солдат из отпуска, неизвестно какой части, он же его убил.
Этого Воронцову показалось мало — он стал стрелять по проезду, где жалась публика (где проходит паровой трамвай).
Солдаты разговорились с вольными. Воронцов велел солдатам сойтись, сам прошел по Лиговке, прошел в проезд, сел на тумбочку и опять начал стрелять. Говорит: «Какие умные. Питаете доверие к докторам, знаете, что вас вылечат». Тут он убил 4 человек (ок[оло] 4 часов дня). Потом он вышел на Гончарную, оставил за себя [прапорщика]Ткачуру и пошел в гостиницу выпить (он уже тогда был пьян)» — вот вам и «сухой закон»!
Кирпичников продолжает: «Я пошел искать взводных командиров: Маркова, Козлова. Говорю им: «Что делается? Стыд и грех!» Они молчат. Мы решили с Козловым и Марковым, когда вернемся в казармы, обдумаем, что делать.
Послал узнать во 2-ю роту, стреляли ли там? Там не стреляли. Пробыли мы до 12 ч. ночи /…/.
Нам на смену пришел гвардейский батальон. /…/ Лашкевич говорит: «Действовали плохо, нет самостоятельности. Вы проходили только теорию стрельбы. Теперь прошли некоторую практику. То же самое делается и на войне. Главное — самостоятельность и настойчивость. Все-таки спасибо. Повзводно в казармы». Повзводно разошлись.»
Подобную «практику» солдаты проходили в эти дни по всему центру столицы. Таким было начало «бескровной» Февральской революции; в последующие дни в Петрограде и окрестных портовых городах только убитых оказалось около двух тысяч человек. Неудивительно, что нервы солдат сдавали.
Вечером того же 26 февраля рота солдат Павловского полка, состоявшая из полутора тысяч выздоравливавших фронтовиков, захватила полсотни винтовок с патронами, под командованием офицера вышла из казарм и направилась к Невскому проспекту с целью вернуть в казармы учебную команду своего полка, принимавшую участие в расстреле публики. Выдвинутая против них рота Преображенского полка стрелять в мятежников отказалась. Павловцы вступили в перестрелку с высланными против них конными городовыми, после чего, расстреляв все захваченные ими патроны, вернулись в казарму и забаррикадировались. При возвращении они убили командира своего батальона полковника А.Н. фон Экстена, попытавшегося призвать их к порядку. Следующей ночью под угрозой пулеметов рота сдалась.
Военный министр генерал М.А.Беляев требовал арестовать всю роту, немедленно собрать полевой суд и расстрелять виновных. Но комендант Петропавловской крепости заявил, что для размещения полутора тысяч арестованных у него нет помещения. Дело свелось к аресту 19 зачинщиков, которые на следующий день и оказались единственными арестантами Петропавловской крепости.
Этот эпизод, наконец, привел Протопопова в панику, и теперь уже он стал посылать в Ставку отчаянные телеграммы. В ответ пришло распоряжение о немедленном закрытии сессии Думы — Николай II в Могилеве явно не понимал характера происходивших событий.
В недавние времена многие (включая А.И.Солженицына) вполне обоснованно зубоскалили по поводу Ленина и других революционных эмигрантов, которые узнали о революции в России только из иностранных газет, что не помешало им впоследствии объявить себя ее главными инициаторами и руководителями. Конечно, претензии революционных вождей выглядят достаточно нелепо.
Но гораздо удивительнее было поведение политиков как правительственного, так и оппозиционного и революционного лагерей, находившихся в эти дни в самом Петрограде. Ведь по сути дела, с какой стороны ни посмотри, в столице происходило полное безобразие, и следовало либо немедленно его прекратить и навести в Петрограде порядок (к чему тщетно взывала царица), либо столь же немедленно смести власть, допустившую такое безобразие.
А вместо этого в Государственной Думе продолжались заседания (их не было только в воскресенье 26 февраля), на которых виднейшие политики, мечтавшие о захвате власти в стране, обсуждали что угодно, но не беспорядки, происходившие непосредственно у думских стен. Несколько большую активность проявила Петроградская городская Дума — там, по крайней мере, обсуждалось происходившее, но на уличные события это также ничуть не повлияло.
Менее всего в стороннем отношении можно было обвинить большевиков. Их главенствующая роль в революционном движении была признана охранкой: еще 12 января 1917 года был арестован почти весь состав их Петербургского комитета (старое название сохранялось из антипатриотических соображений!) — девятый по счету за время с начала войны.
Новый, десятый по счету, должен был быть разгромлен в ночь с 25 на 26 февраля — и трое из десяти его членов действительно были арестованы. Остальные же, вовремя предупрежденные об аресте, скрылись, но в такое глубокое подполье, что утратили всякую связь со своими единомышленниками.
По всей столице бушевали митинги, однако никто из известных политиков никогда не посмел заявить позже, что хотя бы раз выступил там. Все происходившее было чисто стихийным массовым явлением: православным людям не хватило черного хлеба!
Вечером 26 февраля собралось межпартийное нелегальное совещание руководителей основных революционных партий. Присутствовали А.Ф.Керенский, лидер «межрайонцев» будущий большевик и руководитель «Красной гвардии» К.К.Юренев и другие. Собравшиеся согласились с мнением Юренева, что происходящие события по существу закончились, и в последующие дни следует ожидать прекращения бесцельных демонстраций и забастовок.
Такое же мнение замечалось и непосредственно у рабочей публики: подставлять себя под пули хотелось все меньше и меньше, а дефицит хлеба, очевидно, не мог долго продолжаться — и действительно, в последующие недели и месяцы с хлебом в столице было все в порядке!
Неизвестно, как бы развивались дальнейшие события. Возможно, с утра 27 февраля никаких волнений не было бы и вовсе, но свое веское слово решил сказать Тимофей Иванович Кирпичников.
В полночь с 26 на 27 февраля 1917 года учебная команда Волынского полка вернулась в казарму — после тяжелого дня, когда солдаты были свидетелями многочисленных убийств, но сами, по инициативе Кирпичникова, всячески уклонялись от стрельбы по безоружным людям. В эту ночь Кирпичников — один единственный человек во всей столице — решил взять на себя ответственность за происходящие события.
В эмиграции позднее распускались слухи о думских депутатах, разъезжавших в ночь на 27-е по казармам с агитационными целями. Беспомощная ложь: кто бы их впустил к спящим солдатам и как бы они могли на них подействовать? Гипнозом, что ли? Но серьезные специалисты, говорят, могут проделывать такое, даже и не заходя в казармы — с большого расстояния! Февральская революция, очевидно, первый удачный опыт подобного воздействия!
Вот как не о мистических, а вполне реальных событиях рассказывал Кирпичников впоследствии:
«Я приказал, чтобы ложились немедленно. Я сел на свою койку и попросил к себе младшего унтер-офицера Михаила Маркова. Спросил его, согласен ли он завтра не идти. Он говорит: «Согласен». Я приказал ему собрать всех взводных командиров. Взводные командиры сошлись. /…/ Я заявляю: «Победить или умереть. Думаю — умереть с честью лучше. Отцы, матери, сестры, братья, невесты просят хлеба. Мы их будем бить? Вы видели кровь, которая лилась по улицам? Я предлагаю завтра не идти. Я лично — не хочу».
Взводные заявили: «Мы от тебя не отстанем. Делай, что хочешь». Поцеловал я их всех и сказал: «Останемся друзьями. Не выдадим один другого и живым в руки не даваться. Смерть страшна сейчас только. Убьют — не будешь знать, что делается». Взводные согласились, конечно.
Дежурного просил созвать всех отделенных. Те явились полураздетые, по-военному — это называется — за три счета (кто босой, кто в одном белье, кто накинувши, все явились). «Вы, близкие помощники. Мы, взводные командиры, решили не идти завтра стрелять». Те заявили единогласно: «Согласны, только твою команду и будем исполнять».
Взводным и отделенным я опять заявил: «Завтра не идем. Исполнять мою команду и смотреть только, что я буду делать».
Решили все: вставать завтра не в 6 часов, а в пять. /…/ Разошлись все. Остался со мной только младший унтер-офицер Марков, который спит рядом со мной /…/. В случае к нам не присоединятся, говорили мы с Марковым, завтра же нас повесят. Опять говорю: «Лучше умереть с честью за свободу. Как видно, все надеются на начало, а зачинщиков нет. Пусть люди помнят учебную команду Волынского полка. Как видно, в России нет тех людей, которые восстали бы против буржуазии. Вдруг, Бог даст, присоединятся к нам части и мы свергнем гнетущее иго». Так и вышло.»
В 5 часов утра 27 февраля, за час до законного подъема, учебная команда Волынского полка была поднята, приведена в порядок, накормлена и подготовлена младшими командирами к последующим действиям. Пришедший к 6 часам штабс-капитан Лашкевич застал своих подчиненных уже собранными в строй и вооруженными. Перед строем унтер-офицеры во главе с Кирпичниковым заявили о нежелании участвовать в расстрелах; Лашкевич пытался возражать, затем бежал — и был убит на казарменном дворе выстрелами в спину.
После этого учебная команда, ведомая Кирпичниковым, двинулась к соседним казармам: сначала к запасному гвардейскому батальону своего же Волынского полка, а затем и к другим полкам, начиная с Преображенского — после чего они поставили в свой авангард полковой оркестр.
Со стрельбой и музыкой переходя от одной казармы к другой, бунтовщики преодолевали сопротивление часовых и офицеров, уговорами, угрозами и убийствами присоединяли к себе солдат и двигались дальше; при этом замечались многочисленные попытки отдельных солдат спрятаться и уклониться от участия в бунте.
Каждая новая победа доставалась мятежникам все легче и легче: каждый следующий еще не захваченный восстанием полк должен был считаться со все возраставшей массой бунтовщиков. Нарастая как снежный ком, толпа вооруженных солдат во главе с Кирпичниковым, действуя достаточно дисциплинированно и организованно, катилась по столице.
Постепенно солдатская масса получала и других неожиданно возникших вожаков; в России наступала эпоха совершенно невероятных политических карьер — с удачным, а чаще — неудачным завершением.
В это раннее утро понедельника еще спал чиновный Петроград. Спали и думские депутаты, и революционные подпольщики. Отсыпались по случаю забастовки и сотни тысяч рабочих, накануне демонстрировавших на улицах. Лишь постепенно стрельба, распространяясь по городу, донесла до населения весть, что происходит нечто экстраординарное.
Что касается стрельбы, то ее вызывало не столько сопротивление (которое кое-где оказывали жандармы и немногочисленные воинские подразделения, поначалу сохранившие подчинение офицерам; полиция с этого утра на улицах не появлялась), сколько общий нервный настрой: и в этот, и в последующие дни все палили когда и куда хотели, что, разумеется, привело к массе совершенно случайных жертв.
А.Д.Протопопов вспоминал: «утром [градоначальник] А.П.Балк мне телефонировал, что много войсковых частей перешло на сторону революционеров; они уже завладели Финляндским вокзалом; защищаемый отрядом жандармов Николаевский вокзал еще держался. От дежурных секретарей, офицеров для поручений и курьеров я все время узнавал тревожные новости: революционеры взяли арсенал, разобрали оружие и патроны, /…/ выпустили из «Крестов» арестованных и осужденных за политические преступления; горело здание судебных установлений. Революция брала верх над защитниками старого строя, правительство становилось бессильным.»
Любопытно, что даже Протопопов — едва ли не самый информированный в этот день человек! — слабо представлял себе, что же происходило: Кирпичников и его друзья были возведены им в ранг революционеров, к которым уже присоединялись войсковые части. Но кто даже в столице мог догадаться, что войска выступили по приказу Кирпичникова, а не Родзянко?
Легко видеть, что Т.И.Кирпичников реализовал именно тот план, который и был предложен не названным по имени Диктатором для исполнения 14 декабря 1825 года.
Кирпичников, не имевший никаких сообщников в других казармах, действовал по единственно возможной схеме: сам последовательно их захватывал, все время увеличивая число людей, изменивших присяге. Каждый из бунтовщиков в отдельности и все они вместе попадали в ситуацию, имеющую только два исхода: победа или смерть — поначалу это был отнюдь не красивый лозунг! Затем, правда, мятеж, достигнув грандиозных размеров, делал все более сомнительным последующее суровое наказание огромной массы участников — но не вожаков!
У этого плана, как легко видеть, было три основные критических точки:
1) захват власти бунтовщиками в одном, произвольно взятом полку;
2) присоединение к первому любого другого следующего полка, еще не захваченного восстанием и имеющего вооруженную силу, соизмеримую с силой восставших; в случае удачи бунтовщики последовательно действовали на еще не присоединенные полки уже силой своего численного и морального превосходства: нейтральным солдатам предлагалось поступать, как все — очень весомый аргумент для русских людей! — и, наконец:
3) после перехода подавляющей части столичного гарнизона на сторону восставших было необходимо закрепить успех политически, добившись соглашения с прежней властью или продолжая борьбу за подчинение себе уже всей страны.
Эта примерка в одинаковой степени прменима к обеим ситуациям: как 1825, так и 1917 годов.
Разница мотивов возбужденного состояния солдат не так принципиальна: в 1825 году оно обусловилось падением авторитета власти в результате затяжки междуцарствия и полной непонятности его причин — здесь идеальным образом подготовил почву для возмущения сам Милорадович.
В 1917 году причины были совершенно иными, хотя также наблюдалось что-то вроде безвластия: царь отсутствовал, а столичные начальники явно растерялись. Вне сомнений безобразным было поведение власти по отношению к гражданской публике, действовавшей достаточно оправданно — с точки зрения самой публики и с точки зрения солдат, не только размещенных на зрительских позициях, но и вынужденных брать на душу грех за невинно убиенных!
У Кирпичникова не было ни одного сообщника в других полках, но у него были тысячи единомышленников: незавершенные солдатские выступления в предшествующие дни подтверждали это.
Кирпичников, блестяще осуществивший переход власти к солдатской массе в масштабах всего гарнизона, доказал тем самым не только справедливость собственного расчета, но и безукоризненность плана, предложенного декабристам (не декабристами!) в 1825 году!
Разумеется, Кирпичников сам был автором своего плана — он был истинным гением-самородком, какие встречаются чрезвычайно редко! О декабристах он едва ли что читал или слышал.
Известнейшему апологету жизни и деятельности Николая II — С.С.Ольденбургу, видимо, показалось обидным, что царя сверг обычный русский мужик, которому, согласно всем монархическим канонам, полагалось быть истинным поборником русского самодержавия. Поэтому Ольденбург пишет: «Унтер-офицер Кирпичников (сын профессора, студент, призванный в армию в 1915 г.)» — конечно, только студенту и сыну гнилого профессора и положено свергать царя! Увы, это наглая ложь.
Кирпичников не был ни интеллигентом, ни масоном, ни евреем. Он родился в крестьянской семье в Саранском уезде Пензенской губернии в 1892 году. Учился в народной школе; сколько классов окончил — не известно. Чем занимался до армии, в которую был призван, судя по возрасту, еще до войны — тоже не известно, но ни в каких политических партиях не состоял. К 1917 году — бывалый фронтовик, получивший ранение, после которого и оказался в Петрограде. Его собственные наивные рассуждения о буржуазном иге выдают ничтожный уровень политического образования.
Присутствует Кирпичников и в «Красном колесе» А.И.Солженицина, где добросовестно пересказаны его собственные записки, частично приведенные нами выше и опубликованные В.Л.Бурцевым еще при жизни Кирпичникова в 1917 году. На страницах Солженицына Кирпичников предстает эдаким дурачком, не понимающим, что же он совершил.
Разумеется, уже не ему предстояло воплощать в жизнь следующую, заключительную фазу его собственного плана: превращение солдатского бунта в победоносную революцию. Сам он, не имея ни малейшего аппарата управления, обратился к середине дня 27 февраля в одну из песчинок огромной солдатской массы, затопившей столицу — но не исчез вовсе, о чем мы расскажем ниже.
На этой, третьей стадии, ситуации 1825 и 1917 гг. сильно отличаются, но и здесь, оказывается, возникают определенные поучительные параллели. Расскажем поэтому о том, как же победила Февральская революция.
К 1917 году, как и к 1825, в России уже много лет существовал заговор, направленный против царя. Оба заговора по собственному побуждению участников использовали масонскую атрибутику.
Душой и сердцем заговора 1917 года был Александр Иванович Гучков, родившийся в 1862 году: отпрыск богатой купеческой семьи, питомец Московского, Берлинского и Гейдельбергского университетов, неисправимый авантюрист, храбрец, карьерист и интриган. Любопытно, что сами лидеры заговора Гучков и Милюков относились к масонской обрядности с нескрываемой брезгливостью!
Гучков участвовал во множестве приключений: в 1895 году объездил Турцию, собирая сведения о происшедших массовых антиармянских погромах; служил офицером в охране КВЖД и был уволен за дуэль; совершил путешествие в Тибет; был добровольцем на стороне буров в Англо-Бурской войне — там была изувечена ранением его нога; в 1903 году участвовал в антитурецком восстании в Македонии, а в 1904–1905 гг. возглавлял миссию Красного Креста и Комитета великой княгини Елизаветы Федоровны (старшей сестры царицы) в Русско-Японской войне; под Мукденом остался с госпиталем для защиты раненых и был взят японцами в плен, но вскоре отпущен как представитель медицинского персонала.
С весны 1905 года через покровительствовавшую ему великую княгиню Гучков постарался завязать доверительные отношения с Николаем II, а позже, не входя в правительство, стал близким сотрудником П.А.Столыпина. Венцом его карьеры было пребывание на посту председателя Государственной Думы с марта 1910 по апрель 1911 года.
Но болтливость Гучкова о содержании его конфиденциальных бесед с царем лишила его доверия со стороны последнего. Во время правительственного кризиса апреля 1911 года Гучков оказался противником и Столыпина, вскоре погибшего.
Лишившись поддержки сверху, Гучков встал в позу борца за правду и принялся раздувать кампанию против Г.Е.Распутина, благодаря которой закулисная роль последнего получила широкую огласку. В результате Гучков стал самым ненавидимым человеком в царской семье. В 1912 году не без интриг со стороны администрации его с треском провалили на выборах в очередную Думу.
В 1911–1913 гг. Гучков появлялся на Балканах, подрывая европейский мир, а с началом Первой Мировой войны стал одним из лидеров «общественности», устремившейся к кормушке государственных субсидий и к захвату явочным порядком реальной власти — под предлогом помощи армии, и сделался вместе со своим однокашником по университету Милюковым самым ревностным критиком администрации и царского двора. В 1915 году рост влияния Гучкова привел его на дополнительных выборах в члены Государственного Совета от купечества.
Давление со стороны этой клики заставило Николая II официально отвергнуть очередные мирные предложения военных противников, отмеченные в цитате из В.Суворова. Поскольку это не сопровождалось ожидаемой передачей власти в руки оппозиции, то сразу вслед за тем, в ночь на 17/30 декабря 1916 года заговорщиками был убит Распутин, которого не без оснований считали проводником идеи сепаратного мира — честь и слава за это безграмотному и неправедному русскому мужику!
Еще накануне убийства Распутина стало ясно, что против царской четы зреет заговор.
С 10 ноября 1916 по 17 февраля 1917 года начальник штаба верховного главного командования (фактически — главнокомандующий под номинальным руководством царя) генерал М.В.Алексеев находился на лечении в Севастополе. Опустим пока вопрос, кто и как привлек его к заговору, но сразу после отпуска действия Алексеева приобретают весьма целенаправленный характер.
По позднейшим признаниям Гучкова и Терещенко, они вместе с генералом А.М.Крымовым (руководитель похода кавалерии на Петроград во время Корниловского выступления в августе 1917 года; застрелился в результате провала этой авантюры) готовили вооруженную акцию. Планировался захват царского поезда по дороге между Петроградом и Ставкой и принуждение царя на отречение от престола в пользу сына при регентстве великого князя Михаила Александровича; царицу якобы предполагалось заключить в монастырь.
В конце 1916 — начале 1917 сведения о заговоре широко распространились, о чем есть десятки свидетельств; достаточно привести лишь одно, принадлежащее Бьюкенену: «Дворцовый переворот обсуждался открыто, и за обедом в посольстве один из моих русских друзей, занимавший высокое положение в правительстве, сообщил мне, что вопрос заключается лишь в том, будут ли убиты и император и императрица или только последняя; с другой стороны, народное восстание, вызванное всеобщим недостатком продовольствия, могло вспыхнуть ежеминутно».
Следствием этой беседы была аудиенция Бьюкенена у царя 30 декабря 1916 года (12 января 1917 года по новому стилю), на которой посол (не ссылаясь, разумеется, на источники сведений) советовал царю пойти на соглашение с думской оппозицией и, в частности, уволить ненавистного ей Протопопова — ставленника Распутина и тоже сторонника мирных соглашений; можно представить, как его ненавидел сам британский посол!
Усилия последнего не привели к результату; создавалось впечатление, что Николай II заранее предвидел тему беседы и был готов твердо отстаивать свою позицию. Он дал понять и то, что прекрасно осведомлен о настроениях в обществе и не придает им значения.
Тогда Бьюкенен заговорил почти прямо: сказал, что слышал об убийстве Распутина еще за неделю до того, но тоже не придал этому значения — и ошибся; теперь же ему рассказывают и о других возможных убийствах: «А раз такие убийства начнутся, то нельзя уже сказать, где они кончатся». Разговор проходил в таком тоне, что царь, если верить послу, проникся пониманием благих побуждений дипломата и благодарил его на прощание.
Убийство Распутина оказалось совершенно бессмысленным, как и всяческие языческие обряды с человеческим жертвоприношением. Российская «образованная» публика, признав Распутина символом зла, уничтожила его; зло, между тем, обусловливалось совершенно иными объективными причинами, а потому даже не было поколеблено.
Как показали дискуссии Бьюкенена с царем, никого это убийство даже не напугало: Николай II, похоже, ни в грош не ставил решительность оппозиции. Реально угрожать царскому семейству было не так просто, как расправиться с Распутиным: пригласить в гости в дом, безопасный по мнению Распутина и приставленной к нему охраны, и убить беззащитного!
Заговор, между тем, не оставался в бездействии: Алексеев, наоборот, переоценивая возможности Гучкова и его соратников, постарался своим приглашением выманить Николая II из столицы в Ставку — вполне возможно, что рассчитывая на фантастический план заговорщиков. Отсюда и нелепый отъезд царя 22 февраля. Лично Алексееву, самостоятельно принимавшему решения по всем военным вопросам, присутствие в Ставке царя было совершенно излишним.
После субботы 25 февраля следующим днем думских заседаний должен был быть вторник 28-го. Но к вечеру воскресенья все-таки под впечатлением событий в городе среди депутатов возникла инициатива собраться до срока — и Родзянко назначил на полдень понедельника заседание думского руководства.
Однако под утро 27 февраля к Родзянко от председателя Совета министров князя Н.Д.Голицына (этот потомок Рюрика был расстрелян по приговору Коллегии ОГПУ в 1925 году на семьдесят шестом году жизни, а в последние годы до того зарабатывал на хлеб сапожным ремеслом) был доставлен царский указ, закрывающий заседания сессии — с переносом ее на апрель. Теперь это предстояло огласить и обсудить с депутатами.
Царскому указу собравшиеся послушно подчинились, но не разошлись, а объявили себя частным собранием депутатов и попытались обменяться мнениями и выработать собственный взгляд на происходившее. Увы, оказалось, что они совершенно не готовы к активному вмешательству в события — как и в предшествующие дни.
Свои ощущения присутствовавший В.В.Шульгин описывал так: «Мы были рождены и воспитаны, чтобы под крылышком власти хвалить ее или порицать… мы способны были в крайнем случае, безболезненно пересесть с депутатских кресел на министерские скамьи… под условием, чтобы императорский караул охранял нас…
Но перед возможным падением власти, перед бездонной пропастью этого обвала, — у нас кружилась голова и немело сердце…
Бессилие смотрело на меня из-за белых колонн Таврического дворца. И был этот взгляд презрителен до ужаса…»
Между тем, борьба в городе перевалила за пик — победа восставших становилась очевидной. Беспокойство солдат за собственные судьбы теперь все больше росло: им нужно было официальное оправдание их действий, освобождающее от ответственности — при любом уровне личной неграмотности каждый прекрасно понимал, что же совершили он сам и все остальные! Поэтому уже с утра у Таврического дворца поначалу робко появлялись отдельные группы солдат — и вновь убегали доделывать революцию.
К двум часам дня скопилась толпа уже посолидней, смяла караул, охранявший Думу, и затопила весь Таврический дворец — включая зал, где заседали незадачливые народные депутаты! Последние были в ужасе. Слово тому же Шульгину: «С первого же мгновения этого потопа отвращение залило мою душу, и с тех пор оно не оставляло меня во всю деятельность «великой» русской революции.
Бесконечная, неисчерпаемая струя человеческого водоворота бросала в Думу все новые и новые лица… Но сколько их ни было — у всех было одно лицо — животно-тупое или гнусно-дьявольски-злобное…
Боже, как это было гадко!.. Так гадко, что стиснув зубы, я чувствовал в себе одно тоскующее, бессильное и поэтому еще более злобное бешенство…
Пулеметов!
Пулеметов — вот чего мне хотелось. Ибо я чувствовал, что только язык пулеметов доступен уличной толпе и что только он, свинец, может загнать обратно в его берлогу вырвавшегося на свободу страшного зверя…
Увы — этот зверь был… его величество русский народ.»
Что поделаешь, что русский народ вызывал именно такие чувства у известного монархиста, националиста и, бесспорно, русского патриота Шульгина!..
Вместо того, чтобы объявить себя вождями восстания, как, несомненно, надеялись солдаты и к чему призывали коллег крайне левые из депутатов — А.Ф.Керенский, Н.С.Чхеидзе и М.И.Скобелев — думцы постарались изолироваться в маленьком зале и продолжить словопрения. Дело было не только в боязни ответственности перед царской властью (а в этот день она еще неколебимо стояла над всей Россией за исключением Петрограда!) и не в эмоциональном отвращении к восставшей солдатне, дело было и в принципиальном политическом противоречии между воставшими и народными депутатами. В протоколе заседания 27 февраля тот же Шульгин высказался вполне определенно: «нельзя обещать того, чего нельзя выполнить. Ведь согласитесь, что мы не можем быть солидарны во всем с восставшей частью населения. Представьте, что восставшие предлагают окончить войну. Мы на это согласиться не можем.»
Свято место пусто не бывает. Отчаявшись найти отклик у коллег, Керенский, Чхеидзе и Скобелев решили образовать собственный орган власти: Совет рабочих депутатов — как в 1905 году (с 1 марта — Совет рабочих и солдатских депутатов). Немедленно было выпущено воззвание: «Граждане! Заседающие в Думе представители рабочих, солдат и населения Петрограда объявляют, что первое заседание их представителей состоится сегодня, в 7 час[ов] веч[ера], в помещении Думы. Всем перешедшим на сторону народа войскам немедленно избрать своих представителей на каждую роту.
Заводам избрать своих депутатов по одному на каждую тысячу. Заводы, имеющие меньше тысячи рабочих, избирают по одному депутату.»
Вслед за тем новорожденный Совет срочно занялся вопросами кормежки восставших солдат, недвусмысленно продемонстрировав собственные политические симпатии.
Собрав первое заседание вечером 27 февраля, Совет доказал, что он — не фикция. Активную роль в нем стали играть несколько революционеров, случайно оказавшихся в столице, прежде всего — внефракционные социалисты Ю.М.Стеклов (М.Ю.Нахамкис) и Н.Н.Суханов (Гиммер). Имена этих двоих стали нарицательными у злобствующих обывателей: разумеется, евреи виноваты в том, что поклонники прежнего режима прос…али свою власть, богатство и славу! Фамилию Стеклова обратили в Нахамкеса — так звучало ядовитее! Николай же Николаевич Гиммер и вовсе был не евреем, а потомком давно обрусевших немцев; злоключения его предков послужили сюжетом знаменитой пьесы Л.Н.Толстого «Живой труп». Почему-то до сих пор его имя вызывает истерическую реакцию у тех, кто поклоняется вождям Белого движения П.Н.Врангелю, Е.К.Миллеру или В.О.Каппелю!..
В течение следующих дней число действительно избранных депутатов поднялось до тысячи и более, заседавших в непрерывном круглосуточном режиме. Разумеется, тут же сформировался Исполком, ставший мозговым центром революции: председатель Чхеидзе и поначалу четырнадцать членов (позже добавилось еще несколько), включая троих большевиков: А.Г.Шляпникова, П.А.Залуцкого и П.А.Красикова — все трое не пережили Большой террор 1936–1939 гг.
Утром 28 февраля Совет выпустил воззвание: «Приглашаем все население столицы немедленно сплотиться вокруг Совета, образовать местные комитеты в районах и взять в свои руки управление всеми местными делами.
Все вместе, общими силами будем бороться за полное устранение старого правительства и созыв Учредительного собрания, избранного на основе всеобщего, равного, прямого и тайного избирательного права».
Таким образом, Совет сразу обрел статус руководства всем массовым движением в столице.
Только в ответ на издание первого объявления Совета остальные думцы решились создать свой собственный выборный орган — Временный комитет Государственной думы, возложив на него «обязанность следить за развитием событий и принимать соответственные меры, вплоть до принятия на себя исполнительной власти, если бы это оказалось необходимым» — очень смело после более чем двенадцати часов развития революции!
В него были избраны в порядке популярности: М.В.Родзянко, В.В.Шульгин, В.Н.Львов, И.И.Дмитрюков, С.И.Шидловский, И.Н.Ефремов, М.А.Караулов, А.И.Коновалов, В.А.Ржевский, П.Н.Милюков, Н.В.Некрасов, А.Ф.Керенский и Н.С.Чхеидзе. Последний сразу же участвовать в этом органе отказался, предпочтя свое последнее место в Комитете председательскому посту в Исполкоме Совета.
Князь Г.Е.Львов и А.И.Гучков, не бывшие депутатами Думы, присоединились к деятельности Комитета в последующие дни.
Между тем, не только во всей остальной России, но даже и в нескольких сотнях метров от стен Таврического дворца мало кто понимал, что Дума попала в западню, а ее лидеры стали заложниками.
Практически всем, посвященным в существо прежних заговоров (таковых было заведомо не менее нескольких сотен человек), и всем, наблюдавшим в предшествующие полтора года борьбу Думы за власть (таковым было почти все взрослое грамотное население страны), могло казаться и действительно казалось, что события происходят под руководством думской оппозиции и по ее инициативе. Это недоразумение сыграло решающую роль в победе революции.
Родзянко и несколько его коллег ближе к вечеру 27 февраля ездили в Мариинский дворец, пытаясь закулисно сговориться с правительством, заседавшим в последний раз, и с младшим братом царя — великим князем Михаилом Александровичем.
Последний сам, плохо понимая, что происходит, позвонил к Родзянко и намекнул, что невредно бы поставить вопрос о переходе трона к нему — как раньше договаривались!
Тут приключилась смешная история: Михаил рассчитывал получить власть от Родзянко, а Родзянко — от Михаила. Не сумев разрешить эту проблему, они связались из Главного Штаба по прямому проводу со Ставкой.
Царь счел вмешательство младшего брата крайне неуместным и сообщил о немедленном выезде в столицу. После чего Михаил временно самоустранился от непосредственного участия в революции. Генерал же Алексеев, присутствовавший при переговорах, убедился, что все происходящее в столице руководится Думой и придворной оппозицией!
Ряды защитников правительства в Петрограде, между тем, неудержимо таяли. Полковник А.П.Кутепов, случайно оказавшийся в столице в отпуске, командовал на Невском проспекте сборным отрядом из трех рот разных полков и до 7 часов вечера сдерживал наплыв восставших и просто публики. С наступлением темноты его воинство разбежалось от своего командира.
Последние защитники режима в числе нескольких сотен с орудиями и пулеметами собрались на Дворцовой площади. Их прогнал великий князь Михаил Александрович, проявив свою объективность и заявив, что их присутствие создает угрозу сокровищам Эрмитажа. Пришлось убраться в Адмиралтейство.
Туда же перебралось правительство из Мариинского дворца, занятого в 9 часов вечера восставшими солдатами.
Последним неофициальным шагом правительства стала просьба покинуть его ряды Протопопова — чтобы не раздражать публику!
Утром 28-го их всех выгнал из Адмиралтейства морской министр И.Г.Григорович, заявивший, что не может подвергать угрозе здание морского ведомства! — и все разбежались кто куда.
На этом военные действия на территории столицы по существу завершились, хотя еще многократно вспыхивала шалая стрельба.
Нежелание принять на себя политическую ответственность у Родзянко, Милюкова и прочих отступило под влиянием требований жизни: прежнее правительство исчезло, столицу затопил хаос, а очень многие жизненно важные объекты нуждались в защите и охране — и их представители по наивности обращались к Думе.
Нуждались в защите и люди: с первых часов в Думу тащили арестованных, а многие (включая Протопопова) сами стремились ей сдаться — это казалось единственным способом защититься от самосуда, эпоха которого неумолимо надвигалась и отступила лишь через несколько лет перед порядком, наведенным ЧК и ГПУ.
В первые дни революции и лидеры Совета кровожадности почти не проявляли, а особая роль принадлежала Керенскому — единственному, входившему в оба органа власти, и притом до мая 1917 возглавлявшего российскую юстицию. Хотя именно он в наибольшей степени ответственен за уничтожение прежней судебной системы, прокуратуры и уголовной полиции, но ему принадлежит и крылатый лозунг «революция крови не проливает», и широко распространяемое требование доставлять арестованных в Думу. Хотя некоторым (включая Протопопова) предстояло затем без суда просидеть полтора года, а потом быть расстрелянными большевиками, но в феврале-марте 1917 Керенский лично и Комитет Государственной Думы в целом спасли жизни многим. Все это требовало неотложных решений и распоряжений.
Когда около полуночи на 28 февраля было обращено внимание Родзянко, что он уже занимается преступной и наказуемой деятельностью с точки зрения прежнего законодательства, то он, скрепя сердце, решился заявить о правах на власть.
Около 2 часов ночи было выпущено воззвание, подписанное задним числом:
«Временный Комитет членов Государственной Думы при тяжелых условиях внутренней разрухи, вызванной мерами старого правительства, нашел себя вынужденным взять в свои руки восстановление государственного и общественного порядка. Сознавая всю ответственность принятого им решения, Комитет выражает уверенность, что население и армия помогут ему в трудной задаче создания нового правительства, соответствующего желаниям населения и могущего пользоваться его доверием.
Председатель Государственной Думы: Михаил Родзянко.
27-го февраля 1917 г.»
Гораздо большее значение имела телеграмма, отправленная тогда же на имя Алексеева и всем командующим фронтов и флотов:
«1) Временный комитет членов Государственной думы сообщает Вашему Высокопревосходительству, что ввиду устранения от управления всего состава бывшего Совета министров правительственная власть перешла в настоящее время к Временному комитету государственной думы; 2) Временный комитет членов Государственной думы, взявший в свои руки создание нормальных условий жизни и управление в столице, приглашает действующую армию и флот сохранить полное спокойствие и питать полную уверенность, что общее дело борьбы против внешнего врага ни на минуту не будет прекращено или ослаблено. Так же стойко и мужественно, как доселе, армия и флот должны продолжать дело защиты своей Родины. Временный комитет при содействии столичных воинских частей и при сочувствии населения в ближайшее время водворит спокойствие в тылу и восстановит правильную деятельность правительственных установлений. Пусть и с своей стороны каждый офицер, солдат и матрос исполнит свой долг и твердо помнит, что дисциплина и порядок есть лучший залог верного и быстрого окончания вызванной старым правительством разрухи и создания новой правительственной власти.»
Генералы и адмиралы приняли эту мистификацию за чистую монету.
Хотя через пару суток после начала бунта, организованного Кирпичниковым, все триста тысяч войск столичного гарнизона и гарнизонов пригородов и окрестных городов не подчинялись присяге и прежнему режиму, но это была не вооруженная сила, а неуправляемая толпа вооруженных людей. Офицеры в мятеже участия практически не принимали, а солдаты вышли из их подчинения и им не доверяли. Командная система, таким образом, отсутствовала.
Достаточно было, поэтому, пары-тройки дисциплинированных и обстрелянных полков, чтобы рассеять всю эту массу. Это снова не бездоказательная гипотеза, а факт, подтвержденный опытом. 3–7 июля 1917 года именно так и случилось: небольшие силы фронтовиков рассеяли солдат столичного гарнизона, которые преспокойно попрятались по казармам, где их никто не стал беспокоить, а по городу началась форменная охота за мятежниками. Точно так же действовал летом 1917 и Верховский, будучи командующим Московским военным округом: малочисленными подчиненными силами он решительно подавлял солдатские беспорядки, вспыхивавшие в Нижнем Новгороде, Твери, Владимире, Липецке и Ельце.
Достаточно было и в феврале провозгласить амнистию или даже благодарность мятежным солдатам, самоуправством восстановившим справедливость, обещать покарать виновников прошедших безобразий, и столичный гарнизон был бы подчинен и политически обезоружен, а порядок восстановлен — только вот до каких пор? Ведь и в июле усмирение оказалось лишь временной передышкой!..
Но в феврале никто не взял на себя обязанности навести в столице порядок. Никто даже не взял на себя труд разобраться в происходящем!
Еще вечером 27 февраля Николай II отдал приказ генералу Н.И.Иванову (усмирителю Кронштадта в прошлую революцию) возглавить войска, направленные для подавления восстания в столице. Иванову были предоставлены два батальона георгиевских кавалеров, составлявшие личный конвой царя и находившиеся при Ставке, а также две бригады, пока пребывавшие в резерве фронтов — Северного и Западного.
Утром 28-го, когда царский поезд отбывал из Могилева, выяснилось, что ни Иванов, ни его воинство даже с места не сдвинулись — под предлогом не мешать графику плановых военных перевозок! Через несколько дней оказалось, что Иванов до столицы добраться так и не сумел. Ничего удивительного: ведь провожавший царя Алексеев и словом не обмолвился о телеграмме, полученной ночью от Временного комитета Государственной Думы — совсем как Чук и Гек, и с той же глубиной мудрости! Иванов же был проинструктирован весьма четко.
Выехав из Могилева, царь добровольно захлопнул за собой дверь как бы передвижной тюремной камеры. Царский поезд, лишенный радио и телеграфа, который можно было бы подключать на станциях или к телеграфной линии вдоль железнодорожных путей, не был приспособлен ни для получения оперативной информации, ни для отдачи приказов. Чисто технически он идеально подходил для того, чтобы быть захваченным заговорщиками в пути, как это и намеревались сделать Гучков, Терещенко и Крымов. Характерно, что никто из соратников царя на обратил его внимания на эту техническую особенность в течение всех двух с половиной лет с начала войны, когда царь исколесил на этом поезде пол-России и все фронты. Впрочем, и сам Николай II по своему характеру не склонен был интересоваться срочными новостями и отдавать приказы…
Только к вечеру 28 февраля сопровождавший царя дворцовый комендант генерал В.Н.Воейков на одной из промежуточных станций узнал от местных жандармов о формировании в столице Временного комитета Государственной Думы. О действительном положении дел узнавать было и вовсе неоткуда.
Между тем, железнодорожное начальство, с одной стороны — прекрасно сработавшееся с военными властями с лета 1914 года, а с другой — не забывшее, как оно само организовало всеобщую железнодорожную забастовку в октябре 1905 (был и такой эпизод в истории революции!), заставило царский поезд ехать буквально по кругу: слухи о революционных выступлениях впереди вынуждали менять маршрут.
В 4 часа утра уже 1 марта Воейков узнал, что станция Тосно на пути к Петрограду занята революционными войсками, не намеренными пропустить царя в столицу. Тогда кружным путем эшелон двинулся в другую сторону — через Бологое, Дно и Псков — ближайший пункт, где можно было воспользоваться центром телеграфной связи.
В конце-концов днем 1 марта поезд очутился на вокзале в Пскове — в полной изоляции от внешнего мира и фактически под арестом командующего Северным фронтом генерала Н.В.Рузского, взявшего на себя посредничество для осуществления связи.
Днем 2 марта Рузский вручил царю ультиматум в виде набора телеграмм от всех командующих, начиная с генерала М.В.Алексеева. Требования об отречении царя прислали: командующий Кавказским фронтом, двоюродный дядя царя великий князь Николай Николаевич; Западным — генерал А.Е.Эверт; Юго-Западным — генерал А.А.Брусилов; начальник штаба Румынского фронта (фактически командующий при номинальном командовании румынского короля) генерал В.В.Сахаров; командующий Балтийским флотом адмирал А.И.Непенин. К ним Рузский присовокупил собственное требование (в сентябре 1918 этот злополучный генерал погиб в Пятигорске при массовых расстрелах большевиками заложников «из буржуазии»).
Только командующий Черноморским флотом адмирал А.В.Колчак воздержался от участия в этой коллективной акции высшего военного руководства, ничем против нее не возразив.
Николай II подчинился, и подписал отречение в пользу сына при регентстве великого князя Михаила Александровича. Только весть, что в Псков едут представители новой власти Гучков и Шульгин, задержала всеобщее распространение этого сообщения.
Несколько часов задержки позволили царю изменить решение, и Гучков с Шульгиным в ночь на 3 марта получили уже отречение и от имени цесаревича Алексея — в пользу великого князя Михаила Александровича. Этим незаконным актом (отречением от имени несовершеннолетнего сына) Николай оставлял последнему свободные руки: если бы Алексей когда-нибудь пожелал царствовать, законное право оставалось за ним. Остается гадать, какую роль сыграл этот фокус Николая в последующей жестокой судьбе царской семьи.
Той же ночью царский эшелон, к которому все на время утратили интерес, двинулся назад в Ставку.
Запись в дневнике Николая II за 2 марта завершается знаменитой фразой: «Кругом измена и трусость, и обман!»
Между тем, из Петрограда вся эта ситуация выглядела совсем по-иному: с первого дня восстания не было никаких вестей о царе, его местонахождении и принятых им решениях. Все это время и столичный гарнизон, и его вожаки не имели никакого решения и их собственной судьбы: новой власти не было, и амнистии им никто не объявлял. Слухи же о таинственных перемещениях царя и о карательных войсках, посланных с фронта и из иных мест, не могли не действовать на нервы всей этой массе людей, прекрасно понимавших собственную беззащитность: весь гарнизон был в состоянии практически перманентной паники.
Бессодержательные приветствия войскам, волнами накатывающимся на Думу, со стороны известных думских деятелей, только подливали масла в огонь.
Революции нужно было защищаться, и она это сделала!
Фактическая власть в городе принадлежала Совету, которому массы солдат и бастующих рабочих уже вполне подчинялись, насколько вообще могут подчиняться неорганизованные массы — ведь многосотенный Совет и был самой настоящей своей собственной властью. Но эту власть вожаки легко могли утратить, причем вместе с собственными головами. И тогда они разработали серию блестящих дипломатических комбинаций.
В ночь с 28 февраля на 1 марта представители Совета согласовали и подписали с Комитетом Государственной Думы принципы, которые принимаются будущим правительством, персонально составляемым этим Комитетом:
«1) Полная и немедленная амнистия по делам политическим и религиозным, в том числе террористическим покушениям, военным восстаниям, аграрным преступлениям и т. д.
2) Свобода слова, печати, союзов, собраний и стачек, с распространением политических свобод на военнослужащих в пределах, допускаемых военно-техническими условиями.
3) Отмена всех сословных, вероисповедальных и национальных ограничений.
4) Немедленная подготовка к созыву на началах всеобщего равного, прямого и тайного голосования Учредительного собрания, которое установит форму правления и конституцию страны.
5) Замена полиции народной милицией с выборным начальством, подчиненным органам местного самоуправления.
6) Выборы в органы местного самоуправления на основании всеобщего, равного и прямого голосования.
7) Не разоружение и не вывод из Петрограда воинских частей, принимавших участие в революционном движении.
8) При сохранении Воинской дисциплины в строю и при несении военной службы — устранение для солдат всех ограничений в пользовании общественными правами, предоставленными всем остальным гражданам.»
Эту программу с легким сердцем приняло будущее Временное правительство, которое, как нетрудно понять, было фактически создано Петроградским Советом почти исключительно для внешнего представительства — перед остальной Россией и всем миром.
Легко заметить, что важнейшими являются два пункта.
Пункт Первый давал ту самую амнистию, которая самым явным образом распространялась на всех участников только что осуществленного мятежа.
Пункт Седьмой (о котором подлый и тупой П.Н.Милюков, вместе с другими марионетками также подписавший это соглашение, написал в своих мемуарах, что он носил «очевидно, временный характер»), был никак не временно, а совершенно глобально провозглашенным односторонним сепаратным миром Петроградского гарнизона, заключенным с любыми врагами России, нового правительства и кем угодно еще: при любых обстоятельствах гарнизон оставался в столице и участия в вооруженной борьбе вне ее не принимал — так оно впредь и происходило!
Притом гарнизон, обеспечивший себе безделье и безопасность в условиях продолжающейся войны, остался на государственном содержании, а семьи солдат сохраняли право на получение государственного пайка.
Все последующие российские правительства становились заложниками этого вооруженного гарнизона. Не стало исключением и большевистское, именно по этой причине тайно сбежавшее из Петрограда в Москву в 1918 году. Лишь тогда солдаты гарнизона, дармоедами прожившие целый год и начавшие потихоньку разъезжаться по домам только после уничтожения всех столичных винных складов в ноябре-декабре 1917 года, окончательно разбежались из обреченного на голод города.
Нужно ли добавлять, что Совет, все это время твердо стоявший на соблюдении данного пункта, пользовался безоговорочной поддержкой столичного гарнизона?!
Подписав такое замечательное соглашение, Исполком Совета уже мог рискнуть отказаться от формальной власти. И вечером 1 марта он отверг решение о сохранении власти в своих руках 13 голосами против 8.
Теперь радостные деятели Временного Комитета Государственной Думы могли, не кривя душой, защищать новую власть как свою собственную, за что немедленно и взялись: в следующую ночь Родзянко самым живейшим образом в переговорах по прямому проводу обязал Алексеева и других командующих к предъявлению ультиматума Николаю II.
Результаты голосования в Исполкоме показали, однако, что полного единодушия не было: значительная часть сомневалась в достаточности полученных гарантий — с генералами ухо нужно держать востро!
Поэтому, провозгласив переход власти над армией в руки нового министра Гучкова и тех генералов, которых он сочтет нужным расставить на командных постах, Совет решил озаботиться, чтобы никакой власти ни в руки Гучкова, ни в руки генералов вовсе не попало. С этой целью в ночь с 1 на 2 марта был принят и тут же опубликован знаменитый «Приказ № 1», фактически расширивший и растолковавший пункт Восьмой соглашения Совета с правительством. Он гласил:
«Совет рабочих и солдатских депутатов постановил:
1) Во всех ротах, батальонах, полках, батареях, эскадронах и отдельных службах разного рода военных управлений и на судах военного флота немедленно выбрать комитеты из выборных представителей от нижних чинов вышеуказанных воинских частей.
2) Во всех воинских частях, которые еще не выбрали своих представителей в Совет рабочих депутатов, избрать по одному представителю от рот, которым и явиться с письменными удостоверениями в здание Государственной думы к 10 часам утра 2-го сего марта.
3) Во всех своих политических выступлениях воинская часть подчиняется Совету рабочих и солдатских депутатов и своим комитетам.
4) Приказы военной комиссии Государственной думы следует исполнять, за исключением тех случаев, когда они противоречат приказам и постановлениям Совета рабочих и солдатских депутатов.
5) Всякого рода оружие, как-то: винтовки, пулеметы, бронированные автомобили и прочее — должны находиться в распоряжении и под контролем ротных и батальонных комитетов и ни в коем случае не выдаваться офицерам, даже по их требованиям.
6) В строю и при отправлении служебных обязанностей солдаты должны соблюдать строжайшую воинскую дисциплину, но вне службы и строя в своей политической, общегражданской и частной жизни солдаты ни в чем не могут быть умалены в тех правах, коими пользуются все граждане. В частности, вставание во фронт и обязательное отдание чести вне службы отменяется.
7) Равным образом отменяется титулование офицеров: ваше превосходительство, благородие и т. п. — и заменяется обращением: господин генерал, господин полковник и т. д.
Грубое обращение с солдатами всяких воинских чинов и, в частности, обращение к ним на «ты» воспрещается и о всяком нарушении сего, равно как и о всех недоразумениях между офицерами и солдатами, последние обязаны доводить до сведения ротных комитетов.»
Приказ этот фактически подтвердил то, что и так уже происходило и произошло в частях столичного гарнизона, и поэтому для последних не имел особого значения. Хотя он и был издан по Петроградскому военному округу, но явно предназначался «на экспорт» — для распространения по всей армии.
Вокруг появления этого приказа позже сформировалась масса легенд. Между тем, достаточно многочисленные свидетели показывают, что сочиняли его в непринужденной публичной обстановке около десятка солдат, входивших в президиум солдатской секции Совета.
Почти все они были русскими, православными и многие до 1917 года в партиях не состояли — А.Д.Садовский, А.Н.Падерин, В.Н.Баденко, Ю.А.Кудрявцев, А.П.Борисов и др. Записывал текст под их диктовку член Исполкома Совета присяжный поверенный Н.Д.Соколов — тоже вполне русский, но революционер: бывший большевик, а с 1914 года — меньшевик.
Но среди соавторов-солдат оказался вольноопределяющийся Ф.Ф.Линде — прибалтийский немец, говоривший с характерным акцентом. Это породило множество слухов о немецком происхождении злостного приказа, которые Гучков — великий любитель мистификаций! — смаковал даже в Париже в 1932 году!
Линде при Керенском сделал большую карьеру: стал комиссаром Юго-Западного фронта в августе 1917; тогда же попытался водворять дисциплину (вопреки Приказу № 1!) и был растерзан солдатами на глазах генерала П.Н.Краснова, который описал эту жуткую сцену. Больше ли повезло другим соавторам приказа?
Текст приказа был оглашен и утвержден пленарным заседанием Совета: присутствовавшие вполне понимали, что хоронят русскую армию!..
«Солдаты и рабочие заслушали приказ в торжественной тишине. Нужно было видеть лица солдат, чтобы понять, какое революционное значение имел тогда этот приказ. Гул одобрения, как будто гигантский вздох облегчения, раздался в душных, набитых комнатах Совета. Солдаты были вне себя от восторга», — свидетельствует А.Г.Шляпников.
Что же касается мотивов издания приказа, столь чудовищного в военное время, то их разъясняет еще один участник происходившего. Этот был-таки евреем — И.П.Мешковский (Гольденберг), как и Соколов — тоже большевик до 1914 года, а затем — меньшевик-оборонец, в 1917 году — член Совета (но не его Исполкома) и, кроме того, редактор «Новой Жизни»: «Приказ № 1 — не ошибка, а необходимость. Его редактировал не Соколов; он является единодушным выражением воли Совета. В день, когда мы «сделали революцию», мы поняли, что если не развалить старую армию, она раздавит революцию. Мы должны были выбрать между армией и революцией. Мы не колебались: мы приняли решение в пользу последней и употребили — я смело утверждаю это — надлежащее средство.»
С утра 2 марта текст Приказа № 1 был опубликован. Представители Совета, сопровождавшие Гучкова с Шульгиным (для контроля!) в поездке в Псков, раздавали по дороге отпечатанный текст всем желающим — полномочные представители новой власти этого не замечали или делали вид, что не замечают! Никак не успели прореагировать на него и недалекие генералы.
Вечером 2 марта, когда Гучков с Шульгиным дискутировали с царем в Пскове, пленарное заседание Совета подтвердило решение об отказе от власти в пользу Временного правительства, сформированного думским Комитетом (400 голосов против 19) — теперь почти все они не опасались уже никаких генералов!
На следующий день выяснилось воочию, кому же фактически досталась власть в Петрограде.
Вплоть до утра 3 марта страсти в столице продолжали накаляться: отсутствие сведений о царе и его намерениях нагнетало опасения. Может быть, образ невинного цесаревича Алексея и мог бы найти ключи к сердцам этой массы недавних монархистов, но Михаил Александрович уже не вызывал никакого доверия.
При возвращении Гучков с Шульгиным, сообщившие о воцарении Михаила на митинге торжественно встречавших их железнодорожников, были буквально схвачены публикой, а текст отречения Николая удалось сохранить только хитростью! И днем 3 марта Родзянко и все остальные вынужденно просили Михаила Александровича не действовать на нервы истинным хозяевам столицы — только Милюков с Гучковым персонально готовы были рискнуть головой великого князя, сделав его царем!
Программа (та самая, согласованная с Советом, со всеми ее «временными» пунктами), а также состав нового правительства, и были опубликованы в ночь с 3 на 4 марта одновременно с манифестами об отречении от престола Николая II и великого князя Михаила Александровича. Причем при публикации добавлено: «Временное правительство считает своим долгом присовокупить, что оно отнюдь не намерено воспользоваться военными обстоятельствами для какого-либо промедления по осуществлению вышеизложенных реформ и мероприятий.»
Вот тут-то Алексеев и прочие генералы и поняли, ради чего и кого они сами заставили отречься законного русского царя! Если уж раньше невозможно было выиграть войну, то что было возможно теперь?
Заметим, что если в 1825 году только обманом можно было завлечь солдат в офицерскую и генеральскую революцию, то в 1917 году потребовался заведомый обман, чтобы завлечь в солдатскую революцию офицеров и генералов.
Увы, в России не было одной единой правды для всех — и для солдат, и для генералов. В этом-то ее трагедия! — и это подтверждается нижеприведенным рассказом о завершении жизненного пути великого русского человека Тимофея Ивановича Кирпичникова.
У Гучкова руки опустились не сразу.
По просьбе Гучкова и Шульгина Николай II задним числом (3 часами дня 2 марта) назначил новым премьер-министром князя Г.Е.Львова (совершенно безликая фигура: вынужденный компромисс между Милюковым и Гучковым, не отдававшим первенство ни друг другу, ни самостоятельному Родзянке!), главнокомандующим — великого князя Николая Николаевича, а командующим Петроградским военным округом — генерала Л.Г.Корнилова.
Великий князь едва успел добраться с Кавказа до Могилева, как Временное правительство было вынуждено извиниться по поводу того, что истинные хозяева не желают видеть во главе армии представителя династии. Великого князя заменили М.В.Алексеевым.
Дольше удалось продержаться Корнилову — этому бравому генералу предстояло наводить порядок в столице в условиях действия Приказа № 1. Начал он круто: с ареста 7 марта императрицы Александры Федоровны.
9 марта к ней присоединили привезенного из Могилева супруга. Формально это были распоряжения Временного правительства, сумевшего в такой форме противостоять требованиям Совета, желавшего заключить царское семейство в Петропавловскую крепость. Но вот почему никто в мире не взял под защиту царских детей, разделивших с начала и до самого конца судьбы своих несчастных, но отнюдь не безвинных родителей — виновных хотя бы в неквалифицированном управлении воюющей страной, с какой бы позиции это ни рассматривать?!
Лидерами же Совета продолжал руководить страх за собственные шкуры. Эти деятели не понимали, что всей веренице предателей (начиная с великого князя Николая Николаевича и генералов Алексеева и Корнилова) возвращение к власти царя — еще больший нож в сердце, чем питерским рабочим и солдатам!
Что же касается широчайших масс, то нелепейшие несчастья, завершавшие царствование, начавшееся с кровавой Ходынской давки 1896 года, никак не прибавили симпатии к царю. Упорная же пропаганда Прогрессивного блока против Распутина и царицы-немки достигла цели.
Вот что записал 7 марта 1917 в своем дневнике генерал В.И.Селивачев (в то время — один из командиров дивизий, летом того же года — командующий армией и сторонник Корнилова, а в 1919 году — один из руководителей Красной Армии, тогда же умерший от тифа): «Вчера одна сестра милосердия сообщила, что есть слух, будто из царскосельского дворца от государыни шел кабель для разговоров с Берлином, по которому Вильгельм узнавал буквально все наши тайны. Страшно подумать о том, что это может быть правда — ведь какими жертвами платил народ за подобное предательство?!!» Умным или глупым генералом был Селивачев, но все же это — высококвалифицированный работник умственного труда, получивший элитарное образование. Что же спрашивать с менее образованных ста миллионов его соотечественников? Теперь все вздохнули с облегчением: беды России, казалось, были уже позади!
Одним из последующих популистских шагов Корнилова было награждение главного героя Революции — Тимофея Кирпичникова. Вопреки всем последующим инсинуациям (вплоть до нынешних времен) о безвестных инициаторах стихийного восстания, Кирпичников не был ни безвестным, ни обойденным заслуженной наградой. Корнилов наградил его Георгиевским крестом 4-й степени (№ 423492) и произвел в подпрапорщики — это был единственный отмеченный участник революции и вообще единственный человек, награжденный таким боевым орденом за заслуги в тылу, а не на фронте!
В первые два месяца революции Кирпичников был невероятно популярен — его портреты висели повсюду и выставлялись в витринах магазинов. Затем его популярность круто пошла вниз — совершенно не случайно и в полном соответствии с его принципиальностью, незаурядным мужеством и решительностью.
В апреле, как известно, после знаменитой ноты Милюкова, обещавшей продолжение войны, состоялись массовые антиправительственные демонстрации в Петрограде, которыми едва не воспользовались большевики в первой попытке захвата власти (тогда они это отрицали, и это отрицание так и вошло в историю). Тогда же, естественно, должен был оставить свой пост генерал Корнилов: подчинить себе гарнизон ему не удалось нисколько!
Кирпичников же и в этот раз вывел свой Волынский полк на вооруженную демонстрацию, но в защиту Временного правительства, которое он считал своим собственным!
Столкновение вооруженных демонстрантов, взаимно не решившихся открыть огонь «по своим», и позволило кризису закончиться на достаточно мирной ноте.
Одним из секретов тогдашней политики было то, что за кулисами апрельского кризиса стоял Керенский, который постарался избавиться от Милюкова и Гучкова и занять в правительстве ведущую роль; он сумел согласовать этот шаг с западными дипломатами, разуверившимися в способности первого состава Временного правительства управлять Россией и продолжать войну. Сам же Керенский расчитывал на успех решающего наступления, тщательно готовившегося материально и организационно еще с лета 1916 года — оставалось только возглавить его номинально! Соучастием в этой беспроигрышной, казалось бы, акции Керенский в мае-июне 1917 сумел соблазнить большинство Совета.
Оставалась одна незадача: бессмысленность этого наступления как и всякого другого! Вслед за тем приход к власти большевиков стал вопросом времени и техники, хотя между июнем и октябрем произошло множество событий и было пролито немало крови.
Так вот, не случайно упоминавшийся Ф.Ф.Линде демонстрировал в апреле против правительства, а затем вошел в обойму ближайших соратников Керенского, а Кирпичников, демонстрировавший тогда за правительство, оказался в результате вне интересов официальной пропаганды, а заодно и снискал ненависть большевиков. Последняя стала вполне взаимной.
Когда после 25 октября 1917 года Керенский с Красновым наступали на захваченный большевиками Петроград, то, как известно, в тылу у последних было организовано восстание юнкерских училищ. Но почти никому не известно, что юнкеров по плану заговора должен был поддержать весь Петроградский гарнизон. Инициатором этой очередной авантюры был, разумеется, тот же Кирпичников!
Ставка была на все тот же общий план Милорадовича и самого Кирпичникова в декабре 1825 и феврале 1917. Но на этот раз все сорвалось в самом начале: Кирпичникова не поддержали даже прежние соратники в Волынском полку — вконец разложившийся гарнизон против большевиков пока ничего не имел! Ведь это было первое правительство, пообещавшее, наконец, долгожданный мир! «Вопрос о мире — как лампочка Аладина: кто ее взял, тому служат духи, тому дается власть в руки» — писал позднее Верховский.
Еще до прихода большевиков к власти и в течение всего первого года их правления многое можно было вменить им в вину. Беда в том, что из этого многого большинство имелось и в программах других социалистических партий — большевики лишь смело и без оглядки приняли на себя «общее дело».
Зато об измене союзникам, которую совершила Россия по вине большевистского правительства, с чистым сердцем кричали все их противники без исключений — справа налево и наоборот!
Слов нет, измена — дело страшное! Только вот что сами решали за спиной и большевиков, и их противников доблестные и верные союзники России?
Оказывается, еще 10/23 декабря 1917 года было подписано Парижское соглашение между Англией и Францией об оккупации Турции и России согласно разделу сфер влияния: Франция — к западу, а Англия — к востоку от линии: Дарданеллы — Босфор — Керченский пролив — Дон — Царицын — Волга и далее до Архангельска!
А ведь в это самое время, хотя большевики уже вели мирные переговоры с немцами и их союзниками, а русская армия уже начинала разбегаться по домам (неудивительно: прошел уже почти год после выхода пресловутого Приказа № 1, за который большевики несут ответственность только как соучастники отнюдь не решающего ранга!), но фронт стоял еще твердо и приковывал к себе половину сил центральных держав!
И к защите интересов именно этих союзников и взывала антибольшевистская пропаганда!
А позже участники Белого движения только удивлялись наплевательскому отношению к ним тех же союзников! Белогвардейцы так и не потрудились догадаться, что ни англичанам, ни французам, ни немцам не нужна Великая, Единая и Неделимая Россия, и что их всех гораздо больше устраивают кремлевские правители, способные, как тогда казалось, только разрушать собственную державу!
К чести того же Кирпичникова его претензии к большевикам лежали в иной сфере.
В ноябре 1917 ему удалось скрыться от ареста и бежать на Дон. Там произошла его встреча с одним из главных инициаторов Добровольческой армии — уже упоминавшимся нами А.П.Кутеповым — участником уличной борьбы в Петрограде 27 февраля 1917 года.
Вот как об этом рассказывает соратник А.И.Деникина и П.Н.Врангеля генерал Е.И.Достовалов. Неназванное имя молодого офицера, которым не заинтересовался сам Кутепов (мало ли кого он приказал расстрелять по гораздо меньшим поводам — не будешь же помнить их имен!), устанавливается по другим источникам:
«Вспоминаю характерный для настроения восставшего офицерства рассказ генерала Кутепова из первых времен существования Добровольческой армии, который он любил повторять и который неизменно вызывал общее сочувствие слушающих.
— Однажды, — рассказывал Кутепов, — ко мне в штаб явился молодой офицер, который весьма развязно сообщил мне, что приехал в Добровольческую армию сражаться с большевиками «за свободу народа», которую большевики попирают. Я спросил его, где он был до сих пор и что он делал, офицер рассказал мне, что был одним из первых «борцов за свободу народа» и что в Петрограде он принимал деятельное участие в революции, выступив одним из первых против старого режима. Когда офицер хотел уйти, я приказал ему остаться и, вызвав дежурного офицера, послал за нарядом. Молодой офицер заволновался, побледнел и стал спрашивать, почему я его задерживаю. Сейчас увидите, сказал я и, когда наряд пришел, приказал немедленно расстрелять этого «борца за свободу».»
Кутепов, узревший живой символ революции, уничтожил его и остался страшно доволен собой, продемонстрировав при этом типично языческое восприятие действительности — как и убийцы Распутина.
Подобный стиль мироощущения выдает все же достаточно низкий уровень организации мышления у тогдашних лидеров контрреволюции. Не случайны элементарные просчеты стратегии Белого движения, да и в эмиграции многие генералы стали беспомощными жертвами агентов ОГПУ: если того же Достовалова среди прочих уговорили вернуться в Россию на погибель, то Кутепов, как известно, был похищен среди бела дня в Париже в январе 1930 года.
Вот так и завершилась жизнь величайшего героя России ХХ века Тимофея Кирпичникова.
Что касается оценки его личности, то он был, конечно, случайной фигурой — во вполне определенном смысле: если бы он оказался в феврале 1917 не в Питере, а где-то еще, то и не сыграл бы столь результативной роли. Стал бы, в лучшем случае, еще одним маршалом, расстрелянным в 1937–1938 гг., а не то просто сгинул бы, как погибают безвестными многие одаренные люди, захваченные потоками крови, уносящими миллионы жертв. Вот такие, как Гучков или Кутепов, всегда вылезают наверх, даже не имея никаких шансов принести пользу делу, за которое выступают!
Страшные уроки дает история России — как прижизненной, так и посмертной судьбой таких своих величайших героев, как Кирпичников и тот же граф М.А.Милорадович, к последним двум дням жизни которого мы, наконец, вернемся.
11. Миссия Ростовцева
Развитие роковых событий 12 декабря продолжилось и вечером.
Доклад Следственной комиссии демонстрирует обстановку полной растеряности, в какой оказались злополучные заговорщики, получив приказ о выступлении от собственного Диктатора:
«12 декабря, как свидетельствует очевидец, один из членов (барон Штейнгель), собирались вечером у Рылеева князь Трубецкой, Николай, Александр и Михайло Бестужевы, князь Оболенский, Каховский, Арбузов, [Н.П.]Репин, граф [П.П.]Коновицын, князь Одоевский, Сутгоф, Пущин, Батенков, Якубович, [Д.А.]Щепин-Ростовский, но не все вместе: одни приходили, другие уходили. Николай Бестужев и Арбузов отвечали за Гвардейский экипаж, [М.А.]Бестужев 3-й Московского полка, но довольно слабо, — за свою роту; Репин — сначала за часть Финляндского полка, потом лишь за несколько офицеров, прибавляя, что сей полк увлечь за собой не может никто из согласившихся участвовать в бунте. Князь Одоевский только твердил в жалком восторге: «Умрем! Ах как славно мы умрем!» Александр Бестужев и Каховский показывали себя пламенными террористами, готовыми на ужаснейшие злодейства. /…/ Каховский кричал: «С этими филантропами не сделаешь ничего: тут просто надобно резать, да и только, а если не согласятся, я пойду и сам на себя все объявлю»» — последние слова понимать нужно так, что Каховский, недовольный настроениями подельников, грозился в случае их нерешительности сдаться властям и выдать всех! Доклад продолжает: «Испуганному сим Штейнгелю Рылеев отвечал: «Не бойся, он у меня в руках, я уйму его»».
Перефразируя В.В.Шульгина, можно сказать, что бессилие смотрело на них со стен кабинета Рылеева. И был этот взгляд презрителен до ужаса…
Теперь-то нам есть, с чем сравнивать дискуссии этих говорунов: с собранием у казарменной койки Кирпичникова в ночь накануне восстания. Увы, менталитет тех и других различается решительным образом, и сравнение далеко не в пользу декабристов. Ни старые кадры заговорщиков, уже несколько лет опекаемые Милорадовичем (Трубецкой, Оболенский и Пущин), ни новые, во главе с Рылеевым и им самим набранные, не имели ни одной личности, которую можно было бы поставить рядом с Кирпичниковым.
Хотя таких, как Кирпичников, не много рождается в каждый век, но был, разумеется, человек не меньшего масштаба и во главе заговора декабристов. Беда последних состояла в том, что закулисный Диктатор, навязавший им конкретный приказ и конкретную идею восстания, не стал, в отличие от Кирпичникова, держать своих подчиненных за руку и буквально руководить ими накануне выступления и в первый, решающий час восстания.
Предварительный расклад сил, имеющихся у заговорщиков, сделан был ими весьма приблизительно (см. выше цитату из письма Пущина в Москву), а в реальности к ним присоединилось почти вдвое больше солдат, чем рассчитывал Пущин. Особого оптимизма расчет все равно не внушал, но Кирпичнков в начале восстания располагал и вовсе одной лишь своей учебной командой — соизмеримой, правда, по численности с количеством рядовых солдат, суммарно увлеченных декабристами. Задача состояла в том, чтобы грамотно распорядиться этой силой, а не упиваться мечтами о красивой смерти!
Самое же главное отличие Кирпичникова и его товарищей от декабристов состоит в том, что первые сами выстрадали свое решение, сами приняли его и сами готовились исполнить его ценой своей жизни и ценой жизней других людей — как это и бывает в боевой обстановке. Из декабристов только некоторые казались людьми, убежденными в своей решимости (Каховский и Щепин-Ростовский, например — но им бы еще добавить психической уравновешенности!). Большинство остальных, в том числе — главные признанные руководители Тайного общества, подумывало лишь о том, как бы открутиться от нежданно свалившегося несчастья.
Было бы полбеды, если бы они так только думали, но они еще и действовали! Они попытались спасти себя, но еще больше ухудшили свое и без того сомнительное положение!
Тут в нашем повествовании впервые возникает Яков Иванович Ростовцев — совершенно уникальный персонаж российской истории, незаслуженно обойденный славой. Расскажем сначала общепринятую версию его дебюта на политическом поприще.
Ростовцев был третьим сыном в обедневшей дворянской семье, и служебная карьера была единственным выходом в его материальной ситуации. Будучи сильнейшим заикой, он не мог быть строевым командиром, но был толковым штабистом и выполнял роль адъютанта генерала К.И.Бистрома — командира гвардейской пехоты. Великий князь Николай Павлович якобы ценил этого молодого добросовестного подпоручика и покровительствовал ему. Ростовцев, между тем, состоял и в заговоре декабристов.
Когда на день присяги Николаю было назначено их выступление, причем планы К.Ф.Рылеева достаточно ясно ориентировались на убийство Николая, то Ростовцев счел нужным предупредить своего благодетеля.
Поскольку в минуты волнений Ростовцев заикался совершенно ужасно, то свои решительные заявления он составлял в письменном виде. Выдав себя за курьера с важным посланием (прием, которым неоднократно много позже пользовались террористы, чтобы проникнуть к охраняемому начальству), он явился около 9 часов вечера все того же 12 декабря во дворец к Николаю Павловичу. Дальнейшее представим в изложении В.И.Штейнгеля:
«Это было нелегко. Доступ во дворец был затруднен. Вот как он сделал. Он /…/ при входе объявил, что послан к его высочеству от генерала Бистрома. Допущенный в кабинет, /…/ он просил прощения, что смел обмануть его высочество, что письмо не от генерала, а от него самого. В нем написал, что существует замысел на жизнь его высочества, но что он «не подлец» и умоляет не требовать указания лиц. Великий князь на это сказал, что знать их не хочет, пожал ему руку и обещал не забывать его благородного поступка. По крайней мере все это так описывал сам Ростовцев на листе, с которым рано поутру 13-го декабря явился к Рылееву.
/…/ Ростовцев /…/ сказал: «Делай со мной что хочешь, я не мог иначе поступить». Рылеев был озлоблен на него чрезвычайно и при свидании со мною тотчас после его посещения передал мне о случившемся, показал записку Ростовцева и с сердцем проговорил: «Его надо убить для примера». Я постарался, однако же, его успокоить и упросил ничего против Ростовцева не предпринимать. «Ну, пусть его живет!» — сказал Рылеев с тоном более презрительным, нежели злобным. /…/
Когда 14-го числа выразилось возмущение, Ростовцев, посланный от генерала в Финляндский полк, имел неосторожность проходить между Сенатом и колонною инсургентов, кто-то закричал: «Изменник!» На него бросились и избили прикладами до беспамятства» — согласно несколько иной версии, Ростовцев сам навлек на себя гнев восставших, попытавшись своим заикающимся языком уговорить их прекратить безрассудное поведение.
Далее Штейнгель снова делится собственными впечатлениями: «я узнал, что Ростовцев /…/ увезен домой; тотчас отправился к нему и был свидетелем посещения присланных от государя флигель-адъютанта [полковника В.А.Перовского] /…/ с приветствиями матери, что имеет таких благородных детей /…/ и доктора. /…/ Сам Ростовцев сомневался в значении своего поступка, по крайней мере, то выражали его слова».
Предупреждение Ростовцева будто бы большой роли не сыграло, т. к. к этому моменту Николай получил уже донесение Дибича. Действительно, ни о составе руководства заговорщиков в Петербурге, ни тем более об их планах на 14 декабря данных у Николая не оказалось: Дибич имел больше сведений о более активном до того времени «Южном обществе», а не о «Северном», затаившимся в столице. Также ничего конкретного вроде бы не сообщил и Ростовцев.
Еще в письменном послании к Николаю Павловичу от 12 декабря Ростовцев отказывался от возможной награды: «Не почитайте меня коварным донощиком, не думайте, чтоб я был чьим-либо орудием, или действовал из подлых видов моей личности; — нет. С чистой совестью я пришел говорить Вам правду. /…/ Ежели Вы находите поступок мой дерзким — казните меня. Я буду счастлив погибая за Россию, и умру благословляя Всевышнего. Ежели Вы находите мой поступок похвальным, молю Вас не награждайте меня ничем; пусть останусь я бескорыстен и благороден в глазах Ваших и моих собственных!» В соответствии с последним тезисом Ростовцев отказался после 14 декабря воспользоваться приглашением Николая I переехать во дворец.
Не исключено, что копия письма Ростовцева к Николаю Павловичу и письменный отчет Ростовцева о встрече и беседе с великим князем, обнаруженные позже среди бумаг Рылеева, несколько поколебали впечатления уже императора Николая о характере миссии Ростовцева. Однако 18 декабря подпоручик Ростовцев был все же в награду произведен в поручики.
Интересно, что собственноручно описывая в 1835 году события этих дней, Николай споткнулся об этот эпизод и написал: «Прибавить о Ростовцеве», — но ничего не прибавил. Тем не менее, царь никогда ничем не проявил возможного недоверия к этому герою 12 и 14 декабря.
Ростовцев, однако, на некоторое время ушел в тень; мало того, Бистром перевел его на строевую должность, где заике пришлось несладко. Только его назначение адъютантом великого князя Михаила Павловича в 1828 году дало новый толчок его служебной карьере. Возможно, что это не было случайностью — у Михаила должны были сложиться иные представления о событиях декабря 1825 года и их героях, чем у Николая. К тому же этот год — год смерти императрицы Марии Федоровны, специальное отношение которой к событиям 1825 года нами уже подчеркивалось и еще будет упоминаться ниже.
В 1835 году (интересное совпадение с тем, что именно тогда Николай продумывал задним числом все происшедшее) Ростовцев стал начальником штаба военных учебных заведений и затем занимал этот пост более двадцати лет. Новый перелом в его судьбе наметился в 1846 году, когда начальником военных учебных заведений стал цесаревич Александр Николаевич — будущий император Александр II.
Позже, оценив деловые качества и незатухшее стремление к идеалам, Царь-Освободитель поставил Ростовцева во главе дела подготовки крестьянской реформы. К концу жизни Ростовцев стал генерал-адъютантом и практически посмертно получил графский титул, перешедший к его потомкам. В целом — это совершенно невероятная карьера офицера-заики.
В глазах же общественного мнения, твердо избравшего вскоре своими героями декабристов (подробнее об этом — ниже), Ростовцев навсегда остался изменником и предателем. По свидетельству Герцена, даже его сыновья стыдились поступка своего отца (об этом — тоже немного ниже).
Между тем, в подробностях этой общеупотребительной версии полно фальши.
Начнем с того, что известный нам И.Д.Якушкин свидетельствовал, что Рылеев и Оболенский были в курсе миссии Ростовцева еще до его прихода к Николаю. Это, разумеется, свидетельство с чужих слов (в декабре 1825 года Якушкин, напомним, находился в Москве), но сделано оно тогда, когда были живы и Оболенский, и Ростовцев, а потому должно было бы быть опровергнуто, если бы было неверным; к оценке истинности этого сообщения мы еще вернемся.
Несомненно, что поступок Ростовцева подробно разбирался в среде сосланных декабристов, и, опять же, ни при жизни Ростовцева, ни позже, когда было опубликовано большинство мемуаров, не возникло ни слова осуждения в его адрес у пересказчиков данного эпизода Н.А.Бестужева, М.А.Фонвизина, А.Е.Розена, В.И.Штейнгеля и Н.В.Басаргина.
Рылеев и Оболенский, как известно — самые видные руководители заговора в столице в декабре 1825 года, наряду с Трубецким. Считается, что накануне декабря 1825 года их связывали с двадцатидвухлетним Ростовцевым очень теплые отношения. Рылеев (ему исполнилось тридцать) был заметно старше, и был чрезвычайно уважаем Ростовцевым. Оболенский, которому исполнилось двадцать девять, был ближайшим партнером и товарищем Ростовцева непосредственно по службе — оба были адъютантами Бистрома (Оболенский — старшим адъютантом).
Интересен и важен факт дружбы Ростовцева с Оболенским, вернувшимся из Сибири, уже в 1856–1860 гг., когда Ростовцев стал виднейшим деятелем по подготовке реформы 19 февраля 1861 года. Разумеется, историки трактовали этот несколько экстравагантный пассаж как проявление благородным Оболенским снисходительности и милосердия по отношению к оступившемуся товарищу.
Но если руководители заговора могли остановить Ростовцева и не сделали этого — тогда они или сумасшедшие (тогда всю историю 14 декабря нужно помещать в раздел психопатологии!), или миссия Ростовцева была не столь простой. Слишком театрально выглядит и трактовка эпизода, рассказанного Штейнгелем о реакции Рылеева на исход этой миссии.
Главное же — это сохранившееся послание Ростовцева к Николаю и воспоминания обоих об исторической встрече, записанные собственноручно или сообщенные М.А.Корфу.
Послание Ростовцева к Николаю Павловичу, составленное в предельно почтительных и вежливых выражениях, является по существу угрожающим ультиматумом.
Ростовцев заявляет о чрезвычайной обширности заговора: «Государственный Совет, Сенат и, может быть, гвардия будут за Вас, военные поселения и Отдельный Кавказский корпус решительно будут против. Об двух армиях ничего сказать не умею» — расклад сил, заметим, весьма далекий от того, который должен был реально учитываться в среде декабристов: это — явная попытка введения в заблуждение. Следствием такого воображаемого соотношения сил должна была стать, естественно, гражданская война, которая, как опасался Ростовцев, могла привести к пагубнейшим последствиям, в том числе: «Пользуясь междоусобиями, Грузия, Бессарабия, Финляндия, Польша, может быть и Литва, от нас отделятся; Европа вычеркнет раздираемую Россию из списка держав своих и сделает ее державой азиатской и незаслуженные проклятия, вместо должных благословений, будут Вашим уделом» — совершенно ужасные перспективы с учетом современной истории!
Советы, а по существу — требования, адресованные к Николаю, весьма красноречивы: «В народе и войске распространился уже слух, что Константин Павлович отказывается от престола. Следуя редко доброму влечению Вашего сердца, излишне доверяя льстецам и наушникам Вашим, Вы весьма многих противу себя раздражили. Для Вашей собственной славы погодите царствовать.
/…/ дерзаю умолять Вас /…/ — преклоните Константина Павловича принять корону! Не пересылайтесь с ним курьерами; это длит пагубное для Вас междуцарствие и может выискаться дерзкий мятежник, который воспользуется брожением умов и общим недоумением. Нет, поезжайте сами в Варшаву, или пусть он приедет в Петербург; излейте ему, как брату, мысли и чувства свои; ежели он согласится быть императором — слава Богу! Ежели же нет, то пусть всенародно, на площади, провозгласит Вас своим государем».
Получив пакет якобы от генерала Бистрома (с письменным извинением внутри, что письмо от самого Ростовцева), Николай, прочитав, пригласил автора в кабинет. Произошел обмен мнениями, в результате чего Николай убедился, что действительно имеет место настоящий заговор, а не мистификация. Заодно Николай поинтересовался, в курсе ли Бистром в отношении акции, совершаемой его адъютантом (характерный ход мыслей Николая!), и получил уверение, что генерал совершенно не имеет отношения к делу. Заикаинье, естественно, не способствовало продолжительности и обширности переговоров.
Великий князь объяснил пришельцу, что расчетов на Контантина больше нет, и что он сам, Николай, вынужден взять на себя царствование: «престол празден; брат мой отрекается; я единственный законный наследник. Россия без царя быть не может», — и заявил о своей готовности умереть за это.
Заверив друг друга в вечной дружбе, высокие договаривающиеся стороны расстались — все это действительно выглядело как встреча полномочного парламентера с командующим противоположной стороны. Кстати, не возникло и намека на то, что прежде между ними были какие-либо личные контакты или симпатии.
Когда отчет Ростовцева и копия его письма Николаю были найдены среди бумаг заговорщиков, то царь, во всяком случае, мог убедиться, что если ему Ростовцев в чем-то и солгал, то не очень сильно, и вполне мог искренне заблуждаться — это было очень важно для решения его судьбы. Поведение же Ростовцева 14 декабря и побои, которыми он подвергся, оказались своего рода индульгенцией: они подтвердили царю, что целью Ростовцева действительно было прекращение междоусобицы.
С другой стороны, Рылеев, вешавший Штейнгелю и другим непосвященным лапшу на уши по поводу поступка Ростовцева, имел мотивом сокрытие существа секретной миссии от подельников. Тот же Рылеев и Оболенский не очернили ни единым словом Ростовцева как участника заговора и на следствии — это очень существенная деталь, ибо декабристы выбалтывали почти все и многое сверх того, пытаясь завлечь к ответственности как можно больше людей — об этом ниже.
Теперь можно более подробно разобраться в мотивах поступков различных лиц и достигнутых ими результатах.
По существу то, к чему призывали Николая устами Ростовцева руководители заговора, не отличалось от прежних требований Милорадовича. Это очень странно с точки зрения канонов, утвердившихся в современной историографии, потому что считается, что ими преследовались совершенно разные цели: Милорадович хотел, чтобы царствовал Константин, а порядок в столице его просто не волновал — в возможность беспорядка он вроде бы не верил; истинной же целью декабристов было как будто достижение их революционных идеалов.
Зачем же им посылать к Николаю Ростовцева? С точки зрения повышения шансов для достижения целей восстания — вроде бы незачем.
Никто из историков не отрицает, что декабристы были авантюристами и мистификаторами. Под тем же предлогом, что и Милорадович, они якобы тоже боролись за справедливость, но, как считается, лишь для того, чтобы захватить власть самим и использовать ее для попытки реализации своих фантастических программ. Но это чистейшей воды заблуждение, созданное легендой, в которой и предшествующая десятилетняя заговорщицкая «деятельность», и восстание 14 декабря рассматриваются как серьезные и, главное, логически последовательные деяния. А ведь это совершенно неверно!
Утром 12 декабря вся прежняя ситуация перевернулась. Получив предупреждение о письме Дибича, вожди декабристов были поставлены перед фактом, что теперь расследование заговора в случае воцарения Николая стало неизбежным. К тому же похоже, что решение о восстании было спущено им в директивной форме и обсуждению не подлежало. Но выполнять его не имели желания даже Рылеев с Оболенским, хорошо представлявшие себе масштабы кары после неминуемых арестов, а уж тем более остальные участники заговора, вовсе не предупрежденные о неизбежности разоблачения — ведь даже Трубецкой, по-видимому, не был уведомлен о письме Дибича!
Но теперь, перед лицом не абстрактных политических вариантов, а перед неотвратимой угрозой ареста и наказаний — с одной стороны, и полученного распоряжения о восстании — с другой, только выбор из двух зол меньшего и волновал заговорщиков, а не политические цели переворота, о которых ни слова не было сказано и ни шагу к которым не было сделано в день 14 декабря — за ислючением криков: «Конституция!», сбивавших с толку очевидцев. Только после ареста мятежников выяснилось, что солдатам объяснили, что так зовут польку — жену Константина Павловича! Вот и вся революционная агитация!
Логично предположить, что только в уступке Николая по крайней мере два человека — Рылеев и Оболенский (который, кстати, сыграл свою роль 14 декабря всерьез и до конца) — видели возможность и отказаться от восстания без потери собственного лица, и избежать или хотя бы уменьшить ответственность за конспиративную деятельность. Они хотели еще раз попытаться заставить Николая принять требования Милорадовича и избавить тем самым самих себя от неизбежной необходимости поднимать восстание, ни в целесообразность, ни в успех которого по существу не верили.
Миссия Ростовцева действительно была последним шансом предотвратить восстание! Другой неявной целью Ростовцева и его друзей было создание определенного психологического алиби: уверяя Николая, что у заговорщиков нет иной задачи, кроме установления справедливости в вопросе о престолонаследии, его заранее убеждали в эфемерности или второстепенности политических программ заговора — это было явной подготовкой к последующему возможному следствию. Очень остроумный ход!
Наконец, провал миссии Ростовцева, который и произошел, также приносил определенную пользу: фактическое предательство восстания тоже сжигало мосты, как и угроза, исходившая из письма Дибича, но, в отличие от последнего, провал миссии Ростовцева не был окружен обязательной секретностью и мог использоваться в качестве аргумента, заставляющего колеблющихся решиться на выступление! Рылеев с Оболенским по существу повторили по отношению к своим товарищам тот же трюк, что проделал с ними самими Милорадович! Принципиальное отличие в том, что не Милорадович изобрел и организовал письмо Дибича, хотя, по-видимому, заранее его предвидел!
В этом и заключалась миссия Ростовцева, рассказать о которой откровенно было невозможно и позже — ни на следствии, ни даже спустя десятилетия: ведь это тоже было бы потерей чести.
В результате тайная миссия Ростовцева так и осталась тайной, но он сам, спасая честь своих товарищей, вынужден был всю жизнь и даже после смерти носить клеймо предателя — иначе предателями бы заслуженно сочли Рылеева и Оболенского.
Характерный эпизод разыгрался приблизительно за год до смерти Ростовцева.
Герцен и Огарев, подогретые слащавым описанием роли Ростовцева в книге Корфа, успехом этой книги у публики, а также, очевидно, и виднейшей ролью Ростовцева в подготовке грядущей реформы, нагнетали ажиотаж и продолжали обливать грязью Ростовцева в «Колоколе».
То были золотые времена «Колокола», о которых позднее Герцен ностальгически вспоминал: ««Колокол» — власть, — говорил мне в Лондоне, страшно вымолвить, Катков и прибавил, что он [ «Колокол», а не Катков!] у Ростовцева лежит на столе для справок по крестьянскому вопросу…» — это был 1859 год, а посетивший Герцена страшный реакционер М.Н.Катков был тогда еще молодым радикалом, да каким! На публичном праздновании Нового года (не то 1858, не то 1859) в Москве он произнес тост: «За расчленение России!»
Неудивительно, что Ростовцев не выдержал и пожаловался в письме к Оболенскому, жившему тогда в Калуге. Тот ответил в январе 1859 года письмом к Ростовцеву: «Скажу тебе, что если бы при первом появлении статьи Герцена на книгу Корфа я имел возможность написать о тебе в отношении 14 декабря, то, что я знаю о твоих действиях и о том, что мною и тобою сохранено в свежей памяти, я бы это исполнил, как долг и обязанность честного человека обличить клевету и ложь /…/ слова Герцена не тебя оскорбляют, а того, который, сидя на острове, нападает на личность, а не на дела /…/ слова Герцена падут в море забвения, и достойны сожаления», — и, тем не менее, это — фактический отказ опровергать Герцена: ведь что же теперь-то мешает Оболенскому исполнить долг и обязанность честного человека?
Действительно, ни до смерти Ростовцева в феврале 1860 года, ни до собственной смерти в 1865 году Оболенский ни слова не опубликовал о своей и Ростовцева роли 12 декабря 1825 года. Разумеется, писать ему было нечего: не рассказывать же о том, как он и Рылеев сорвали восстание!
Беды собственного отца унаследовали и сыновья Ростовцева. Совсем не из-за стыда за собственного отца, а из жажды восстановления справедливости они установили в 1862 году прямые контакты с Герценом. Оба они были флигель-адъютантами Александра II, и оба в июне 1862 года были уволены со службы после того, как старший из них, полковник генерального штаба Николай Ростовцев, посетил во время заграничного путешествия Герцена, пытаясь объясниться с ним. К счастью для них, этим не были до конца сломаны их карьеры; тот же Н.Я.Ростовцев (1831–1897) все же стал генерал-лейтенантом и самаркандским генерал-губернатором.
Кстати, Герцен со временем стал понимать, что погорячился — вероятно, прочитав мемуары И.Д.Якушкина и Н.А.Бестужева. Понял ли он, что же на самом деле произошло, — неизвестно, но, во всяком случае, в его последней публикации о декабристах в 1868 году звучит протокольная точность: «один молодой офицер, Ростовцев, принадлежащий к Обществу, имел свидание с Николаем и не на кого лично не донося, сообщил ему план восстания и пр.» Это и пр. — очень выразительно! Вернемся позднее к этой заключительной формулировке Герцена.
Заверив в серьезности намерений заговорщиков, Ростовцев использовал аргумент наибольшей силы.
Если бы Николай сломался и подчинился требованиям заговорщиков, то и мятеж сорвался, поскольку утратилась бы малейшая возможность взбунтовать солдат. Но и заговорщики добились бы моральной победы: Николай пошел на их поводу, а следовательно — признал их моральную и политическую правоту (пусть не имеющую ничего общего с их прежними заговорщицкими программами!) — и тем самым определенно обязался бы в отношении прощения их грехов.
Не подчинись Николай условиям заговорщиков — и все пропало: никакого прощения им не гарантировано, а сам характер переговоров — с угрозой прямого возмущения в момент приведения к новой присяге — полностью выдает все преступные планы заговорщиков.
Последнее и произошло: Николаю тоже уже некуда стало отступать — отсюда и категорический его ответ Ростовцеву.
Понял ли Николай до конца, что имеет дело с прямым парламентером? Вероятно — нет. Потому что, возможно, изложенными аргументами не исчерпывались полномочия Ростовцева — ведь он назвал несколько вариантов благополучного разрешения ситуации. Допусти Николай хоть какую-нибудь принципиальную возможность иного решения, нежели то, на котором он сам остановился — и, может быть, заговорщики также ухватились бы за возможность компромисса.
Может быть, однако, Николай все это понял, но Константин уже не оставил ему никаких степеней свободы: начни Николай снова колебаться и искать возможность выхода — и он окончательно останется трусом и ничтожеством в глазах Константина, Михаила, Милорадовича и, возможно, тех же декабристов.
После встречи с Ростовцевым Николай написал к П.М.Волконскому в Таганрог: «Воля Божия и приговор братний надо мной свершаются. 14 числа я буду или государь— или мертв! Что во мне происходит, описать нельзя; вы верно надо мной сжалитесь: да, мы все несчастливы, но нет никого несчастливее меня. Да будет воля Божия!»
То же повторено и в его письме к Дибичу: «Послезавтра поутру я — или государь, или без дыхания».
Несколько больше кокетства звучит в его письме к сестре Марии Павловне, отправленном ранним утром 14 декабря: «Молись Богу за меня, дорогая и добрая Мария; пожалей о несчастном брате, жертве Промысла Божия и воли двух своих братьев. /…/ Наш Ангел [т. е. Александр I] должен быть доволен; его воля исполнена, как ни тяжела, как ни ужасна она для меня».
Решимость Николая, загнанного в угол, произвела впечатление и на Ростовцева. Весть об этом и принес последний к товарищам — это был смертный приговор некоторым из них и множеству других людей.
Вот теперь-то и лидеры заговорщиков, как неопровержимо показали дальнейшие события, впали в самую настоящую панику! В то же время позиция Рылеева и Оболенского стала жестче и решительнее.
Доклад Следственной комиссии описывает это следующим образом: «на другой день Рылеев при Оболенском, [И.И.]Пущине (старшем, приехавшим из Москвы) и Александре Бестужеве говорил Каховскому, обнимая его: «Любезный друг! Ты сир на сей земле, должен жертвовать собою для общества. Убей императора». И с сими словами все прочие бросились также обнимать его. Каховский согласился, хотел 14 число, надев лейб-гренадерский мундир, идти во дворец, или ждать ваше величество на крыльце». Согласно воспоминаниям Штейнгеля, он об этой коллективной сцене у Рылеева узнал из рассказа последнего вместе с сообщением о миссии Ростовцева. Именно тогда же Рылеев сообщил Штейнгелю о и решающей роли Милорадовича, не допускавшего воцарение Николая (еще выше мы об этом писали).
Позже осторожность и благоразумие Каховского и прочих частично взяли свое. Доклад продолжает: Каховский «потом отклонил предложение за невозможностью исполнить, которую признавали и все другие. /…/ на очной ставке Каховский признал, что Александр Бестужев наедине уговаривал его не исполнять поручения, данного ему Рылеевым /…/.
Собрание их в сей вечер (13-го числа) было так же многочисленно и беспорядочно, как предшедшее: все говорили, почти никто не слушал. Князь Щепин-Ростовский удивлял сообщников своим пустым многоречием; [штабс-капитан Гвардейского Генерального штаба А.О.]Корнилович, только что возвратившийся в Петербург, уверял, что во 2-й армии готово 100 тысяч человек; Александр Бестужев отвечал на замечания младшего [А.П.]Пущина (Конно-пионерского): «По крайней мере об нас будет страничка в истории». «Но эта страничка замарает ее, — возразил Пущин, — и нас покроет стыдом». Когда же барон Штейнгель, удостоверясь более прежнего в ничтожности сил их тайного общества и как отец семейства, заранее устрашенный вероятными последствиями мятежа, спрашивал Рылеева: «Неужели вы думаете действовать?» То он сказал ему: «Действовать, непременно действовать», а князю Трубецкому, который начинал изъявлять боязнь: «Умирать все равно, мы обречены на гибель», и прибавил, показывая копию с письма подпоручика Ростовцева к вашему величеству: «Видите ль? Нам изменили, двор уже многое знает, но не все, и мы еще довольно сильны»» — ложь о «предательстве» Ростовцева не рассчитывалась тогда на длительное применение, а опровергнуть ее Ростовцеву уже не оставалось времени и возможностей — если бы клевета успела до него дойти.
А без этого аргумента, возможно, Рылеев и не надеялся добиться хоть каких-нибудь действий от соратников!
По существу декабристов погнали в бой, как бы приставив к их спинам пулеметы — как гнали советских солдат-освободителей, спасавших (и действительно спасших!) Европу от гитлеризма в конце Второй Мировой войны! Сначала такой «пулемет» приставил к спинам Рылеева и Оболенского Милорадович, сообщив о письме Дибича, а затем уже и Рылеев с Оболенским ко всем остальным, организовав миссию Ростовцева!
Ниже мы приведем еще один скрытый уровень этой истории.
В процессе беспорядочных обсуждений совершенно исчезла руководящая идея «плана Милорадовича-Кирпичникова»: последовательное присоединение полков одним за другим, хотя и Трубецкой, и сам Батенков припомнили на следствии слова, обращенные этим последним к Якубовичу: «Чего думать о планах всего общества! Вам, молодцам, стоило бы только разгорячить солдат именем цесаревича и походить из полка в полк с барабанным боем, так можно наделать много великих дел», — голова у него явно варила, но он чувствовал себя в новой компании все-таки сторонним, а главным заговорщикам, как покажем ниже, было уже не до победы восстания!
Остальных же гораздо больше занимали вопросы о том, что должны предпринять восставшие, уже собравшись на Сенатской площади — т. е. задача в конце-концов унести ноги стала главенствующей. Доклад об этом повествует: «В случае, если бы ваше величество решились послать в Варшаву к государю цесаревичу, заговорщики хотели требовать мест для стояния лагерем вне города, несмотря на зимнее время, в ожидании прибытия его императорского высочества, но не переставать требовать также и созвания депутатов под тем предлогом, что они все будут нужны или для упрощения цесаревича принять державу, или для торжественной присяги вашему величеству. Наконец, в том случае, когда бы великий князь Константин Павлович прибыл в Санкт-Петербург, они надеялись уверить его высочество, что все было произведено одним усердием к нему.
Таков был, по словам князя Трубецкого, объявленный ими друг другу план. Рылеев говорил только, что должно было войскам, ими возмущенным, прийти на Сенатскую площадь и начальнику их, Трубецкому, действовать по обстоятельствам, что они надеялись избегнуть кровопролития и посредством Сената, который думали принудить к тому, получить от вашего величества или от государя цесаревича согласие на созвание депутатов для назначения императора и установления представительного образа правления. Они хотели предложить депутатам проект Конституции, писанный Никитою Муравьевым. Князь Оболенский прибавляет к сему, что до съезда депутатов Сенат долженствовал бы учредить Временное правление двух или трех членов Государственного совета и одного члена их тайного общества (который был бы правитель дел оного), назначить и корпусного, и дивизионных командиров гвардии из людей, им известных, и сдать им Петропавловскую крепость. При неудаче они полагали (так показывают согласно князь Трубецкой и Рылеев) выступить из города, чтобы стараться распространить возмущение» — помимо беспорядочных мечтаний о спасении еще и дележка шкуры неубитого медведя — вместо организации и планирования его убийства!
Ростовцев не спас друзей от необходимости выступать. Мало того, Николай окончательно убедился в том, что заговор существует и, следовательно, представляет реальную угрозу.
На Милорадовича и А.Н.Голицына, которым Николай показал письмо Ростовцева, и это сообщение никак не подействовало — такое впечатление, по крайней мере, зафиксировано в записках царя и в дневнике его матери: «они полагали, что письмо это написано сгоряча, и что оно не заслуживает внимания». Эта запись в дневнике Марии Федоровны появилась много позже — 14 марта 1826 года; она услышала от Николая рассказ об этом накануне — прямо в день похорон Александра I. Другие подробности этого рассказа мы приведем ниже.
Но с вечера 12 декабря Николай мог и сам кое-что спланировать — это, кстати, единственное оправдание той задержке в проведении присяги, которая произошла после 12 декабря.
Николай I был не в силах полностью предотвратить восстание, но, зная теперь его руководящую идею, мог сам назначить момент возможного начала бунта каждого воинского подразделения: коль скоро взбунтовать гвардейцев можно было только угрозой якобы измены и новой присяги, то и подняться на восстание солдаты могли только после приказа о присяге — но не ранее того — об этом мы уже упоминали.
Строго говоря, руководящая идея восстания вытекала еще из угроз Милорадовича, многократно повторявшихся. Сообщение Ростовцева — источника, как бы независимого от Милорадовича, только подтвердило ее: критическим моментом для выступления заговорщиков становится объявление о новой присяге.
Инициатива всех последующих событий, таким образом, с вечера 12 декабря полностью принадлежала Николаю.
В результате ему даже сошло с рук то, что все дальнейшие мероприятия он откложил на раннее утро 14 декабря, продолжая дожидаться брата Михаила. Его поведение все же свидетельствует не о самой большой государственной мудрости, ибо и в эту ночь, и в предыдущую, когда происходила встреча Николая с Ростовцевым, покой царского семейства стерег внутренний караул под командованием ярых заговорщиков: в ночь на 13 декабря — М.А.Бестужева, а в ночь на 14-е — князя А.И.Одоевского, известного поэта.
Интересно, что данная ситуация никак не предусматривалась планами руководителей заговора, а сами караульные начальники не решились ни на какую импровизацию. Все это — ярчайшее свидетельство разброда мыслей и чувств у горе-революционеров, а также отражение крайней хлипкости их замыслов, основанных на примитивном обмане солдат, который можно было ввести в дело лишь при самой благоприятной для этого обстановке. Сейчас же, в тихо спящем дворце, заговорщикам ничто не светило.
А ведь когда 11 марта 1801 года убивали Павла I, то ситуация для заговорщиков была ни чуточки не легче. Но Пален с Беннигсеном были настоящими, а не опереточными злодеями, и не чета Трубецкому с Рылеевым!
Тот же упрек в определенной степени можно адресовать и Милорадовичу!
В результате мер, продуманных Николаем, планы заговорщиков оказались разрушены: чиновники всех важнейших государственных учреждений — в том числе Сената, который заговорщики намеревались арестовать и подчинить себе, чтобы придать видимость законности собственному правительству — начинали принятие присяги в 7 часов утра 14 декабря и успевали разъехаться по домам еще до начала присяги гвардейских полков. Последние уже не имели практических шансов кого-либо арестовывать, хотя после полудня 14 декабря едва не арестовали самого Николая I — обе стороны оказались совершенно не готовы к такой возможности.
О своем плане Николай Павлович уведомил генерала Воинова днем 13 декабря, поручив ему техническое обеспечение сбора гвардейского руководства на инструктаж к тем же 7 часам утра 14 декабря. Вслед за тем был приглашен митрополит Серафим и предупрежден о предстоящих событиях — включая время присяги Синода. Кроме того, как упоминалось, Николай условился с П.В.Лопухиным о сборе Государственного Совета на вечер 13 декабря.
Вот Милорадовича и А.Н.Голицына почему-то уже нет в этом узком списке доверенных людей!!!
Вину за полный проигрыш восставших еще до начала выступления некоторые историки возлагают на «предательство» Ростовцева — и они недалеки от истины. Только виновен в этом не один Ростовцев, но и Рылеев и Оболенский, которые его послали к Николаю. В какой-то степени должен разделять эту вину и Милорадович — его настойчивые угрозы тоже сыграли роль предупреждения: попытка декабристов подражать ему только завершила дело, обеспечив его бессмысленный и трагический исход.
Но мнение историков — это все же мнение историков, и изменять прошедшие события не во власти историков (хотя некоторые небезуспешно и пытаются!). Гораздо важнее то, как поступок Ростовцева был расценен современниками, еще имевшими возможность на него среагировать — и вот это-то и оказалось самым интересным!
Николай Павлович в очередной раз ошибся, отметив индифферентное отношение Милорадовича, на этот раз — к «миссии Ростовцева»; на самом деле тот среагировал — и еще как!
Появление Глинки посреди собрания заговорщиков — вопреки всем правилам конспирации! — могло быть вызвано только чрезвычайными обстоятельствами.
Какую весть Глинка принес с собой к Рылееву и остальным — никем не засвидетельствовано. Очевидно, он выложил ее Рылееву один на один — как это происходило и раньше. Но вот потом Глинка пробыл на совещании у Рылеева достаточно долго, молча и внимательно слушал, а затем, по показаниям Рылеева, явно его выгораживавшего (в отличие от остальных, которых Рылеев усиленно топил), предупредил: «Смотрите, господа, чтоб крови не было!» — в ответ на что Рылеев его категорически заверил в принятии всех необходимых мер.
Остальные участники совещания, подтвердив присутствие Глинки, не смогли или не захотели ни подтвердить, ни опровергнуть показания Рылеева о произносимых словах. Все эти люди накануне восстания были, кроме всего прочего, по понятным причинам слишком перевозбуждены.
Между тем, экстраординарный приход Глинки и его многозначительный обмен репликами с Рылеевым позволяют придать логическую основу разнообразным фактам, бьющим в глаза и труднообъяснимым по отдельности: 1) 12 декабря Милорадович спустил декабристам план последовательного присоединения к восстанию одного полка за другим — максимальным образом обеспечивающий возможный успех; 2) Милорадович не стал руководителем восстания, неизвестно когда приняв решние об этом; 3) только 13 декабря Трубецкой был назначен «диктатором»; 3) декабристы непонятным образом отказались от плана Милорадовича, предложенного 12 декабря; 4) 13 декабря Рылеев пообещал Глинке не проливать крови; 5) 14 декабря Рылеев и Трубецкой крайне халатно отнеслись к исполнению своих обязанностей руководителей восстания, а Оболенский, наоборот, слишком рьяно!
Все это нагромождение хорошо известных сведений может быть объяснено очень просто, если вставить еще после пункта 1 провал миссии Ростовцева и последующее изменение Николаем порядка проведения присяги.
Действительно, известно, что Милорадович услышал от Николая рассказ о миссии Ростовцева и прочитал послание последнего; трудно допустить, что и Воинов не поделился с ним свежей новостью о назначенном порядке проведения присяги. Теперь многолетний куратор заговора имел полное право посчитать происшедшее полным и глобальным предательством. Нетрудно разглядеть и его последующую реакцию.
Разумеется он, как почти всякий человек, не стал вдаваться в тонкости того, как его собственное поведение способствовало неуспеху необходимого будущего государственного переворота. Зато теперь он мог взвалить всю вину на Ростовцева, как это сделали, повторяем, многие историки, начиная с Герцена и Огарева. Разумеется, из тех источников, которые были доступны Милорадовичу в тот момент, он не мог и не имел времени однозначно вычислить вероятных сообщников Ростовцева среди руководства декабристов. Но трудно ошибиться, предположив, что его оценка этих деятелей, переданная Глинкой, звучала вполне ясно и внушительно — запомним это обстоятельство!
Теперь Милорадович почти с чистой совестью мог снять с себя функции руководства восстанием и отменить планируемый захват власти как задачу, нереальную в новых условиях.
На необходимости вооруженной демонстрации Милорадович должен был продолжать настаивать, потому что она обеспечивала мнимое политическое алиби всем участникам предшествующей заговорщицкой деятельности (включая, разумеется, самого Милорадовича — но на на это едва ли делался упор в сообщении Глинки). Понятно, что при проведении демонстрации особое внимание уделялось отсутствию кровопролития — дабы не создавать дополнительных отягчающих обстоятельств. При соблюдении этих условий Милорадович, скорее всего, брался сохранить заговор под собственной защитой.
Декабристы должны были принять такие «джентельментские условия» — а что им еще оставалось?
На руководителей декабристов подобный ультиматум Милорадовича должен был произвести впечатление взрыва бомбы прямо посреди их и без того истерических словопрений!
Только шок от сильнейшей психической контузии и может объяснить поведение всего руководящего трио (Рылеев, Трубецкой и Оболенский) на следующий день. Оно не вписывалось ни в какие каноны этики политических руководителей, заговорщиков и революционеров, каковыми все же были эти трое.
Чисто по-человечески Трубецкому и Рылееву было бы гораздо проще заранее — в любой день до 14 декабря — отказаться от своих целей и программ, чем усиленно зазывать в сообщники как можно больше людей, а потом самым нелепым образом не являться на место восстания! Ясно, что такое анекдотическое поведение, едвали ни единственное во всей общечеловеческой политической истории, могло быть вызвано только потрясением невероятной силы!
Положение всех троих уже вечером 13 декабря оказалось крайне незавидным: вариантов для возражений Милорадович им не предоставил, а информировать о происшедших изменениях всех остальных сообщников, которых они более суток усиленно поднимали на восстание, также не было никакой возможности — под угрозой того, что на вооруженную демонстрацию просто не явится никто, чтобы риском для своих жизней создавать какое-то там алиби горе-заговорщикам с ожиревшими мозгами!
Их пока нельзя было посвящать даже и в сдвиг сроков присяги, если об этом также сообщил Глинка, так как невозможно было разглашать секретные сведения, известные только Воинову и еще немногим. Позже (в этот же самый день), когда информация от самого Николая Павловича растеклась среди достаточно широкого круга, другие осведомители декабристов исправили это положение. Поэтому первоначальный план ареста Сената пришлось как-то втихую спустить на тормозах!
Трубецкого срочно назначили «диктатором», но это все равно (или даже тем более) не спасло его от впадания в истерику; Рылеев до утра 14-го продолжал руководить, юлить и соображать, как спрятаться самому, не оставляя дело полностью без руководства; зато они оба с удовольствием навалили всю ответственность на Оболенского, более остальных, очевидно, виновного в инициативе миссии Ростовцева. Вот его-то фактически и обязали взять на себя всю тяжесть непосредственного руководства демонстрацией, загримированной под восстание! Он-то и наруководил!..
В эти дни наиболее остро сказалось полное одиночество Милорадовича, самостоятельно принимавшего решения — к этой личностной проблеме мы еще вернемся. С 3 декабря, когда позиция, занятая Константином Павловичем, обрушила всю конструкцию задуманного переворота, нарастал поток ошибок, принятых прославленным полководцем.
В данный момент Милорадович совершил две решающие ошибки: 1) признал план восстания невыполнимым и 2) вроде бы не оговорил механизм завершения политической демонстрации, назначенной вместо восстания, который никак не предусматривался фантазиями самих декабристов, ориентировавшихся на совершенно иное развитие событий. Так ли это было на самом деле — нам еще предстоит рассмотреть.
Относительно возможности успеха восстания легко скатиться на путь тех же спекуляций, что нами же и осуждались: что было бы, если бы… и т. д. Тем не менее, совсем не трудно утверждать, что для успеха восстания 14 декабря вполне достаточно было первоначального успеха в Московском полку, как и для успеха 27 февраля 1917 вполне достаточно оказалось успеха в Волынском полку. Действительно, вернитесь к этой идее, читая ниже о событиях 14 декабря: что было бы, если бы восставшие роты Московского полка не встали бы неизвестно зачем на Сенатской площади, а сразу атаковали с лозунгами защиты Константина расположенные рядом казармы конногвардейцев, которых затем с таким трудом и несочувствием к делу удалось привлечь к подавлению восстания? Что было бы, если бы московцы и конногвардейцы затем пошли бы вместе к близлежащим казармам моряков, которые и без того позднее присоединились к восстанию? Что было бы, если бы и потом все они не стояли на месте, а двигались бы к любой другой части еще не объединенных правительственных сил и продолжали бы давить своей все возраставшей массой… — и т. д.?!
Ответ очевиден: был бы захвачен весь город, и не имело бы никакого значения, когда и какую присягу приняли сенаторы, разъехавшиеся по домам — точно так же, как никакого значения не имело в 1917 году, чем занимались во время солдатского бунта члены правительства, депутаты Думы и все остальные!.. Все жители города, все правительство были бы поставлены перед фактом перехода власти к мятежникам.
Вторая ошибка Милорадовича объясняется его привычкой к беспрекословному выполнению собственных команд! Это и стоило ему жизни 14 декабря!
Нерешительность Николая, ожидавшего Михаила, привела к тому, что самый, возможно, удобный день для вступления на престол — воскресенье 13 декабря — был упущен: церкви были полны народом, и было бы вполне уместно огласить Манифест именно в этот момент, а не в понедельник при полупустых церквах. Не стал или не смог давить Николай и на Милорадовича, от которого зависела спешность публикации воззваний в типографиях.
Однако в воскресенье было бы труднее организовать присягу во всех государственных учреждениях — это тоже немаловажно.
Кроме того, вероятно, сыграли роль уже собственные опасения Николая: преждевременное объявление о вступлении на престол могло спровоцировать немедленное восстание — и тут, очевидно, Николай был прав, сохранив прежнее стремление Милорадовича к предварительному сокрытию информации. Возможно, сыграла роль и боязнь несчастливого 13 числа (хотя и понедельник — день тяжелый, но число, когда началось царствование, более прочно входит в историю!).
В целом противоречие необходимых решительных шагов с общей нерешительностью совершавшего их запуганного человека было вполне очевидным.
Как сообщалось, на 8 часов вечера 13 декабря было созвано в Зимнем дворце заседание Государственного Совета. Заговорщики узнали об этом от Краснокутского и Корниловича, посетивших Сперанского около 7 часов вечера.
К этому времени почти все семейство самого Николая Павловича постепенно переместилось также в Зимний дворец. Лишь будущий Царь-Освободитель, семилетний Александр Николаевич, до полудня 14 декабря почему-то (тоже, возможно, для конспирации!) оставался в Аничковом дворце, и был тайно перевезен оттуда адъютантом Николая I А.А.Кавелиным лишь в самый разгар мятежа.
Николай Павлович, как считается, не решался выступать перед Советом без моральной поддержки Михаила Павловича, а того все не было. Членам Государственного Совета было объявлено, что ожидается прибытие великих князей Николая и Михаила. 23 убеленных сединами ветеранов (П.В.Лопухин, А.В.Куракин, Н.С.Мордвинов, А.А.Аракчеев, М.А.Милорадович, И.В.Васильчиков, А.Н.Голицын, Е.Ф.Канкрин, М.М.Сперанский и т. д.) терпеливо ждали несколько часов.
Наконец в полночь Николай решился выступить, так и не дождавшись младшего брата. Первыми его словами были: «Я выполняю волю брата моего Константина Павловича». Затем Николай зачитал перед Советом свой Манифест: теперь он становился императором. Закончил он свое выступление прочтением упомянутого и цитированного нами письма Константина Павловича к П.В.Лопухину от 3 декабря — Николай бросил тем самым прямой упрек в лица членов Государственного Совета.
Завершилось это около часа ночи уже понедельника 14 декабря. На этот раз адмирал Мордвинов оказался первым, поздравившим нового императора с восшествием на престол. Понятно, что присутствовавшие (и Милорадович тоже!) тут же принесли новую присягу!
Теперь Николай располагал всей полнотой власти, и мог сам заботиться об отражении грозящего выступления заговорщиков.
В циркулярной повестке, разосланной для сбора Гвардейским Генеральным штабом начальникам гвардии — от командиров полков и выше, вызванные приглашались «Его императорским высочеством государем великим князем Николаем Павловичем» — до последнего момента теперь уже Николай I старался использовать фактор внезапности!
Утром при одевании императора присутствовал Бенкендорф, который с этого момента усиленно принялся делать карьеру. Ему Николай патетически заявил: «Сегодня вечером, может быть, нас обоих более не будет на свете; но по крайней мере мы умрем исполнив наш долг». Затем в 7 часов утра Воинов доложил о сборе гвардейского начальства.
Зачитав Манифест и приложенне акты, Николай спросил гвардейцев, имеются ли какие-нибудь сомнения или претензии? Услышав заверения в отсутствии таковых, Николай заявил: «После этого вы отвечаете мне головой за спокойствие столицы; а что до меня, если буду императором хоть на один час, то покажу что был того достоин»! Немедленно присутствовавшие были приведены к присяге в малой церкви Зимнего дворца, а затем разъехались по местам службы.
В ночь на 14 декабря приступили к действиям и заговорщики. Доклад рассказывает об этом так: «Они уже знали наверное, что следующий день (14 декабря) назначен для обнародования Манифеста о восшествии вашего императорского величества на прародительский престол. О том, что Сенат собирается в 7 часов утра для присяги, известил их обер-прокурор Краснокутский, член Южного общества, который вечером 13-го числа приезжал к князю Трубецкому и оттуда, не застав его, к Рылееву. Показывают (Корнилович и Рылеев), что объявив свою новость, он прибавил: «Делайте, что хотите», но Краснокутский не сознается в этом, а говорит только, что слышал вокруг себя: «Завтра присяга сигнал»» — очень любопытно!
Краснокутский на следствии показывал, что якобы «отгадал намерения тайного общества на 14 декабря, хотел было донести об оных правительству и раздумал единственно затем, что считал исполнение невозможным».
Из показаний Н.А.Бестужева известно, что о времени присяги Сената сообщил и Батенков, видевший Сперанского уже после заседания Государственного Совета.
Вопреки велениям минуты, выигрышный «план Милорадовича-Кирпичникова» был свернут, а вместо него фактически началась демонстрация с нечетко сформулированными целями, о чем знало только руководящее ядро заговорщиков: эмиссары, непосредстенно посланные в казармы, имели теперь инструкции просто вести возмущенных солдат на Сенатскую площадь. Никто еще, однако, не мог предположить, что демонстрация эта будет протекать столь трагически.
Мы рассказали о заговоре практически все существенное, известное из многочисленных публикаций, добавляя, правда, кое-какие собственные соображения. Теперь попытаемся, прежде чем рассказывать о заключительных актах драмы, подвести итоги, последовав совету совсем не глупого провокатора И.В.Шервуда, написавшего, напомним, о странном поведении Аракчеева: «есть над чем задуматься».
Странностей, на наш взгляд, накопилось более чем достаточно!
12. Анатомия заговора
Итак, попробуем задуматься о происшедшем…
Начнем с двух наблюдений.
Первое: по-видимому, Милорадович был масоном, хотя его имя ни разу не упоминается в списках членов российских масонских лож, исчисляемых в первую четверть XIX века чуть ни пятью тысячами человек. Мы подозреваем, что пресловутые масонские списки самими же масонами и составляются — чтобы ни в чем уже невозможно было разобраться!..
Второе: из этого первого почти ничего практически не следует.
Обсуждая последний тезис, мы неизбежно вступаем в противоречие с популярной точкой зрения о пагубности влияния масонов на судьбу России.
Слов нет: масонская среда, широко распространенная в России как в 1801–1825 гг., так и в 1907–1918 гг. (не случайны параллели, отмеченные нами и выше), вскормила немало идей, принесших России заметный вред, и воспитала немало деятелей, готовых и способных проводить эти идеи в жизнь.
Тем не менее, мы категорически отрицаем приоритет масонских взглядов и, главное, масонской этики, основанной на верности масонской клятве, над всеми остальными политическими и моральными принципами членов масонских братств. Ведь сами по себе масонские идеи (типа свободы, равенства и братства) несут крайне мало конкретной смысловой нагрузки, и в самом широчайшем виде использовались и в якобинской Франции с ее гильотинами, и в той же добропорядочной Франции между двумя мировыми войнами, где чуть ни все политические деятели были масонами — благополучно и добросовестно доведшими свою страну до поражения и позора 1940 года, вопреки и масонским идеалам, и всякому здравому смыслу! Так что масоны масонам — рознь.
Притом масоны тоже люди, а людям свойственно в своей деятельности использовать коварство и обман — причем всем людям за редчайшими исключениями, граничащами со святостью или блаженным идиотизмом. Иезуиты обманывают иезуитов, китайцы — китайцев, коммунисты — коммунистов, а полицейские — полицейских; почему же масоны должны выделяться из подобного бесконечеого ряда?
Тем не менее, из факта принадлежности к масонству обычно пытаются сделать какие-то жуткие выводы. Предоставим слово известному историку-эмигранту «первой волны», знатоку ужасающих масонских деяний В.Ф.Иванову: «Масонская присяга всегда стояла выше присяги воинской. Есть доказательства, что масонская присяга даже шла вразрез с присягой воинской. Вот несколько примеров.
Кавалергардскому офицеру П.П.Ланскому пришлось под Кульмом нагонять свой эскадрон; внезапно он увидел раненого французского офицера, которого уже собирался добить палашом русский солдат. Француз, напрягая последние усилия, высоко закинул обе руки над головой, скрещирая пальцы ладонями наружу, — это был масонский призыв на выручку. Увидев знак, Ланской остановил солдата и спас француза /…/.
При Ватерлоо один прусский офицер подал тот же знак, к нему немедленно на помощь бросился французский офицер-масон и шпагой отбил его от своих же соотечественников.
Во время франко-прусской войны немецкому масону Альберту Рихтеру предстояло быть расстрелянным французскими стрелками; он вдруг подал вышеупомянутый знак и был спасен французским масоном, который объявил, что это его брат и что он санитар».
Трудно поверить, что человек, переживший ужасы Гражданской войны, в которой, конечно, никакой из сторон не соблюдались никакие прежние нравственные заветы, все же совсем позабыл, что во всех армиях во все времена существовал писаный и неписаный закон — не убивать пленных, тем более — раненых, и что существовал и существует международный знак — поднятые руки (про ладони и пальцы ничего не оговаривается!), демонстрирующий сдачу в плен!
Разумеется, офицеры всех времен гораздо последовательней стремились к исполнению этого закона, чем солдаты, особенно — в стародавние времена, когда офицеры таскали на себе и при себе массу отнюдь не дешевых побрякушек; каждый из них при ранении рисковал стать жертвой чужих и даже своих солдат-мародеров. Иное дело, что в бою довольно трудно среагировать на внезапную сдачу сражающегося врага — особенно, если у него уже нет сил поднять руки!
Авторы типа В.Ф.Иванова просто напрашиваются на пародии такого рода: прохожий Х увидел в окне горящего дома некоего У; последний подал масонский знак; Х спас его;«ночные братья» снова помешали торжеству справедливости!
Когда историк В.Ф.Иванов берется непосредственно за историю России, то получается такое: «Осуществлению преступного заговора мешал граф Аракчеев, великий русский патриот и верный слуга Государя. В страшные годы предательства граф Алексей Андреевич Аракчеев был спасителем России, которую «освободители» тогда уже намеревались превратить в демократическую республику, сделать ее добычей инородцев и иностранцев и отдать русских православных в рабство. /…/
Враги Православия, Царя и России, масоны оклеветали графа Аракчеева как своего лютого врага, потому что Аракчеев не давал масонам потачки. Благодаря Аракчееву был выслан изменник России Сперанский. При деятельном содействии Аракчеева было ликвидировано Библейское Общество, стремившееся ниспровергнуть православную церковь. По настоянию графа Аракчеева были удалены с важных государственных постов масоны граф В.П.Кочубей, князь П.М.Волконский, Закревский и князь А.Н.Голицын.
Масоны трепетали перед «железным графом»».
Похвалим вместе с В.Ф.Ивановым графа Аракчеева за толковый проект ликвидации крепостного права, пожурим за недостаточное противостояние графа военным поселениям и поразимся (вопреки Иванову), как это «освободители» собирались отдать православных крепостных и военных поселенцев в рабство? А кем же те были и оставались до и после того, как у «освободителей» ничего не получилось?
Наш рассказ пойдет о том, как случилось, что 14 декабря 1825 года масоны Каховский и Оболенский убили масона Милорадовича, и о том, какую роль при этом сыграли верный слуга своего Государя Аракчеев и все остальные.
Итак, Милорадович предположительно был масоном. Согласно известной масонской этике гарантированно утверждать такое просто невозможно — почти всегда приходится основываться на косвенных показаниях и признаниях. Таковых в данном случае более чем достаточно.
Первое из них — приведенный выше рассказ Ермолова об эпизоде 1805 года, когда Милорадовича нагло обманул какой-то офицер-француз. Едва ли тут обошлось без пресловутой масонской символики; Ермолов, несомненно, хорошо понимал, о чем писал. Едва ли и в жизни Ермолов не сделал в какой-то форме подобное предостережение старшему товарищу.
Второе свидетельство — рассказы того же Ермолова (об этом свидетельствовал не только он) о переговорах Милорадовича и Мюрата осенью 1812 года под Москвой. Эти эпизоды лежали в общем русле других известных попыток найти мирное соглашение в той непростой ситуации, опаснейшей для обеих армий. Понятно, однако, что при выборе того, какой стороне быть разгромленной — России или Франции — все красивые принципы братства шли побоку, а если масон поступал по-другому, то это и называлось уже не масонством, а тоже по-другому. В измене же России (кроме все того же сомнительного злополучного эпизода 1805 года) пусть кто-нибудь рискнет упрекнуть Милорадовича!
И, наконец, первый эпизод, относящийся к нашей теме: знакомство Милорадовича в январе 1820 года с запиской Н.И.Тургенева о крепостном праве.
Событиям 1820–1822 гг. мы уделили достаточно внимания. Добавим только дополнительную эмоциональную окраску: великий воин, обнаружив существование молодых людей (а Милорадович был старше Николая Тургенева на 18 лет, а Никиты Муравьева — на 24), горячо болеющих за дело преобразования России и против крепостного права (Тургенев — в особенности), пришел в восторг, вспоминая собственные иллюзии молодости. Отсюда и напоминание Тургеневу о масонских знаках (со ссылкой якобы на царя и на покойную императрицу Екатерину) — Милорадович выразил таким образом свое одобрение и солидарность, а масон Тургенев подчеркнул это в своих записках.
Неудивительно, что когда через несколько месяцев над Тайным обществом нависла угроза, одновременно ставящая под удар все будущее русской армии, то поведение Милорадовича определилось и этим эмоциональным сопереживанием — и граф сделал свой решающий выбор.
Вполне возможно, что уже тогда Муравьев, Глинка и Тургенев получили обещание не только защиты, но и практического внедрения их теоретических принципов при ближайшей подходящей ситуации.
Никита Муравьев, повздыхав о крушении своих честолюбивых мечтаний, должен был смириться перед силой и волей Милорадовича и сменил свои республиканские и цареубийственные стремления на чисто теоретическую разработку конституции ограниченной монархии — для такого занятия возникла весьма реальная практическая перспектива. Теперь становится понятна и сила страсти, которую вкладывал Никита Муравьев в отстаивание своих теоретических концепций — в противовес Пестелю и любым иным радикальным оппонентам. Понятен и энтузиазм, который вкладывал Муравьев в свою работу.
Не обсуждая содержание конституции Муравьева, отметим ее качество — это был вовсе не графоманский труд! Отнюдь не бездарный Муравьев потратил на написание и редактирование почти целых четыре года. В качестве исходных материалов он использовал несколько десятков действующих конституций различных государств и всех штатов США, а также целый ряд конституционных проектов, в том числе отечественных — «Наказ» Екатерины II, проекты Н.И.Панина, М.М.Сперанского, Н.С.Мордвинова, Н.Н.Новосильцева, своих старших коллег — М.Ф.Орлова и М.А.Дмитриева-Мамонова и, разумеется, Пестеля. Около десятка единомышленников вносили замечания и правку, учтенные в последней редакции.
В 1823–1825 гг. конституция Муравьева фигурирует в качестве почти что официального документа «Северного общества».
Зачем вообще выполнялась такая работа?
Тот же вопрос естественно возник и на следствии после 14 декабря 1825. Никита письменно ответил: «Я полагал: 1-е. Распространить между всеми состояниями людей множество экземпляров моей конституции, лишь только оная будет мною окончена. 2-е. Произвесть возмущение в войске и обнародовать оную. 3-е. По мере успехов военных, во всех занятых губерниях и областях приступить к собранию избирателей, выбору Тысяцких, Судей, Местных Правлений, учреждению Областных Палат, а в случае великих успехов и Народного Веча. 4-е. Если б и тогда императорская фамилия не приняла Конституции, то как крайнее средство я предполагал изгнание оной и предложение Республиканского Правления».
В контексте прошедших событий 14 декабря ответ выглядел достаточно правдоподобным: плану не откажешь в разумности, а его практическая реализация сорвалась неудачей при исполнении пункта 2. Следствие, не желавшее копать в этом направлении более подробно, вполне удовлетворилось. Почему-то по сей день и историки предпочли не заметить, что Муравьев безбожно врал.
В сентябре 1825 года (если не много раньше) он имел основания считать свой труд законченным, хотя совершенствовать текст, как известно, можно до бесконечности. Его поведение (к его анализу мы еще вернемся) по отношению к проекту Конституции в это время выглядит как поведение вполне удовлетворенного и сделавшего свое дело человека. Нисколько его не обеспокоили и события, происходившие с конца ноября и завершившиеся попыткой его коллег осуществить пункт 2 разработанного им плана.
А ведь поводов для беспокойства было более чем достаточно: как же осуществлять пункт 2, если не выполнен пункт 1? А ведь не известно ни малейших попыток даже постановки вопроса о том, чтобы размножить текст муравьевской конституции! Этого просто не собирались делать ни Муравьев, ни его коллеги. Следовательно, их всех вполне удовлетворял проект конституции всего в нескольких экземплярах.
Следствию достался только один, оказавшийся в бумагах С.П.Трубецкого; это, скорее всего, черновой экземпляр одного из первоначальных вариантов проекта. Идя навстречу пожеланиям следователей, Муравьев, сидя в камере, восстановил по памяти и заново написал еще один экземпляр. Его содержание вполне согласуется с еще одним черновиком, ранее хранившимся у А.А.Пущина и извлеченного последним из едва не забытого тайника у П.А.Вяземского только в 1857 году. Эти три экземпляра оказались и в распоряжении историков.
Сколько-то (сколько?) экземпляров было уничтожено или спрятано (а позже не обнаружено) держателями после 14 декабря — на следствии говорилось еще о двух, возможно — трех экземплярах; Муравьев, в частности, заявил, что сжег свой собственный. Даже если бы экземпляров было раз в десять больше, это все равно не годилось для массовой пропаганды, о которой показывал Муравьев!
И вот при таких обстоятельствах Муравьев осенью 1825 года не испытывал ни малейшего беспокойства за сохранность своего труда — дела всей своей жизни. Да ведь даже не честолюбивый политический деятель, а самый жалкий графоман так себя вести не будет!
Следовательно, конституция Муравьева предназначалась совсем для иных целей, а беловые экземпляры (один или несколько), не дошедшие ни до следствия, ни до историков, хранились где-то в таких условиях, что по крайней мере до 14 декабря Муравьеву действительно не нужно было опасаться за их судьбу.
Для чего вообще может существовать единственный экземпляр проекта конституции? На этот вопрос есть естественный ответ: для подписи, после которой он перестает быть проектом и становится настоящей конституцией!
В истории России был случай, когда это едва ни произошло — при воцарении Анны Иоанновны (об этом эпизоде упоминается в нашем Введении в цитате из П.Б.Струве): царица вместо подписи разорвала лист обязательств по введению конституции, поднесенный вельможами. Похоже, новая попытка предстояла России в 1825 году, но тоже не получилась.
Показания Рылеева, приведенные выше, о том, что введение муравьевской конституции предполагалось в результате восстания 14 декабря, если и соответствует их намерениям, то не подтверждается никакими практическими планами на этот день и, тем более, никакими действиями заговорщиков — за исключением все тех же пресловутых криков: «Конституция»! Во всяком случае, в их руках не было ни одного экземпляра Конституции, подходящего для торжественной подписи — и это их нисколько не смущало! Даже проект манифеста об изменении образа правления Штейнгель принялся сочинять второпях в последний момент — и это после почти десятилетия существования заговора!
Понятно, что заранее Никита Муравьев и его единомышленники расчитывали на совершенно иной практический сюжет: конституция предназначалась для высокого начальства, способного довести теоретические изыскания до практического применения! Не исключено, что это в конце концов понял и Пестель, в 1824 году настойчиво пытавшийся продвинуть конкурирующий вариант.
В 1817–1820 гг. Александр I пресек участие дворянства в обсуждении судеб России: проекты его ближайших сподвижников были засунуты под сукно, а отношение ко вновь возникавшим было таково, что истребило малейший энтузиазм в данном направлении.
В 1820–1822 гг. страхи Александра пред возникшей, казалось бы, активизацией заговорщиков были столь велики, что потребовали титанических усилий Милорадовича, чтобы затушить скандал, успокоить императора и спасти ядро заговора.
В 1822–1824 гг. сохранялась пауза, официально сопровождаемая полным запретом на заговорщицкую деятельность. Долго так продолжаться не могло.
Спасенные от репрессий заговорщики тоже были людьми. Большинство отходило от политической деятельности, убедившись в ее бесперспективности — и это было весьма понятно. Лишь ничтожное меньшинство во главе с Никитой Муравьевым довольствовалось собственными теоретическими разработками и безропотно ждало обещанных изменений к лучшему — ниже мы покажем, как к их возможному наступлению отнесся сам Муравьев!
Немногие деятели третьей категории (Пестель, Рылеев, Сергей Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин и т. д.) продолжали гореть энтузиазмом, вербовали новых сторонников и поддерживали постоянную угрозу разоблачения и провала, хотя в 1821–1822 гг. Милорадович, Киселев и Ермолов сделали все возможное, чтобы их унять.
На распутьи, как легко понять, оказался и сам Милорадович.
Напомним, что то была эпоха крепостного рабства. Одни магнаты держали у себя целые фабрики и заводы с крепостными администраторами, инженерами и рабочими, другие — собственные театры с крепостными режиссерами, драматургами и актерами, а вот Милорадович по собственной воле и под давлением обстоятельств оказался как бы владельцем целого частного политического заговора!
Владел он им, понятно, не на правах частной собственности, и большинство заговорщиков не подозревало даже о наличии такой зависимости, но власть его была фактически не меньшей, чем у других рабовладельцев над своей крещеной собственностью! Во всяком случае, он всегда мог засадить заговорщиков в кутузку, хотя бы за нарушение положения от 1 августа 1822 года. Сходство усиливается и характером юридической ответственности: если по закону крепостные никак не отвечали за действия своего владельца, то последний полностью обязывался перед властями за их законопослушное поведение! Вот и Милорадович более, чем кто-либо другой, нес ответственность перед Александром I и за себя, и за подопечных! Так же, примерно, распоряжался и Киселев «Южным обществом».
Власть их была огромной, но не безграничной: ведь и крепостные, недовольные своим владельцем, всегда готовы были воткнуть топоры в помещичьи черепа. Это не красные слова: именно так завершилась жизнь отца нашего великого художника слова Ф.М.Достоевского, что не мешало позже самому Достоевскому восторгаться богоносной святостью русских мужиков! Примеров таких расправ в эпоху, предшествующую 1861 году, превеликое множество!
Обращение с таким хлопотным хозяйством требовало не меньшей осторожности, чем ныне необходима коллекционеру, скажем, живых ядовитых змей! Но главное было не в этом.
Если в 1820–1822 гг. Милорадовичу приходилось не рассуждать, а решительно действовать по обстоятельствам (на что он был весьма горазд!), а затем некоторое время дело шло (или стояло) как бы по инерции, то потом, начиная с 1824 года, ситуация снова изменилась.
С одной стороны, возобновились заботы, создаваемые самыми неуемными из заговорщиков. Если Вадковский даже в 1826 году старался поразить следователей своей готовностью к революционному кровопролитию, то можно представить, как нелегко было в 1824 году втихую и незаметно зажать ему рот и выставить его в провинцию! События первой половины 1825 года (появление Якубовича, продолжение пустозвонства Сергея Муравьева-Апостола и остальных) предрекали только развитие подобных хлопот.
С другой стороны, шло время, и должна была меняться позиция и самого Милорадовича.
Давал ли Милорадович в 1820–1821 гг. какие-либо обещения Федору Глинке, Никите Муравьеву и Николаю Тургеневу (последнему — вполне четко намекал еще в январе 1820 года!), но и так было ясно, что определенные обязательства перед заговорщиками у него были — об этом свидетельствуют все эпизоды его негласной опеки.
Но у него были обязательства и перед самим собой: ведь ради чего-то он втравился в 1820 году в сложнейшую эпопею защиты заговорщиков! Только ли оберегая себя от катастрофического скандала ради сохранения за собой места генерал-губернатора?
Даже если в тот момент это было действительно так, то пост генерал-губернатора он успешно сохранил. Но далее время шло, его жизнь неумолимо приближалась к старости, смерти и неизбежному отчету перед Всевышним, в которого верят и масоны. Чего же добился Милорадович после 1822 года для себя, для России, для сумасбродных заговорщиков, взятых под опеку, для великих идеалов, наконец?!
Да ровным счетом ничего: страна по-прежнему находилась в распоряжении императора, продолжавшего забавляться маршировкой солдат и истреблением истинного воинского духа, усиливались экономические бедствия, не было активной внешней политики, а главное — не было надежд на изменения к лучшему!
Хуже того: судя по наблюдениям и расчетам император заготовил себе преемника, способного многие десятилетия продолжать его дело, точнее — безделье; так, согласимся, действительно произошло в реальности! И со всем этим было нужно смириться Милорадовичу, который сам был старше Александра I на шесть лет!
У Милорадовича не было детей, а его возможные продолжатели дела (от Киселева до Никиты Муравьева) не управились бы сами с решением своих задач в условиях продолжения дальнейшего правления Александра I и Николая I — так должен был он считать, и эти опасения тоже воплотились в полной мере!
Нужно было на что-то решаться!
Но на что же можно было решиться, если Александр I всем своим поведением и всеми своими страхами полностью исключал возможность договориться, а сам Милорадович, взяв на себя в 1821 году обязательство за прекращение оппозиционной деятельности, пресек возможность последующего пересмотра этой позиции — ведь невозможно было сознаваться в ее заведомой лживости!
Вадковский, настроенный Пестелем на цареубийство, представлял, несомненно, для Милорадовича вполне определенный соблазн! История эта, ничем не завершившись, вновь сменилась периодом ожидания и выжидания.
До какой степени раздражала Милорадовича и его истинных партнеров вся маразматическая ситуация, в какую прочно засела Россия, свидетельствует беспрецедентная решительность и жестокость, с какой они действовали, начиная с мая 1825 года!
Обстоятельства пока позволяли размышлять и не торопиться.
Милорадович вовсе не был волком-одиночкой; он был военным профессионалом и, хотя никогда не избегал личной ответственности, знал пользу и в коллективных обсуждениях планов.
Масонская среда, в определенной степени гарантирующая сохранение секретности, и собственное служебное положение обеспечивали его советниками высочайшей квалификации. Милорадович мог обсуждать с различной степени откровенности положение России и ее перспективы и с деятелями калибра Сперанского, и с Рылеевым и Никитой Муравьевым (если бы захотел и если действительно хотел), и со многими другими. Никакие беседы такого рода не освобождали его от ответственности и необходимости принимать решение самому — да он от ответственности и не уклонялся (до самых злополучных последних дней своей жизни!).
События декабря 1825 года показали, что заговорщики-декабристы — абсолютно бесполезная публика для осуществления государственного переворота: способность к многолетним практически бесцельным разговорам выдает совершенно иной их жизненный менталитет. Они были как бы обозом в заговоре Милорадовича, но обозом отнюдь не бесполезным в принципе.
Известен анекдот из жизни Наполеона — величайшего в истории военного и политика, превзойти которого и даже приблизиться к которому Милорадовичу так и не удалось. Во время Египетского похода, когда французы попали в окружение в пустыне, Наполеон, занимая круговую оборону, отдал знаменитую команду: «Ослов и ученых в середину!» — тем самым он постарался сохранить жизненно важное транспортное средство (ослов) и самое ценное из остального — мозги ученых, сопровождавших экспедицию.
Вот и Милорадович, взяв своих «ослов» под защиту еще в 1820 году, обзавелся в итоге и муравьевской конституцией, и некоторыми очень небесполезными соображениями, приложимыми на практике. 14 декабря 1825 года Милорадовичу предстояло окончательно убедиться, насколько полезными могут быть его подопечные…
Что же касается причастности к заговору М.М.Сперанского, Н.С.Мордвинова, А.П.Ермолова, П.Д.Киселева и М.С.Воронцова, то об этом сохранилось множество слухов. Напомним, кто и как их распускал.
Утром 14 декабря Корнилович, будто бы, предложил Сперанскому вступить в состав Временного правления. «С ума сошли, — всплеснул руками Сперанский, — разве делают такие предложения преждевременно? Одержите сначала верх, тогда все будут на вашей стороне!» Он был, несомненно, прав: таким и должен был быть ответ любого политика, не замешанного непосредственно в подготовку переворота.
А чем, спрашивается, могли быть полезны практически Сперанский и такие, как он, еще при жизни Александра I и в междуцарствие? Только теоретическими разработками, с которыми, как мы знаем, успешно справлялись Никита Муравьев и его коллеги — притом без риска, что сведения об этом широко разойдутся. Зато если Сперанский действительно входил в ядро заговора, то, согласитесь, предложение Корниловича должно было его весьма позабавить!
Уже в ночь на 15 декабря о причастности к заговору Сперанского заявил арестованный С.П.Трубецкой на первом же допросе.
23 декабря 1825 года начала работу Следственная комиссия, и в тот же день на одном из первых допросов двадцатидвухлетний подпоручик А.Н.Андреев показал: «Надежда общества была основана на пособии Совета и Сената, и мне называли членов первого — господ Мордвинова и Сперанского, готовых воспользоваться случаем, буде мы оный изыщем. Господин же Рылеев уверял меня, что сии государственные члены извещены о нашем обществе и намерении и оное одобряют». Позднее Рылеев на очной ставке добился изменений показаний Андреева, которые приняли затем следующий вид: «За несколько дней до 14 декабря сообщил мне товарищ мой лейб-гвардии Измайловского полка поручик [на самом деле — подпоручик Н.П.]Кожевников о тайном обществе, которого цель, говорил он, стремиться к пользе отечества. /…/ оно подкрепляется членами Госсовета, Сената и многими военными генералами. Из членов сих названы были только трое: Мордвинов, Сперанский и граф Воронцов, на которых более надеялись, о прочих он не упомянул. Завлеченный его словами и названием сих членов, я думал, что люди сии, известные всем своим патриотизмом, опытностью, отличными чувствами, нравственностью и дарованиями, не могут стремиться ни к чему гибельному, и дал слово ему участвовать в сем предприятии».
В таком же ракурсе 24 декабря имя Сперанского фигурировало в показаниях самого Рылеева, на следующий день — Каховского, ссылавшегося также на Рылеева. 26 декабря С.П.Трубецкой подтвердил, что сам надеялся на Мордвинова и Сперанского. Подполковник М.Ф.Митьков также показал, что «неоднократно слышал, что общество считало на подпору г-на Мордвинова и Сперанского».
30 декабря в протоколах отмечено: «Допрашиваем был лейб-гвардии Гренадерского полка поручик Сутгоф, который между прочим, показал, будто Каховский сказал ему, что Батенков связывает общество с Сперанским и что генерал Ермолов знает об обществе».
2, 3 и 4 января 1826 года Батенков, Краснокутский и Корнилович расспрашивались о Сперанском. Батенков отвечал: «чтобы я связывал общество с Сперанским и чтоб оно было с ним чрез меня в сношении — сие есть такая клевета, к которой нет ни малейшего повода и придумать я не могу… С г. Сперанским, как с начальником моим и благодетелем, я никогда не осмелился рассуждать ни о чем, выходящим из круга служебных и семейных дел» — и припомнил, как утром 13 декабря присутствовал при том, что Сперанский объявил своей дочери Лизе о предстоящем вступлении на престол Николая, выдав последнему следующую оценку: «это человек необыкновенный. По первому приему он обещает нового Петра» — раньше Сперанскому не случалось близко сталкиваться с этим гвардейским генералом!
Краснокутский и Корнилович подтвердили факт встречи со Сперанским вечером 13 декабря, причем их беседа происходила в присутствии других свидетелей в приемной сановника, в том числе — его дочери и зятя. Кроме того, Краснокутский провел время восстания со Сперанским в Зимнем дворце, издали наблюдая происходящее на Сенатской площади; это также было при посторонних и не сопровождалось никакими противозаконными беседами и тем более поступками.
Гласным дискуссиям положило конец заявление Рылеева 4 января: «Признаюсь, я думал, что Сперанский не откажется занять место во временном правительстве. Это я основывал на его любви к отечеству и на словах Батенкова, который мне однажды сказал: «Во временное правительство надо назначить людей известных». И когда я ему на это сказал, что мы думаем назначить Мордвинова и Сперанского, то он сказал: «Хорошо»» — звучит вполне по-библейски! Таким образом, слухи о причастности названных сановников вроде бы замкнуто циркулировали только внутри коллектива участников выступления 14 декабря.
Следствие, однако, на этом не остановилось, но Николай I распорядился выделить вопросы, относящиеся к замешанности высших государствнных чинов, в особое секретное делопроизводство. Его вел тот же чиновник, что и общее делопроизводство Следственной комиссии — А.Д.Боровков. В своих мемуарах этот последний отмечал, что все, относящееся к деятельности членов Государственного Совета Мордвинова и Сперанского, сенаторов Д.И.Баранова (об отношении которого к заговору нам ничего не известно), И.М.Муравьева-Апостола (отца братьев-декабристов) и А.А.Столыпина (зятя Мордвинова), а также генерала П.Д.Киселева, «было произведено с такою тайною, что даже чиновники Комитета не знали; я сам собственноручно писал производство и хранил у себя отдельно, не вводя в общее дело» — но более подробно он ничего не сообщил, а все материалы этого секретного дела исчезли!
Сохранились лишь слухи о том, что весной 1826 года Николай I всерьез задумался о возможности и необходимости привлечения к суду Сперанского (пересказаны, например, в мемуарах известного публициста, политического авантюриста и эмигранта 1860-х годов князя П.В.Долгорукова, бывшего в 1825 году еще в детском возрасте).
Были ли первоисточником сведений о причастности высших сановников только лишь Рылеев с ближайшими соратниками, пытавшиеся в последний момент перед восстанием повысить собственное реноме ради завлечения новых кадров — остается неясным.
Фактом была крайняя подозрительность, которую демонстрировал Николай I по отношению к Сперанскому, Мордвинову, Ермолову, Киселеву и генералам Воинову и Бистрому, хотя последние двое совершенно не упоминаются в показаниях декабристов как возможные соучастники. По отношению к Сперанскому и особенно Киселеву, позже ставшему одним из ближайших соратников царя, его недоверие с лета 1826 года сменилось на милость; карьеры же остальных более или менее круто закатились.
По возрасту старшим из них был Мордвинов — в 1825 ему уже исполнился 71 год. До 1828 года он тщетно пытался склонить Николая I к курсу на реформы. Старика не обижали — в 1834 году (к восьмидесятилетию) даже наградили за выдающиеся прежние заслуги графским титулом, но игнорировали; он умер в 1845 году, ничего не добившись за всю свою долгую жизнь.
Если слухи, распускаемые Рылеевым, базировались не только на его собственных домыслах (основанных на вполне известной репутации крупнейших политических деятелей), но и на сведениях, поступающих от понятного источника через Ф.Н.Глинку, то они являются весьма осторожными, приблизительными и намеренно неточными — как практически всякая информация о деятельности масонов, исходящая от них самих.
На самом деле в заговоре состояли деятели, сыгравшие в событиях 1825 года заведомо большие роли, чем указанные лица.
Это нетрудно вычислить и показать на основании анализа фактов, уже изложенных нами выше: когда дело действительно дошло до принятия решений и их осуществления, то неизбежные необходимые поступки полностью обнажили исполнителей!
Раздумья Милорадовича на тему что делать могли продолжаться еще долго, но этому пришел конец в апреле-мае 1825 года: заговор оказался под угрозой неотвратимого провала. Сигналом об этом стал упоминавшийся донос графа И.О.Витта.
Исход тяжких раздумий оказался вполне естествененным: если заговору угрожает опасность, то его руководители должны немедленно приступить к реализации своих замыслов — это незыблемый закон, отличающий настоящих заговорщиков от зудящих себе под нос оппозиционеров!
Угроза разоблачения подстегнула и цареубийц 1762 и 1801 гг., и Милорадовича.
А вот упомянутый заговор Тухачевского и Ягоды по этому совершенно точному критерию был заведомой «липой», что бы ни приписывал им Сталин и его подголоски — вплоть до сегодняшних. Если бы Тухачевский и прочие действительно были заговорщиками, а не только любителями оппозиционных бесед под выпивку, то они мгновенно среагировали бы на первый же арест любого участника заговора и первую же необоснованную попытку смещения кого-либо из них с ответственных постов!
Аресту же Тухачевского предшествовало не меньше двух лет последовательного наступления на его сторонников: число арестованных командиров высокого уровня исчислялось многими десятками, и даже прямые подельники Тухачевского по судебной расправе В.К.Путна и В.М.Примаков сидели уже с осени 1936 года и давали какие-то показания. Сам Тухачевский был снят с поста замнаркома обороны только 11 мая 1937 года и направлен командовать округом в Куйбышев, где его и арестовали 26 мая. Во второй половине мая были арестованы и остальные участники процесса: И.П.Уборевич, И.Э.Якир, А.И.Корк, Р.П.Эйдеман, Б.М.Фельдман — почти все они предварительно были смещены с занимаемых постов; только Я.Б.Гамарник застрелился, не дожидаясь ареста.
Трубунал был составлен из их боевых соратников во главе с В.К.Блюхером. На однодневном процессе 11 июня 1937 их осудили и на следующий день расстреляли. Все это без возражений проглотила Красная Армия! Вот потом-то в расстрельные подвалы проследовали уже тысячи командиров — в том числе почти все судьи над Тухачевским!
Не был исключением и так называемый Дальневосточный заговор, возглавляемый якобы Гамарником и штабом Блюхера, о размахе которого сохранились легенды; к тому же он в принципе не мог иметь реальных перспектив как сугубо региональное предприятие — типа «Южного общества» декабристов.
Сталин долго и осторожно входил в роль лиса в курятнике, а вот курицы, как известно, — не птицы!..
Среди Тухачевского и его друзей не было особых военных талантов. Это были довольно интеллигентные молодые люди — русские, латыши, а также евреи, получившие право быть офицерами после февраля 1917: прапорщики, подпоручики и поручики Первой мировой войны, не успевшие или не сумевшие выдвинуться в рамках старой армии и вступившие в коммунистическую партию как правило в 1917 году — своего рода декабристы ХХ века. Их карьеры обеспечились некоторым исходным военным образованием, смелостью, решительностью и максимальной лояльностью к принявшей их партии, вовсе не имевшей более крупных военных специалистов в собственных рядах. В хаосе Гражданской войны они победили, имея и противниками, и собственными командирами и наставниками прежних царских генералов и полковников, разведенных судьбой по разные стороны фронта. Затем в 1921–1924 гг. последовали карательные расправы над плохо вооруженным и неорганизованным населением, запоздало восставшим против коммунистического режима. Они потребовали минимального военного искусства и максимальной жестокости, и закрепили кровавых мальчиков на командных высотах.
Демобилизация гигантской армии тем более оттеснила старых военспецов в учебные заведения, на гражданскую службу и прямо сразу в тюрьмы и лагеря. Многие из выдвиженцев двадцатых годов усиленно учились и все они достаточно долго командовали частями и соединениями хотя бы в мирное время — это тоже немалая школа. Но лояльность со временем ценилась все больше, а смелость и решительность плохо гармонировали с сытым размеренным бытом, каким их обеспечили посреди изголодавшегося народа; в итоге среди заевшихся «декабристов» не оказалось почти никого, способного постоять хотя бы за себя самого.
Зато сталинские соратники, сменившие их, вовсе не имели ни образования, ни опыта — и лихо отправили в братские могилы сначала тысячи несчастных подчиненных в малых войнах 1938–1940 гг., а затем и миллионы в 1941–1945.
Что же касается оппозиционной болтовни, то ее до 1936 года хватало: только после репрессий 1936–1939 гг. и последовавшей (в смысле времени, а не логического исхода!) победы 1945 года Сталину удалось представить свои ужасающие экономические провалы двадцатых-тридцатых годов выдающимися достижениями — во что верят и по сегодняшний день!..
Вот и настоящие декабристы, попав в безвыходное положение 12–13 декабря 1825 года, думали отнюдь не о победе, достичь которой при таких настроениях было заведомо невозможно!..
Рассмотрим теперь еще раз обстоятельства, сопутствовавшие доносу Витта.
Обращался ли Витт со сделанным им открытием непосредственно к П.Д.Киселеву — это в точности неизвестно, как об этом и предупреждал в своем отчете А.К.Бошняк. Точно известно, что Витт письменно обратился к барону И.И.Дибичу, сопровождавшему тогда царя в поездке в Варшаву. Следовательно, Витт должен был получить и ответ — по-другому быть не могло! В результате этого ответа Витт перестал интересоваться делами заговорщиков вплоть до августа 1825. Что же это мог быть за ответ?
Деятеля, подобного Витту, Дибич не мог послать куда подальше; нельзя было и запугивать его — черт знает, как прореагирует этот бывалый головорез! Ответ не мог содержать и прямого возражения предупреждениям, высказанным Виттом: мало ли, что Дибичу или кому-нибудь другому подобные опасения покажутся не заслуживающими внимания: заговор — дело серьезное, и в подобных ситуациях всегда необходимо проявлять бдительность! Поэтому ответ должен был быть одновременно доброжелательным, успокаивающим и неопределенным: дескать, спасибо, сами знаем и бдим.
Как профессионал-разведчик Витт только в таком случае и должен был временно успокоиться: если Дибич, Киселев или кто-нибудь другой из начальства уже ведут игру с заговорщиками, то всякое дополнительное вмешательство недопустимо. Мало ли кто является тайным агентом правительства — может быть даже В.Л.Давыдов или В.Н.Лихарев, хорошо известные Витту и Бошняку! Ведь если сам Витт не первый год присматривался к заговору, то и никому другому из начальства это не было противопоказанно!
Если Витт действительно обращался к Киселеву, то от того тоже получил такое же заверение — никакого иного и быть не могло! Тут даже Дибичу и Киселеву не нужно было заранее договариваться — ведь они были профессионалами!
Факт тот, что Дибич, получив предупреждение Витта, принял меры не к разоблачению заговора (хотя бы одобрив действия Витта или запросив дополнительную информацию), а к пресечению расследования, начатому Виттом! Отсюда единственный возможный вывод — Дибич был участником заговора! Сделав этот вывод, мы легко получим последующие.
Что еще должен был сделать Дибич, если был заговорщиком? Разумеется, выяснить, к кому еще могло попасть донесение Витта.
Если Витт все-таки обращался к Киселеву, а Киселев был заговорщиком (последнее имело место без вариантов — с учетом рассказанного эпизода после ареста В.Ф.Раевского и предупреждения Киселева Давыдову и Лихареву об опасности Витта и Бошняка), то теперь неважно, кто кого предупредил первым: Киселев Дибича, или Дибич Киселева, или их предупреждения взаимно столкнулись, или они проследовали через некоторую третью инстанцию (предположительно, Милорадовича) — это уже все равно. В итоге ведь и Дибич, и Киселев оказались предупреждены, а последний предупредил и дураков Давыдова и Лихарева — в этом положении все замерло до августа.
Было ли такое решение проблемы окончательным для заговорщиков? Ни в коем случае — это был только выигрыш времени: Витт был успокоен отнюдь не навсегда. Ведь как профессионал он не должен был выпустить ситуацию вовсе из поля зрения, а как карьерист имел более чем достаточно оснований вернуться к ней позже — так именно и произошло! Следовательно, в мае 1825 года перед руководством заговора должен был встать вопрос: что делать дальше с Виттом и что делать теперь с царем? Вторая часть вопроса, разумеется, была гораздо важнее!
Что и кто думал тогда делать с Виттом — это так и осталось неизвестным. Но вот с Якубовичем произошли тогда же очень интересные вещи: его не отправили вслед за Вадковским или еще куда-нибудь подальше, а только попросили не торопиться с осуществлением цареубийственного замысла. Ждать же все равно было нужно — хотя бы до возвращения царя из Варшавы.
Что сие означает? Только то, что на повестке дня действительно оказался вопрос о цареубийстве, хотя тогда еще, возможно, он не был решен окончательно и тем более доведен до технических и тактических подробностей!
Но если именно так было решено, то, с одной стороны, заговорщики должны были удвоить осторожность, а с другой — время для раздумий миновало, и впору было заняться абсолютно всеми вопросами, от которых зависела судьба предприятия.
Заметим, что можно быть монархистом, а можно таковым не быть; можно быть против конкретного царя, а можно быть за, но в любом случае более значимого преступления в самодержавной России, чем цареубийство, не было и быть не могло! Люди, которые на такое решались (если это не были трепачи типа Якушкина или Якубовича), брали на себя как бы сверхчеловеческую задачу, ставящую их самих выше всех и всяческих моральных принципов. Такие люди приобретали значительное моральное превосходство над всеми прочими (пусть это было превосходство с заведомо отрицательным знаком!), и могли решаться на поступки, совершенно немыслимые при любом ином раскладе — так действительно происходило с некоторыми террористами второй половины XIX века и позднее.
Если же за дело брался такой супермен, как Милорадович, то могли произойти и вовсе чудеса. Они и стали происходить!
Что еще должны были сделать Дибич и его сообщники, временно отделавшись от Витта? Проверить, а не получил ли еще кто-нибудь аналогичное предупреждение от последнего.
Непосредственным начальником Витта был А.А.Аракчеев. Выше упоминалось, что между ними были плохие отношения; в этом не было, как будто, секрета, а потому считается, что Витт с ним не сносился, а обращался лишь к Дибичу и, возможно, к Киселеву. Это логично, но невозможно утверждать такое гарантированно: ведь какими бы плохими отношения ни были, но лезть через голову начальства с информацией чрезвычайного значения — не есть способ эти отношения улучшить! Поэтому мы просто не знаем, доносил ли Витт также и Аракчееву.
Мы этого не знаем и имеем право не знать. А вот Дибич, Милорадович и другие заговорщики не имели такого права — тут можно было запросто потерять головы! Это для них было неважно только в одном случае: если Аракчеев также был заговорщиком. Тогда он либо не получал послания Витта, либо получил, предупредил подельников, а самому Витту также послал успокоительную реляцию. Если Аракчеев, будучи заговорщиком, ничего от Витта не получил, то нужно было его самого предупредить: ведь Витт — его непосредственный подчиненный, с данного момента крайне опасный для заговора.
Но что же делать, если Аракчеев в заговоре не состоял?
Князь А.Н.Голицын (при всем его масонстве и при зловредном руководсте Библейским Обществом!) точно в заговоре не состоял — по крайней мере вплоть до 27 ноября 1825 года, когда он чуть не провалил всю игру Милорадовича. Как было с Голициным в последующие за тем три недели — теперь уже никому не важно.
До 27 ноября это было важно чрезвычайно, ибо по должности Голицын был единственным человеком, контролировавшим всю почтовую переписку в России: по традиции, уходившей в XVIII век и вплоть до 1917 года, такой человек всегда был только один на всю страну — помимо непосредственного заведующего «черным кабинетом» на почтамте в столице. Ему последнему, своему другу детства, доверял Александр I до самой своей смерти, хотя и подвергал его нападкам и опалам в угоду сиюминутной политической конъюнктуре; в нем одном император гарантированно не ошибся!
Не имея Голицына в своих рядах, заговорщики не могли и контролировать содержание почтовой переписки. Следовательно, если Аракчеев получил что-нибудь от Витта (а он регулярно что-то должен был получать от этого непосредственного подчиненного), то о содержании послания можно было узнать только от самого Аракчеева (или от Витта, разумеется).
Ситуация, созданная Виттом, была вполне серьезной: из ее анализа был сделан вывод о целесообразности цареубийства. Рисковать при этом тем, что иметь за спиной Аракчеева, оказавшегося в курсе заговора и ему не сочувствующего, было смерти подобно! Это был как раз тот случай, когда масоны были обязаны трепетать перед «железным графом»! Терпеть такую ситуацию было не в характере Милорадовича.
Следовательно, не позже, чем в мае-июне 1825 года Аракчееву предстояло стать заговорщиком — хотел он этого или нет! Ведь без такой вербовки трудно было надеяться получить гарантированно честный ответ на вопрос: а не получал ли ты, разлюбезный и сиятельный Алексей Андреич, какого-то такого странного послания от твоего сатрапа графа Витта?
Единственный способ вербовки Аракчеева, никак объективно не заинтересованного в успехе заговорщиков, мог быть только в открытии ему тайны заговора и участия в нем непосредственных участников вербовки, после чего Аракчееву предлагалась альтернатива: вступление в заговор с обязательным соучастием или немедленная смерть. В какой обстановке это происходило и кто конкретно в этом участвовал — выяснить, разумеется, не удастся. Но сделано это было так, что деваться «железному графу» было просто некуда: противостояли ему не какие-то жалкие таинственные масоны, а сообща Милорадович вместе с Дибичем — а каждый из них и по отдельности был отлит из металла покрепче!
Но одних их личных качеств было мало: тут они должны были козырнуть своей решимостью на цареубийство — только угрозу, исходящую от таких людей, мог буквально воспринять всесильный граф: ведь что такое его жизнь для тех, кто всерьез берется играть царской головой, — и что такое их жизни для них самих!
Можно представить себе, какой шок испытал граф, мнивший до этого себя вторым лицом в державе! Теперь ему предстояла роль шестерки у истинных хозяев положения!
Разумеется, было бы нелепо рассчитывать на надежность союзника, приобретенного таким путем. Но вопрос этот можно было в любой момент перерешить, немедленно отправив графа в лучший из миров — и он это прекрасно понимал!
Люди, поднявшие знамя цареубийства, не должны были останавливаться ни перед кем и ни перед чем, как и их славные предшественники — Пален, Беннигсен и прочие!
Когда именно и почему Дибич стал участником заговора графа Милорадовича? Трудно сказать, хотя профессиональные историки, взявшись за такую задачу, смогут, вероятно, отыскать ответы, порывшись в архивах — до сих пор просто никто такими вопросами не задавался. Но, возможно, выяснить это совсем не просто: ведь Дибич вплоть до мая 1825 ни в каких противозаконных деяниях не замечается!
Дибич попал в ближайшее окружение императора совершенно случайно в январе 1821 года, когда Ермолов, к своему несчастью (или счастью — как там с бессмертной душой?), потерялся где-то на российских дорогах. Затем Дибич сменил П.М.Волконского на посту начальника штаба императора. Без его содействия (или содействия другого влиятельного лица, непосредственно неотлучно сопровождающего императора в путешествиях) Милорадович не мог бы даже надеяться на успех шагов, направленных против Александра I. В частности, при отсутствии такого заговорщика в свите, замысел бегства в Таганрог увенчался бы полным успехом царя.
Возможно, что именно завербовав Дибича, Милорадович и решился на последующие активные действия. Тогда не исключено, что произошло это незадолго до мая 1825. Можно даже сделать предположение, что именно письмо Витта спровоцировало окончательное выяснение их отношений и последующую лавинообразную серию поступков — ведь в точности не известно, когда Витт получил ответ на свое послание к Дибичу. В последнем варианте первоисточником предупреждения Милорадовича о планах Витта мог быть только Киселев.
Возможно также, что вербовка Дибича была не одноэтапным актом, как это, несомненно, должно было произойти с Аракчеевым. Начало политическому сближению могло быть положено давно, а одним из решающих этапов были совместные действия по ликвидации авантюры Вадковского в 1824 году. Но именно с послания Витта и началась настоящая заговорщицкая игра Дибича.
Когда в точности Аракчеев стал их сообщником? Теоретически — с любого момента после восстания Семеновского полка; ведь именно тогда он постарался уклониться от расследования. Очень заманчивая версия: тогда стремление к удалению Кочубея, Волконского, Закревского и Голицына становится деянием заговорщиков, стремящихся изолировать царя от верных помощников. Но это представляется гораздо менее вероятным по сравнению с естественным предположением, что вербовка произошла именно в связи с угрозой заговору, исходящей от Витта.
Во-первых, только к этому моменту Милорадович и Дибич должны были набраться духу на такой, скажем прямо, экстравагантный шаг. Сделать это было можно, только предварительно решившись на цареубийство, а на такую решимость с их стороны нет бесспорных указаний вплоть до мая 1825 — хотя в 1824 году нечто подобное, возможно, уже имело место (об этом — чуть ниже).
Во-вторых (и это уже безо всяких вариантов!), едва ли Милорадович и Дибич могли долго удерживать при себе такого подневольного сообщника, как «железный граф» — ведь и по государственному положению, и по личным качествам Аракчеев ни в коем случае не был ничтожеством!
Кстати, для удаления с постов Кочубея и прочих совсем не обязательно было иметь Аракчеева в составе заговора: вполне достаточно было исподволь влиять на него, разжигая в нем опасения и подозрения по адресу конкурентов по карьерной части — каждый из перечисленных вполне мог замахиваться на роль первого министра! В то же самое время удаление их должно было играть чрезвычайно важную роль для заговорщиков: Кочубей занимал пост министра внутренних дел и мог что-то подозревать, Волконского нужно было заменить своим человеком — Дибичем, а Закревский что-то тоже, как мы помним, усиленно интересовался дружбой Киселева с Пестелем, и, сверх того, нельзя было допустить его на место, освобожденное Волконским! Вот Голицына так и не удалось убрать с заведывания почтой, хотя попутно сломали хребет Библейскому Обществу! Но в случае с Виттом никак нельзя было ограничиться только подспудной игрой с Аракчеевым — нужно было действовать наверняка!
Вербовка завершилась все-таки не безукоризненно: Аракчеев, разумеется, перепугался до полусмерти, но он, конечно, возненавидел этих насильников и шантажистов (если раньше относился к ним лучше!) и не мог отказаться от желания отомстить!
Проблема Витта не стала камнем преткновения между ними — тут они наверняка договорились. Возможно, что-то Витт действительно сообщил Аракчееву (теперь это было уже не так важно), потому что не случайно в следующий раз Витт решил обойти все промежуточные звенья — и писал непосредственно к царю (к этому моменту мы еще вернемся).
Но у Аракчеева оказался в рукаве еще один козырь, о котором он не информировал заговорщиков — послание Шервуда! И не известно, когда оно возникло: до вербовки или после! Став неожиданным подарком судьбы, оно поставило перед Аракчеевым сложную задачу. Вот тут-то по-настоящему пришлось решать: или-или!
С учетом того, что Шервуду в принципе удалось раскрутить заговор до такого результата, после которого следовали неизбежные массовые репрессии, мы понимаем (этого мог еще не знать сам Аракчеев в июне 1825), что судьба России и жизнь Александра I снова внезапно оказались в руках «железного графа».
Сдай Аракчеев Шервуда заговорщикам — и вся политическая инициатива прочно сохранится в их руках. Этот акт закрепил бы измену «железного графа» царю и его верность заговору.
Сдай тогда же Аракчеев заговорщиков царю — и полетят головы, но неизвестно, кто победит и что будет с головой самого «железного графа». Но он сохранил бы верность царю и свою почти безупречную репутацию по отношению к нему, а главное — спас или хотя бы попытался спасти жизнь благодетелю, которому был обязан буквально всем!
Письмо Шервуда давало третью возможность: предать обе стороны, стравить их между собой, а самому со стороны посмотреть, чья же возьмет. Своя же голова, если остаться в стороне, целее будет! Так «железный граф» и поступил!
Поэтому он организовал тайное ознакомление царя с посланием Шервуда в Грузине практически без свидетелей. Затем так же тайно Шервуд был доставлен к царю в Каменноостровский дворец в Петербурге; даже для сторонних наблюдателей этот таинственный визит никак не должен был ассоциироваться с Аракчеевым!
Но последний недооценил, кого решился предать!
Знакомство со сведениями, принесенными Шервудом, как мы знаем, вынудило царя бежать в Таганрог. Оказалось, однако, что этот хитроумный ход не обманул буквально никого из тех, кто уже не первый месяц примеривался к тому, насколько прочно сидит голова царя на его плечах, и насколько прочно покоятся их собственные головы на их собственных плечах!
Даже совершенно невинное, как казалось, снятие И.С.Повало-Швейковского с должности командира полка чуть ни погнало непосредственно в Таганрог целую свору убийц из «Южного общества» — там решили, что уже началось!
Такому решению лидеры «Южного общества», скорее всего, обязаны не собственной проницательности, а предупреждению, полученному от А.С.Грибоедова. Ведь если последний действительно был заговорщиком и притом достаточно высокого уровня, тогда его странное путешествие, начавшись в мае в столице, весьма смахивает на приведение в боевую готовность руководителей всех филиалов: Киселева, Воронцова, Ермолова, а попутно и «Южное общество»; мнимые разногласия с Милорадовичем по поводу «Горя от ума» и Кати Телешевой — только дым в глаза: до пьесы ли и до танцовщицы, если речь пошла о цареубийстве!..
При таком раскладе Сергей Муравьев-Апостол и его соратники сразу поняли, для чего царь бежит в Таганрог — и решили не дожидаться своей незавидной участи. Но и на этот раз лень, нерешительность, а также, возможно, и дисциплина взяли свое. Подождав пару дней, они убедились, что ничего опасного им по-прежнему не грозит: никаких дальнейших репрессий не последовало, не поступали никакие предупреждения ни из столицы, ни от Киселева, а потом царь и вовсе заболел и умер!
Встрепенулся и Витт. У него было время предварительно подумать. Нам не известно, сколько он получил ответов на свою попытку доноса: один, два или три (от Дибича, Киселева и Аракчеева). Но ни один из них ничем наверняка ему не угрожал. Теперь же царь бежал в Таганрог — явно удаляясь с поля боя, чтобы без риска творить расправу над заговорщиками, а начальники, желающие получить за это лавры, решили обойтись без него, Витта — таким оказался нехитрый ход мыслей этого карьериста! Эту несправедливость стерпеть было невозможно — и Витт пишет письмо к царю.
Получив заинтересованный ответ, Витт сразу напускает Бошняка на конспираторов. Киселев не успевает вмешаться и оказывается на грани полного провала!
Решительнее всех среагировали Милорадович и Дибич — их прежние планы полностью оказались перечеркнуты, и единственной причиной для этого могло быть только предательство!
Что же касается планов, то на их разработку заметное влияние оказали дискуссии, в течение нескольких лет занимавшие неугомонных членов Тайного общества.
Согласно мечтам Пестеля, следовало уничтожить всех членов царствующего дома. В более либеральном варианте Никиты Муравьева, разработанном, скорее всего, в соответствии с заказом, сформулированным Милорадовичем, предполагалось договориться с правящей династией об ограничении ее власти.
Поскольку царское семейство не проявляло ни малейших признаков склонности к ограничению собственной власти, а тем более — желания быть истребленным, то для практической реализации замыслов заговорщиков следовало обеспокоиться возможностью продиктовать ему свою волю. Для этого совершенно не годились планы типа того, что якобы собирались осуществить С.И.Муравьев-Апостол и его друзья в Бобруйской крепости в 1823 году. Идеальным решением было бы собрать царское семейство под одной крышей — это был по существу единственный способ для реализации планов заговорщиков (причем любых политических оттенков, существовавших в Тайном обществе!) без риска дальнейшей кровопролитнейшей гражданской войны.
В последний раз царь со всеми братьями собирались под одной крышей в конце 1821 — начале 1822 года. Совсем не случайно Александр I решился на такой риск только при отсутствии гвардии в столице — впредь такие ситуации не возобновлялись. Царь часто путешествовал, а кроме того вся царская фамилия неизменно оставалась разбита минимум на две части, одну из которых представлял Константин Павлович, почти постоянно находившийся в Варшаве. Легко видеть, что последний не изменил этому правилу безопасности даже в декабре 1825 — похоронив, тем самым, стремление Милорадовича к захвату власти.
Декабрь 1825 показал, что план заговорщиков оказался с дыркой и выполниться не смог! Но совсем нетрудно теперь догадаться, что бы последовало, если бы Константин решил по-другому и все-таки рискнул появиться в столице!
Естественно предполагать, что приблизительно таким же был исходный план Милорадовича еще летом 1825 года: если нельзя было собрать все царское семейство под одну крышу одновременно, то следовало это осуществить последовательно. Причем логическая последовательность была достаточно очевидной (теперь — когда нам уже известна почти полная реализация этого плана, гениально разработанного Милорадовичем, или его советниками, или ими совместно!): убить Александра, вынудить Николая отречься от престола, захватить Николая и Михаила фактически в заложники, заманить Константина в Петербург якобы для вручения отнятого у него трона, а затем диктовать всему собранному семейству то, что Милорадович сочтет нужным.
Можно было, разумеется, придумать что-нибудь поумнее — нам на эту тему нет смысла фантазировать, поскольку мы слишком туманно представляем себе истинные возможности Милорадовича и его сообщников — оказавшиеся, тем не менее, значительно шире, чем до сих пор воображали историки! Но, конечно, возможности эти не могли быть столь велики, как хвастал Пестель, обещавший послать по убийце к каждому из членов царствующего дома!
Факт тот, что в условиях дефицита времени (сохранялась угроза со стороны Витта, а Аракчеева было трудно контролировать!) и при прочих реальных ограничениях, сложившихся в мае-июне 1825, этот план мог быть признан выполнимым. Царское семейство (за исключением Константина), оставаясь в Петербурге и в пригородных дворцах, давало возможность приступить к исполнению. Остается гадать, должна ли была отводиться главная роль покушению Якубовича или уже тогда планировалось что-то иное.
Согласимся, что столь громкое цареубийство, которое собирался (неизвестно — насколько серьезно) произвести Якубович, вызвало бы вполне обоснованную тревогу (какой не случилось в ноябре 1825) и затруднило бы последующее заманивание Константина в Петербург. Правда, тут весьма естественно напрашивался трюк, весьма часто использовавшийся позже и в России, и за рубежом: представить покушение делом рук фанатика-одиночки (такие тоже существуют в природе, но крайне редко!!!), не имевшего никакого отношения к политикам, действующим и на сцене, и за кулисами! Все это уже было, по-видимому, основательно продумано и рассчитано в связи с несостоявшимся покушением Вадковского в предшествующем году.
Но и в этот раз заговорщики сделать ничего не сумели: Александр, Николай и Михаил внезапно разбежались в разных направлениях, и члены царского семейства теперь разделились громадными расстояниями — весь план заговорщиков полностью развалился!
Несомненно, тогда же в августе или чуть позже произошла модернизация замысла, позволявшая реанимировать его главную идею: Дибич был снабжен ядом и минимум одним специалистом по его применению — это тайное оружие было отправлено вместе со свитой, собравшейся в Таганроге, или вслед за ее основной частью.
Скорее всего, специалистом по ядам был кто-то из медиков, составлявших немалую бригаду: врач-отравитель — не самый редкий персонаж в истории. Это не был, конечно, Я.В.Виллие: если бы тот был сознательным участником убийства, то не стал бы столь нелепо суетиться, почуяв неладное после смерти императора и вскрытия тела!
Отметим главную особенность ситуации, сложившейся в сентябре 1825: тогда заговорщики не имели возможности угрожать жизни Александра I!
Убивать его при тех обстоятельствах не было никакого смысла: ни с кем из братьев царя предварительная прямая договоренность заговорщиков достигнута не была — это неопровержимо свидетельствуется всем ходом событий ноября-декабря 1825. Смерть царя привела бы только к переходу трона к кому-нибудь из наследников — притом для заговорщиков было практически все равно, к кому именно, но главным было то, что все все они были вдали от столицы! Новый царь имел полную возможность объявить о вступлении на трон своим собственным манифестом — и помешать этому не было никаких шансов! Всякое последующее выступление заговорщиков в таких условиях становилось бы просто революцией против царской власти, а все попытки таких революций неизменно оказывались совершенно безнадежными — пока не сложились уникальные обстоятельства февраля 1917 года, описанные выше.
Следовательно, нужно было начать с восстановления основного элемента, на который рассчитывался прежний план и который сохранялся вплоть до конца августа — вернуть в столицу хотя бы Николая! Только затем можно было убивать Александра, обеспечивать отречение Николая и затем заняться заманиванием в Петербург Константина теперь уже вместе с Михаилом!
Уж как старался этого добиться Милорадович вплоть до 12 декабря!
Кстати, именно теперь мы можем объяснить аналогичными обстоятельствами срыв покушения, готовившегося Вадковским в 1824 году. Напоминаем: то ли совершенно случайно, то ли все-таки заподозрив неладное (ведь чем-то ему Вадковский стал именно в тот момент известен!) Николай Павлович скрылся тогда с женой за границу. Это сразу сделало покушение на Александра I таким же бесцельным, как и в сентябре 1825 года!
Вадковского же, сорвавшего свои нервы на подготовке террористического акта и частично засветившегося, руководители заговора скрыли с глаз долой.
Если именно это соображение, заведомо верное само по себе, действительно сыграло решающую роль, а не что-либо иное, то это означает, что уже весной 1824 года вопросы подготовки террористического акта были попросту отняты у Пестеля, а его самого тоже выпроводили из столицы, чтобы не болтался под ногами — отсюда и психологический надлом у этого пламенного революционера!
Нарушил ли Николай Павлович, вернувшись в Петербург в октябре 1825 года, инструкции, полученные от Александра I?
Это представляется очень вероятным: ведь торчал же в Варшаве самым добросовестным образом вплоть до самой смерти императора Михаил Павлович, тоже оставивший в столице и семью (пусть меньшую, чем у Николая), и свою гвардейскую дивизию, которой также командовал!
Тогда величайшей тайной 1825 года было и остается, кто и как заманивал в сентябре-октябре Николая в Петербург, и как последний оправдывал свое поведение в переписке с Александром. Сомнительно, можно ли получить ответы на эти вопросы: уж очень целенаправленно и добросовестно уничтожал Николай I все компрометирующие документы! Так, скорее всего, и останется неизвестным, каким образом он фактически санкционировал убийство старшего из братьев.
Если это был хоть в какой-то степени сознательный шаг, то он здорово упрощает объяснение поведения самого Николая Павловича в течение критической шестидневки 22–27 ноября 1825 года.
Остаются также интереснейшими вопросы: а не совершил ли Милорадович величайшую ошибку своей жизни, попытавшись лишить Николая трона вместо союза с ним и естественного последующего шантажа?! И в какой степени Милорадович оказался человеком, сначала коварно затянувшим Николая в братоубийство, а затем 25–27 ноября нагло предавшим своего сообщника?
Так или иначе, но похоже, что недоверие Александра I к своим братьям оказалось в конечном итоге не таким уж необоснованным!
Возвращение Николая в столицу развязало заговорщикам руки.
Еще до этого они, не теряя времени, должны были усиленно искать предателя: ведь смерть императора еще не должна была стать заключительным актом заговора. А заговор с предателем в составе — тот же корабль с дырой в днище!
Они понимали, что что-то перевернуло ситуацию в июле, когда Александр I внезапно собрался в Таганрог. Что именно — этого заговорщики не знали; это не секрет сегодня, а тогда знали вроде бы только трое — сам Александр I, Аракчеев и Шервуд. Но найти ответ Милорадович и Дибич постарались со всей ответственностью.
Разумеется, на ковер были вызваны Рылеев с Никитой Муравьевым: им предстояло отвечать, кто и как мог проговориться о замыслах Якубовича — ведь ничего другого в рамках «Северного общества» не затевалось, что могло бы так напугать императора. В какой форме это происходило — неизвестно. Декабристам, очевидно, удалось рассеять подозрения, но теперь пришла очередь насмерть перепугаться уже Никите Муравьеву!
Он понял, что миссия Якубовича рассматривается как реальная и необходимая (хотя это было уже не так), и сделал свои выводы — отсюда и отпуск, в который он удрал сам и увлек ближайшего родственника Захара Чернышева (вот своего младшего брата почему-то оставил в Петербурге!), и методическое уничтожение всех компрометирующих бумаг во всех местах их нахождения, а главное — поездка в Москву.
В последней он обзавелся десятком свидетелей, которые могли подтвердить, что он, Никита Муравьев, заранее горячо осуждал террористический акт, который собирался совершить злодей Якубович, а потому не несет за него даже моральной ответственности! Ту же роль играли его аналогичные послания — к С.П.Трубецкому и другим. По счастью для заговорщиков, панические действия Никиты особого вреда не принесли — и то, как считать: ведь оказался же он в результате в Тагине, а в конечном итоге — в лапах Шервуда!
Вот ведь судьба труса! А ведь каким смелым мальчиком был в 1812 году!
Тяжелее пришлось «железному графу»: Милорадович с ним в бирюльки не играл!
Мы знаем, как был поставлен учет приездов и отъездов в столице и кто его контролировал. В то же время понятно, что контроль Милорадовича распространялся исключительно на людей, вполне легально проезжавших через столичные заставы. Нелегальная же контрабандная переброска одного единственного человека через любую тщательно охраняемую границу никогда не была особо трудной задачей, если за дело брались профессионально подготовленные организации.
Военные поселения Аракчеева (вместе с его же тайной полицией!) были организацией вполне серьезной. Разумеется, Аракчеев мог и провезти Шервуда где-нибудь под днищем своей кареты, а мог и выдать ему вполне солидные бумаги, затушевавшие цель приезда в столицу и прихода во дворец. Как-то это было осуществлено, и смысл визита Шервуда или, возможно, даже сам факт визита Милорадович все-таки упустил — иначе у этого бравого юнкера не было бы ни малейших шансов дожить до декабря: ведь это и царю не удалось!
Но если визит Шервуда в столицу заговорщики прозевали, то никак не могла остаться вне их поля зрения десятидневная поездка царя в Грузино: именно после нее (ведь разница в семь-десять дней, возможно ушедших на раздумье Александра I, в такой ситуации не существенна!) и возникла неожиданная идея бегства в Таганрог!
Вызван на ковер был поэтому, несомненно, и «железный граф» — и понял, что пропал! Не сдав заговорщикам Шервуда вовремя, он не мог этого сделать и теперь — предательство было бы налицо. Оставалось отговариваться незнанием — и тут презумпция невиновности срабатывала: ведь ничего криминального заговорщики предъявить Аракчееву пока не могли, но только пока!
Милорадович продемонстрировал, что будет землю рыть, а дорыться до истины не было проблемы: ведь еще один свидетель предательства все-таки существовал!
Настасья Минкина была многолетней сожительницей «железного графа». Сохранялась ли между ними любовь — неизвестно (Аракчеев, во всяком случае, безбожно ей изменял, хотя и не был завзятым ловеласом), но взаимопонимание и доверие было между ними как у старых, годами испытанных супружеских пар. Хорошо была знакома Настасья и царю, многократно в одиночестве приезжавшему в Грузино и любившему вести себя там по-домашнему. Едва ли Минкина была их равноправным третьим собеседником, но тема разговоров, заведомо потрясшая царя и многократно обсужденная им со своим ближайшим другом в течение целого десятка дней, не могла остаться для нее секретом. А уж редкое имя Шервуда наверняка оказалось у нее на слуху — вот вам и свидетель!
До Шервуда, где-то и как-то копавшего под Вадковского, напрямую добраться пока что было нелегко, но Грузино-то было здесь, под боком. Любой эмиссар, посланный туда Милорадовичем (а это была территория его генерал-губернаторства!), мог опередить Аракчеева, встретиться и поговорить с Минкиной и неизбежно вывести «железного графа» на чистую воду! Ринуться же туда Аракчееву самому или послать Минкиной исчерпывающие инструкции с риском попадания их в чужие руки было в тот момент просто невозможно. Ведь теперь-то с Аракчеева глаз не спускали, и нельзя было демонстрировать даже тревогу!
И «железный граф» нашел зверское решение, дающее ему алиби не только на прошлое, но и на будущее.
Аракчеев оставался в столице, а Минкина была в Грузине, и организовать ее убийство было не просто, но и не очень сложно. Наверняка Аракчеев, несмотря на установленную теперь за ним слежку, продолжил помимо государственной службы свои обычные частные заботы, какими вечно занимался, никогда не забывая о собственной выгоде и просто из любви к хозяйственному управлению. При этом он должен был общаться с соответствующими людьми, не представлявшими никакого интереса для заговорщиков. Среди них вполне можно было выбрать человека не очень близкого, но достаточно знакомого (что-нибудь типа подрядчика или поставщика, имевшего дело и с Грузиным, и со столичным хозяйством Аракчеева), которого можно было послать с деликатнейшей миссией нанять кого-нибудь из грузинской дворни, чтобы убить Минкину.
С одной стороны — ослушаться графа было смерти подобно в буквальном смысле: найдет повод и запорет насмерть или как-то по-другому изведет (так ведь и получилось!), а российские порядки препятствуют этому только формально — кто из судейских сошек рискнет поспорить с самим Аракчеевым?!
С другой стороны, граф, знаменитый своей скупостью, в этот раз наверняка расщедрился.
С третьей стороны, граф наверняка пообещал, что все будет шито-крыто, и Сибирь злодеям не светит.
С четвертой стороны, какое же это злодейство — избавить мужика (хоть и графа!) от постылой бабы; ситуация всем понятна! К тому же и баба такая, что никому ничего объяснять не нужно — все Грузино от нее не один десяток лет стонет! Вишь, теперь и графа достала!
Гонца с такой миссией можно было посылать совершенно смело: никаких писем он не вез, никакими политическими сведениями не обладал, о планируемом убийстве никто ему допросов делать не собирался, а рискнуть проговориться по своей воле о таком странном и страшном деле — в этой ситуации было крайне маловероятно, да и доказательств преступной просьбы графа нет никаких!
И Минкину ничто не могло спасти.
Александр I, обложенный врагами со всех сторон, совершенно естественно заподозрил политическую подоплеку грузинского убийства. Его искренний совет найти внешнее вмешательство позволил Аракчееву решить самую сложную часть задачи — уничтожить гонца, посланного им самим, и всех связанных с ним лиц, если таковые имелись.
Найти повара, непосредственно виновного, не составляло труда — скорее всего, граф сам выбрал его для убийства. Но вот поймать приезжего человека (не грузинского жителя!) и включить в число истязаемых жертв оказалось возможным только в Новгороде, через который пролегала дорога из столицы в Грузино. Если там этого гонца в принципе не должно было быть, то он сразу же должен был явиться на зов Аракчеева — для окончательного расчета. И расчет оказался щедрей обещанного!
Никакое разоблачение «железному графу» теперь больше не угрожало: даже если гонец выжил, то никто не поверит, если он в чем-то будет обвинять графа — ведь у всех жертв дознания появился на него зуб, а долго ли сочинить любую нелепую клевету! И все покрыто царским словом!..
Имитируя невменяемость, Аракчеев позволил себе проигнорировать и новое послание Шервуда чрезвычайной важности: о нем не был проинформирован ни царь в Таганроге, ни Дибич там же, ни Милорадович в Петербурге, куда Аракчеев все-таки счел необходимым явиться к концу междуцарствия. При этом Аракчеев, посвященный в замыслы заговорщиков, совершенно явно сделал ставку на цареубийство — ведь после этого даже живой Шервуд оказывался совсем единственным, а потому безопасным свидетелем всех предательских шагов «железного графа»: даже доказать, что Шервуд посылал письма, точнее — удостоверить содержание этих писем, прочитанных и уничтоженных Аракчеевым, Шервуд уже не мог. Не случайно последний позволил себе пооткровенничать в мемуарах о предательской сущности Аракчеева только после смерти «железного графа»!
Это не повод усомниться в истинности обвинений Шервуда. Хотя последний — не образец честности (об этом — ниже), но в данном случае никакого корыстного смысла выдумать подобные обвинения у Шервуда не было, а придумывать такое без повода — довольно странно.
Таким образом, убийство Александра I в Таганроге стало и актом уничтожения свидетеля аракчеевского предательства, угрожавшего возмездием «железному графу» — причем возмездием и со стороны заговорщиков, и со стороны сторонников и наследников убиенного императора!
Чисто выкрутиться «железному графу» не удалось: карьеру себе он все-таки сломал. У многих его страшная комедия вызвала обоснованные подозрения — не только у Шервуда. А один из недоброжелателей — Николай I — нашел свой способ рассчитаться с Аракчеевым, хотя и не смог и, возможно, не захотел разоблачать его — у самого было рыльце в пушку!
Дело, конечно, вкуса, но трудно найти в истории России более гнусную личность, чем предавший всех «железный граф». Каким бы несправедливым нападкам он ни подвергался, справедливых более чем достаточно! Он сам это прекрасно понимал.
Умер он не очень старым по нынешним меркам: в 1834 голу ему шел лишь шестьдесят пятый год. Кизеветтер так рассказывает о заключительном периоде его жизни: «Врач, присутствовавший при последних часах его жизни, сообщает, что Аракчеев высказал во время предсмертной болезни самый малодушный страх перед смертью и с безграничной тоской и ужасом цеплялся за жизнь. Но и жизнь для него полна страхов. /…/ Аракчеев вечно дрожал за свою безопасность, редко спал две ночи сряду в одной кровати, обед принимал только приготовленный особенно доверенными людьми, и домашний доктор должен был предварительно сам отведывать всякое кушанье. /…/ В последние годы жизни был с ним такой случай. Он сидел дома, в своем грузинском имении. Ему доложили, что вдали по дороге показались быстро скачущие тройки. Он страшно побледнел, схватил заветную шкатулку, кинулся в экипаж, всегда стоявший наготове, и понесся во весь дух. Он скакал без передышки весь день, переночевал у какого-то помещика, перепугав его своим внезапным появлением, и на утро продолжал столь же поспешное бегство. Прилетев в Новгород, он пристал к дому вице-губернатора. И что же оказалось? Мимо грузинского дома просто-напросто ехали с праздника местные священники, которым попались резвые лошадки».
Рвение Милорадовича в поиске источника утечки информации было заторможено сначала неожиданными событиями в Грузине, а затем демаршем графа Витта.
Едва ли письмо Витта в августе в Петербург полностью осталось незамеченным заговорщиками, но прочитать ни его, ни царский ответ они не сумели, а что еще они могли тогда предпринять? Казалось, Киселев и так был начеку, и в сентябре он должен был бы зафиксировать активность Витта и Бошняка. Но подвела лопоухость его подопечных Давыдова и Лихарева. В результате инициативе Витта помешать никто не успел, и он явился с новостями в Таганрог. Это был славный подарочек заговорщикам!
Наверняка Дибичу стоило немалых усилий встретить его ласково и сыграть свою роль так, чтобы у Витта не возникло намерения разоблачить его недоносительство перед царем. Не вызвало поведение Дибича и страха у Витта за собственную жизнь, а очень напрасно! Это были какие-то весьма непростые сцены, вообразить подробности которых нам нелегко!
Зато и удар бумерангом оказался весомым!
Немедленно убить Витта было невозможно по нескольким причинам. Во-первых, нельзя было возбуждать подозрений Александра I, смертный час которого, в свою очередь, еще не наступил: Дибичу необходимо было дожидаться вести о возвращении Николая Павловича в Петербург. Во-вторых, если уж убивать Витта, то нелепо оставлять в живых Бошняка. Вот к решению этой последней двойной задачи и было приступлено.
Все подобные рассуждения не застрахованы от обвинений в притянутости и спекулятивной тенденциозности, поскольку практически нет ни достоверного заключения о причинах смерти Александра I, ни, тем более, диагнозов заболеваний Витта и Бошняка. Разумеется, теоретически это могли быть естественные инфекционные заболевания, причем не обязательно одни и те же — ведь и исходы их были различны! Но почему тогда никто иной не заболел подобными же болезнями, кроме этих троих людей, продолжение жизни которых столь явно угрожало заговору?
Разумеется, могли болеть и даже умирать и слуги — никто их тогда за людей не считал! Но общая тревожная обстановка предсмертной болезни императора в Таганроге, продолжавшаяся более двух недель, наверняка заставила бы обратить внимание на подобные факты, если бы они имели место — ведь сам Александр отчетливо боялся именно отравления и был настороже! Вероятно и Бошняк, человек внимательный и осторожный, зафиксировал бы подобные болезни в окружении Витта или в своем собственном — если бы они имели место!
Так что остается предполагать либо соучастие в заговоре самого Господа Бога (надеемся на Его снисходительное отношение к высказыванию подобной гипотезы!), либо злую волю вполне определенных заинтересованных лиц.
На месте Дибича нельзя было пускать это дело на самотек или надеяться на Киселева и его подопечных — те и так сумели наломать дров!
Проще всего было снабдить отъезжавшего Витта спутником, последовавшим по служебным делам, а уже попутно занявшимся непосредственно здоровьем Витта и Бошняка. Было бы вполне разумно, если таким как бы случайным спутником оказался именно врач, который затем по «гуманным мотивам» задержался бы для лечения внезапно заболевшего Витта. Начальную порцию «лекарства» Витт получил явно раньше, чем Бошняк — вероятно еще по дороге!
На такое дело не жалко было отрядить единственного или главного специалиста по отравлениям, имевшегося у Дибича (интересно, удастся ли когда-нибудь вычислить имя этого человека и его личные мотивы?), а уж с оставшейся частью работы предстояло справляться самому Дибичу.
Течение болезней всех троих заставляет заподозрить неоднократное применение яда. Факт, что Бошняк, выехавший еще как бы здоровым от уже выздоравливавшего Витта (болезнь которого позднее снова усилилась!) и болевший затем один в своем имении (посещения Давыдова и Лихарева не в счет!), единственный из троих имел только один пик болезни, после которого медленно пошел на поправку.
Это было, по-видимому, обоснованным решением: скоропостижная смерть вызывает больше подозрений, увеличивает риск успешного расследования преступных действий и становится основанием для последующих волнений и тревог и роста бдительности. Тут же все получилось шито-крыто — хоть сразу приступай к следующим отравлениям!
После смерти Александра I тяжело болевшие и случайно выжившие Витт и Бошняк были оставлены в покое: во-первых, потому, что теперь уже не представляли столь важную опасность для заговора, и, во-вторых, потому, что дальнейшее пребывание возле них человека, занимавшегося подсыпанием яда, создавало дополнительный риск, совершенно неоправданный в тревожной обстановке, сложившейся в конце ноября. Отсутствие же смертельного исхода в этих двух случаях тем более завершило полное сокрытие сложных преступных действий. Гибель Милорадовича и вовсе положила конец всем преступным акциям заговорщиков.
К отравлению Александра I было, по-видимому, приступлено сразу, как только до его свиты дошла весть о возвращении великого князя Николая Павловича в столицу — это случилось во время крымского вояжа. Три недели продолжалось зверское упорное убийство, сопровождаемое физическими страданиями жертвы!
Cлабым звеном в руководстве заговора все-таки оказался в 1825 году Павел Дмитриевич Киселев. Сначала он в мае и в сентябре не сумел вызвать достаточно серьезное отношение к провокаторской роли Витта и Бошняка у умственных инвалидов Давыдова и Лихарева, а в начале ноября, получив от Дибича или Милорадовича (или от обоих) сведения о новейшей сложившейся диспозиции, вызвал буквально катастрофическую и ничем не оправданную панику у своих подопечных.
Особой беды не было в том, что запаниковавший Пестель закопал в землю свои ценные рукописи. Хуже было другое.
Давыдову и Лихареву Киселев не мог не надрать уши, но явно перестарался. К соучастию в убийстве таких олухов, конечно, никто привлекать не стал; едва ли им объяснили и смысл болезни, в которую погрузились Витт и Бошняк. В результате им оставалось только трястись от ужаса, ожидая, выживут ли Витт и Бошняк или нет. Никто их, конечно, не посвятил и в то, что жизнь императора на исходе, и ему наверняка не позволят расправляться с заговорщиками. И вот вся эта туча паники и страха обрушилась на спокойно живущих себе остальных заговорщиков, собравшихся, как и положено, 24 ноября на очередное празднование именин матушки Давыдова в Каменке!
Ничего удивительного в том, что уже в ближайшую ночь Майборода накатал свой донос и уже на следующий день представил к генералу Роту!
Это чистейшей воды издержки неграмотного руководства заговором! Впрочем, и сам Милорадович 12–14 декабря оказался не на высоте, а ведь паника в обозе — страшное дело!..
Доносы, скопившиеся у Дибича, ставили его в сложное положение.
Разумеется, он и не собирался арестовывать Вадковского, о чем распорядился еще живой император. Вместо этого проще было увеличить усилия по отправке последнего на тот свет, хотя дело, очевидно, застопорилось подозрениями, сложившимися у Александра и его супруги, к которым они сумели привлечь внимание и Виллие, и П.М.Волконского. Подсыпать отраву стало сложнее — это, по-видимому, уже неоправданно с точки зрения заговорщиков затянуло агонию; даже Милорадовичу в Петербурге пришлось очень здорово покрутиться!
Так или иначе, элементарный расчет времени показывает, что если бы Дибич действительно принял меры к аресту Вадковского, то последний был бы арестован уже до 1 декабря, а не двумя неделями позже. Вместо этого 1 декабря Дибич дополнительно получил уже донос Майбороды.
Дибич вполне грамотно разобрался с Виттом и Бошняком, а донос Шервуда ждал своего часа.
Неизвестно, упоминалось ли в тексте, присланном в Таганрог, о предшествующей попытке Шервуда связаться с Аракчеевым, но это интересное дело в любом варианте требовало колоссального внимания руководителей заговора, на которое в сложившейся сложнейшей политической ситуации не было практических сил. Но и Шервуд, и упомянутые им заговорщики вполне могли ждать — не велики птицы! Единственное, что сразу должен был сделать Дибич — предупредить Милорадовича.
Очевидно, так и было сделано в каком-то из тех посланий, отправленных из Таганрога фельдъегерской почтой еще до 19 ноября, которых не прочитал никто, кроме Милорадовича.
Последний, в свою очередь, должен был практически озаботиться этой ситуацией по мере того, как шло время. Отсюда почти наверняка возникла идея командировки П.Н.Свистунова и Н.А.Васильчикова, в которую их должны были отправить по инициативе Милорадовича заведомо до 12 декабря. Но молодцы-кавалергарды не спешили уезжать — по собственному разгильдяйству и отсутствию личной заинтересованности в поездке, поставив затем Милорадовича в достаточно затруднительное положение, благодаря которому нам и удалось до конца вычислить его роль.
Теперь же донос, поступивший фактически от генерал-лейтенанта Л.О.Рота, игнорировать было никак нельзя. Дибич тянул, сколько мог, но не позднее 2–3 декабря до Таганрога дошли вести, что Константин на трон не вступил и продолжает отсиживаться в Варшаве — ситуация явно зашаталась и грозила полным провалом. Пришлось страховаться и придавать делу законный ход: при дальнейшей желательной перемене власти положение всегда можно было исправить. Отсюда и письмо Дибича в Петербург с копией в Варшаву, и посылка А.И.Чернышева в Тульчин для ареста Пестеля (которому уже после ареста позволили хотя и недолго, но свободно обменяться сведениями с С.Г.Волконским), и явно запоздалая отправка полковника С.С.Николаева для ареста Вадковского — все эти задержки почти правдоподобно объяснялись естественными треволнениями и запущенностью дел, ведшихся самим покойным императором.
В свою очередь и Милорадович уже должен был ждать от Дибича официальных сведений об угрозе заговору (кроме, разумеется, неожиданных сведений о доносе Майбороды, впервые ошарашивших Милорадовича именно 12 декабря), потому что только таким образом он мог двинуть в бой декабристов — по самой своей природе ни на какие активные действия не способных, хотя большинство из них и было военными! Это была еще одна причина для затягивания междуцарствия Милорадовичем уже на финише, когда намерения Константина вполне четко прояснились.
Положение Милорадовича накануне 14 декабря было сложнейшим.
Константин, вопреки ожиданиям, не прибежал за короной, которую ему услужливо подсовывал Милорадович, и собрать всех братьев в Петербурге, где вся власть принадлежала Милорадовичу, не удалось. Заговор с целью изменения государственного строя, таким образом, сорвался, и конституции Никиты Муравьева суждено было остаться без применения.
Похоже, что это произвело на Милорадовича величайшее впечатление: крушение кампании, спланированной им самим или с его решающим участием и так блестяще начатой, выбило его из колеи. Вероятно, должна была наступить и депрессия после титанических усилий, затраченных в последние месяцы и недели: ведь описанный заговор характерен невероятной последовательностью неожиданных ситуаций, сменявших одна другую!
Поэтому решительности, чтобы возглавить восстание 14 декабря, у Милорадовича уже не доставало. К тому же нужно понимать, что даже выигрышный «план Милорадовича-Кирпичникова» все-таки не давал гарантии окончательного успеха: в 1917 году заключительный акт, закрепивший победу Кирпичникова, обеспечили генералы с М.В.Алексеевым во главе, фактически арестовав царя и вынудив его отречься от престола. В 1825 году не было аналогичных сил, которые могли заставить отступиться от интересов династии отсутствующего в столице Константина Павловича, хотя, если надежды на его честолюбие не оправдались, то, может быть, могли оправдаться надежды на трусость — кто знает?.. Ведь ходили же о нем мнения, высказанные в числе прочих и княгиней Д.Х.Ливен: «Одно качество приписывали ему все единодушно — трусость, и были правы; и этому его свойству мы обязаны тем, что не имели его своим повелителем».
Проверить, что бы делал Константин в Варшаве, столкнувшись с утратой самодержавной власти его родственниками, практически не удалось: Милорадович, уцепившись за провал «миссии Ростовцева», значительно, но не безнадежно снизившей шансы на успех восстания, решил по существу отказаться от последнего. Возможно, все было бы совсем по-другому, если бы в Петербурге находился Дибич: ведь изумительно скоординированные их совместные действия и обеспечивали баснословный успех, прерванный лишь неожиданным отказом Константина от трона. Оказавшись после 3 декабря в одиночестве и в условиях, не предусмотренных прежними планами, Милорадович утратил безошибочность поступков.
С учетом же того, что и Дибич после 14 декабря 1825 года полностью отступился от заговорщицкой программы, следует считать, что удивительные достижения заговорщиков 1825 года обеспечивались исключительно совместными усилиями этого уникального дуэта, в котором невероятная ловкость, расчетливость и смелость командира-практика Милорадовича (черногорца, предки которого переместились в Россию после очередной резни в начале XVIII века) сочеталась с волей и холодным расчетом немецкого генштабиста Дибича, способного к тому же на элементарное жесточайшее убийство. Вынужденная их разлука, начавшись с первых чисел сентября, подкосила практическую силу заговора, хотя Милорадович, несомненно, имел в запасе идеи, увы, так и не осуществленные вследствие его гибели!..
Не силой, а слабостью Милорадовича накануне 14 декабря и в этот самый день было то, что он имел в качестве помощничков великих революционеров, именами которых до сих пор называются улицы в России, а памятники и мемориальные доски украшают чуть ни все города!
Они ему уже помогли с Ростовцевым, и это было еще не все, на что они оказались способны!..
Все, что теперь оставалось Милорадовичу — попытаться обеспечить сохранение возможностей для последующих попыток переворота. Для этой цели, прежде всего, следовало сохранить любой ценой в своих руках ту власть, которой Милорадович обладал и при покойном Александре I. Поэтому Милорадовичу никак нельзя было теперь запятнать себя соучаствием в выступлении декабристов — и пришлось полностью отдать дело восстания в руки бездарных руководителей Тайного общества.
Выступление же декабристов стало совершенно необходимым актом: в условиях начавшегося разгрома заговора оно, повторяем, обеспечивало виновным моральное алиби, сводя их преступные намерения, питаемые годами, к пресловутой жажде справедливости, вылившейся в конечном итоге якобы в защиту интересов Константина Павловича как законного государя. Оправдывало это и предшествующие угрозы Милорадовича, предупреждавшего о приверженности гвардии якобы к Константину…
Вот и пришлось двинуть в бой собственных обозников! Результаты должны были получиться соответствующими, а получились много худшими!..
Чем больший успех имело бы восстание, тем больше шансов было бы затем выступить Милорадовичу с какой-либо посреднической миссией, включая как будто готовившееся воцарение или вступление в регентство императрицы Марии Федоровны — а это фактически и стало бы снова собственным захватом власти, какую бы роль ни пришлось формально исполнять Милорадовичу — ведь честолюбие у него было не на первом месте!
Здесь требовались не только величайшая изворотливость, но и вера в успех и в собственную правоту, а вот последних-то, похоже, Милорадовичу и не хватило. И удача, сопутствовавшая ему почти всю жизнь, отвернулась от своего любимца.
К тому же Милорадович явно недооценил тех негативных чувств к нему лично, которые стали реакцией лидеров обеих сторон, столкнувшихся 14 декабря, на его жесткое руководство в предшествующие дни!..
13. Восстание декабристов
Около 8 часов утра 14 декабря началась присяга новому императору Николаю I в главнейших учреждениях империи — Синоде, Сенате, департаментах и министерствах, а гвардейские командиры, самолично присягнув в дворцовой церкви, разъехались по полкам и батальонам для приведения к присяге подчиненных.
В течение трех часов предполагалось полностью завершить эту процедуру: «От двора повелено было всем, имеющим право на приезд, собраться во дворец к 11 часам» — сообщил в cвоих записках Николай I и продолжил: «Вскоре засим прибыл ко мне граф Милорадович с новыми уверениями совершенного спокойствия. Засим был я у Матушки, где его снова видал, и воротился к себе. Приехал генерал [А.Ф.]Орлов, командовавший конной гвардией, с известием, что полк принял присягу; поговорив с ним довольно долго, я его отпустил». Александра Федоровна в дневнике слегка уточняет воспоминания мужа: «Мы пробыли у матушки некоторое время. Она была растрогана и с волнением ожидала известия о том, как прошла у солдат присяга; тут пришел Милорадович и радостно сообщил, что Орлов только что принес ему весть о том, как он сам читал и разъяснял манифест, причем кирасиры ответили ему: Обыи молодцыи [т. е. и Константин, и Николай]! и громко кричали «ура!». Это очень порадовало императрицу»; выделенные слова — в оригинале по-русски (остальное, понятно, по-французски).
Но вот стали появляться тревожные вести. Николай вспоминал: «Вскоре за ним [т. е. Орловым] явился ко мне командовавший гвардейской артиллерией генерал-майор [И.А.]Сухозанет, с известием, что /…/ в гвардейской конной артиллерии офицеры оказали сомнение в справедливости присяги, желая сперьва слышать удостоверение сего от Михаила Павловича, которого щитали удаленным из Петербурга, как будто из несогласия его на мое вступление. /…/ Но почти в сие же время прибыл наконец Михаил Павлович, которого я просил сейчас отправиться в артиллерию для приведения заблудших в порядок».
Слух, распущенный заговорщиками о том, что Михаил Павлович арестован Николаем и содержится в цепях, произвел сильнейшее впечатление, но оказался в итоге на пользу противоположной стороне, ибо Михаил, как раз только что доехав до столицы, возник как черт из табакерки. Его усилиями было прекращено возмущение в артиллерии, что сыграло немалую роль.
Но вскоре затем пришла весть о возмущении в Московском полку — ее принес в Зимний дворец начальник штаба гвардейского корпуса генерал-майор А.И.Нейдгард (в оригинале все реплики и диалоги начальствующих лиц в день 14 декабря, естественно, по-французски): «Ваше величество! Московский полк в полном восстании; Шеншин и Фредерикс тяжело ранены, и мятежники идут к Сенату; я едва их обогнал, чтобы донести вам об этом. Прикажите пожалуйста, двинуться против них первому батальону Преображенского полка и конной гвардии»!
Возмущение в Московском полку произвели Александр и Михаил Бестужевы, Щепин-Ростовский, В.Ф.Волков и А.А.Броке — все штабс-капитаны, кроме последнего — поручика Броке. Первый их них служил адъютантом герцога А.-Ф.Вюртембергского, а потому был мало знаком солдатам столичного гарнизона. Щеголяя в адъютантской форме (нет адъютанта без аксельбанта — как справедливо констатировал Козьма Прутков!), он выдавал себя за адъютанта Константина Павловича, присланного специально, чтобы предотвратить якобы незаконную новую присягу. Каждый из остальных был ротным командиром Московского полка и давил на солдат, наоборот, своим известным авторитетом; Волков и Броке никогда к заговору не принадлежали, но сами были увлечены обманной агитацией. В сочетании со сверхрешительностью Щепина-Ростовского все это и создало эффект, не получившийся в большинстве других полков.
Щепин-Ростовский рубил саблей всех, оказывавших сопротивление. Он тяжело ранил упоминавшихся командира бригады генерал-майора В.Н.Шеншина и командира полка генерал-майора барона П.А.Фредерикса, а также полковника П.К.Хвощинского (бывшего члена «Союза благоденствия»), одного унтер-офицера и еще одного гренадера, не желавшего отдавать знамя.
К возмутителям примкнуло порядка двух рот (примерно 670 человек); как и 27 февраля 1917 многие солдаты предпочитали попрятаться. Это предопределило существенную особенность последующих событий: более опытные и старшие по возрасту солдаты (служба продолжалась, напомним, 20 лет!) уклонились от участия в мятеже!
До Михаила Павловича также дошла тревожная весть, и он, усмирив конную артиллерию (близ тогдашней восточной окраины города), помчался к казармам Московского полка (на тогдашней южной окраине): все же за годы, прошедшие со времен бунта семеновцев, молодые великие князья кое-чему научились!
Михаил Павлович застал на месте почти четыре роты Московского полка — значительная часть из них отсутствовала при прошедшем мятеже, не успев вернуться с дежурств на городских караулах. Они были построены, но якобы не подчинялись командам. Тут же будто бы в растерянности прогуливались прибывшие генералы Воинов и Бистром: ясно, что ничего предпринимать они просто не собирались!
Из Зимнего дворца к мятежникам Воинова послал сам Николай: «Я строго припомнил ему, что место его не здесь, а там, где войска, ему вверенные, вышли из повиновения» — это оказалось вполне определенной репетицией того, что чуть позднее Николай I проделал с Милорадовичем. Но Воинову не суждено было в этот день встретиться с собственными Каховским и Оболенским!
Солдаты, поверившие в арест и заточение Михаила Павловича, встретили его криками ура! Великий князь подтвердил отказ от престола Константина Павловича, призвал солдат к порядку, присягнул вместе с ними (сам он, как мы помним, приносил присягу впервые в жизни) и повел оставшихся московцев (большую часть полка!) на помощь к брату-царю.
Последний, тем временем, вызвал на помощь Саперный батальон и 1-й батальон Преображенского полка, за которые их командиры категорически поручились (вопреки прогнозу Константина Павловича, высказанному Евгению Вюртембергскому!). Приведен был в готовность и внутренний дворцовый караул, где дежурили в данный момент подразделения Финляндского полка.
Было послано и за конной гвардией, причем неоднократно. Казармы конногвардейцев были в двух шагах от строившегося Исаакиевского собора, но путь туда из Зимнего дворца шел через Сенатскую площадь, уже занятую мятежными московцами. Их импровизированные командиры сначала развернули часть солдат в цепь, ограждая площадь, а затем построили правильное каре для круговой обороны.
Неизвестно, как доехал верхом один из гонцов к конногвардейцам — рейткнехт Лондырев, но другой — флигель-адъютант полковник В.А.Перовский — лихо проскочил в санях сквозь строй мятежников, хотя у Исаакиевского собора чернь забросала его камнями. Однако привести в боевую готовность конногвардейцев не удавалось: корнет князь А.И.Одоевский, опоздавший к присяге после ночного дежурства во дворце, теперь бегал по конюшням, объявляя, что тревога ложная.
Наконец, из дворца был отправлен туда верхом генерал А.Ф.Орлов, командовавший бригадой, в которую входил конногвардейский полк, и, как сообщалось, руководивший там принятием присяги этим утром. Он также добирался не без приключений: публика и восставшие солдаты приветствовали его издевательскими криками.
Последние похождения Милорадовича мы изложим, опираясь на различные источники, в том числе на воспоминания еще одного его адъютанта — тогда подпоручика А.П.Башуцкого, сына петербургского коменданта генерала П.Я.Башуцкого; в этот день А.П.Башуцкий не расставался с Милорадовичем почти ни на минуту. Рассказ Башуцкого существует в двух вариантах, друг друга дополняющих.
Один был написан им самим и использовался М.А.Корфом при работе над книгой. Николай I, ознакомившись с рукописью, был крайне недоволен — ниже мы это проиллюстрируем. Корф затем произвольным образом скомпилировал текст, отредактировав воспоминания Башуцкого (больше неоткуда было взять определенные подробности!), и использовал другие источники, явно противоречащие данному.
Другой вариант был кем-то записан со слов А.П.Башуцкого и впервые опубликован в 1861 году — уже после смерти императора Николая I, но еще при жизни бывшего адъютанта Милорадовича; в этом тексте Башуцкий упоминается в третьем лице.
Итак, Милорадович заботливо навестил императрицу Марию Федоровну, а затем покинул Зимний дворец еще до появления первых тревожных вестей — и отправился позавтракать. Несомненно, он хотел самостоятельно располагать собой при получении известий, которых ожидал. Ниже станет ясно, как неудачно он распорядился этой свободой.
Башуцкий сообщает, где он оказался: «граф Милорадович был на завтраке у танцовщицы Телешевой, которую он любил платонически и этой платонической привязанности трудно поверить, ежели кто не знавал характера его, исполненного странностей» — отчетливый намек на нестандартную сексуальную ориентацию графа!
Далее: «Во время завтрака он узнает, что Московский полк отказался присягать императору Николаю; он скачет на Сенатскую площадь и начинает увещевать бунтовщиков, которые его отталкивают и даже один из них взял его за воротник. После этого граф спешит к императору, которого застает на Дворцовой площади окруженного народом» — последний, в ожидании подходящих подкреплений, вышел на площадь, был окружен любопытствующей публикой и, обнаружив, что никто ничего толком не знает и не понимает, стал читать собравшимся собственный манифест.
Заметим, что эпизод первого столкновения Милорадовича с восставшими попросту отсутствует и в мемуарах декабристов, и в хрониках Корфа и прочих царских историков, и в описаниях советских авторов! Таинственный маневр явно не втиснулся ни в одну из канонизированных версий. Что касается декабристов, то не известно, кто из них присутствовал при этом начальном эпизоде (еще не все участники собрались на площади), но кто-то все же должен был быть!
Не был ли этот эпизод вообще выдумкой Башуцкого, как пытался внушить Николай I про некоторые другие его свидетельства?
Но в пользу правдивости описанного эпизода свидетельствует простейшее соображение.
Едва ли петербургский генерал-губернатор путешествовал по своему городу пешком. Вот и на Сенатскую площадь он, согласно тексту Башуцкого, прискакал. Опять же, едва ли это было верхом: что за удовольствие в подобном способе перемещения по зимнему городу, если речь идет об обычной обстановке, а не о параде или военных действиях! Да и Милорадович был все же не так юн для подобных удовольствий! К тому же он был не один: его сопровождал адъютант — а это уже вылилось бы в целую кавалькаду!
На чем бы они ни скакали до того, но вот после Сенатской площади оба оказались пешими, как однозначно следует из нижеприведенных текстов!
Значит, их попросту вытряхнули из повозки, в которой они перемещались — вот и весь диалог, происшедший на Сенатской площади! Очень удобно это было сделать, именно схватив за воротник!
Не исключено, что присутствовавшие лидеры восстания этого просто не заметили: мало ли кого мутузят их лихие орлы где-то на перефирии площади! Может быть, кто-то действительно не заметил, но ниже мы выскажем соображения о том, кого из декабристов данный эпизод мог заставить задуматься всерьез и почему этот персонаж имел основания не афишировать собственное отношение к Милорадовичу.
Отсутствие почтительности у молодых солдат, преобладавших среди мятежников, к генерал-губернатору, уже с 1817 года не бывшему непосредственным гвардейским начальником, должно было оказаться совершенно неожиданным для всех ветеранов, продолжавших жить реалиями ушедших времен. Увы, время течет!..
Вот Николай I, увидевший Милорадовича сразу после данного эпизода, немедленно все это сообразил!
Что должен был застать Милорадович на Сенатской площади? Толпу вооруженных людей (в тот момент — едва ли уже хорошо организованных), чрезвычайно возбужденных, но убежденных в высоком смысле своей миссии защиты интересов законного императора.
Первое, что должен был сделать Милорадович — призвать солдат к порядку. Вот это-то и не получилось!
Для Милорадовича, впервые в жизни схваченного за воротник, это должно было послужить решающей проверкой того, может ли что-то значить для этих молодцов сам по себе его авторитет, не подтвержденный законностью его прав: ведь в глазах солдат именно он был в данный момент представителем узурпаторов законной власти, а не они сами!
К обоснованности их убеждений явно сочувственно относился даже сам Михаил Павлович, позже, после гибели Милорадовича, также пытавшийся вести переговоры с восставшими:
«— Можем ли же мы, ваше высочество, /…/ взять это на душу, когда тот государь, которому мы присягнули, еще жив, и мы его не видим? Если уж присягою играть, так что ж после этого остается святого? /…/ — Суждения эти, в самой простоте их, очень трудно было опровергнуть, и великий князь тщетно усиливался уничтожить эти сомнения» — и также едва не схлопотал пулю — хотя, конечно, тоже не от солдат!.. К этому эпизоду мы еще вернемся.
Вести такие переговоры оказалось смерти подобно, но не от Милорадовича, оказывается, зависело решаться или не решаться вторично на столь опаснейший риск!
Внешний вид Милорадовича, представшего перед царем на Дворцовой площади в порванном мундире, с измятой лентой и в совершенно растерянном состоянии духа, отмечался не одним Башуцким, хотя не слышавшие непосредственных объяснений Милорадовича не могли знать истинных причин растрепанного состояния графа: от многочисленных свидетелей на Дворцовой площади пошел слух, что он не успел и штаны застегнуть, покидая Катю Телешеву!..
Мы, со своей стороны, должны напомнить эпизод 1805 года, когда прославленного супермена также потрясла внезапная катастрофа, порожденная неожиданным коварным предательством и его собственным благодушием! Сохрани Милорадович в этот новый критический момент должное хладнокровие — и не стал бы он в такую минуту и в таком виде появляться перед царем, а занялся бы чем-нибудь более полезным: например, сразу бы отправился в конногвардейские казармы или хотя бы привел себя в достойный внешний вид. Вместо этого он сам накликал на себя погибель.
В записках Николая I последняя встреча Милорадовича с царем описана кратко: «В то же время пришел ко мне граф Милорадович и, сказав:
— Дело плохо; они идут к Сенату, но я буду говорить с ними, ушел, — и я более его не видал, как отдавая ему последний долг».
Корф, при всей его дисциплинированности, не мог смириться со столь явной ложью (о которой много выше мы заранее предупреждали) и заменил ее более подходящей по его мнению. В его описании сцена выглядит следующим образом: «Тут подошел граф Милорадович, которого не было видно с утра. «Дело идет дурно, ваше величество; они (т. е. мятежники) окружают памятник Петра Великого; но я пойду туда уговаривать их». У государя не вырвалось ни одного слова в укор ему за все предшедшие уверения в мнимом спокойствии столицы. «Вы, граф, долго командовали Гвардией, — отвечал он, — солдаты вас знают, любят и уважают: уговорите же их, вразумите, что их нарочно вводят в обман; вам же они скорее поверят, чем другим». Милорадович пошел».
В описании Башуцкого этот диалог звучит совсем по-другому: Милорадович «докладывает, что надобно употребить меры строгости, присовокупив: «Государь, если уж они меня привели в такой вид, то тут остается действовать только силой». На это государь ему сказал: «что он, как генерал-губернатор, должен ему отвечать за спокойствие города и приказывает ему взять конно-гвардейский полк и идти с ним против московцев и лейб-гренадер»».
Хвостик речи царя в передаче Башуцкого заведомо неточен: лейб-гренадеры еще не успели присоединиться к московцам, но это относится к фактам, к которым Башуцкий прямого отношения не имел. Представляется, что неточность в тексте начинается еще раньше: Башуцкий мог решить (или, сглаживая углы, попытался создать такое впечатление), что последовавшая импровизированная попытка Милорадовича использовать конногвардейцев происходила по приказу царя — ниже мы приведем опровержение такой возможности.
Башуцкий, конечно, не обладал точностью магнитофона (замечены и другие его погрешности), но, разумеется, не указанные мелочи вызвали категорическую резолюцию Николая I: «У г[осподина] Башуцкого, кажется, очень живое воображение. Это все — совершенная выдумка» — и далее снова настояние на приведенной выше собственной версии встречи, якобы безмолвной со стороны царя!
Характерно, что Корф, подготовив книгу к печати, все равно проигнорировал версию, на которой настаивал царь — это и раскрывает отчасти секрет того, почему публичное издание книги, столь лояльной по отношению к Николаю I, могло состояться лишь после смерти последнего. Вранье каждого их них раздражало другого, но не могло привести к откровенному выяснению отношений: ведь причины гибели Милорадовича — это не шуточки!
Смысл сцены предельно понятен: вид Милорадовича и его слова однозначно охарактеризовали перед царем отношение восставших мятежников к генерал-губернатору! Вот и пришел теперь черед последнему расплачиваться за трехнедельные угрозы гвардией! Кому она, как оказывается, угрожала? И начало речи царя в изложении Башуцкого (адаптированное Корфом!) звучит вполне ясно: генерал-губернатор обязан восстановить спокойствие в столице, а иначе он уже — не генерал-губернатор!!!
Получив такой ультиматум, Милорадович приступил к дальнейшим шагам.
Корф излагает: «После рассказанного нами свидания с государем на Дворцовой площади, он спешил, пешком, к месту сборища мятежников. На дороге ему встретился обер-полицмейстер [А.С.]Шульгин. Милорадович, высадив его из саней, помчался в них с /…/ Башуцким /…/ к Сенатской площади /…/. От угла булевара невозможно было пробраться далее, за сплошной массой народа /…/. Милорадович принужден был объехать кругом, через Синий мост, по Мойке, на Поцелуев мост, и оттуда в Конную Гвардию, где встретился с Орловым. «Пойдемте вместе убеждать мятежников», — сказал он последнему с довольно встревоженным видом. «Я только что оттуда, — отвечал Орлов, — и советую вам, граф, туда не ходить. Этим людям необходимо совершить преступление; не доставляйте им к тому случая. Что же касается меня, то я не могу и не должен за вами следовать: мое место при полку, которым командую и который я должен привести, по приказанию, к императору». — «Что это за генерал-губернатор, который не сумеет пролить свою кровь, когда кровь должна быть пролита», — вскричал Милорадович, сел на лошадь, взятую им у адъютанта Орлова, [Н.П.]Бахметева, и поехал на площадь. За ним следовал, пешком, один Башуцкий. Они врезались в толпу и остановились шагах в десяти от бунтующих солдат».
Разумеется, несколько по-другому это описано у Башуцкого, решившего вообще не приводить подробности столкновения Милорадовича с А.Ф.Орловым: «Проходит ¼ часа, полчаса, наконец более, но кирасиры не выезжают /…/.
Граф Милорадович теряет терпение, требует лошадь, чтобы ехать к бунтовщикам, и говорит окружающим его: «впрочем, я очень рад, что конно-гвардия не поторопилась выезжать; я без них уговорю Московский полк, тут должны быть одни повесы, да и не надо, чтобы кровь пролилась в день вступления на престол государя»».
Ясно, что изобретательный ум Милорадовича, получившего ультимативный приказ подавить восстание, нашел, казалось бы, очевидный выход: использовать для этого конную гвардию. Но не тут-то было: А.Ф.Орлов имел другой приказ — вести конную гвардию в распоряжение Николая I. Тут-то и выясняется, что царь Милорадовичу о конной гвардии ничего не говорил — иначе Милорадович не имел бы права оставить конногвардейцев в распоряжении Орлова, а самому покинуть их: это было бы невыполнением приказа!
Более получаса думал граф, одновременно безуспешно дожидаясь готовности конногвардейцев, как выпутываться затем из сложившейся коллизии: ведь еще вчера какой-то Орлов не посмел бы ему перечить, но царский приказ — есть царский приказ! К тому же Орлов начинал в этот день (как и Бенкендорф) свою дальнейшую головокружительную карьеру охранника при Николае I — и вполне был склонен фрондировать против генерал-губернатора, которому угрожало, как всему начальству было понятно, весьма вероятное падение!
Понятно также, что и не лично Орлова Милорадович приглашал с собой, как это может показаться из изложения Корфа — стоило бы ради такой крупной подмоги добираться кружным путем до конногвардейских казарм! Тут у Корфа тоже очевидное вранье!
Теперь ясно, что последний постарался и смысл слов Николая, обращенных к Милорадовичу, приписать самому графу, а смысл мыслей графа (как их представлял себе Корф) приписал словам царя, представив, таким образом, вынужденное самоубийство почти добровольным!
Время шло, и никакого иного выхода Милорадович не нашел, кроме как идти, собравшись с духом, на почти верную смерть! Тем не менее, шансы на победу у него еще оставались — и он постарался их использовать!
Между тем, к мятежу присоединилась и часть Лейб-гренадерского полка (всего около 1250 человек). Вот как об этом рассказывается в Докладе Следственной комиссии: «Когда рядовых вывели для присяги, к ним подходил подпоручик Кожевников нетрезвый, как он сам признается, ибо, узнав через Сутгофа, что наступил час, назначенный тайным обществом для мятежа, он хотел ободриться и довел себя до беспамятства крепким напитком; он спрашивал солдат: «Зачем вы забываете клятву, данную Константину Павловичу?» Потом кричал еще в галерее: «Кому присягаете? Все обман!» Но порядок в полку сим не был нарушен: все присягнули и рядовые сели обедать» — по-видимому, выходки пьяных офицеров были привычны и особого впечатления не производили; нервы у солдат, тем не менее, были напряжены.
Вслед за тем до казармы дошел слух о выступлении Московского полка, и дело пошло по-другому: «Тогда поручик Сутгоф, бывший уже у присяги, вдруг пришел к своей роте с словами: «Братцы! Напрасно мы послушались, другие полки не присягают и собрались на Петровской площади; оденьтесь, зарядите ружья, за мной и не выдавайте. Ваше жалованье у меня в кармане, я раздам его без приказу». Почти вся рота, несмотря на увещания полкового командира [Н.К.]Стюрлера, последовала за Сутгофом, который беспрепятственно повторял: «Вперед! Не выдавайте!» Между тем другой поручик Панов, также присягнувший, бегал из роты в роту, возбуждая рядовых уверениями, что их обманули, что им будет худо от прочих полков и Константина Павловича; когда же командир полка вызвал батальоны и велел заряжать ружья, чтобы вести их против мятежников /…/, бросился в середину колонны и, подав знак возмущения криком «ура!», повел несколько рот в расстройстве на Сенатскую площадь».
Здесь решающую роль сыграло почти полное отсутствие в полку других офицеров, среди которых не было заговорщиков: завершив приведение к присяге, Стюрлер не ожидал уже ничего неожиданного, и большинство офицеров последовало на назначенный прием в Зимний дворец.
Триумфально по описанию Башуцкого произошло вторичное в этот день появление Милорадовича перед мятежными солдатами, уже выстроенными в правильный боевой порядок. Обзаведясь верховой лошадью и тем повысив себя, а также придав себе начальственный и совершенно невозмутимый вид, Милорадович обеспечил более достойный прием, чем в прошлый раз, когда его запросто избили где-то в уголке: «Бунтовщики, увидя его, сделали ему на караул и кричали: «ура!»». Артистичность и самообладание перед лицом смерти — этим Милорадович обладал в полной мере!
Беда в том, что у него с Башуцким оказалась одна лошадь на двоих, и это не позволило последнему выполнить боевую обязанность каждого адъютанта: прикрывать сзади своего командира и остановить саблей или пистолетом (а был ли он у него?) нападавших сбоку. Обидно, но отсутствие еще одной лошади в критический момент свернуло, возможно, историю России с выигрышного пути: не было гвоздя — подкова пропала, пропала подкова — лошадь захромала, лошадь захромала — командир убит, конница разбита, армия бежит…
Вот как передает выступление Милорадовича декабрист барон В.И.Штейнгель: «Увещая солдат с самонадеянностью старого отца-командира, граф говорил, что сам охотно желал, чтобы Константин был императором, но что же делать, если он отказался; уверял их, что он сам видел новое отречение, и уговаривал поверить ему».
Еще более эффектно эта сцена выглядит в описании Корфа: «Здесь старый воин, герой Лекко, Амштетена, Бородина, Красного, Кульма, Бриенна, Фер-Шампенуаза, был уже на настоящем своем поприще. Бесстрашный, привыкший говорить с русским солдатом, чтимый им, он разразился могучей речью и наконец, в доказательство что не мог бы изменить цесаревичу Константину, выдернул из ножен полученную им в дар от него шпагу, обернул ее эфесом к мятежникам и стал указывать и громко читать надпись: «Другу моему Милорадовичу». Все это, вместе с славным его именем, с отважным видом, с покрытой звездами грудью, оставшейся девственной от ран после пятидесяти сражений, сильно подействовало на солдат: они стояли вытянувшись, держа ружья под приклад, и робко глядели ему в глаза».
Заметим, что как всякий профессиональный волшебник, Милорадович старался заранее готовить чудеса: появление магической шпаги было заготовлено с раннего утра. Если Милорадович обладал уникальной коллекцией полученных боевых орденов, то и дарственного и наградного оружия у него должны были быть горы — и держал он его наверняка не в доме Кати Телешевой! Значит все, что должно было произойти в этот день, обязано было завершиться запланированным чудом, ради которого Милорадович обзавелся подходящими символами власти: его скипетром и державой были шпага Константина и перстень Марии Федоровны!
Увы, не такой представлял себе заранее развязку предусмотрительный граф: при столь неблагоприятных условиях чуда произойти не могло!
Продолжение рассказа Корфа: «Переодетый отставной поручик Каховский, стоявший в толпе народа за лошадью графа, подкрался к нему и выстрелил почти в упор, из пистолета, в бок, под самый крест надетой на нем Андреевской ленты. Кроме этой, безусловно смертельной раны, Милорадович получил еще другую, довольно глубокую, штыком в спину. По следствию и суду открыто, что сию последнюю нанес, одновременно с выстрелом Каховского, другой офицер, утверждавший, впрочем, что хотел только ранить лошадь, чтобы принудить графа удалиться».
Странная формулировка — стоял за лошадью графа; очевидно, имелось в виду, что стоял за лошадью по другую сторону от Башуцкого — единственного свидетеля, бывшего заодно с погибшим графом. Еще раз подчеркивается причина, почему адъютант не смог его защитить! Хотя, возможно, Каховский прятался и от Милорадовича за головой лошади — и лишь в последний миг зашел сбоку, когда граф повернул голову и плечи в другую сторону. В любом варианте — сделано грамотно и исподтишка!
Более протокольная формулировка Доклада Следственной комиссии: «Каховский, как видно из многих показаний, наконец, подтвержденных и его собственным признанием, стрелял из пистолета и смертельно ранил графа Милорадовича, в ту самую минуту, когда он явился один перед рядами несчастных обманутых воинов, чтобы образумить их и возвратить к долгу. Князь Евгений Оболенский также ранил его штыком, хотел, как утверждает, только ударить лошадь, чтобы принудить его удалиться».
Последний поначалу почти бесцельно слонялся по Дворцовой площади, объясняя публике, что воцаряется на вполне законных основаниях.
Затем он занялся приемом прибывающих подкреплений. Саперный батальон был поставлен во внутреннем дворе Зимнего дворца, а батальон Преображенского полка — у его фасадов.
Добрался до Зимнего дворца окровавленный полковник Хвощинский, раненный, как упоминалось, Щепиным-Ростовским. Николай приказал ему удалиться, чтобы не пугать публику своим видом.
С Сенатской площади донеслась стрельба, а затем принесли вести о тяжелом ранении Милорадовича.
«Террорист» Якубович, несомненно перепуганный тем, что случилось с его старшим другом Милорадовичем, явился к Николаю. Последний так это описал: «он мне дерзко сказал:
— Я был с ними, но услышав, что они за Константина, бросил и явился к вам.
Я взял его за руку и сказал:
— Спасибо, вы ваш долг знаете».
Посланный в качестве парламентера, Якубович призвал друзей держаться крепко, так как их страшно боятся. Но тут он нарвался на вполне заслуженные оскорбления со стороны Щепина-Ростовского, после чего вообще покинул место действия; на следствии все это выяснилось, и в результате Якубович загремел в Сибирь. Историки высказывали предположения, что он пытался сыграть какую-то сложную посредническую роль. Это вполне возможно, тем более, что Якубович действительно понаслышке мог быть как-то осведомлен о планировавшихся, но сорванных хитроумных маневрах Милорадовича. Но его самого в тот день никто (кроме следователей и судей — и то позднее) не расценил всерьез.
Другой «террорист» — упоминавшийся полковник А.М.Булатов — протолкался целый день возле Николая с двумя пистолетами в карманах, но ни на что не решился.
Все это свидетельствует скорее о глупости молодого императора, чем о его смелости. Одновременно иллюстрируется и полная беспомощность заговорщиков, оказавшихся неспособными организовать покушение, которое разрешило бы все их проблемы — в отличие от убийства Милорадовича!
С удивлением разглядел Николай Павлович и знакомого ему полковника князя С.П.Трубецкого, не явившегося на Сенатскую площадь, а наблюдавшего события, выглядывая из-за угла Главного Штаба — в самом буквальном смысле этих слов.
Чуть позже в этот день с последним случился такой эпизод, рассказанный Герцену в сороковые годы непосредственным свидетелем — позднейшим попечителем Московского учебного округа графом С.Г.Строгановым: Трубецкой «расстроенный прибежал в дом к его[, Строганова, ] отцу и, не зная, что делать, подошел к окну и стал барабанить по стеклу; так прошло некоторое время. Француженка, бывшая гувернанткой в их доме, не выдержала и громко сказала ему: «Постыдитесь! тут ли ваше место, когда кровь ваших друзей льется на площади? так-то вы понимаете ваш долг!» Он схватил шляпу и пошел — куда вы думаете? — спрятаться к австрийскому послу».
Почти так же поступил и Рылеев: он хотя и пришел на площадь, но, обнаружив, что нет Трубецкого, отправился его искать, и, очевидно, искал не за тем углом и не у того посла. Только Е.П.Оболенский честно и даже с лихвой отбыл свой номер.
А.Ф.Орлов привел, наконец, кружным путем, минуя Сенатскую площадь, конногвардейский полк в распоряжение императора.
К противоположной стороне также подходили подкрепления. Из казарм лейб-гренадеров у Большой Невки А.Н.Сутгов провел свою роту прямо по льду через Неву к Сенатской площади.
Стрельба, возникшая при покушении на Милорадовича, стимулировала присоединение к восставшим еще и Гвардейского флотского экипажа.
С ночи там энергично действовали агитаторы, включая Александра и Николая Бестужевых, Якубовича и Каховского (кроме моряка Николая Бестужева прочие затем переключились на иные объекты). В результате произошли долгие колебания, и экипаж все не приступал к присяге.
Внезапно кто-то закричал: «Ребята, слышите ли стрельбу? Ваших бьют!» — и, как сформулировано в Докладе Следственной комиссии, «экипаж побежал со двора, несмотря на усилия капитана 1-го ранга [П.Ф.]Качалова, который хотел матросов удержать в воротах. За всеми пошли и другие офицеры, дотоле не участвовавшие в беспорядках» — и матросы с офицерами (около 1100 человек) примкнули к каре на Сенатской площади.
Другой отряд лейб-гренадер, под командой Н.А.Панова, перейдя Неву у Петропавловской крепости, двигался затем к Сенатской площади по улицам между Зимним дворцом и Мойкой.
Они шли неорганизованной толпой. Панову, разумеется, не трудно было бы их привести в порядок и построить, но так больше импонировало им самим: как и солдатам 27 февраля 1917 года им хотелось действовать самостоятельно и полной грудью вдыхать воздух свободы — высокая миссия защиты законного императора вдохновляла их ничуть не меньше, чем свержение ига буржуазии Кирпичникова и его коллег.
На этой волне эйфории их понесло прямиком во двор Зимнего дворца (почему? зачем?) — позже сам Николай I, а потом Корф и прочие борзописцы попытались сделать из них зверских террористов, угрожавших всей царской семье, но даже и Следственная комиссия, и суд оставили эту глупость без последствий!
Очутившись перед строем Саперного батальона, Панов несколько очнулся и, с криком «Да это не наши!», вывел свое воинство наружу. Спустя много лет Сутгоф (очевидно — со слов Панова) пояснил, что Панов не разглядел внимательно сквозь ворота Зимнего дворца выстроенных во дворе саперов; приняв их за роту Сутгофа, он и совершил этот нелепый маневр. Данная версия хорошо объясняет реплику, выкрикнутую Пановым.
Фактическое бездействие противостоявших им войск — во главе с комендантом П.Я.Башуцким — так и осталось неразъясненной загадкой.
Тут лейб-гренадеры попались на глаза императору, который тоже уже получил повышение и восседал на лошади, обозревая находившуюся в его власти Дворцовую площадь. Встречая войска, продолжавшие прибывать с командирами, сохранившими подчиненность и порядок, он направлял их дальше к Адмиралтейству, концентрируя силы на подступах к Сенатской площади.
Заметив непорядок, Николай I ринулся на исправление: «уведел я в совершенном беспорядке со знаменами без офицеров Лейб-гренадерский полк, идущий толпой. Подъехав к ним, ничего не подозревая, я хотел остановить людей и выстроить; но на мое — «Стой!» отвечали мне:
— Мы — за Константина!
Я указал им на Сенатскую площадь и сказал:
— Когда так, — то вот вам дорога.
И вся сия толпа прошла мимо меня, сквозь все войска, и присоединилась без препятствия к своим одинако заблужденным товарищам. К счастию, что сие так было, ибо иначе бы началось кровопролитие под окнами дворца, и участь бы наша была более, чем сомнительна. Но подобные рассуждения делаются после; тогда же один Бог меня наставил на сию мысль».
Если гибель Милорадовича была трагической кульминацией 14 декабря, то данный эпизод — комической!
К трем часам дня стало ясно, что весь остальной гарнизон был в руках командиров, сохранивших верность новому императору. У Сенатской площади последний располагал порядка 12 тысячами штыков и сабель и, главное, четырьмя легкими орудиями; у мятежников оказалось порядка 3 тысяч штыков и ни одной пушки! Силы были явно не в пользу восставших, хотя у правительственных войск наблюдалось очевидное сочувствие к мятежникам, маскируемое привычным разгильдяйством. Так было вначале с конногвардейцами, так продолжалось и в дальнейшем: «нашел я прибывшею артиллерию, но, к несчастию, без зарядов, хранившихся в лаборатории» — констатировал Николай после эпизода с Пановым и лейб-гренадерами; далее развернулась целая эпопея с доставкой этих зарядов!
Решимость мятежников — с одной стороны, и сочувствие к ним — с другой, нисколько не способствовали силовой разборке. Увы, смертельное ранение Милорадовича оставляло возможность только капитуляции восставших. Это, в свою очередь, делало бесполезными переговоры, т. к. теперь капитуляция гарантировала жесточайшие кары по отношению к лидерам восставших.
Об Оболенском (которого к этому времени избрали Диктатором — ввиду отсутствия Трубецкого и Рылеева) и Каховском и говорить не приходится: для них сдача была почти равноценна самоубийству. Солдаты же ничего не решали, сохраняя верность прежней присяге, а потому и подчиненность импровизированному командованию, на первые роли в котором в этой трагической обстановке наряду с Оболенским выдвинулись братья Бестужевы и штатские А.А.Пущин и В.К.Кюхельбекер.
Единственный человек в столице, который в этой сложнейшей ситуации мог бы отыскать какое-то компромисное решение, умирал в конногвардейских казармах.
Заключительный рассказ А.П.Башуцкого о смерти Милорадовича: «Его хотели отнести в его дом, но он, сказавши, что чувствует, что рана смертельная, велел, чтобы положили его на солдатскую койку в конно-гвар[дейских] казармах. Между тем как несли его мимо конно-гвардейского полка, который был уже выстроен, никто из генералов и офицеров не подошел к раненому герою, которого имя останется украшением наших военных летописей; тут были некоторые лица, называвшиеся его друзьями и бывшие ежедневно в доме его, и те даже не изъявили ни малейшего сочувствия.
Я довершу описание подлостей современников наших, сказавши, что когда, по принесении его в казармы, начали его раздевать, то у него украли часы и кольцо, подаренное ему за несколько дней вдовствующей императрицею.
В скором времени съехались врачи, и на утешения их граф отвечал только, что он знает, что ему должно умереть. Когда вырезывали из его раны пулю, то он, посмотря на нее, сказал: «Я уверен был, что в меня выстрелил не солдат, а какой-нибудь шалун, потому что это пуля не ружейная».
Он не испустил ни одной жалобы и почти во все время сохранял молчание; но когда боль усилилась, то он закусывал себе губы и иногда до крови. Государь часто присылал наведываться о его здоровье с извинением, что сам не может отойти ни на минуту /…/. Под вечер император прислал к нему собственноручное письмо /…/:
«Мой друг, мой любезный Михайло Андреевич, да вознаградит тебя Бог за все, что ты для меня сделал. /…/ Мне тяжел сегодняшний день, но я имел утешение, ни с чем несравненное, ибо видел в тебе, во всех, во всем народе друзей, детей: Да даст мне Бог всещедрый силы им за то воздать, вся жизнь моя на то посвятится. Твой друг искренний, Николай».
Граф Милорадович /…/ продиктовал /…/ просьбу государю, заключающуюся в трех статьях:
1) Письмо сие [т. е. от Николая I] отослать к родным.
2) Крестьян его отпустить на волю.
3) Друга его, Майкова, не забыть.
Часов в 9 он исповедался и приобщился св. Таин, а в полночь начался бред, предвестник кончины. Борение со смертью продолжалось часов до 3-х, и он умер в беспамятстве, говоря, по своему обыкновению, то по-русски, то по-французски».
Прокомментируем предсмертные распоряжения Милорадовича.
Первое: письмо Николая, при всей скрытности смысла, является как бы клятвой перед умирающим о следовании некоторым целям и идеалам. Но сам Николай довольно цинично написал на рукописи другого варианта рассказа Башуцкого, где рассказывалось о смерти Милорадовича с данным письмом царя, зажатом в руке: «За верность всего этого рассказа я не ручаюсь, по неверности предыдущего».
Второе — красноречивое отношение к крепостному праву.
Третье: забота о каком-то Майкове занимает то место, какое в завещательных просьбах и распоряжениях уделяется обычно ближайшим членам семьи; интересно, имел ли и могучий дуэт руководителей заговора Милорадовича и Дибича также гомосексуальную основу?
На Сенатской площади и вокруг нее сложилась совершенно тупиковая ситуация. Тщетно ее пытались разрешить многочисленные парламентеры; их суммарное число и последовательность выступления оказывается даже трудно восстановить — некоторых прямо при появлении отгоняли выстрелами.
Полковник Стюрлер, раздосадованный выходом из повиновения собственных подчиненных, проявил особое упрямство, пытаясь на них воздействовать — и разделил участь Милорадовича: «Каховский же, по словам князя Одоевского и собственному признанию, убил и полковника Стюрлера и потом, бросая пистолет, сказал: «Довольно! У меня сего дня двое на душе». Он же ранил свитского офицера (штабс-капитана [П.А.]Гастефера) кинжалом» — сообщает Доклад Следственной комиссии.
Воинова отогнал пистолетным выстрелом Кюхельбекер; стреляли и солдаты: пули, случайно или намеренно, миновали цель.
Ростовцева, как упоминалось, избили прикладами.
Выступил парламентером и митрополит Серафим. При первой же угрозе он кинулся бежать, вызвав дружный смех высоко задранной рясой.
В описании Александры Федоровны (сделанном, понятно, по рассказам) последний эпизод выглядит так: «Государь велел призвать митрополита; тот приблизился к мятежникам с крестом и сказал им, что он может засвидетельствовать перед Богом, что воля покойного государя и желание самого великого князя Константина состояли в том, чтобы царствовал Николай. Напрасно! — Ответ был:
— Ты из партии Николая, мы тебе не верим; другое дело, если бы это нам сказал Михаил, друг Константина.
Над головой митрополита засверкали сабли, и он должен был вернуться».
Выступление перед мятежниками было желанием и самого Михаила. Кстати, все происходящее продолжало выглядеть для него недоразумением: только оказавшись свидетелем допроса арестованного Трубецкого ближайшей ночью, он узнал о существовании заговора.
Николай предупреждал его об опасности, но, наконец, разрешил подъехать к мятежникам. Вопреки всякой логике, и его уговоры к успеху не привели — тут-то и происходили диалоги, процитированные выше, и дело едва не завершилось трагически: Михаила Павловича едва не застрелил из пистолета Кюхельбекер — в последний момент его схватили за руку. По официальной версии спасителями были три мятежных матроса, которых затем великий князь наградил. По другой версии за руку Кюхельбекера хватал младший из братьев Бестужевых — Петр; понятно, что затем обе стороны не были заинтересованы пропагандировать этот последний вариант.
Николай I был поставлен в жесткую ситуацию: мятежники настаивали на собственной моральной и юридической правоте — и оказались несдвигаемы с этой позиции.
«Государь, прикажите площадь очистить картечью или откажитесь от престола!» — прямо заявил ему барон К.Ф.Толь, появившийся в Петербурге, как упоминалось, с отставанием на несколько часов от стремительно примчавшегося Михаила Павловича. Интересно, какой вариант предпочитал сам Толь?
Николай был в сложнейшем положении, которое теперь даже трудно представить себе, т. к. тогдашний расклад сил совершенно затушевался безукоризненной подчиненностью его подданных на протяжении последующих тридцати лет царствования.
Ведь 14 декабря Николай прекрасно знал о безусловно неодобрительном отношении к себе почти всего состава Государственного Совета (а не отдельных его членов, имена которых склонялись в показаниях декабристов!): Совет смирился с его воцарением только уступив неотразимости предъявленных юридических аргументов. Едва ли лучше относился и Сенат, поспешивший выступить фактически против него 27 ноября.
Настроения гвардии были немногим лучше, чем предсказывал заранее Милорадович: многочисленнейшие случаи неповиновения в этот день наблюдались во всех полках без исключений — и о многих докладывалось по начальству. Даже высший генералитет посматривал косо и посмеивался втихомолку.
Красочный пример привел Евгений Вюртембергский: «Генерал Бистром, начальник всей гвардейской пехоты, на вопрос мой, полагается ли он на своих подчиненных, отвечал:
— Как на самого себя. Но, — прибавил он с усмешкой, — этим еще не много сказано: будь я проклят, если знаю, о чем идет спор» — и это было не утром, а уже перед самым финишем конфликта!
Как при таких условиях решаться на применение силы? А вдруг команду не выполнят? А что вообще назавтра будет, если сегодня нагромоздить гору трупов?
В почти аналогичной ситуации 21 августа 1991 года пресловутый ГКЧП предпочел сдаться после первой же незначительной попытки применения силы.
Формальное различие ситуаций 14 декабря 1825 и 19–21 августа 1991 заключается в том, что ГКЧП сам был узурпатором власти, и сдался законной власти. Дело тут не в том, кто был прав, а кто — нет, а в том, что у ГКЧП просто нашлось, кому сдаваться!
Кому же мог сдаться Николай I, даже если бы и захотел?
Совершенно было некому! Ведь не Оболенскому же!
Вот на этот-то случай Милорадович и припас передачу трона вдовствующей императрице Марии Федоровне — оставалось только это энергично осуществить в предвечерние часы 14 декабря. Вот тут-то Бистром и все остальные прекрасно бы все поняли — и сыграли бы роль отнюдь не греческого хора!
Но вот конкретно заняться такой ситуацией было некому: Милорадович умирал, а Дибич был далеко! Все остальные никуда не годились, и едва ли полностью были в курсе закулисно оговоренной покупки и продажи трона!
Так что сдаваться Николаю было, повторяем, некому! Оставалось рискнуть на вариант, на который без колебаний пошел Б.Н.Ельцын в октябре 1993!
И тянуть с таким решением больше не было возможности.
Все это происходило на глазах многотысячной толпы, главным образом — простолюдинов, собиравшейся с самого начала событий еще до 11 часов утра. Все прочие дела в этот день были заброшены: магазины, лавки, трактиры и прочее если и успели открыться с утра, то уже к полудню позакрывались. Все тянулись к зрелищной арене, простиравшейся от Дворцовой площади до Сенатской — и оказались в конце концов у последней. Из кого преимущественно состояла эта толпа первоначально — неизвестно, но кто ее составлял под вечер — ясно совершенно точно.
В давке при бегстве с площади от картечных выстрелов по набережной Крюкова канала и на других узких улицах в этот вечер погибло (полные данные о погибших мы приведем ниже) всего 970 гражданских лиц; из них оказалось только 9 женщин и 19 детей (вероятно — мальчишек-подростков). Таким образом, не одно любопытство было силой, стянувшей этих людей к площади: женщины, как известно, любопытством страдают ничуть не меньше мужчин! Вся эта толпа состояла из людей, в большей или меньшей степени готовых вступить в борьбу!
Готовность мятежных солдат стоять на своем была лучшей агитацией, чем тексты любых манифестов — тем более исходящих от человека, которого еще с утра никто не считал царем! Написать-то можно все что угодно — бумага, как говорится, все стерпит!
Манифест и опубликованные приложения к нему взывали к логике и мысли: нужно было читать и думать — а грамотных даже в столице было едва ли большинство! Мятежная демонстрация, наоборот, била прямо по чувствам!
К тому же солдатская демонстрация принимала все более устрашающий характер: от усталости, холода, нервности и для поднятия духа они стали все чаще постреливать, и перешли, наконец, к пальбе залпами! Большая часть зарядов, вероятно, была холостых, но и пули засвистели над площадью!
Мало того, завершался короткий зимний петербургский день; было не до разжигания фонарей, а надвигающаяся темнота готовилась скрыть все преступления, по сравнению с которыми убийство Милорадовича было бы просто обыкновенной шалостью (по выражению самого Милорадовича) — так ведь и случилось!
С каждой минутой настроения публики приближались к критическому уровню!
Свидетельствует Николай I (скомпилировано нами из его разных текстов): «большая часть солдат на стороне мятежников стреляла вверх.
Выехав на площадь, желал я осмотреть, не будет ли возможности, окружив толпу, принудить к сдаче без кровопролития. В это время сделали по мне залп; пули просвистели мне через голову и, к щастию, никого из нас не ранило. /…/
При одном из сих залпов толпа черни, стоявшая до того вокруг меня, вдруг начала надевать шапки и дерзко смотреть. Лошадь моя, испугавшись выстрелов, бросилась в сторону. Тогда только заметил я перемену в толпе и невольно закричал:
— Шапки долой! —
Все шапки мигом слетели и все хлынуло от меня прочь. /…/
Рабочие Исаакиевского собора из-за заборов начали кидать в нас поленьями».
Свидетельствует Евгений Вюртембергский: «вновь собравшаяся чернь стала также принимать участие в беспорядках. Начальника гвардейского корпуса генерала Воинова чуть было не стащили с лошади; мимо адъютантов императора летали камни, в меня попало несколько комков снега. Наскакав на виновного и опрокинув его конем, я закричал:
— Ты что тут делаешь?
— Сами не знаем. Шутим-с мы, барин, — отвечал опрокинутый, еще не поднявшись с земли».
Наступал критический момент: спасение декабристов было рядом, но Россия вступила бы в новую Пугачевщину. Это было четко осознано современниками.
Вот как, например, писала к брату графиня М.Д.Нессельроде чуть позже, 18 декабря: «Ты можешь сам судить, насколько все это было рискованно; все это могло бы закончиться резней!»
Вот к этому-то моменту конца дня 14 декабря и относятся приведенные выше слова Толя. Его поддержал известный нам И.В.Васильчиков (цитируем Корфа):
«— Ваше величество, — сказал Васильчиков, — теперь не должно терять ни одной минуты; добром нечего здесь взять; необходима картечь.
— Итак вы хотите, — отвечал государь, — чтобы я в первый день царствования пролил кровь моих подданных?
— Чтобы спасти ваше царство! — возразил Васильчиков» — и было решено перейти к активным действиям!
Но сначала попытались разогнать мятежников кавалерийскими атаками: атаковали конногвардейцы. Атаки были демонстративными: всадники не обнажали палаши. Если бы солдаты расступились, то ворвавшиеся вовнутрь каре конники рассеяли бы их строй. Но этого не случилось: мятежники стояли твердо и стреляли вверх, а всадники тормозили и разворачивались назад, не доскакав до каре.
Забава была не такой уж невинной: лошади конногвардейцев не имели зимних подков, будучи используемы в манежной джигитовке, а потому скользили и падали на обледенелых лужах. Всадники получали ранения и даже гибли.
Было проведено пять таких атак, не принесших никакой пользы, кроме графского титула командовавшему ими А.Ф.Орлову — не зря он берег кирасиров для себя!
Первые атаки были проведены на строй московцев и лейб-гренадер; обученные отбивать конные атаки мятежные солдаты не нервничали и стреляли по-прежнему вверх. Последнюю атаку повели против моряков: эти не были приучены к подобному цирку, и, не мудрствуя, выпалили прямо в нападавших — было больше десятка убитых и множество раненых; одному из последних — ротмистру барону О.О.Веллио — ампутировали израненную руку.
Николай, наконец, решился открыть артиллерийский огонь. Дело было уже в пятом часу вечера.
Четыре легких орудия подавили самую грозную революцию в России за все полтора века — от Пугачевщины до 1917 года.
Одной пушкой командовал Михаил Павлович, поставленный на фланг; три других были выставлены прямо против строя мятежников. Первый орудийный выстрел был произведен картечью заведомо выше мятежного строя — прямо по фасаду здания Сената. Но мужественные солдаты не дрогнули — и тогда стали палить всерьез.
Сначала было сделано только шесть или семь выстрелов на поражение (не ясно, считался ли первый): по два из каждой пушки Николая и один — из пушки Михаила. Первое же попадание картечи рассеяло мятежный строй, но бежать было некуда: почти все подходы к площади (включая мост через Неву, бывший тогда прямо напротив памятника Петру I) были заграждены правительственными войсками, а все свободное от войск пространство плотно занимали толпы публики. Свободными для прохода остались только набережная Крюкова канала, где и образовалась невообразимая давка, да лед Невы. Картечные пули, веером вылетая из каждого ствола, врезались прямо в горы мяса!
Затем Михаил выстрелил еще раз по толпе, убегавшей вдоль Крюкова канала, а Николай, приказав подтащить пушки к краю набережной, выпалил пару раз по толпе мятежников, пытавшихся сорганизоваться на льду Невы.
Разгром завершился тем, что множество последних потонуло в полыньях, продавленных в неплотном льду.
Давка со смертельным исходом происходила на всех окружающих улицах — вплоть до Невского проспекта: люди бежали сначала просто от близкой орудийной пальбы, а затем — от набегавшей толпы; «пешие и конные давили друг друга, и гибель была неминуема для того, кто хоть раз не мог удержаться на ногах» — писал один из очевидцев.
Общий баланс погибших (с обеих сторон и среди гражданской публики) подведен отчетом Министерства юстиции: «генералов — 1 [имеется в виду Милорадович!], штаб-офицеров –1 [Стюрлер], обер-офицеров разных полков — 17, нижних чинов лейб-гвардии Московского полка — 93, Гренадерского — 69, [морского] экипажа гвардии — 103, Конного — 17, во фраках и шинелях — 39, женска пола — 9, малолетних — 19, черни — 903. Общий итог убитых — 1271 человек». Тут возникает возможная поправка к изложенному нами: могли ли в категорию погибшей черни зачислять и баб, а не только мужиков?
Эти цифры с некоторых пор не секретны и были опубликованы в 1970 году. Но обычно публиковавшиеся — преуменьшенное вранье: до 1917 года старались уменьшить вину царя, после — вину декабристов. А сейчас чего же врут?
Характерный пример: Отечественная история. Энциклопедия. Научное издательство «Большая Российская Энциклопедия», том первый, М., 1994, с. 466: «По офиц[иальным] данным, 14 дек[абря] убито ок[оло] 80 и ранено ок[оло] 60 чел[овек]»!
Когда-то у скифов и других подобных народов было принято хоронить великих вождей, добавляя к ним свиту — соответствующим способом! Свита Милорадовича получилась весьма впечатляющей!
Заметим, что Милорадович еще был в полном сознании, когда весть о происшедшем должна была до него дойти. Политическая демонстрация, задуманная им, удалась на славу!
Итоги выразительно подведены в письмах, написанных в последующие несколько дней графиней М.Д.Нессельроде: «Приводимые солдаты плачут, говоря, что их обманули. /…/ эти негодяи, при составлении заговора считавшие себя римлянами, оказались ничтожествами: будучи схвачены, они без конца говорят и пишут».
В том же духе выражался позже и кающийся Е.П.Оболенский: «Кто из нас может отрицать, что мы употребили во зло доверенность к нам войска, что мы увлекли за собою людей простых, которые чтили законную присягу, ими принятую так недавно?»
Столь же плачевно, хотя и не столь кроваво завершилось восстание Черниговского полка близ Белой Церкови.
Арестованные по распоряжению из Петербурга братья Сергей и Матвей Муравьевы-Апостолы ждали отправки в столицу, но в ночь на 29 декабря их освободили из-под ареста решительные молодые поручики А.Д.Кузьминым и И.И.Сухиновым — члены «Общества Соединенных Славян»; при этом был ранен командир полка полковник Г.И.Гебель. Позже были освобождены из-под ареста еще двое «славян» — поручик М.А.Щепилло и штабс-капитан барон В.Н.Соловьев.
Как и в ситуации с покушением на Милорадовича, боязнь ответственности подстегнула последующее неповиновение: Сергей Муравьев-Апостол, популярный среди солдат, сумел их взбунтовать — под предлогом защиты все того же Константина Павловича. В несколько приемов были присоединены другие роты этого же полка в соседних селениях. Им была обещана и поддержка других частей. Солдаты были готовы действовать как все — и полк двинулся в поход. К мятежникам, однако, присоединился лишь скрывавшийся М.П.Бестужев-Рюмин; это была одна из крайне малочисленных попыток избежать ареста.
Высланные курьеры действительно связывались с заговорщиками в других частях, но быстро донесли, что к восстанию никто не присоединяется. Обреченная колонна с горсточкой офицеров во главе (большинство постаралось слинять) пыталась теперь лишь уклониться от встречи с правительственными силами — это оказался ходячий вариант стояния на Сенатской площади. До солдат постепенно доходило, что командиры морочат им головы.
Существенно, что Сергей Муравьев-Апостол и другие офицеры решительно воспротивились идее самих солдат начать погром еврейских местечек, в изобилии имевшихся в той местности; это также не улучшило настроения солдат.
3 января 1826 года неизбежная встреча с верными правительству войсками наконец произошла — и, после первого и единственного пушечного выстрела по восставшим, солдаты схватили своих мятежных командиров. Один из солдат пытался даже убить Сергея Муравьева-Апостола, громко обвиняя его в обмане; ему самоотверженно помешал Соловьев.
От картечи были убитые и раненые. Сергей Муравьев-Апостол был ранен в голову. Погибли Щепилло и девятнадцатилетний Иппполит Муравьев-Апостол, сумевший добраться из Петербурга до старших братьев; убиты были еще четверо солдат.
Кузьмин, плохо обысканный и сохранивший пистолет, застрелился уже после ареста. Сухинов сумел бежать и был позже арестован в Кишиневе; на каторге пытался поднять восстание и погиб в 1828 году.
По всей остальной России присяга Николаю прошла безо всяких эксцессов. В Москве Филарет торжественно извлек спрятанный Манифест 16 августа 1823 года и зачитал его перед присягой.
14. Преступление виновных и наказание невиновных
В первые же часы после расстрела на площади постарались схватить вождей восстания. Среди сразу арестованных оказались люди, наиболее мелькавшие в группе вожаков в течение всего дня 14 декабря — Щепин-Ростовский и Михаил Бестужев. В отношении первого достаточно быстро выяснилось, что он был лишь слепым орудием руководителей заговора; второй же, желая немедленно снять с себя обвинение в исполнении главной роли, тут же назвал официального предводителя восстания — С.П.Трубецкого.
Для ареста последнего был послан к его тестю, графу И.С.Лавалю, у которого Трубецкой остановился в Петербурге, князь А.Н.Голицын. Не застав самого Трубецкого и обнаружив следы торопливого уничтожения бумаг, Голицын, тем не менее, отыскал целый ряд обличающих свидетельств, в том числе — черновой листок, написанный рукой Трубецкого, с подробным планом восстания и расписанием ролей руководителей на 14 декабря. Это оказалось главной и решающей уликой, позволившей разоблачить лидеров путча.
Этот листок был предъявлен самим Николаем I разысканному и арестованному через несколько часов Трубецкому, который попытался было играть роль оскорбленной невинности. Ознакомившись с неопровержимым доказательством вины и его собственной руководящей роли, Трубецкой сразу принялся каяться и выдавать остальных. На первом же допросе он, валяясь в ногах у Николая, принялся оговаривать лиц, заведомо не имевших отношения к принятию решения о восстании и не участвовавших в нем: С.М.Семенова, С.Г.Краснокутского, Г.С.Батенкова и М.М.Сперанского (!).
Почти так же поступил и арестованный позже Рылеев. Их показания повлекли за собой нарастающий снежный ком арестов и дальнейших разоблачений.
Отметим, что устойчивая точка зрения, выработанная ссыльными декабристами, о неизбежности разоблачения заговора после ареста Пестеля, не выдерживает проверки фактами: инициаторами следственного стриптиза стали все-таки петербургские вожди — Пестель раскрутился только после их показаний. Таким образом, сосланные предатели постарались и возложить моральную ответственность за коллективное предательство на казненного товарища.
Любопытно, что в числе первых, выданных ими, оказались молодые кавалергарды, накануне без особого энтузиазма, но все же оказавшиеся среди участников подавления мятежа.
Анненков, бывший в курсе замыслов Вадковского и Свистунова в 1824 году, получил в итоге пятнадцать лет каторги; многих из остальных тоже щедро одарили!
Дело тут, однако, не обошлось без блата: внук генераллисимуса юный князь А.А.Суворов отделался переводом на Кавказ, где началась его выдающаяся собственная карьера; таким способом — и гуманным, и жестоким одновременно — Николай I подчеркнул свое уважение к его деду. Были освобождены от юридической ответственности Н.Н.Депрерадович, сын командующего гвардейской кавалерией, и неоднократно упоминавшийся Н.А.Васильчиков — представитель влиятельнейшего семейного клана; их только несколько осадили по службе.
К вечеру 15 декабря Николай I, уже основательно сориентировавшийся в происшедшем и в задачах, стоящих перед ним самим, писал к старшему брату: «Показания Рылеева, здешнего писателя, и Трубецкого раскрывают все их планы, имевшие широкие разветвления внутри Империи; всего любопытнее то, что перемена государя послужила лишь предлогом для этого взрыва, подготовленного с давних пор, с целью умертвить нас всех, чтобы установить республиканское конституционное правление; у меня имеется даже сделанный Трубецким черновой набросок конституции, предъявление которого ошеломило и побудило его признаться во всем. Сверх того, весьма вероятно, что мы откроем еще несколько фамилий каналий фрачников, которые представляются мне истинными виновниками убийства Милорадовича. Только что некий [А.А.]Бестужев, адъютант моего дяди, явился ко мне лично, признавая себя виноватым во всем».
Константин Павлович реагировал весьма резво, отправив 22 декабря ответное письмо: «Я с живейшим интересом и серьезнейшим вниманием прочел сообщение о петербургских событиях, которое Вам угодно было прислать мне; после того, как я трижды прочел его, мое внимание сосредоточилось на одном замечательном обстоятельстве, поразившем мой ум, а именно на том, что список арестованных заключает в себе лишь фамилии лиц, до того неизвестных, до того незначительных самих по себе и по тому влиянию, которое они могли оказывать, что я смотрю на них только как на передовых охотников, или застрельщиков, дельцы которой остались скрытыми на время, чтобы по этому событию судить о своей силе и о том, на что они могут рассчитывать.
Они виновны в качестве добровольных охотников, или застрельщиков, и в отношении их не может быть пощады, потому что в подобных вещах нельзя допустить увлечений, но равным образом нужно разыскивать подстрекателей и руководителей и, безусловно, найти их путем признания со стороны арестованных. Никаких остановок до тех пор, пока не будет найдена исходящая точка всех этих происков, — вот мое мнение, такое, каким оно представляется моему уму…» — в последнем цесаревичу не откажешь, равно как и в том, что сам он не имел прямого отношения к организации происшедшей трагедии. Однако, его надежды вывести на чистую воду настоящих виновных остались только мечтаниями — Николай поступил совсем по-другому.
Гигантская куча трупов, сооруженная в центре столицы (чисто фигурально, конечно), и небольшая кучка на полях Украины перевернули всю политическую ситуацию. Вместо хитроумной имитации верности присяге получилась недвусмысленная демонстрация неприглядного политического злодейства. Оставить такое преступление безнаказанным было невозможно — и никакие ссылки на верность присяге Константину и на якобы неведение о действительном состоянии дел в императорской фамилии уже помочь не могли. Теперь, казалось бы, руководители заговора должны были ответить по заслугам. И, однако, такого ответа по существу также не произошло.
Что касается позиции, занятой подследственными, то она диктовалась ярко выраженным стремлением к спасению. Теперь уже многолетний прежний заговор выглядел меньшим злодеянием, чем совершенное множество убийств, и позволял снизить удельный вес личной вины вождей 14 декабря, растворив ее в громких словесных преступлениях их прежних соратников по заговору. Именно по инициативе руководителей мятежа на следствии разверзлись потоки самообвинений в преступной заговорщицкой деятельности, продолжавшейся долгие годы, а в первые ряды преступников вышли трепачи типа Якушкина и Якубовича, превратившиеся в завзятых злодеев! При этом существеннейшим образом были смещены акценты в оценке того, что же действительно произошло, и оказались плотно скрыты настоящие злодеяния, приведшие к кровопролитию!
Почему же вождям декабристов удалось навязать такую линию и следствию, и суду? Потому что они нашли заинтересованного сообщника, не принадлежащего к их числу.
Сам Николай I принимал участие в следствии. Скрытые мотивы его поведения так и остались скрытыми, но отметим то, что лежало на поверхности и бросилось в глаза современникам — включая резко осуждавшим его Герцену и Огареву.
Натерпевшись страхов накануне и в самый день 14 декабря, царь не обнаружил душевного благородства для лояльного и просто приличного отношения к поверженным противникам: кричал на арестованных, угрожал, топал ногами и т. д. — словом, вел себя именно так, как вел бы себя всегда раньше с подчиненными офицерами, если бы не встречал неприкрытого сопротивления. Получается, что ребенок дорвался, наконец, до любимой, но запретной игры!
Доходило до сцен курьезных и почти смешных, если бы они не были трагически серьезны. Огарев пересказывает эпизод столкновения императора с Якушкиным, сознавшимся в давнем намерении к убийству Александра I, но отказавшегося от дальнейших подробных показаний: ««Да знаешь ли, перед кем ты стоишь? — закричал государь. — За то, что ты государю не говоришь правды, если бы и я тебя помиловал, то на том свете Бог тебя не простит». — «Да ведь я в будущую жизнь не верю», — отвечал спокойно Якушкин. — «Вон отсюда этого мерзавца», — закричал Николай», — и т. д. Всем своим поведением Николай задал тон разбирательству и осуждению.
Разумеется, Николая никак не могла обмануть почти детская уловка, к которой прибегли руководители мятежа, пытаясь распространить ответственность на массу совершенно невинных людей. Но лично Николая вполне устроила такая подмена одного преступления другим: разбираться в тончайших интригах и хитроумных обманах, приведших к массовому кровопролитию, и мотивах всех виновных и подозреваемых — это означало бы необходимость и разобраться во всех возникших обстоятельствах, т. е. осветить всю картину, нарисованную нами выше, и пролить свет на еще более неприятные факты, о которых мы расскажем ниже. При этом нельзя было бы обойтись без разоблачения хитроумных действий, совершенных умершим Александром I, далеко не безупречного поведения его братьев Константина и Николая и самого факта государственного переворота, совершенного Милорадовичем 27 ноября.
Декабристы были виновны в происшедшем, но не они одни, и тем более не они должны были быть главными подозреваемыми, как совершенно справедливо отметил Константин Павлович. Но если бы дали этим подследственным волю в свободных объяснениях случившегося, то они стали бы все валить на Милорадовича, на Константина, на покойного императора и на него самого — Николая I; такие претензии действительно фактически наличествовали в мотивировках поступков декабристов прямо накануне восстания и в их позднейших мемуарах.
Очень же важным было то, что вся ситуация, приведшая к самой возможности мятежа, была в далеко не последней степени следствием трусости и никчемности наследника престола, позволившего 27 ноября 1825 года совершить Милорадовичу явное насилие над собой и над всей Россией. Вот этого-то никак не желал допустить Николай I!
В свою очередь, это прекрасно поняли лидеры декабристов. Состоялось что-то вроде безмолвного соглашения: декабристы не заостряли внимания следствия на неприглядных моментах поведения царя и его родственников, а он в свою очередь не давил на выяснение и уточнение индивидуальной вины непосредственных инициаторов и руководителей восстания. Погибший Милорадович и вовсе стал неприкасаем для обвинений с обеих сторон.
Зато рычащий и кричащий император сразу смолкал, как только подследственные начинали притягивать к делу посторонних людей, а последние, стараясь уйти от обвинений, в свою очередь открывали все новые и новые подробности давно прошедших разговоров.
Сам Николай мотивировал свою линию следующим образом: «Моя решимость была, с начала самого, — не искать виновных, но дать каждому оговоренному возможность смыть с себя пятно подозрения. Так и исполнялось свято. Всякое лицо, на которое было одно показание, без явного участия в происшествии, под нашими глазами совершившемся, призывалось к допросу; отрицание его или недостаток улик были достаточны к немедленному его освобождению. /…/
За всеми, не находящимися в столице, посылались адъютанты или фельдъегери.
В числе показаний на лица, но без достаточных улик, чтоб приступить было можно даже к допросам, были таковые на Н.С.Мордвинова, сенатора [П.И.]Сумарокова и даже на М.М.Сперанского. Подобные показания рождали сомнения и недоверчивость, весьма тягостные, и долго не могли совершенно рассеяться. Странным казалось тоже поведение /…/ Карла Ивановича Бистрома, и должно признаться, что оно совершенно никогда не объяснилось. /…/ он не был вместе с другими генералами гвардии назначен в генерал-адъютанты, но получил сие звание позднее».
Целенаправленность таких стремлений вполне очевидна: чем далее от выяснения конкретной вины в событиях злосчастного периода 27 ноября — 14 декабря 1825 года, тем лучше. Это распрекрасным образом, как уже говорилось, устраивало и лидеров мятежа!
В результате почти невинные многолетние разговоры «заговорщиков» нашли подробнейшее изложение в огромных по объему материалах следствия — тоже казавшихся вполне невинными: как же можно карать за такую ерунду такое количество вполне лояльных и законопослушных людей! Ведь беседы «заговорщиков» скорее по тону, чем по содержанию отличались от того, что почти открыто обсуждалось блистательными аристократами типа М.С.Воронцова, С.С.Потоцкого, А.А.Столыпина, Д.Н.Сенявина, П.А.Вяземского, И.С.Лаваля, княгини Куракиной или графини Нессельроде, и разница эта определялась более возрастом, нежели темпераментом и тем более политическими вкусами.
Об этом совершенно четко написал Басаргин, отошедший от всякой заговорщицкой деятельности более чем за четыре года до 14 декабря и, тем не менее, получивший двадцать лет каторги: «Скажу в этом случае откровенно, как перед судом Божиим. Мы много говорили между собою всякого вздора и нередко, в дружеской беседе за бокалом шампанского, особенно когда доходил до нас слух о каком-либо самовластном, жестоком поступке высших властей, выражались неумеренно о государе, но решительно ни у меня, ни у кого из тех, с которыми я наиболее был дружен, не было и в помыслах какого-либо покушения на его особу. Скажу более, каждый из нас почел бы обязанностью своею защитить его, не дорожа собственной жизнию. Я и теперь убежден, что сам Пестель и те, которых Комитет [Басаргин называет так Следственную комиссию] обрисовал в донесении своем такими резкими, такими мрачными чертами, виновнее более в словах, нежели в намерении, и что никто из них не решился бы покуситься на особу царя. В этом случае разительный для меня пример представляет Бестужев-Рюмин. Он мне сам сознавался, что никто более его не говорил против царской фамилии, что пылкость его характера не допускала середины и что в обыкновенных даже сношениях своих, при известии о каком-либо дурном поступке, особенно когда дело шло об угнетении сильным слабого, он возмущался до неистовства. А между тем, сколько я мог его понять, это был самый добрый, самый мягкий, скажу более, самый простодушный юноша, который, конечно, не мог бы равнодушно смотреть, как отнимают жизнь у последнего животного».
Такие оценки, разумеется, нельзя принимать за совершенно чистую монету: не нужно забывать, что никто из обвиняемых ангелом не был. Все почти декабристы были и оставались завзятыми крепостниками, а Пестель и некоторые другие бывали по-настоящему жестоки с солдатами. Но, конечно, большинству из них было заведомо далеко до главы Следственной комиссии генерала В.В.Левашова, который имел обыкновение, сидя за обедом, одновременно наблюдать тут же производимую порку солдат.
Что же касается действительно широкораспространенных нападок на царское семейство, то ничего странного в них не было. Напомним, что все возраставшие долги помещиков казне подавляющим их большинством воспринимались как личные долги царю!
Характерно и то, что даже спустя многие годы причины столь необъективного отношения властей к их проступкам оставались неясными для многих декабристов. «Комитет поступал, по желанию ли самого государя или по собственному неразумному к нему усердию, вопреки здравому смыслу и понятию о справедливости. Вместо того, чтобы отличать действия и поступки от пустых слов, он именно на последних-то и основывал свои заключения о целях общества и о виновности его членов. Им не принимались в соображение ни лета, ни характер обвинения, ни обстоятельства, при которых произносимы были им какие-нибудь слова, ни последующее его поведение. Достаточно было одного дерзкого выражения, чтобы обречь на погибель человека», — жаловался Басаргин.
Декабристы, да и сами следователи, не поняли того, что предложенная новая забава — не что иное, как игра в кошки-мышки с вполне четким распределением ролей и предопределенным исходом! Она завершилась тем, что за все пересказанные разговоры Николай I повелел судить наравне с действительно совершенными преступлениями! Такого, разумеется, никто не ожидал — это противоречило любым принципам правосудия, хорошо известным в ту эпоху.
Читая показания подследственных, поражающих самобичеванием и самым подлым доносительством на сообщников, не нужно забывать, что они давались людьми, совершенно не подозревавшими, к чему же это практически приведет.
Их мотивом, казалось бы вполне невинного свойства, было всего лишь снискать одобрение императора, столь явно поощрявшего чистосердечные признания. Остается только радоваться тому, что этой волной чистосердечия не были смыты на каторгу такие люди как А.С.Пушкин, А.С. Грибоедов или П.Я.Чаадаев — а ведь вполне могли бы!
То, что осуществил Николай I — коварнейший и подлейший обман в том же стиле, что совершил в 1936 году Сталин, пообещавший не расстреливать Г.Е.Зиновьева и Л.Б.Каменева, но не выполнивший своего обещения. Правда, Николай подобного конкретного обещания не давал — но в общем контексте эпохи и его собственного демонстративного поведения на такое полуобещание совершенно явно рассчитывали. Чуть ни все (и причастные лица, и совершенно посторонняя публика) до самого последнего момента были, в частности, уверены и в том, что казнь приговоренным не состоится!
Что же касается справедливости, то она была обеспечена, но весьма своеобразным образом: действительные виновники кровопролития 14 декабря и на Украине не ушли от наказания, на что они сами, возможно, надеялись, инициировав цепную реакцию взаимных разоблачений; однако кроме них и вместе с ними оказалось осуждено множество невиновных.
Николай явно позаботился о предотвращении общественного протеста — по крайней мере со стороны наиболее влиятельных потенциальных оппозиционеров: М.М.Сперанский, Н.С.Мордвинов, П.И.Сумароков и К.И.Бистром были им посажены на скамью судей, а Д.Н.Блудов, несомненно тесно связанный с декабристами, стал редактором официальных следственных и судебных документов.
Угроза произвела должное впечатление: из них один Мордвинов отказался утвердить смертный приговор пятерым декабристам. Такие же лица, как А.Х.Бенкендорф и А.Ф.Орлов, рыльца которых накануне восстания были явно в пушку, в 1826 году оказались создателями знаменитого III Отделения!
Последствия такого решения политических проблем оказались поистине грандиозными.
13 июля 1826 года пятеро декабристов (К.Ф.Рылеев, С.И.Муравьев-Апостол, П.И.Пестель, П.Г.Каховский, М.П.Бестужев-Рюмин) были казнены — это единственная казнь по судебному приговору за все царствование Николая I, но и она — юридическое беззаконие: ведь смертная казнь в России была отменена еще императрицей Елизаветой Петровной 7 мая 1744 года! Позже это подтверждалось другими указами той же царицы — отсюда разноголосица дат в литературе; видимо, одного запрета подданным было мало!
Еще при осуждении В.Я.Мировича в 1764 году, а затем при подавлении Пугачевщины это, однако, не помешало никаким расправам и казням. Как сказал как-то позже шеф жандармов Бенкендорф поэту барону А.А.Дельвигу: «Законы пишутся для подчиненных, а не для начальства!»
Был казнен Пестель, к моменту выступления своих единомышленников уже находившийся под арестом. К смертной казни был приговорен заочно Н.И.Тургенев, вовсе отсутствовавший в России, — причиной тому послужили его республиканские взгляды!
Вровень с Каховским, который должен был бы быть казнен в любой стране, где существует смертная казнь как мера наказания, судились завзятые трепачи Бестужев-Рюмин (и тоже был казнен), Якушкин, Вадковский, Артамон Муравьев, Якубович. Якушкин к этому времени из «террориста» успел сделаться почтенным помещиком и отцом семейства — но ничто не спасло его и таких как он от жестокой и бессмысленной расправы.
Всем стало ясно: судят не за поступки, а за мысли и слова — это создало многозначительный прецедент и стало руководящим принципом российского правосудия на долгие времена.
Интересно, что тут же применение этого принципа не слишком гласно, но очень недвусмысленно было приостановлено не кем-нибудь, а самим Николаем I: сразу после казни над декабристами ближайшие сподвижники молодого царя вообразили, что тем самым даны указания на повсеместное применение карательных мер по сходным поводам, и 16 сентября 1826 года за распространение стихотворений политического содержания был арестован, а затем приговорен Военно-судной комиссией к смертной казни штабс-капитан Конно-егерского полка А.И.Алексеев. Николай I, утверждая приговор, смягчил его — и не как-нибудь, а очень выразительно: Алексеева наказали заключением в крепость на один месяц и последующим переводом из гвардии в армию в том же чине!
Этим сразу был остановлен поток репрессий, который услужливые карьеристы и блюдолизы были готовы обрушить на образованную Россию в угоду угаданному ими (как оказалось — ошибочно!) желанию царя. Этот многозначительный эпизод не удосужились заметить и оценить историки.
Как тут ни вспомнить высказывание Пушкина, о том, что правительство в России — единственный европеец, и что от него зависело бы стать сто крат хуже, так как никто не обратил бы на это ни малейшего внимания. Действительно, если бы в России за десяток лет, начиная с 1826 года, казнили бы за хранение и распространение Самиздата сотню-другую интеллигентов, то это оказалось бы рядовым эпизодом политической истории России; современники же едва ли возражали бы и протестовали, а скорее услужливо доносили властям и сдавали бы своих заподозренных родственников на расправу, как это и проделывалось с декабристами сразу после 14 декабря.
С другой стороны, Николай I продемонстрировал себя классическим приверженцем двойных стандартов в политике и морали: Алексеев и ему подобные ничем не задели его кровных интересов и не угрожали ему неприятными разоблачениями, как это имело место с декабристами — поэтому они и могли рассчитывать на благородство и справедливость императора, имевшего, как видим, вполне здравые представления о гуманности и этике.
Зато тут же демонстрировался совершенно невероятный взрыв страстей, когда интересы императора нарушались!
Сразу после 14 декабря были произведены аресты и в Польше — среди членов тамошнего тайного общества, установившего, как упоминалось, контакты с «Южным обществом» — к вящему негодованию русского патриота Никиты Муравьева!
У поляков имелась гораздо более практически понятная цель, чем у декабристов — независимость Польши. Принадлежа к местным кругам любителей почесать языки, аналогичным декабристам, польские заговорщики разработали не меньше разнообразных кровавых планов — и, как и декабристы (кроме Каховского и еще нескольких), естественно, ничего не совершили.
Справедливости ради отметим, что они же и их единомышленники, воспользовавшись благоприятной, как им показалось, международной обстановкой, подняли в 1830 году самую настоящую революцию! Так что революционные взгляды всегда и везде чреваты не одними мечтаниями!
Так или иначе, но и Николай I, и Константин Павлович, уважая специфические политические и правовые ограничения — Конституцию Польши, уделили огромное внимание организации показательного процесса. Причем цесаревич — в отличие от царя — почел своим долгом никак не вмешиваться ни в следствие, ни в решение суда. Каково же было негодование обоих братцев (и многих их единомышленников в России!), когда польский суд вынес всем обвиняемым оправдательный приговор!
Иного и не могло быть в любой цивилизованной стране: никто и никого не судит за одни только политические разговоры — даже и без возбуждающей агитации!
Позже не раз в царствование Николая I возникали ситуации, когда его верные клевреты никак не могли угадать желаний императора: пример с осуждением А.И.Алексеева — классический. Приведем еще один пример из нескольких хорошо известных.
Больше оппозиционной активности в последующие годы отмечалось не в Петербурге, а в Москве, значительно слабее запуганной репрессиями 1825–1826 годов. Оппозиционные настроения обострились после крупных революционных потрясений в Европе в 1830–1831 гг. В результате приключилась следующая история.
В июне 1831 года поступил донос, написанный студентом Московского университета Иваном Полоником. Последний сообщал об организации «общества», ставящего целью революцию в России и планировавшего, в частности, «разослать по всем губерниям прокламации к народу для возбуждения ненависти к государю и правительству /…/, внушить народу, что цесаревич Константин Павлович [умерший в то время от холеры] шел на Россию с войсками польскими для того, чтобы отобрать всех крестьян от помещиков и сделать их вольными, не брать с них никаких податей, равно как и с мещанства и с прочих правящих подати классов, а жить всякому для себя кто как хочет /…/. Потом, составивши шайку тысяч в пять человек, пойти на Тулу и взять оружейный завод, где, по словам его, Сунгурова, находится до 6000 человек ружейников, которые угнетены наравне с каторжными и которые по первому призыву и по роздании им денег будут с охотою каждый день доставлять по несколько сот или тысяч ружей».
Не реагировать на такой донос было невозможно, и 17 июня 1831 года «заговорщики» во главе с двадцатишестилетним нигде не служащим мелкопоместным дворянином Н.П.Сунгуровым и его побочным братом двадцатипятилетним студентом Ф.П.Гуровым были арестованы. Для рассмотрения дела 20 июня была создана специальная комиссия во главе с московским генерал-губернатором князем Д.В.Голицыным. В октябре того же года комиссия завершила работу.
Разумеется, выяснилось, что все революционные намерения — одна пустая болтовня, хотя нелепые показания арестованных могли возбудить разнообразные подозрения. Сунгуров, например, пытался доказать, что никакого тайного общества не существовало, но что он выдавал себя за члена такового с целью открыть и выдать правительству якобы действительно существовавшие противоправительственные сообщества. Комиссия прекрасно во всем этом разобралась и предложила: счить Сунгурова «зачинщиком совещаний по ниспровержению государственного порядка», заслуживающим «полного осуждения, а именно политической смерти» — т. е. фактически только лишения гражданских дворянских прав; Гурова сдать рядовым в дальние гарнизоны; еще шестерых считать виновными в «расположении ума, готового прилепиться к мнениям, противным государственному порядку, и заслуживающими ссылки под надзор полиции на окраины»; нескольких человек отдать под надзор полиции здесь же в Москве, а остальных признать невиновными.
Николай I, однако, с таким мягким решением не согласился.
Тогда комиссия постаралась не ударить в грязь лицом и вынесла уже в июне 1832 года такие новые приговоры: Сунгурова и Гурова — к четвертованию, девять человек — к повешению, еще одного — к расстрелу; остальных от ответственности освободить.
Либо такой лихой разворот событий входил в тайные намерения самого царя, либо его опять не поняли. Во всяком случае Николай, утверждая приговор уже в феврале 1833 года, распорядился сослать Сунгурова и Гурова в Сибирь на каторгу, еще пятерых — солдатами в дальние гарнизоны, остальных виновных отдать под надзор полиции в Москве. Все арестованные просидели к этому моменту уже по полтора года. Для некоторых, как видим, размах колебаний полученных приговоров простирался от практически полного освобождения до смертной казни и обратно.
Сунгуров дважды пытался бежать — еще в Москве в апреле 1833 года и в июле 1834-го; в последний раз был наказан плетьми; умер в Сибири в конце 1830-х годов. Гуров в 1837 году переведен с каторги рядовым на Кавказ; дослужился до унтер-офицера и в 1843 году вышел в отставку. Почти все, отданные сразу в солдаты, сделали позже достаточно значительные карьеры; например, А.Кноблах, считавший себя продолжателем декабристов, в шестидесятые годы стал генералом и управляющим Нерчинскими заводами — во время отбывания там каторжного приговора Н.Г.Чернышевским и каракозовцами.
Возвращаясь к декабристам, приведем обобщающие результаты судебного постановления.
Всего по делу о декабристах официально было привлечено к следствию 579 человек; из них 316 было арестовано и 289 признано виновными. Из последних пятеро казнены, 124 — отправлены в Сибирь на каторгу (45 человек получили по 20 лет или пожизненно), остальные 160 — главным образом разжалованы и переведены на Кавказ.
Рядовые участники мятежа в столице, поверившие обману своих командиров, были помилованы. Этого не случилось с солдатами Черниговского полка, нарушившими присягу, принятую уже за несколько дней до восстания: 120 человек подверглось жестоким физическим наказаниям; затем их и остальных (всего 877 человек) сослали в Сибирь. Но и из числа формально помилованных значительная часть — немногим более тысячи — была отправлена в мясорубку непрерывной Кавказской войны.
Осуждение декабристов задало тон всей Николаевской эпохе, вошедшей в историю России, как один из мрачнейших ее периодов.
«Страшное бессмыслие, отсутствие всяких социальных, научных и умственных стремлений, тоскливый и рабский биотизм, самодержавный и крепостной status quo как естественная норма жизни, дворянское чванство и пустейшая ежедневная частная жизнь, наполненная мало искренними родственными отношениями, сплетнями и пошлостями дворянского кружка, погруженного в микроскопические ежедневные дрязги, придворные слухи, допотопное хозяйство, светские этикеты и туалеты», — так ее характеризовал знаменитый либерал К.Д.Кавелин, ученик Белинского, один из соавторов Реформы 19 февраля 1861 года.
«Люди задыхались. Всякая человеческая мысль подвергалась гонению /…/. Кто осмеливался думать иначе, чем это было предписано /…/, немедленно исчезал», — утверждал знаменитый революционер М.А.Бакунин. Ему вторил Басаргин: «В продолжение его [т. е. Николая I] царствования Сибирь населилась тысячами политических изгнанников».
Интереснейшие особенности этого отнюдь не простого времени будут нами рассмотрены в дальнейших разделах, но и в данный момент невозможно вовсе не коснуться проблемы репрессий и доносительства, характерных для этой эпохи.
Официальная статистика свидетельствует, что в период, последовавший вслед за осуждением декабристов — с 1827 по 1846 год включительно, всего в Сибирь было сослано 159755 человек (134315 мужчин и 25440 женщин) — около восьми тысяч в год; из них, однако, ничтожную долю составляли политические.
По политическим приговорам официально числилось 443 сосланных, из них — 279 (т. е. две трети) дворян. Преобладающую часть из них составляли поляки — участники восстания 1830–1831 гг. Если же говорить о собственно российских политических ссыльных, то их суммарная численность должна измеряться немалыми десятками, но никак не тысячами человек.
С определенной натяжкой можно причислить к политическим еще четыре категории сосланных в то же двадцатилетие: за преступления против веры (в основном — сектанты) — 445 человек; за побеги за границу — 184; за побеги из службы или из-под стражи (беглые солдаты и арестанты) — 1467; за возмущение и неповиновение (в основном — крепостные) — 2411. Даже при этом всего получится 4950 человек или порядка 3 % сосланных. В год, следовательно, по 247,5 человека в среднем, главным образом — из низших сословий России.
Начиная с 1848 года политические репрессии ужесточились, но число действительно пострадавших за политические убеждения едва ли поднялось выше обычного уровня; наиболее громким событием этого периода был арест и последующее осуждение тридцати трех участников кружка М.В.Буташевича-Петрашевского.
Таким образом, хотя оценки обоих процитированных экспертов (Бакунина и Басаргина), лично побывавших в Сибири, нельзя считать совсем уж ложными, но все же они заметно преувеличены.
Еще большими преувеличениями страдает молва о всеобщем шпионстве и доносительстве.
О жутком распространении шпионства пишет А.И.Герцен, также бывший жертвой доносов и репрессий: по его словам, глава всесильного III Отделения граф А.Х.Бенкендорф «образовал целую инквизиционную армию наподобие тайного общества полицейских масонов, которое от Риги до Нерчинска имело своих братьев — шпионов и сыщиков».
Как формировались подобные мнения, об этом хорошо свидетельствует письмо известного историка, лидера «западников» Т.Н.Грановского, посланное к Герцену в 1850 году: «Всякое движение на Западе отзывается у нас стеснительной мерой. Доносы идут тысячами. Обо мне в течение трех месяцев два раза собирали справки», — звучит смешно, хотя самому Грановскому было, разумеется, не до смеха.
Прежде всего, всесильное III Отделение обладало ничтожной численностью: в момент создания оно состояло из 16 чиновников. Затем их число непрерывно возрастало и достигло 20 в 1829 году, 28 — в 1841-м, и в 1855 году — уже сорока человек. Если исчислять проценты роста, как это любили делать при Советской власти, то расширение огромное!
Характерно свидетельство одного современника в декабре 1861 года: «в четверг в Знаменской гостинице собралось на обед все третье отделение. Не знаю, что праздновали, но кричали «ура» и выпили кроме других питей 35 бутылок шампанского на 32 человека»!
Разумеется, не одно III Отделение занималось делами политического сыска: ему еще был подчинен Отдельный корпус жандармов; численность последнего также непрерывно росла и достигла 5,5 тысяч человек в 1873 году. Но жандармы вели огромную и разнообразную работу, играя роль внутренних войск и других современных служб: охраняли границу, несли караульно-конвойную службу, производили рекрутский набор, устанавливали и обеспечивали карантин при частых тогда эпидемиях и т. д. Большая часть его состава была унтер-офицерами и рядовыми, ни по функциям, ни по образовательному уровню не способными иметь какое-либо отношение к политическому сыску.
Существовали региональные (губернские и областные) жандармские управления — офицеры этих органов действительно занимались и политикой, и политиками. Но, как и положено в любой бюрократической системе, отдельные местные органы не могли превосходить по численности свое центральное руководство: в этих управлениях действовало не более чем по нескольку профессиональных специалистов.
Более важным к тому же было то, что и само III Отделение, и его переферийные органы занимались не только и не столько политическим сыском, сколь совсем иными расследованиями. Вот как об этом повествует один из современников, Н.М.Калмыков: «III отделение, при шефе жандармов графе А.Х.Бенкендорфе, графе А.Ф.Орлове и других, состоя под ближайшим управлением Леонтия Васильевича Дубельта, преследовало, по своим понятиям, кажущееся зло и, стремясь к добру, отправляло во многих случаях, ничем не стесняясь, функции судебных мест.
Так, оно определяло вины лиц по делам не политического свойства, брало имущество их под свою охрану, принимало по отношению к кредиторам на себя обязанности администрации и входило не редко в рассмотрение вопросов о том: кто и как нажил себе состояние, и какой кому и в каком виде он сделал ущерб.
/…/ В особенности III отделение в прежнее время зорко следило за действиями бывших тогда поверенных или адвокатов. Редкий из них не побывал в III отделении для объяснений с генералом Леонтием Васильевичем Дубельтом», — красочная демонстрация тогдашнего российского бесправия!
Совершенно ясно, что III Отделение действительно было настоящим аналогом доблестных органов ВЧК-ОГПУ-НКВД-КГБ, поскольку с теми же целями совало нос всюду, куда надо и не надо. Но аналог этот был по своим масштабам микроскопическим!!! Понятно, что при той численности и столь разнообразных функциях и речи не могло быть об атмосфере тотальной слежки, о которой на голубом глазу толкуют Герцен, Грановский и прочие!..
Ссылки на якобы бесчисленное число шпионов не могут выдержать никакой критики: тысячи доносов требуют многих сотен людей, которые бы их читали и разбирались в них. Следовательно, и доносчиков не могло быть много!
И действительно, архивные изыскания советского времени показали, что число оплачиваемых агентов, подчиненных непосредственно III Отделению, также непрерывно росло, и достигло к 1870 году аж нескольких десятков человек!
Однако и тех, кто занимался оппозиционной деятельностью, и даже тех, кто ею не занимался, но, по крайней мере, действительно оппозиционно мыслил, говорил и писал, при Николае было так немного (о них — подробнее ниже), что на контроль за ними ничтожному по численности III Отделению тогда вполне хватало сил. Были наверняка при этом и шпионы.
Увы, практически не известны случаи, описанные современниками, в которых возникновение хоть намека на противозаконную деятельность не сопровождалось бы очень скорым появлением и доносчиков, и предателей — это действительно характерная черта той эпохи, и не только ее. Так что винить в этом Николая I и его правительство — едва ли справедливо.
Добровольные осведомители имелись всегда, но характернейшей чертой именно Николаевской эпохи было то, что содержание доносов тогда действительно всерьез расследовалось, что приводило порой к весьма нежелательным для доносчиков результатам.
Известно, что еще Петр I не жаловал доносчиков, и в его время доносчики сильно рисковали, если донос недостаточно подтверждался. Но в то горячее время под расправу мог попасть любой и каждый. Николаевская же эпоха, оказывается, была единственным временем в истории России, когда доносчиков преследовали со всем упорством и настойчивостью, присущим III Отделению.
Число людей, сосланных в Сибирь за ложные доносы в уже рассмотренный период 1827–1846 гг., составляет 358 человек — т. е. лишь немногим уступает числу сосланных политических. Почему-то, однако, никто никогда не писал о вакханалии расправ над доносчиками в Николаевское время!
Имеется и очень красочный пример подобной расправы. За донос на декабристов И.В.Шервуд был всячески обласкан и награжден Николаем: в 1826 году Шервуд получил дворянский титул и приставку к фамилии — Верный. В течение пятнадцати следующих лет он дослужился от унтер-офицера до полковника. И все же судьба и он сам жестоко подшутили над ним самим: в начале сороковых годов он попался на ложном доносе, и загремел за это на десять лет в Шлиссельбургскую крепость!
Эта таинственная история, наверняка имеющая двойное дно, свидетельствует, тем не менее, и о наличии доносчиков, и об их нелегкой судьбе!
Безотносительно от всего этого, осуждение декабристов главным образом за их предшествующую заговорщицкую активность не только стало вопиющим прегрешением против основного юридического принципа — судить за действительные (или хотя бы реально готовившиеся) преступления, а не за содержание безответственной болтовни, но и позволило скрыть главные мотивы и наиболее существенные проступки перед законом и моралью, совершенные вождями мятежа.
Дело о выступлении 14 декабря оказалось юридически не раскрытым и не расследованным.
Это позволило позднее различным идеологам и комментаторам закрыть глаза на сомнительность мотивов и поступков лидеров декабристов, по существу — предателей и провокаторов (а некоторых — просто трусов!), объявить их морально безупречными борцами за идеи и даже возвести в ранг национальных героев!
Вместо разоблачения принципов и преступной тактики революционеров, позднее возрожденных и многократно усиленных будущими поколениями «борцов за свободу», были заложены основы традиции преклонения перед революционной моралью, ради провозглашенных целей (какими бы фантастическими, нереальными, а порой и аморальными они бы ни были) оправдывающей любые средства.
С другой стороны, нераскрытость преступлений породила иную волну критики в адрес таинственных неразоблаченных «освободителей», старавшихся ввергнуть Россию в республиканское рабство — типа процитированных суждений В.Ф.Иванова.
Что же касается тех вольнодумцев, которые ни сном, ни духом не были замешены в преступлениях декабря 1825 года, но оказались жестоко наказанными, то нельзя сказать, что они вовсе ни в чем не были виновны.
Цареубийственные разговоры, продолжавшиеся не один год, таили определенную угрозу: нельзя гарантировать, что рано или поздно не нашелся бы человек, по слабости ума и избытку темперамента превосходящий перечисленных выше несостоявшихся цареубийц, — и тогда его товарищам было бы не просто его удержать! Наши будущие герои Д.В.Каракозов и А.К.Соловьев — люди примерно такого типа! Таким же оказался и Каховский.
Отметим, что и покушение Якубовича, возможно, было не совсем фантазией, а вполне серьезным планом. Так что и этих словоохотливых людей, и всю среду, вскормившую их, имело смысл серьезно предупредить, но не таким же крутым образом, как это совершил суд над декабристами!
Важнейшим последствием судебного решения стало и то, что осужденные именно этой категории совершенно незаслуженно приобрели ореол борцов за свободу. Эти люди в большинстве своем действительно не совершили ничего особенного, что требует специального морального осуждения со стороны потомков (кроме также и их позорнейшего поведения на следствии), но ведь они и вовсе ничего не совершили в политике! А в результате приговора эти благополучные баре, ведшие пустые разговоры и сочинявшие маниловские программы в гостиных и кабинетах своих особняков, палец о палец не ударившие для улучшения порядков в России, ничем не облегчившие положение крепостных, даровый труд которых обеспечивал их комфортное существование, оказались в глазах потомков тоже революционерами или, по меньшей мере, морально безупречными людьми!
Этим также были заложены основы другой процветавшей в будущем традиции, согласно которой все злопыхатели и политические бездельники, годами и десятилетиями брюзжавшие все в тех же гостиных, а также и в эмигрантских кафе, тоже считали себя полезными членами общества и борцами за свободу!
И все это получилось в результате совершенно необъективного официального расследования и невероятно жестокого и несправедливого наказания большинства обвиняемых.
Естественно, что вопиющее пренебрежение справедливостью вызвало горячее осуждение и самими пострадавшими, и всей социальной средой, к которой принадлежали и они, и многие другие их искренние единомышленники, только по лени или по чистой случайности не оказавшиеся в ролях «борцов» и страдальцев (последнее — безо всяких кавычек!), и абсолютно посторонними людьми, включая все последующие поколения.
Тот же Басаргин таким образом завершает анализ того, что произошло с ним самим и его товарищами: «последствия доказали, что, взявши на свою совесть погибель многих лиц, Комитет, или, лучше сказать, горсть бездушных царедворцев, его составлявших, не достигла своей цели. Общественное мнение отвергло его воззрения и восстановило истину [— это, разумеется, оценка самого Басаргина!]. Оно сопровождало своим сочувствием обвиняемых и не наложило на них клеймо бесчестия. Наконец, после 30 лет и само правительство отдало им справедливость, возвратив им прежние места в обществе, которые никто не подумал у них оспаривать [имеется в виду амнистия декабристам 26 августа 1856 года, изданная в связи с коронацией Александра II]. Лучшее же доказательство того, как неосновательно было следствие, состоит в том, что вслед по обнародовании отчета Следственной комиссии правительство запретило собственное свое сочинение и даже старалось уничтожить ходившие в публике экземпляры. /…/
Я теперь уверен, что если бы правительство вместо того, чтобы осудить нас так жестоко, употребило бы меру наказания более кроткую, оно бы лучше достигло своей цели, и мы бы больше почувствовали ее /…/. Лишив нас всего и вдруг поставив на самую низкую, отверженную ступень общественной лестницы, оно давало нам право смотреть на себя как на очистительные жертвы будущего преобразования России; одним словом, из самых простых и обыкновенных людей делало политических страдальцев за свои мнения, этим самым возбуждало всеобщее к ним участие, а на себя принимало роль ожесточенного, неумолимого гонителя».
Позже создался целый легендарный эпос о благородных декабристах, которым, к несчастью для истории России, судьба не дала возможности победить и воплотить в жизнь их чудесные прогрессивные идеи.
С конца XIX века эта легенда стала составной частью общей интеллигентской доктрины, идеализирующей все и всяческие революционные тенденции, а после 1917 года стала сугубо официальной идеологией.
Ныне революционные идеалы в значительной степени поблекли и потускнели, а вот легенда о декабристах живет и здравствует.
Можно привести просто поразительный пример. Высококвалифицированный историк и идеолог, жесткий и толковый критик националистических тенденций в российской идеологии и историографии, профессор А.Л.Янов продолжает холить и лелеять память о дорогих его сердцу декабристах: «Не было у декабристов ни идеи о «едином народе-богоносце», ни расисткого мессианства, ни притязаний на «определяющую роль России в жизни человечества». Там, где у славянофильствующих поколений — «империя», у декабристов — «федерация». Там, где у тех — «сверхдержавность», у них — нормальное европейское государство. Там, где у тех — «мировое величие и призвание», у них — свобода. И жестокая национальная самокритика».
Трудно спорить о том, чего у декабристов не было. Зато совсем нетрудно проиллюстрировать, что у них было.
Н.М.Дружинин, которого невозможно заподозрить в отсутствии симпатии к декабристам, а в особенности к его любимому Никите Муравьеву, так вынужден прокомментировать план устройства предлагаемой последним «федерации», которую сам Муравьев, вопреки Янову, прямо именует «Империей» — и не с маленькой буквы! Итак: «Финляндия оказывается сосредоточенной вокруг Петербурга, Украина и Литва — разорванными на части, Кавказ — искусственно соединенным с южными губерниями. /…/ Н.Муравьев очень далек от мысли построить союзное государство на договоре отдельных национальностей. Принципиально он исходит из великодержавной точки зрения: Российская империя смешивает и ассимилирует в своем составе разнообразные подчиненные народности. В этом отношении Н.Муравьев даже отступает назад сравнительно с установившимися отношениями начала XIX в[ека]: он не признает ни автономии Финляндии, ни юридической обособленности Остзейского края. /…/ Не федерация самостоятельных наций, а разделение страны на «естественные» хозяйственные комплексы».
Вполне по-современному (к счастью — не для России, а для стран, некогда входивших в Остзейский край) звучит один из пунктов конституции Муравьева: «Чрез 20 лет, по приведении в исполнение сего Устава Российской Империи, никто необучившийся Руской грамоте не может быть признан Гражданином»!
Разумеется, это конституционный проект вполне нормального европейского государства — как вполне нормальны современные государства Балтии. Но вот принципы нарезания границ Никитой Муравьевым все же больше напоминают несколько более экзотический и экстремальный вариант, который пытались осуществить европейские культуртрегеры на той же российской территории в 1941–1944 годах, только, конечно, не в пользу русской нации!..
Невозможно предположить, что Янов конституции Муравьева не читал — он о ней нередко рассуждает и цитирует из нее хрестоматийные выдержки об отмене рабства, но любовь к романтическим легендам пересиливает научную непредвзятость!
Всякое преступление заслуживает соответствующего наказания. Ненаказанный же и неискупленный проступок может породить последующие, которые, нарастая как снежный ком, подгребают под собой всякую возможность безупречного безгрешного дальнейшего развития событий.
Трусость Николая I, уступившего 27 ноября 1825 году преступному напору Милорадовича, и нежелание признать и искупить собственную вину, привели молодого царя к необъективному и несправедливому наказанию декабристов за их действительные и мнимые преступления.
Это, в свою очередь, исключило объективность оценок общественным мнением и создало совершенно извращенную трактовку всего происшедшего, навязав многим последующим поколениям ложные цели и идеалы. В этом — основное преступление самого Николая I перед историей России.
Наказан же он был еще при жизни. Поставив себе изначально сомнительные цели (навязанные ему в той или иной степени императором Александром I), Николай Павлович еще в 1818 году пошел на конфликт с гвардейским офицерством — как ни крути, но все же не худшей в моральном и политическом отношении средой в тогдашней России. Этот конфликт отчасти породил и события 1825 года.
Несправедливо свалив всю вину за происшедшее на своих оппонентов, Николай I закрепил создавшуюся традицию вплоть до самого конца собственного царствования. А между тем…
14 декабря 1825 года на трон вроде бы взошел царь-реформатор. В тот день почти никто не мог понять и оценить этого (кроме Сперанского, мнение которого приведено выше), и по сей день немногие это понимают и оценивают.
Последнее неудивительно, т. к. из реформ Николая I практически ничего не получилось — это относится к темам наших последующих публикаций. Но сразу можно и нужно сказать, что одной и, может быть, главной причиной неудач Николая было отсутствие творческой общественной силы, способной принять и подхватить его начинания. Несправедливо осудив декабристов, Николай лишил себя возможной и необходимой поддержки породившей их среды.
До большинства современников и практически всех потомков просто не дошло, что конфликтом 14 декабря между царем и декабристами вовсе не исчерпывались главные политические противоречия тогдашней эпохи.
Вовсе не одних декабристов наказывал жестокий и несправедливый приговор и не только некоторых судей из числа им сочувствующих, которые подверглись, таким способом, моральному унижению и издевательству. Наказывая декабристов, Николай демонстрировал свою жестокость и непримиримость перед лицом всей оппозиции, главные деятели которой не оказались и близко от скамьи подсудимых на процессе декабристов (фактически ее и вовсе не было: сидевших в крепости осудили заочно).
Ведь вовсе не декабристы представляли собой основную угрозу воцарению Николая и удержанию им трона. Этого могли не понимать почти все декабристы, этого не знала основная масса образованной публики и тем более вся необразованная, потомками которой и является современное население России, но это прекрасно знал и сам Николай I, и все сохранившиеся у власти сообщники и единомышленники Милорадовича и Дибича.
Этот последний и такие как он, в последующие времена вроде бы ничем не проявили своих прежних отношений к воцарившемуся Николаю. Но это не совсем так.
На примере декабристов Николай продемонстрировал, как жестока могла быть его расправа: ведь он опирался на громадную силу российского крестьянства, настроения которого весной 1826 года ни для кого секретом не были.
Эйфория восторга питерской черни от зрелища неповиновения на Сенатской площади испорилась без следа. Зато аресты причастных к заговору вызвали у крестьян всеобщий восторг: «помещиков берут в С.-Петербург, а мужикам дается вольность», — такие суждения цитировал в апреле 1826 года начальник штаба 2-й армии П.Д.Киселев, донося начальству о настроениях населения в районе происшедшего ранее восстания Черниговского полка.
Аналогичные слухи циркулировали в Петербургской, Новгородской, Псковской и Рязанской губерниях и ряде других мест, вызвав повсюду многочисленные акты неповиновения помещикам.
Сразу после казни декабристов один из агентов новорожденного III Отделения доносил из Москвы о разговорах среди простонародья: «начали бар вешать и ссылать на каторгу, жаль, что всех не перевесили, да хоть бы одного кнутом отодрали и с нами поравняли; да долго ль, коротко ли, им не миновать этого»! До осуществления этого гуманного и прогрессивного прогноза пришлось подождать, однако, почти сотню лет!
Неудивительно, что и дворянское общественное мнение, облегченно вздохнув от страхов, обоснованно вспыхнувших 14 декабря, тут же изменило отношение к декабристам. Дворянству было не до программ и тактики декабристов (освещенных в прессе, к тому же, крайне скудно!), но недвусмысленное стремление молодых дворян забрать судьбы России в собственные руки вызвало полное понимание и сочувствие перед лицом угрозы крестьянских возмущений. Непонятная мотивация жестокой расправы позволяла вовсю разыграться фантазиям на любой вкус! Тут пора припомнить и клятву юных Герцена и Огарева на Воробьевых горах!
Совершенно не случайно, что человеком, в наибольшей степени постаравшимся обратившего внимание на созревший новый конфликт, оказался все тот же Киселев, четко предупредивший Николая I, куда заведут последнего чрезмерные усилия в расследовании деятельности дворянской оппозиции. И это сделал, подчеркиваем, именно Киселев, который, казалось бы, должен был трястись от страха в ожидании почти неминуемых разоблачений своей заговорщицкой деятельности — и однако же!
Что должен был прочитать Николай I и в холодных глазах Дибича при их личной встрече?! Ведь не случайно А.Д.Боровков ни слова не проронил о том, какими оказались сведения императора в итоге следствия над высокопоставленными подозреваемыми!
Надеждам Константина Павловича на разоблачение главных заговорщиков сбыться было не суждено. Наоборот, здесь фактически произошел еще один безмолвный сговор: лидеры оппозиции проглотили урок, никак не возразив против расправы над декабристами, а Николай I вполне удовлетворился их безмолвным повиновением — и попробовал бы не удовлетвориться!
Этот компромисс и послужил основой последующего многолетнего царствования Николая I, объясняя и почти отсутствие серьезных оппозиционных проявлений, и полное бессилие императора в деле проведения реформ, противоречащих интересам всесильной бюрократии, лидерами которой по существу и были при Александре I Милорадович и Дибич — под их вкусы Никита Муравьев и подгонял свою конституцию.
Со временем менялись политические настроения и внутренняя расстановка сил в этом слое государственных руководителей. Н.С.Мордвинов, П.Д.Киселев и М.С.Воронцов так и оставались приверженцами либерализма и освобождения крестьян, чего нельзя сказать об основной массе людей, окружавших Николая I.
Декабристы же как были мелкими сошками в закулисной политической борьбе, так и остались таковыми при осуждении и после. Подписи под их приговорами по существу и стали подписями под соглашением между Николаем I и убийцами его старшего брата.
Николай I как бы провел четкую черту: он отступился от расследования деяний главных заговорщиков, но та мелочь, что попалась, была отдана почти целиком в его недобрую власть — за немногими исключениями в лице представителей особо влиятельных семейств.
Увы, таков смысл и такова цена человеческой жизни в России — все это разменные монеты!
Со временем установилось совершенно превратное представление о роли и заслугах декабристов. Это решающим образом помешало осуществить полное и беспристрастное расследование удивительных событий 14 декабря 1825 года. Но теперь, вооружившись всем множеством приведенных фактов и наблюдений, мы вполне можем завершить выявление объективных и весьма неприглядных истин.
15. Кто предал декабристов?
Письмо Дибича 12 декабря привело заговор в движение, а важнейшим событием, предшествовавшим восстанию 14 декабря, стала миссия Ростовцева. Вот к ней теперь и вернемся.
Начнем с того, что Ростовцев вроде бы в заговоре декабристов вовсе не состоял — очевидных свидетельств против такого утверждения не найдено. Сам Ростовцев, узнав в 1847 году о начале работы Корфа над книгой, крайне обеспокоился и представил последнему скорректированную версию своих поступков 12–14 декабря, а перед публичным изданием 1857 года дополнительно уточнил ее, хотя Корф все это отшлифовал на свой вкус.
Итак, днем 12-го Ростовцев будто бы случайно зашел домой к Оболенскому и застал там совещание молодых офицеров (Ростовцев показал, что около двух десятков человек). При виде постороннего разговор прервался. Вышедший Ростовцев догадался, что это заговорщики, слухи о которых до него доходили. Это якобы вдохновило его на идею предупредить великого князя, изложив все известное ему содержание слухов. Идеей он поделился со своим родственником — зятем А.П.Сапожниковым, мужем сестры Ростовцева Пелагеи Ивановны. Последний одобрил намерение; в квартире у него Ростовцев и написал письмо к Николаю Павловичу, а затем исполнил описанную миссию. Желая быть честным, на следующий день он предупредил и Оболенского; поведение же его 14 декабря в объяснениях не нуждается — с последним утверждением почти согласимся.
Забавно выглядит версия, запущенная в неофициальный оборот сразу вскоре после 14 декабря. Ее пересказал своей матери Николай I и она появилась в дневнике Марии Федоровны 14 марта 1826 года (об этом мы упоминали): «Этот Ростовцев — адъютант Бистрома, так же как и Оболенский; не подозревая, что Оболенский причастен к заговору, он сообщил ему о своем письме к государю; Оболенский ответил ему, что убьет его, и тотчас же отправился к соучастникам, чтобы предупредить их, что необходимо поторопиться, что они рискуют быть выданными Ростовцевым. Было решено устранить его, и на другой день — 14-го, когда Бистром послал его передать его распоряжения стрелкам, он подвергся нападению и был избит /…/».
Эту версию даже трудно критиковать — настолько она нелепа! Ни 13 декабря, ни тем более 14-го никто уже не рисковал быть выданным Ростовцевым, и такого повода для его убийства быть не могло.
Отметим, что Николай I проявил заинтересованность именно в этой версии, хотя способности к логическим провалам за ним не замечается.
Неудивительно, что Ростовцев постарался представить более правдоподобную.
Эта последняя, в сочетании с заявлением Якушкина, что Рылеев и Оболенский были в курсе миссии Ростовцева еще до ее исполнения, позволяет выстроить последовательность поступков всех задействованных лиц 12 декабря.
Предуведомим изложение разъяснением того, кто такой Сапожников, участие которого счел нужным подчеркнуть Ростовцев.
Хотя Ростовцев по отцовской, дворянской линии и занимал незавидное положение третьего сына в небогатом, как будто бы, служилом семействе (да еще и имея сестер, которым полагалось выделять приданое!), но по материнской линии и через упомянутую сестру Ростовцев состоял в родстве с богатейшими купеческими фамилиями Петербурга.
Его мать, урожденная Кусова, была сестрой Н.И.Кусова — купца 1-й гильдии, петербургского городского головы и одного из главных акционеров Российско-Американской компании. А.П.Сапожников также был купцом 1-й гильдии, директором Государственного Коммерческого Банка и одним из директоров той же Российско-Американской компании.
Учитывая, что управляющим конторой этой же компании был, как упоминалось, Рылеев, можно констатировать, что замкнутый четырехугольник Рылеев — Оболенский — Ростовцев — Сапожников — и снова Рылеев представлял собой сплоченную группу людей, связанных дружескими или родственными, а одновременно и деловыми или служебными отношениями: каждая из вершин тесно соединялась с двумя соседними, а с диагональной могли поддерживаться лишь отношения нейтрального знакомства.
В критической ситуации 12 декабря весь «четырехугольник» был дружно задействован.
Ростовцев, по-видимому, застал у Оболенского то самое совещание, когда последний вместе с Рылеевым и декларировал собранным офицерам инструкции по исполнению приказа Диктатора о восстании — едва ли существенно, что более чем через двадцать лет Ростовцев несколько ошибся в подсчете собранных людей (а может быть, неверные данные были из других источников, преуменьшивших перечень собравшихся?). Неудивительно, что заговорщики при вошедшем постороннем замолчали, но, в свете последующего, едва ли могло быть, что он затем отправился восвояси: возможно, подождал в соседней комнате или, погуляв немного, снова подошел позднее, а может быть (и это не исключено!) присутствовал при продолжении совещания, представленный начальством как человек, которому можно доверять!
Последнее, разумеется, менее вероятно, т. к. существовала последующая возможность распространения сведений об этом странном эпизоде от кого-либо из присутствовавших. Впрочем, никто из них не рассказал и о случайном появлении Ростовцева, так что можно предположить любые подобные варианты — не в этих деталях дело.
Вызван ли был Ростовцев к Оболенскому специально (тогда замысел миссии созрел еще до его прихода; к обсуждению такой возможности мы еще вернемся) или судьба действительно занесла его случайно, подсказав Рылееву и Оболенскому последующие действия (события 12–14 декабря развивались в невероятном темпе, заставляя всех участников импровизировать на ходу!), но, теперь или раньше, лидеры декабристов решили задействовать Ростовцева.
Ему объяснили или (так было бы надежнее) продиктовали содержание письма к Николаю — ведь невозможно было доверить целиком всю столь важную миссию такому все же неопытному молодому человеку, а ставкой в игре были судьбы и жизни многих людей!
Кстати, копия письма Ростовцева к Николаю, представленная им Оболенскому и Рылееву 13 декабря, и была, скорее всего, этим первоначальным черновиком — который тем более нужно было вернуть, продемонстрировав как неутраченный: ведь на нем могли сохраниться автографы не одного Ростовцева! После 14 декабря они уже не могли быть уликой, так как теоретически могли возникнуть на этой бумаге уже 13 декабря после ее возвращения к Рылееву и Оболенскому!
В квартире у Сапожникова, с которым Ростовцев счел нужным посоветоваться, последнему оставалось лишь переписать письмо начисто. Имел ли Сапожников по этому поводу специальные контакты с Рылеевым или и так достаточно хорошо знал и понимал своего служащего, но со стороны Сапожникова возражений не последовало.
Заметим, что приход к Сапожникову, возможно, имел несколько вынужденный характер: задерживаться у Оболенского было нельзя — того ждали совещания у Рылеева, а если верны сведения, что Ростовцев в это время жил на квартире Бистрома, то последний мог создать совершенно неожиданные и крайне нежелательные помехи.
Что же касается Сапожникова, то еще М.Н.Покровский, занимавшийся этим сюжетом в свое время, но не склонный возиться с криминальными историями, подчеркивал, что, с одной стороны — в программах декабристов не было противоречий со стремлениями русского купечества, а с другой — Сапожников и прочие крупные купцы скептически относились к перспективам захвата власти заговорщиками-декабристами; о последнем свидетельствовал, в частности, и Н.И.Греч. Для Покровского все это доказывало, прежде всего, предательскую сущность буржуазии!
Так или иначе, но миссия Ростовцева, подробно рассмотренная нами выше, ориентировалась на запугивание Николая с целью избавиться от необходимости восстания, ослабить возникшую политическую напряженность и дать возможность дальнейшему мирному продолжению интриг. «Магический четырехугольник» (Рылеев, Оболенский, Ростовцев и Сапожников) пришел в этом отношении к полному взаимопониманию.
Поскольку времени в междуцарствие хватало, а, начиная с 8 декабря, дальнейшие перспективы становились все яснее, то миссия Ростовцева, возможно, была продумана и согласована заранее — стартом для ее начала, а именно вызовом Ростовцева к Оболенскому и должна была стать команда на восстание, ожидавшаяся «четырехугольником» от Милорадовича.
Любой исход миссии, однако, требовал подробного отчета Ростовцева.
Кстати он, вероятно, ограничился визитом к Оболенскому: Штейнгель только думал, что Ростовцев был у Рылеева, показавшего Штейнгелю и остальным письмо Ростовцева. Ситуация стала неприятной, но гнев Рылеева в адрес Ростовцева должен был быть исключительно театральным — к этому, впрочем, мы еще вернемся!
Обратим внимание на упорное стремление троих (Ростовцева, Оболенского и Рылеева) иметь документы о визите Ростовцева в письменном виде и распространять их среди заговорщиков — только ли заикаинье Ростовцева было тому причиной? При этом Рылеевым повторялись какие-то слова о предательстве, но в то же время демонстрировалось содержание текста, которое мы приводили выше, а комментируем ниже — никаким особым предательством оно не было!
Характерно, однако, что желание Рылеева исправить положение вылилось в попытку подвигнуть Каховского на цареубийство! Согласимся, что исходя из логики заговорщиков, такое решение более чем эффективно компенсировало бы срыв восстания декабристов. И, однако, оно не было приведено в исполнение, хотя готовность к убийству Каховский проявил в полной мере!
Это трудно не связать с появлением у Рылеева в тот же день Глинки, принесшего распоряжения разгневанного Милорадовича.
Гнев последнего никак не мог быть театральным! А чем он, в сущности, должен был быть вызван?
Ответ очевиден: тем, что Николай изменил порядок проведения присяги и сорвал план восстания, ориентированный на захват Сената.
Но раньше мы неоднократно подчеркивали, что на руководящую идею восстания указывали и прежние угрозы самого Милорадовича. Что же, теперь он просто постарался переложить ответственность с больной головы на здоровую? В принципе не исключено, но обратим внимание на другое.
А откуда вообще взялась идея, что Ростовцев выдал Николаю план восстания? Ответ понятен: еще Герцен с Огаревым знали, что он предатель, а раз предатель — то все и выдал: кто шляпку спер, тот и тетку пришил! — это из известной пьесы Б.Шоу!..
Доказательством того, что случилось предательство, и стало изменение Николаем плана присяги! Большинство историков до недавних времен послушно следовало этой традиционной версии.
Но вернемся теперь к известным подробностям миссии Ростовцева, прежде всего — к тексту письма, которое было Николаем показано затем и Милорадовичу с Голицыным.
Что же в нем указывает на план восстания? Да ровным счетом ничего: там даже предполагается, что гвардия поддержит Николая — посмотрите еще раз!
Значит, Ростовцев не предатель?
Как раз наоборот: именно это и значит, что он самый настоящий предатель — и не он один!
Проследим теперь пути следования плана, разработанного Милорадовичем: сначала Милорадович передает его устно Глинке, затем Глинка также устно сообщает его Рылееву, затем Рылеев и Оболенский декларируют его собранию молодых офицеров. От них этот план никуда уже не должен следовать: они сами должны его исполнять и командовать солдатами, которым отдаются не планы, а приказы. Все это, повторим и подчеркнем, сугубо устно! Почему?
Потому что план прост, как все гениальное, а попадание его во враждебные руки сразу обесценивает весь замысел. Последнее и произошло.
Если бы Николай получил только информацию, соответствующую письму Ростовцева, то у него не было никаких оснований менять план присяги. Если он его все же поменял, то значит — догадался о плане Милорадовича или получил его в готовом виде. Но до сих пор он ни о чем не догадывался, а тут вдруг сразу догадался после той ахинеи, которую принес ему Ростовцев!
Разумеется, всякий человек, сначала не имевший идею, а затем к ней пришедший, совершил это в какой-то определенный момент. В какой-то момент и Николая могло осенить, и он сделал совершенно правильные выводы из предшествующих предупреждений Милорадовича. Беда в том, что произошло это сразу после визита Ростовцева, а содержание доноса, предупреждения или предостережения (оттенки разные, но смысл один!) Ростовцева вовсе не содержало плана восстания! Значит, либо Ростовцев никакого плана восстания не выдал (хотя даже в 1868 году Герцен продолжал настаивать на этом!), либо все-таки выдал — сугубо устно!
В пользу последнего свидетельствует как будто совершенно неоспоримое наблюдение, что никаких других событий, способных повлиять на озарение Николая, с вечера 12 декабря не происходило! А в этот самый вечер вдруг сразу были написаны письма Николая в Таганрог о неизбежной трагической опасности, причем проистекающей не от Кавказского корпуса или военных поселений, как предупреждал Ростовцев, а непосредственно в столице — послезавтра, 14 декабря! А ведь совсем недавно, например 3 декабря, Николай никакой особой опасности не ощущал, хоть его Милорадович и пугал! Больше он явно побаивался самого Милорадовича лично!
Но в чем же смысл того, чтобы Ростовцеву выдавать план восстания?
Вернемся снова к целям миссии Ростовцева.
Что было главным? Запугать Николая и сорвать восстание — это мы уже объясняли.
Но что из этого было главнее? А не второе ли?
Ведь очень не хотелось рисковать жизнью молодым людям, которых ждала служебная карьера, а если и не ждала (в результате письма Дибича и последующих кар), то ничем особо опасным и это не грозило: ну выгонят со службы — так опять же гостеприимно приютит родная Российско-Американская компания!
Предположение о том, что Рылеев с Оболенским могли заранее выдать план восстания, звучит совершенно чудовищно лишь исключительно в свете того, что позднее произошло 14 декабря, и того, как жестоко поплатились за это Рылеев и Оболенский!
Но ведь если они выдали план восстания, то это произошло не после 14-го, а 12 декабря!
После 14 декабря Рылеев был казнен, а Оболенский присужден к вечной каторге, но что же им грозило 12 декабря?
Да ровным счетом ничего: из письма Дибича следовало только неизбежное полное разоблачение заговора.
Мы понимаем (в отличие от Рылеева и Оболенского), чем это грозило Милорадовичу, Дибичу, Киселеву, даже Аракчееву — эти уже успели замараться в таком, что им только и оставалось продолжать громоздить один труп на другие. Поэтому ими и отсекались жесточайшим образом все нити, ведущие к разоблачению заговора. Поэтому, естественным образом, Милорадовичу и необходимо было восстание декабристов!
Но вот в чем конкретно были виновны до 12 декабря Рылеев с Оболенским? Да ровным счетом ни в чем! Не могли же они ожидать столь нелепых приговоров 1826 года, осуждавших за слова и чуть ли ни за мысли!
И вот этих-то невинных людей какой-то Милорадович самым наглым образом пытается погнать на такое отнюдь не невинное мероприятие, как вооруженное восстание!
Разумеется, неплохо было бы победить и захватить власть, но ведь даже и ее — не в собственные руки, а в руки того же Милорадовича в компании с Мордвиновым, Сперанским и незнаемо с кем еще! Конечно же, Рылеев и Оболенский прекрасно понимали, что никто и не собирается допускать их самих в правительство: поэтому-то и пытались подготовить хоть одного собственного представителя — Батенкова!
А ну как не получится победа? Тогда и вовсе не исключена каторга, даже если упорно ссылаться на верность присяге Константину: все равно кто-нибудь проговорится, что это было только предлогом, а по существу — враньем!
Разумеется, Рылеев с Оболенским вели бы себя совсем по-другому, если бы не только каким-то образом узнали о своей собственной незавидной участи в результате всех мер, предпринятых ими начиная с 12 декабря, а хотя бы могли предположить, что и совсем невинные люди, даже и не запятнавшие себя ни сном, ни духом в событиях 14 декабря, но упомянутые уже в письме Дибича, так же подвергнутся ужасным карам: Пестеля повесят, Вадковскому дадут вечную каторгу, Никите Муравьеву и Свистунову впаяют по 20 лет каторги, а долгие мытарства совершенно аполитичного плейбоя Захара Чернышева начнутся с двухлетнего каторжного срока!
Но ничего этого Рылеев с Оболенским 12 декабря знать не могли, и очень должны были возмутиться столь бесцеремонным вторжением в их личные судьбы, как позволил себе, повторим этот эпитет, наглый генерал-губернатор!
Перечить грозному Милорадовичу они не могли — это был бы прямой путь в кутузку, а вот принять тайные меры по своей защите вполне было уместно!
Выше мы уже обращали внимание на сходство заговора графа Милорадовича с помещичьим хозяйством. Аналогия эта отнюдь не поверхностна: крепостническая психология пронизывала весь русский народ сверху донизу — так было не один век, и к этому мы еще будем возвращаться. Неслучаен и характер реакции декабристов на давление со стороны Милорадовича.
Здесь вполне уместно привести фрагмент описания крестьянской психологии из книги знаменитого в XIX веке прусского государственного деятеля и идеолога барона А.Гакстгаузена, путешествовавшего по России в 1843 году: «Достаточно, чтоб помещик приказал пахать землю на дюйм глубже, чтобы можно было услыхать, как крестьяне бормочут: «Он плохой хозяин, он нас мучает». И горе ему тогда, если он живет в этой деревне!»
Восстание же было гораздо более, чем на один дюйм глубже, чем вся предшествующая деятельность декабристов! Так что вовсе не исключено, что пламенные революционеры, исходя из своих истинных глубинных мотивов, действительно должны были желать срыва восстания как самой главной цели!
Что же они должны были для этого сделать?
Итак, они получили от Милорадовича план восстания и успели уже проинструктировать молодых лопоухих сообщников. Теперь они посылают Ростовцева, чтобы запугать Николая и тем самым сделать восстание ненужным.
Но если Николая нельзя запугать, а восставать все равно не хочется? Что делать тогда?
Нет другого выхода, кроме как выдать план восстания Николаю!
По-видимому, именно такие инструкции Ростовцев и получил от Рылеева и Оболенского; с учетом требований конспирации — от одного Оболенского, но скорее всего — с санкции Рылеева, хотя доказать это невозможно.
Но то, что Оболенский рассказал Ростовцеву план восстания — это несомненно: без информации Ростовцева не было бы изменения Николаем плана присяги! А больше ниоткуда этот план ни Ростовцев, ни Николай узнать не могли!
Об этом должен был догадаться Милорадович, получивший сведения о самой беседе Ростовцева с Николаем и прочитавший письмо Ростовцева: факт же, что Николай демонстрировал письмо Ростовцева Милорадовичу и А.Н.Голицыну — это рассказывалось Николаем I при жизни князя и никак не могло быть неправдой. Соответственно, происходило и коллективное обсуждение, при котором Милорадович и Голицын, как упоминалось, призывали не принимать Ростовцева всерьез и игнорировать его предупреждение. Возможно, именно это и стало перебором! Ведь перестал же с этого момента Николай доверять Милорадовичу!
После этого, вопреки их советам, и произошло изменение плана присяги, доведенное Николаем днем 13 декабря до Воинова (его никак нельзя было миновать!), митрополита Серафима и Лопухина — так говорится в записках Николая. В последних только не уточняется содержание указаний, исходивших от него самого; оно просто вытекает из последовательности событий, происходивших самым утром 14 декабря.
Нам все же представляется, что Лопухин был уведомлен великим князем дважды: в первый раз — о необходимости созвать заседание Государственного Совета. Это произошло еще вечером 12 ноября, т. е. после приезда Белоусова с письмами, одновременно с отправкой курьера за Михаилом, но до предупреждения Ростовцева. Назначение заседания Государственного Совета ведь никак само по себе не было связано с процедурами приведения к присяге и прочими техническими подробностями, о которых должен был начать заботиться Николай после предупреждения, полученного от Ростовцева, а собрание Совета существенно предшествовало по времени остальным шагам.
А может быть — и это самое страшное предположение, какое только можно сделать! — Ростовцев выдал Николаю и самого Милорадовича?
Едва ли это можно доказать, но все события тех дней никак не опровергают такую версию!
Сделаем предположение, как это могло происходить. Задав Ростовцеву естественный вопрос о Бистроме (тот был его начальником, и его именем Ростовцев прикрывал свой визит), Николай получил вполне четкий и ясный ответ: Бистром не был в курсе действий Ростовцева — это было, конечно, правдой!
Тут придется признать, что положение честного человека все-таки ужасно трудно — а ну как ему зададут простой вопрос, а не участвует ли в заговоре генерал Милорадович? Ведь не вправе же честный человек предотвратить этот вопрос!
Можно даже, если честному человеку самому очень хочется, как-то надоумить такой вопрос задать, отвечая на предыдущий — о Бистроме! Возможно, этот ответ подкреплялся и дополнительным усилением: по сведениям Ростовцева, Бистром и в заговоре не состоит! В такой именно формулировке это тоже было правдой, но, согласимся, это было бы уже некоторым отступлением от первоначально провозглашенного принципа — не указывать на конкретных лиц!
Разумеется, после этого Николаю не обязательно было спрашивать прямо о Милорадовиче: вполне можно было сначала поинтересоваться о ком угодно еще — и Ростовцев должен был давать неизменно отрицательные ответы: ведь он действительно не знал или формально мог считать, что не знает, кто же еще состоял в заговоре. Так что тут принципы честности, столь обоснованно возмутившие Герцена и Огарева, даже не понявших сути игры, Ростовцевым продолжали соблюдаться. И вот вдруг вопрос о Милорадовиче задан!
А как на него отвечать? Если Ростовцев — человек честный, то нужно сказать да, но это уже будет доносом! Если сказать нет, то уже не будешь честным человеком!
Оставалось придерживать заикающийся язык, честно глядеть в глаза Николаю (говорят, редко кто выдерживал гипнотический взгляд императора!), пыхтеть, пожимать плечами и разводить руками!
Выигрышное положение заики (не случайно же Оболенский выбрал для этой миссии именно его!) позволяло, не нарушая этики общения со столь высоким начальством, тянуть время, уходить от нежелательных вопросов, тщательно продумывать дальнейшие реплики, диктовать всем этим направление переговорам и энергично использовать мимику, которую уже ни к какому протоколу не подошьешь! В результате исключалась и возможность того, что Николай, не поверивший, допустим, голословному доносу Ростовцева, выдаст его с головой Милорадовичу!
Очень не простой была эта беседа! Ведь во время нее как-то и по какому-то удобному поводу осуществился и другой важнейший честный акт: сугубо устная выдача Ростовцевым плана восстания, опять же — без указаний на лица!
Николаю же оставалось получить подтверждение вынесенным впечатлениям, после чего и произошел его очередной контакт с Милорадовичем, во время которого оба постарались проникнуть в мысли друг друга. Будущее показало, что в этот раз это лучше удалось Николаю, хотя и оппонент сделал какие-то свои выводы.
Выдан ли был персонально Милорадович или нет, но сам факт предательства Оболенским (почти наверняка — совместно с Рылеевым, поскольку и соучастие его начальника Сапожникова не подлежит сомнению) всего дела заговорщиков нужно считать несомненным.
Однако, согласившись с таким тезисом, мы должны признать, что затем у Рылеева с Оболенским не должно было возникать уже никаких моральных препятствий и для выдачи персонально головы Милорадовича.
В этом был бы даже особый рациональный смысл: тогда и вовсе никто не стал бы гнать декабристов на восстание! Поэтому Оболенскому было бы весьма полезно вооружить Ростовцева последней и самой важной инструкцией: выдав Николаю план восстания, выдать и его автора! Ради такого дела стоило поделиться с Ростовцевым самой сохраняемой тайной декабристов!
Не случайно и имя Милорадовича вдруг начало склоняться Рылеевым уже утром 13 декабря (рассказ Штейнгеля): сообщников подготавлявали к вполне определенным новостям, указывая на странности в поведении генерал-губернатора. Только новости оказались не совсем такими, как ожидал сам Рылеев.
Выдача Милорадовича, если она действительно произошла, оказалась решающим просчетом несколько наивных вождей декабристов, почти наверняка расчитывавших услышать на следующий день новость, что Милорадович засажен в Петропавловскую крепость!
Как и большинство российских подданных, они весьма инфантильно представляли себе истинные возможности самодержавного царя. Не могло им быть до конца ясным и то аховое положение, в каком в эти дни пребывал Николай!
Если Николай уже 12 декабря знал (или вычислил это по целенаправленным намекам Ростовцева позже — к 13 или 14 декабря), что Милорадович заговорщик, то что мог сделать великий князь, а затем уже царь?
Да ровным счетом ничего: устные сообщения Ростовцева к делу не подошьешь, и где доказательства?! К тому же вплоть до часа ночи 14 декабря Николай и вовсе не располагал ни малейшей административной властью над петербургским генерал-губернатором!
Вот с утра 14-го уже можно было снять Милорадовича с должности под подходящим предлогом или просто послать его на верную смерть! И именно эта альтернатива и была предложена на выбор самому генерал-губернатору Николаем I при последней их встрече на Дворцовой площади! Помимо кнута, правда, использовался и пряник: предоставлялась возможность Милорадовичу самому ликвидировать мятеж! Увы, пряник оказался несъедобным!
А вот до утра 14-го Николая ждали ужасающие переживания!
Он должен был подвести итоги всем впечатлениям, накопившимся у него с 22 ноября, когда Лопухин первым по счету из царедворцев отказал ему в поддержке! Только и оставалось теперь аппелировать к сочувствию генералов в Таганроге, ничем его пока не обидевших!
Вот тут-то и становится понятен его страх перед заседанием Государственного Совета 13 декабря, хотя Ростовцев, напомним, письменно предупреждал вроде бы о лояльности Совета! Становится ясным, почему Николай сначала никак специально не рассчитывал на помощь Михаила на этом заседании, а потом не мог набраться сил, чтобы без него пойти туда!
Михаил мог пригодиться, чтобы помочь уговаривать солдат. И он действительно пригодился, и даже, может быть, сыграл самую решающую роль, отобрав у противника артиллерию. Но вот членов Государственного Совета уговаривать вовсе было не нужно: и читать, и думать они и сами умели.
Все в актах, подготовленных к вечеру 13 декабря, было ясно и абсолютно законно — спорить было не о чем; они спорить и не стали!
Николай же, совершенно очевидно, заранее впал в панику! Он боялся этих старцев даже физически! Возможно, трусливое воображение, какое у него имелось в избытке, уже рисовало ему жуткие сцены: Мордвинов и Сперанский (только что сочинивший манифест для отвода глаз!) хватают его за руки и за ноги, а Милорадович перепиливает ему горло саблей — с дарственной надписью от графа Палена!
Только на брата Мишу и оставалось рассчитывать! Все остальные запросто могли оказаться сообщниками убийц!
Вот почему Николай вечером 13-го долго собирался с силами, но все-таки в полночь решился — тут-то, возможно, и сыграло отношение к магическому числу 13! Ведь он прекрасно знал, что Михаил доехать все равно до утра не успеет, а отступать уже было некуда!
Позор или смерть! А оказалось — триумф!
Что из всего этого мог успеть рассчитать Милорадович в последние сутки до полученного смертельного ранения? Трудно сказать — ведь времени у него было совсем мало. Но в его положении ему не позавидуешь.
Так или иначе, рассчитал он многое.
Кто был сообщником Ростовцева среди декабристов — сразу оценить было невозможно: информацией с последним мог поделиться любой из участников совещания у Оболенского днем 12 декабря, а несколькими часами позднее — уже и не только они. Но самым подозрительным оказывался, естественно, Оболенский — ввиду тесных служебных контактов с Ростовцевым.
Выяснить это было бы вроде не трудно: нужно было только толково допросить Ростовцева! Но и на это времени не оставалось, ибо делать это нужно было очень аккуратно: Ростовцев теперь оказался под покровительством Николая!
Вполне логично было бы, если бы Глинка принес Рылееву и команду найти предателя: что еще оставалось делать Милорадовичу, вынужденно продолжавшего рассчитывать на содействие Рылеева и его коллег? Ведь времени-то совершенно не оставалось на более правильные и разумные ходы, а в качестве полумеры годилось и такое!
Это была угроза, заставлявшая подчиниться и возможных предателей!
Возможно, для Рылеева с Оболенским самым страшным оказался сам факт визита Глинки с сообщением, что Милорадович не только не арестован, но и пытается продолжить руководство заговором и угрожает вычислить виновников предательства, о котором узнал!
Вот тут интересна реакция Рылеева с Оболенским.
Во-первых, произошла внезапная попытка перепихнуть «диктаторство» на Трубецкого, удавшаяся только отчасти: 13 декабря он согласился стать диктатором, а 14-го — передумал!
Во-вторых, почему-то и Каховский прекратил ориентироваться на цареубийство, а вот когда и как его переориентировали на новый объект — неизвестно! Отметим и то, что решение о цареубийстве, продекларированное утром 13 декабря, вполне могло быть ориентировано на полное сокрытие сущности миссии Ростовцева: ведь Николай был важнейшим свидетелем! Но теперь важнейшее место по опасности для предателей перешло снова к Милорадовичу!
Сам Рылеев определенно решил рассчитывать только на собственное дезертирство: никаких средств обеспечить личную безопасность больше не оставалось, а душевных сил рисковать своей шкурой, таская для других каштаны из огня, просто не нашлось. Утро вечера мудренее — вероятно, подумал он, поняв, что у Николая пока что формально связаны руки; оставалось теперь только надеяться на арест Милорадовича уже утром 14 декабря! Вот выяснить новости об этом и явился Рылеев на Сенатскую площадь!
Интересно, что и Трубецкой, возможно, был посвящен в происходящее гораздо серьезнее, чем позднее создавал впечатление, и именно поэтому производил самостоятельную разведку: сумел проследить и за личной встречей Милорадовича с царем!
Впрочем, и так очевидно, что Рылеев с Трубецким еще накануне восстания впали в полнейшую панику!
Оболенский же, которому более всего угрожали обвинения в предательстве, решил держаться поближе к центру событий, чтобы не запоздать с необходимыми мерами. В разумной предусмотрительности и геройском мужестве ему не откажешь!
Естественны и нелепые ошибки, которые Милорадович совершал 14 декабря, будучи обременен мыслями и заботами, которые ему казались важнее, чем сиюминутная горячая обстановка. Отсюда и столь непродуманный его первый визит на Сенатскую площадь.
Разумеется, невыполнение солдатами его приказов повергло его в глубочайший шок: такое было прежде, напоминаем, только однажды — при Аустерлице под жесточайшим ударом Наполеона! Но и тогда его наверняка никто за воротник не хватал! А тут вдруг случилось такое посередь бела дня в центре подчиненной ему столицы, которой он управлял уже более восьми лет!
Нам представляется, что ему еще повезло — в последний раз в жизни: ведь и в этот раз Милорадович мог лишиться головы. Впрочем, как известно, за этим дело не стало, но пока что он благополучно унес ноги.
Появление Милорадовича на Сенатской площади и его безуспешные попытки укротить солдат должны были произвести сильнейшее впечатление на князя Оболенского: злейший враг все еще гулял на свободе и пытался командовать подчиненным столичным гарнизоном!
Выдан ли был действительно лично Милорадович Ростовцевым Николаю или дело ограничилось только планом восстания, но теперь стало очевидно, что Милорадович рассчитывает оказаться во главе подавления восстания, сохранить свою власть, пока что оказавшуюся (непонятно почему!) непоколебленной, а следовательно — со значительной вероятностью должен участвовать в последующем расследовании происшедшего и наказании виновных.
Были ли в этом случае у Оболенского шансы сохранить собственное предательство в секрете, а не сохранив — уцелеть? Нам, зная о Милорадовиче все вышеизложенное, представляется, что никаких шансов у Оболенского не было. Так, по-видимому, решил и он сам!
Теперь Милорадовича могло спасти только то, что он оставался бы исключительно вне сферы досягаемости оружия Оболенского и подчиненных ему и доверяющих ему сообщников.
Но о том, чтобы этого не случилось, позаботился император Николай I!
До фактического убийства Милорадовича восставшие могли рассчитывать на хэппи-энд: покривлялись бы, пока не замерзли и не проголодались — и дали бы себя уговорить, да еще, возможно, выторговали бы какие-нибудь политические уступки — тогда бы действительно можно было позаботиться и о политических задачах демонстрации. Но это гарантированно не стало бы хэппи-эндом лично для Оболенского — поэтому он его и не допустил, когда предоставилась возможность.
Вот Милорадович и получил пулю и штыковой удар!
Позже произошел любопытнейший эпизод, снова продемонстрировавший странные альянсы, возникавшие в той сложной политической обстановке.
Подобно тому, как убийство Милорадовича одинаково устроило Николая I, освобожденного тем самым от необходимости дальнейшей борьбы с Милорадовичем, и Оболенского, избегавшего мести за предательство, сложилась еще одна аналогичная коллизия.
Бистром, будучи (судя по всей массе мелких деталей и подробностей) одним из ближайших сообщников Милорадовича по заговору, не мог, разумеется, простить предательства Ростовцеву (впоследствии он упорно третировал этого заику, как мог!) — и послал его прямо к строю мятежников. Но убийство Ростовцева затыкало рот еще одному нежелательному свидетелю предательства того же Оболенского — и последний не мог упустить такого шанса!
Однако, Ростовцеву повезло больше, чем Милорадовичу: не очень понимающие, в чем дело, мятежники ограничились только избиением прикладами, а Оболенский уже не рискнул вновь пустить в ход штык на глазах у всех!
За сутки до этого Рылеев, не встретив сочувствия Штейнгеля и других, также не рискнул заняться практической ликвидацией свидетеля и соучастника, на что его явно подбивал Оболенский!
А Ростовцев спустя много лет еще рассчитывал на ходатайство своего друга перед Герценом!..
Теперь продолжилось стояние на площади уже после покушения на Милорадовича.
Речь уже не могла идти о хэппи-энде для всех мятежников, а осталась возможной только безоговорочная капитуляция. Она по-прежнему угрожала почти всем участникам демонстрации весьма незначительными карами — ведь верность присяге Константину оставалась весомым аргументом; недаром солдаты соглашались поверить только другу Константина — Михаилу. Но капитуляции препятствовало одно маленькое но: неизбежное расследование деяний Оболенского, Каховского и Щепина-Ростовского, проливших кровь, а гибель Милорадовича была самым тяжким из совершенных преступлений!
При общей капитуляции труп Милорадовича оказывался бы не одним из более тысячи трупов, а почти единственным. Избежать придирчивого расследования в этом случае было бы невозможно — генералитет этого бы просто не допустил.
Такой исход никак не устраивал Оболенского и, опираясь на несомненно горячую поддержку Каховского и Щепина-Ростовского, Оболенский стал неожиданно делать бурную карьеру: как упоминалось, около трех часов дня 14 декабря его избрали Диктатором восстания!
Не исключено, что для усиления своей позиции он исподволь старался повязать кровью и других сообщников, но на последующие убийства оказался практически способен только Каховский.
Избрание Оболенского диктатором почему-то не вызвало любопытства историков.
Для каких таких целей избирать в тот момент диктатора? Неужели не ясно, что кроме капитуляции не оставалось ничего, что могло бы потребовать руководящих решений? Ведь даже народная революция, разразись она вокруг Сенатской площади вечером 14 декабря, сразу привела бы ситуацию в совершенно неуправляемое состояние — как это и случилось 27 февраля 1917 года!
Но вот именно для этого-то Оболенский и постарался быть избран: чтобы иметь право veto при решении вопроса о сдаче. И он воспользовался этим правом самым решающим образом!
Сначала была отвергнута возможность капитуляции, когда было удовлетворено естественное желание солдат: им дали выслушать Михаила Павловича. Кюхельбекер, правда, особо разговориться не позволил.
Спасение жизней ушло из рук: солдаты упустили инициативу, а тут кавалерийские атаки совершенно не вовремя изменили настроение мятежников — нерешительность противоположной стороны стала как будто очевидной.
Но вот настала прямая угроза артиллерийского расстрела. Завязалась демонстративная возня с пушками: с громкими командами и, наконец, с предупредительным выстрелом поверх голов. Это был последний момент, когда можно было спасти более тысячи жизней, но Оболенский не позволил!
1271 труп сделал неактуальным полное расследование единственного важного убийства. Николая I это вполне устроило.
Замысел Оболенского удался, хотя и не в идеальной форме: пожизненная каторга, но в хорошей компании, с женой и семьей впридачу, вольготным и обеспеченным существованием (далеко, правда, не всегда), да еще и со славой героя, а не предателя!
Как мы знаем, к лету 1826 года дворянское общественное мнение повернулось лицом к осужденным декабристам. В Сибирь они ехали уже триумфаторами.
Прибытие на каторгу продолжило этот бенефис. Там, в XIX столетии, за целый век до рождества ГУЛАГа, господствовали норма и пайка, быстро сводящие в могилу прибывающих каторжан. Ничего подобного декабристам не угрожало!
Сам Оболенский свидетельствовал: начальник Усольского завода полковник Крюков «объявил, что назначит нам работу только для формы, что мы можем быть спокойными и никакого притеснения опасаться не должны. /…/ Невольно иногда тревожила мысль, что нас могут употребить в ту же работу, которую несли простые ссыльно-каторжные. Я видел сам, как они возвращались с работы покрытые с головы до ног соляными кристаллами, которые высыхали на волосах, на одежде, на бороде — они работали без рубашек — и каждая пара работников должна была вылить из соляного источника в соляную варяницу известное число ушатов соленой влаги. На другой день после свидания с начальником урядник Скуратов приносит нам два казенных топора и объявляет, что мы назначены в дровосеки и что нам будет отведено место, где мы должны рубить дрова в количестве, назначенном для каждого работника по заводскому положению: это было сказано вслух, шепотом же он объявил, что мы можем ходить туда для прогулки и что наш урок будет исполнен без нашего содействия. /…/ в третьем часу мы возвращались домой, обедали, хотя и не роскошно, а вечер проводили или в беседе друг с другом, или играли в шахматы».
Как видим, остальным каторжанам прибытие декабристов вылилось в дополнительные нормы принудительной выработки!
Но такой санаторий для «великих революционеров» продолжался не все время — случались за десятилетия лишения свободы и кандалы, и тесные камеры. Да и без этого: несвобода — всегда несвобода; это знает каждый, кого лишали свободы! Но эту судьбу избрал себе и другим сам Оболенский, и не ему было о ней сожалеть!
Целая толпа трупов оказалась невысокой ценой за продолжение его жизни или позябания — судите как хотите!
Жаль только, что гениальные решения Оболенского не снискали ему заслуженного признания: слава за них досталась совсем другому человеку!
В одном из лучших, знаменитейших рассказов английского писателя Г.К.Честертона приводится такой гениальный ход мыслей:
Где легче всего спрятать камень? Среди других камней на берегу моря.
Где легче всего спрятать лист дерева? Среди других листьев в лесу.
Где легче всего спрятать труп? Среди других трупов на поле боя — и далее рассказывается о битве на войне, специально организованной, чтобы скрыть единственный труп — плод индивидуального преднамеренного убийства!
По-видимому, Богу захотелось поделиться идеей, оставшейся беспризорной, а гениям свойственно подслушивать шепот богов!
Современники все же выделили грандиозные заслуги Оболенского: недаром в его судьбе случился эпизод, равного которому не сподобился никто из декабристов.
Все образованное общество, как рассказывалось, было поражено жестокостью приговора декабристам. Лишь в отношении Оболенского было несколько по-иному: составилась целая делегация генералов, ходивших просить к царю об утверждении смертного приговора Оболенскому.
Совершенно естественно, Николай I отказал — у него был свой взгляд на то, какой участи заслуживал Милорадович, и этот взгляд не расходился с позицией Оболенского!
Надеемся, что наша попытка восстановить справедливость и восславить этого великого декабриста увенчается успехом!
В 1961 году, после полета Юрия Гагарина, Гагаринский переулок в Москве из уважения к космонавту был переименован в улицу Рылеева. Следуя этой странной логике, можно было бы предложить тоже что-нибудь подобное: например, переименовать некоторые улицы в России в Оболенские переулки; есть, правда, один такой в Москве!
Так или иначе, князь, на наш взгляд, заслужил дополнительного признания: среди множества подлецов, предателей и убийц, избранных в национальные герои России, Евгений Петрович Оболенский должен занять более почитаемое место!!!
От автора — вместо послесловия
Мне было десять лет, и я до сих пор помню этот солнечный день 1955 года, когда я шел по дороге у берега Черного моря и вдруг, размышляя, понял, что представляю собой законченного и непримиримого политического противника существующего режима! Как же это случилось? Ведь всего за полгода до того я переживал, примут ли меня в юные пионеры: проблема была в том, что до положенных десяти лет мне еще не хватало пары месяцев. Откуда такая метаморфоза?
И тогда, и позже, вспоминая об этом, я все-таки не осознал всей техники того, как исподволь и понемногу мой отец провел в такой недолгий срок свою агитационную кампанию. Это не было столь уж экстравагантным шагом с его стороны: именно в таком возрасте начинали дворяне готовиться к службе: в конце ХVIII века — царю, в конце XIX — против царя. В 1894 году мой тогда пятнадцатилетний дед был изгнан из гимназии — «за политику»; это стало началом пути профессионального революционера. В 1917 году тринадцатилетний старший брат отца вступил в большевистскую партию — это оказалось нетрадиционным началом пути будущего заговорщика-контрреволюционера. Служба обществу началась у моего отца в восьмилетнем возрасте в 1918 году, когда он сидел (вместе со своей матерью) заложником в тюрьме у белых (этому есть документальные подтверждения — см., например: «Родина», № 12, 1997, с. 63–67).
Странные вещи передаются иногда по наследству. Кто-то получает кота в мешке, а кто-то — в сапогах, а мне вот достался целый политический заговор, участниками которого погибли мой дед и старший брат моего отца. Младший сын и брат не принимал непосредственного участия в играх старших: его, блистательного с юности инженера и ученого, они хранили в резерве. Этой ролью он со мной и поделился.
У него была психология истинного заговорщика: столетнюю историю, предшествующую 1917 году, он рассматривал как заговор против царизма; наши предки участвовали в нем с шестидесятых годов XIX века. Период 1917–1937 гг. он рассматривал как заговор против революции, которому ничтожные по численности старые кадры заговорщиков сопротивлялись, как могли. Ни мой дед, ни его соратники не были правоверными коммунистами; они принадлежали к иной политической традиции, которую нет необходимости называть.
Разумеется, я был горд и счастлив, ощутив себя настоящим заговорщиком, которого ждут великие свершения и долг мести за погибших.
Вот знакомством с творчеством деда и началось мое индивидуальное участие в заговоре, а вскоре и завершилось: я постепенно понял, что целевым идеалом предполагался по существу некий всеобщий концлагерь, в котором принудительным образом запрещалось бы творить политическое зло — с подробностями устройства можно ознакомиться в «Манифесте коммунистической партии» К.Маркса и Ф.Энгельса, который я тогда же и прочитал. Так возник мой конфликт с отцом, которому я долго объяснял отсутствие разницы между Освенцимом, Колымой и его идеалом. Мне уже было за двадцать, когда отец согласился со мной.
Я к тому времени выяснил многое. Например то, что мой дед был одним из виновников голода 1921–1922 гг. (сначала он был замнаркома, а с декабря 1921 — наркомом продовольствия Советской Республики). По моим прикидкам, в мировой классификации массовых убийц ХХ века мой дедушка занимает где-то скромную пятнадцатую-семнадцатую строчку. Это совершенно охладило мой пыл продолжать семейные дела.
Став еретиком по отношению ко всем традициям и учениям, я начисто отказался от практического участия в политике. В то же время у меня не было сил прекратить игру, в которую я уже погрузился: продумывание политических ходов и расследование заговоров и контрзаговоров. С детства занявшись этим захватывающим делом, я ощущал ограниченность собственных творческих возможностей и, сознательно решив совершенствовать исследовательскую логику, избрал профессию математика.
Мой выбор меня не обманул: десятилетия работы математиком-прикладником в самых разных сферах науки и техники предоставили неоценимый опыт.
Настоящий политический заговор — весьма сложная система. Недаром даже гениальные заговорщики-практики совершали роковые ошибки, и редкий из заговоров достигал поставленных целей. В то же время к сегодняшнему дню создались и получили практическую отладку многие методы исследования сложных систем и управления ими — и дело не в формальном применяемом аппарате, а в принципах подхода к решению задач.
Мне трудно понять, как могут заниматься историей заговоров ученые, не знающие, как проходит сигнал по сложной радиотехнической схеме, или как работает система управления сборочным конвейером, или какие трудности встречаются при распределении финансов в крупных фирмах или государствах.
В то же время, с детства ощутив себя заговорщиком, я с удовольствием примерил на себе шапку-невидимку: всю жизнь мне потом нравилось быть не совсем тем, за кого меня принимали. Это постоянно подвигало меня на участие в разнообразных авантюрах, и я приобрел опыт, недостижимый для кабинетных ученых; с психологией лихих людей я знаком не понаслышке.
И всегда, всю жизнь я читал любую строчку встреченных исторических материалов, а затем приучился немедленно фиксировать на бумаге все важное, а главное — непонятное.
С 1978 года я писал самостоятельные исторические работы, но не спешил к публикации и известности. Моей мечтой было создание такого солидного труда, после издания которого было бы не жалко завершить жизнь на лагерных нарах. Перестройка и последующие годы отвлекли мои интересы в иные сферы, и надолго прервали занятия историей.
Уезжая в 1992 году в Германию, я вывез пару кубометров собственного архива: цитат, конспектов и заметок, охватывающих события двух веков русской истории.
С 1996 года калейдоскоп моих жизненных обстоятельств притормозил вращение и позволил сосредоточиться на оформлении проделанной работы, а участие в журнале «Литературный европеец» обеспечило определенной читательской аудиторией.
Просматривая материалы, собранные порой второпях, я столкнулся с необходимостью и возможностью разобраться с давно совершенными политическими преступлениями. При анализе индивидуальных действий я использовал метод, применяемый некоторыми следователями: нужно представить себя в роли преступника (а иногда — жертвы) и шаг за шагом попытаться восстановить ход необходимых действий. Должен сознаться, это нелегкая и не очень приятная работенка.
Несколько лет назад, когда в самом разгаре шли мои расследования нераскрытых преступлений, мне стало казаться, что в моей холостяцкой квартире собрались души великих убийц, внимательно наблюдая за каждым шагом моих мыслей. Потом они удалились с облегчением, которое я отчетливо ощутил: нашлась живая душа, которая поняла их. Так что за успех на том свете я спокоен; осталось лишь успеть приобрести его и на этом, чтобы оставить людям как можно больше полезных уроков.
Поскольку я работал над своими «Лабиринтами русской революции» практически всю жизнь, то просто не в состоянии отметить и поблагодарить всех людей, которые мне помогли и которые меня многому научили. Назову лишь двоих, чье влияние прямо отразилось на концепции и содержании данного тома — «Заговора графа Милорадовича».
Как-то лет пять назад я рассказывал историю жизни Т.И.Кирпичникова сыну моего друга — профессиональному историку Максиму Батшеву. Он обратил мое внимание на сходство плана Кирпичникова и декабристов. Это побудило меня вернуться к проблематике последних, воспользоваться моей старой рукописью, дополнить ею начальный раздел «Лабиринтов», а также опубликовать «Заговор» в журнале. В данный же том я дополнительно включил главу 10, скомпонованную из заключительных разделов «Лабиринтов».
Уже по мере публикации журнального варианта, отец Максима, редактор «ЛЕв» Владимир Батшев обратил мое внимание на то, что в чисто криминальном аспекте убийства А.Минкиной и самого Милорадовича мною трактуются весьма поверхностно. Пришлось согласиться и снова взяться за ум. В результате по сравнению с журнальной публикацией возникли дополнительно главы 12 и 15, а также изменились акценты остального содержания.
Если мои интересы и интересы читателей совпадут, то последних ждут рассказы о том, как и почему развалилась Николаевская Россия, кто стоял за спиной Н.Г.Чернышевского, был ли заряжен пистолет Д.В.Каракозова, кто оплатил убийство Александра II, почему изменил революции вождь «Исполкома Народной Воли» Л.А.Тихомиров, кому прнадлежит идея миссии Е.Ф.Азефа и с кем он сотрудничал, кто и зачем спровоцировал революцию 1905 года, почему был убит П.А.Столыпин и, наконец, кто и почему организовал Первую Мировую войну. А там, даст Бог, дойдет и до заговоров моего дедушки… Поэтому с большой надеждой пишу традиционную строку:
Список использованной литературы
Абсолютизм в России. Сборник статей. М., 1964
Аврех Ф.Я. Масоны и революция. М., 1990
Авторханов А. Происхождение партократии. В двух томах. Изд. 2-е, Франкфурт-на-Майне, 1981
Алданов М. Портреты. М., 1994
Великий князь Александр Михайлович. Книга Воспоминаний. Париж, 1933
Александров В.А. Сельская община в России. М., 1976
Алексеев М. Военная разведка России от Рюрика до Николая II. В двух книгах. М., 1998
Амфитеатров-Кадашев В. Страницы из дневника. Минувшее: Исторический альманах. Вып. 20, М.-СПб., 1996
Анин Д. Революция 1917 года глазами ее руководителей. Рим, 1971
Анисимов Н.Н. Борьба большевиков против политической тайной полиции самодержавия. 1903–1917 гг. Свердловск, 1989
Анненкова П.Е. Записки жены декабриста. Пг., 1915
Анненков П.В. Литературные воспоминания. М., 1960
Анненков П. Идеалисты тридцатых годов. «Вестник Европы», 1883, апрель
Антонов-Овсеенко В.А. Записки о гражданской войне. Т. 1. М., 1924
Анучин Е. Исследование о проценте сосланных в Сибирь в период 1827–1846 гг. Изд. 2-е, СПб., 1873
Анфимов А.М. Крестьянское движение в России во второй половине XIX в. «Вопросы истории», № 5, 1973
Анфимов А.М. Российская деревня в годы первой мировой войны. М., 1962
Арсеньев К.И. Начертание статистики Российского государства, ч. 1. СПб., 1818
Архивные документы департамента полиции. «Красная летопись», № 1, 1922
Ахун М.И. и Петров В.Ф. Большевики и армия в 1905–1917 гг. Л., 1929
Беседа с Б.А.Бабиной. Минувшее. Исторический альманах. Вып. 2, Париж, 1986
Базили Н.А. Россия под советской властью. Париж, 1937
Бакунин М.А. История моей жизни. Собрание сочинений и писем в 4-х томах, т. I. М., 1934
Барсуков Е. Русская артиллерия в мировую войну, т. 1. М., 1938
Батшев В. Власов. Опыт литературного исследования. Ч. 1–3. Франкфурт-на-Майне, 2001
Белинский В.Г. Полное собрание сочинений в 13 томах, т. 3. М., 1953
Белоконский И.П. Земское движение. М., 1914
Берберова Н. Люди и ложи. Русские масоны ХХ столетия. Харьков — М., 1997
Бергер И. Крушение поколения. Воспоминания. Рим, 1973
Берлин П.А. Русская буржуазия в старое и новое время. М., 1922
Бернгарди Ф. Современная война, т.1. СПб., 1912
Бестужев Н.А. Статьи и письма. М., 1933
Бирштейн Е.К., Шалагинова Л.М. Департамент полиции о плане петроградских большевиков в феврале 1917 года. «Вопросы архивоведения», № 1, 1962
Блок А. Последние дни императорской власти. Изд. 2-е, Париж, 1978
Блох М. Ремесло историка. М., 1993
Боголюбов В. Н.И.Новиков и его время. М., 1916
Болотов А.Т. Наказ управителю или приказчику, каким образом ему править деревнями в небытность своего господина. Труды Императорского Вольного экономического общества к поощрению в России земледелия и домостроительства [ниже — Труды ВЭО], ч. XVI, 1770
Болотов А.Т. Памятник прошедших времен или Краткие исторические записки о бывших происшествиях и поселившихся в народе слухах. Ч. 2-я, М., 1875
Большевики. Документы по истории большевизма с 1903 по 1916 год бывш. Московского Охранного Отделения. Нью-Йорк, 1990
Бондаренко В.Н. Очерки финансовой политики Кабинета Министров Анны Иоанновны. М., 1913
Бородин Н.А. Идеалы и действительность. Сорок лет жизни и работы рядового русского интеллигента (1879 — 1919). Берлин — Париж, 1930
Бостунич Г. Масонство в своей сущности и проявлениях. Т. 1. Белград, 1928
Боханов А.Н. Сумерки монархии. М., 1993
Бурцев В. Будьте прокляты большевики! Париж, 1919
Бурышкин П.А. Москва купеческая. Нью-Йорк, 1954
Бутовский А. Опыт о народном богатстве. СПб., 1847
Бушков А. Россия, которой не было. Загадки, версии, гипотезы. М., Красноярск, 1997
«Былое», №№ 1–6, 1917
Бьюкенен Дж. Мемуары дипломата. М., 1991
Валишевский К. Сын великой Екатерины. Император Павел I. Его жизнь, царствование и смерть. СПб., 1914
Василич Г. Император Александр I и старец Федор Кузьмич (по воспоминаниям современников и документам). М., 1909
Васильев Н. Транспорт России в войне 1914–1918 гг. М., 1939
«Век ХХ и мир», № 1, 1996
Вернер К.А. Агрономическая помощь населению в конце XVIII и первой половине XIX в. М., 1901
Верные сыны отечества. Воспоминания участников декабристского движения в Петербурге. Л., 1982
Верт Н. История советского государства. 1900–1991. Изд. 2-е, М., 1995
Ветошников Л.В. Брусиловский прорыв. Оперативно-стратегический очерк. М., 1940
Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции. Изд. 5-е, М., 1910
Вешняков В. Экспедиция государственного хозяйства (1797–1803 гг.). СПб., 1902
Вигель Ф.Ф. Записки, часть 4. М., 1892
Вильямс А.Р. Народные массы в русской революции (очерки русской революции). Изд. 2-е, М., 1924
Виноградов К.Б. Дэвид Ллойд Джордж. М., 1970
Витте С.Ю. Воспоминания. В трех томах. М., 1960
Витчевский В. Торговля, таможенная и промышленная политика России с времен Петра Великого до наших дней. СПб., 1909
Воейков В.Н. С царем и без царя. Воспоминания последнего дворцового коменданта государя императора Николая II. М., 1995
Вознесенский С.В. Разложение крепостного хозяйства и классовая борьба в России в 1800–1860 гг. М., 1932
Водарский Я.Е. Население России за 400 лет (XVI — начало ХХ вв.). М., 1973
Волгин В.П. Очерки истории социалистических идей. Первая половина XIX в. М., 1976
Кн. Н.Волконский. Условия помещичьего хозяйства при крепостном праве. Рязань, 1898
Записки С.Г.Волконского. СПб., 1901
Володин А.И. Начало социалистической мысли в России. М., 1966
Вопросы истории России XIX — начала ХХ века. Сб. статей. Л., 1983
Вопросы истории сельского хозяйства, крестьянства и революционного движения в России. Сб. статей. М., 1961
Архив кн. Воронцова, кн. 17. М., 1880
Восленский М. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. Лондон, 1985
Восстание декабристов. Документы. Т. I, М.-Л., 1925; т. VII, М., 1958
Всемирная история, т. 19. Первая мировая война. Минск, М., 2000
Вяземский П. Старая записная книжка. Л., 1929
Вяткин М. Торговый капитализм в России. М.-Л., 1927
Габов Г. Общественно-политические и философские взгляды декабристов. М., 1954
Исследования внутренних отношений народной жизни и в особенности сельских учреждений России барона Августа Гакстгаузена. Т. I, М., 1870
Геллер М., Некрич А. Утопия у власти. История Советского Союза с 1917 года до наших дней. Лондон, 1989
Герцен А.И. Былое и думы. В трех томах под ред. Л.Б.Каменева. Изд. 2-е, М.-Л., 1932
Герцен А.И. Полное собрание сочинений и писем под ред. М.К.Лемке. Пг., тт. XI, 1919; XV–XVI, 1920; XVII–XIX, 1922
Гершензон М.О. Грибоедовская Москва. П.Я.Чаадаев. Очерки прошлого. М., 1989
Гершензон М.О. История молодой России. М.-Пг., 1923
Гессен И.В. В двух веках. Жизненный отчет. Берлин, 1937
Гессен С.Я., Коган М.С. Декабрист М.С.Лунин и его время. Л., 1926
Гессен Ю. История еврейского народа в России. Л., т. 1, 1925; т. 2, 1927
Гиппиус З. Петербургский дневник. М., 1991
Глинка Ф.Н. Письма русского офицера. М., 1985
Гнедин Е. Катастрофа и второе рождение. Мемуарные записки. Амстердам, 1977
Головин Н.Н. Военные усилия России в Мировой войне. М., 2001
Головков Г., Бурин С. Канцелярия непроницаемой тьмы. Политический сыск и революционеры. М., 1994
«Голос минувшего», № 7, 1913
Гольцев В. Законодательство и нравы в России XVIII века. М., 1886
Записки декабриста И.И.Горбачевского. М., 1916
Гордин Я. Мятеж реформаторов. М., 1989
«Грани», №№ 130, 1983; 143–144, 146, 1987; 165, 1992
Пастор Грасман. Определение земли на одно крестьянское тягло. Труды ВЭО, ч. XXIX, 1775
Граф Аракчеев и военные поселения. 1809–1831. СПб., 1871
Гредескул Н.А. Террор и охрана. СПб., 1912
Греч Н.И. Записки о моей жизни. М.-Л., 1930
Григорий Распутин. Сборник исторических материалов. В 4-х томах. М., 1997
Александр Иванович Гучков рассказывает… Воспоминания Председателя Государственной думы и военного министра Временного правительства М., 1993
Гэлбрейт Д.К. Экономические теории и цели общества. М., 1979
Данилевский Н.Я. Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к Германо-Романскому. Изд. 6-е, СПб., 1995
Данилов Ю.Н. На пути к крушению. М., 2000
Дворцовые перевороты в России. 1725–1825. Ростов-на-Дону, 1998
Дебидур А. Дипломатическая история Европы. Священный союз от Венского до Берлинского конгресса. 1814–1878. В двух томах. Ростов-на-Дону, 1995
Декабристы. Отрывки из источников. М.-Л., 1926
Декабристы. Поэзия, драматургия, проза, публицистика, литературная критика. М.-Л., 1951
Декабристы рассказывают… Сборник. М., 1975
Декабристы. Сборник материалов. Л., 1926
Деникин А.И. Очерки русской смуты. «Вопросы истории», №№ 3–6, 1990
Деятели революционного движения в России. Био-библиографический словарь. Т. I, часть вторая. М., 1928
Деятели СССР и революционного движения России. Энциклопедический словарь Гранат. М., 1989
Джилас М. Новый класс. Анализ коммунистической системы. Нью-Йорк, б.г.
Джунковский С.С. Ответ на задачу Вольного экономического общества 1803 г. Труды ВЭО, ч. 56, 1804
Довнар-Запольский М.В. Идеалы декабристов. М., 1906
Долгоруков П.В. Петербургские очерки. Памфлеты эмигранта. 1860–1867. М., 1992
Мемуары генерала Е.И.Достовалова. «Источник», № 3, 1994
Дробижев В.З. Красногвардейская атака на капитал. М., 1976
Другая война. 1939–1945. Под ред. Ю.Н.Афанасьева. М., 1996
Дружинин Н.М. Государственные крестьяне и реформа П.Д.Киселева. Т. I, М.-Л., 1946; т. II, М., 1958
Дружинин Н.М. Революционное движение в России в ХIХ в. Избранные труды. М., 1985
Дубровин Н. Письма главнейших деятелей в царствование Александра I. СПб., 1883
Дубровский С.М. Царская Россия и империалистическая война. «Известия ЦИК СССР» № 173, 27 июля 1934
Записка П.Н.Дурново. «Красная новь», № 6, 1922
Дыбенко П.Е. Из недр царского флота к Великому Октябрю. Из воспоминаний о революции. М., 1928
Дьяков В.А. Освободительное движение в России 1825–1861 гг. М., 1979
Елчанинов А.Г. Ведение современной войны и боя. СПб., 1909
Елчанинов. А.Г. Очерки стратегии. СПб., 1913
Ермолов А. Алексей Петрович Ермолов. 1777–1861. Биографический очерк. СПб., 1912
Записки А.П.Ермолова. 1798–1826. М., 1991
Ерофеев Н.А. Туманный Альбион. Англия и англичане глазами русских. 1825–1853 гг. М., 1982
Еще одна версия похорон императора Александра I. «Источник», № 6, 1994
Жуков А. Начальные основания русского сельского хозяйства, соответствующие настоящему положению недвижимых имений. М., 1837
Заблоцкий-Десятовский А.П. Граф П.Д.Киселев и его время. Материалы для истории императоров Александра I, Николая I и Александра II. В четырех томах, СПб., 1882
Задохин А.Г., Низовский А.Ю. Пороховой погреб Европы. Балканские войны ХХ века. М., 2000
Зайончковский А.М. Первая Мировая война. СПб., 2000
Зайончковский П.А. Правительственный аппарат самодержавной России в ХIX в. М., 1978
Замечания на Опыт теории налогов. Рецензия. «Дух журналов», кн. 6, 1820
Записка трех товарищей министров императору Александру I. «Русская старина», 1894, август
За сто лет (1800–1896). Сборник по истории политических и общественных движений в России. Сост. В.Бурцев. Лондон, 1897
Захарова Л.Г. Самодержавие и отмена крепостного права в России. 1856–1861. М., 1984
Зензинов В. Пережитое. Нью-Йорк, 1953
Золотаревы С. и В. Литература в цифрах и схемах. Русские писатели. М.-Л., 1929
Зотов Р. О источниках государственного и частного богатства, и в особенности о сельском хозяйстве. СПб., 1837
Иванов В.Ф. Русская интеллигенция и масонство: от Петра I до наших дней. М., 1997
Игнатович И.И. Борьба крестьян за освобождение. М., 1924
Из глубины. Сборник статей о русской революции. Изд. 2-е, Париж, 1967
Из писем и показаний декабристов. Критика современного состояния России и планы будущего устройства. Под ред. А.К.Бороздина. СПб., 1906
Иконников В.С. Граф Н.С.Мордвинов. Историческая монография, составленная по печатным и рукописным источникам. СПб., 1873
Индивидуальный политический террор в России. XIX — начало ХХ в. Материалы конференции. М., 1996
Иеромонах Иоанн (Кологривов). Очерки по истории Русской Святости. Брюссель, 1961
Искюль С.Н. Александр I и Фридрих-Вильгельм III: свидание в Мемеле (июнь 1802 г.). «Новый часовой», № 4, 1996
Историки России XVIII–XX веков. М., вып. 1–2, 1995; вып. 3, 1996
Историко-революционный сборник. Под ред. В.И.Невского. В трех томах. М.-Л., 1924-1926
Исторические исследования в России. Тенденции последних лет. М., 1996
Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения. 1802–1902. СПб., 1902
История ВКП(б). Под ред. Е.М.Ярославского. М.-Л., т. I, 1926; т. II, 1930
История гражданской войны в СССР, т. I. М., 1935
История дипломатии. Т. 3. Изд. 2-е, М., 1965
История первой мировой войны. 1914–1918. В двух томах. М., 1975
История России в портретах. Т.1, Смоленск-Брянск, 1996
История России. С начала XVIII до конца XIX века. Под ред. А.Н.Сахарова. М., 1996
История России. 1917–1940. Хрестоматия. Екатеринбург, 1993
История русской экономической мысли, т. I. М., ч. I, 1955; ч. II, 1958
Итенберг Б.С. Россия и Великая французская революция. М., 1988
Итоги второй мировой войны. Сборник статей. М., 1957
Канн П.Я. О числе жертв 14 декабря 1825 г. «История СССР», № 6, 1970
Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России. СПб., 1914
Карпов В.Н. Воспоминания; Шипов Н. История моей жизни. М.-Л., 1933
Из письма А.В.Карташева. «Наш век», № 22, 24 декабря 1917 (6 января 1918)
Катков Г.М. Февральская революция. Париж, 1984
Кауфман А.А. Община. Переселение. Статистика. М., 1915
Каценеленбаум З. Павел I и Луначарский. «Русские ведомости», № 257, 7 декабря (24 ноября) 1917
Каценеленбаум З.С. Война и финансово-экономическое положение России. М., 1917
Каюров В. Шесть дней революции. «Пролетарская революция», № 1, 1923
Кизеветтер А.А. Исторические очерки. М., 1912
Киняпина Н.С. Политика русского самодержавия в области промышленности (20-50-е годы XIX в.). М., 1968
Кириевский И.В. Критика и эстетика. М., 1979
Кирпотин В. Идейные предшественники марксизма-ленинизма в России. М., 1930
Китанина Т.М. Война, хлеб и революция. (Продовольственный вопрос в России. 1914 — октябрь 1917 г.). Л., 1985
Китанина Т.М. Хлебная торговля России в 1875–1914 гг. (Очерки правительственной политики). Л., 1978
Клочков М.В. Очерки правительственной деятельности времени Павла I. Пг., 1916
Ключевский В.О. Неопубликованные произведения. М., 1983
Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах, т. V. М., 1989
Князьков С. Как сложилось и как пало крепостное право в России. Изд. 4-е, М., 1913
Ковальченко И.Д., Милов Л.В. Всероссийский аграрный рынок. XVIII — начало ХХ века. М., 1974
Ковальченко И.Д. Русское крепостное крестьянство в первой половине XIX в. М., 1967
Козьмин Б.П. Из истории революционной мысли в России. Избранные труды. М., 1961
Коковцов В.Н. Из моего прошлого. Воспоминания 1903–1919 гг. Книга вторая. М., 1992
Кокорев В.А. Экономические провалы. По воспоминаниям с 1837 года. СПб., 1887
Колпакиди А., Прудникова Е. Двойной заговор. Сталин и Гитлер: несостоявшиеся путчи. М., 2000
Кон Ф. История революционного движения в России. Т. I. Харьков, 1929
Кондратьев Н.Д. Рынок хлебов и его регулирование во время войны и революции. М., 1922
Кондратьева Т. Большевики-якобинцы и призрак термидора. М., 1993
Конквест Р. Большой террор. Рим, 1974
Корелин А., Степанов С. С.Ю.Витте — финансист, политик, дипломат. М., 1998
Корнилов А.А. Курс истории России XIX в. Т. II, М., 1912
Корнилов А. Русская политика в Царстве Польском до 1863 года. «Русская мысль», 1915, январь
Корсаков Д.А. Воцарение Императрицы Анны Иоанновны. Казань, 1880
Коц Е.С. Крепостная интеллигенция. Л., 1926
Записки Александра Ивановича Кошелева (1812–1883 годы). Берлин, 1884
Кошель П. История наказаний в России. История российского терроризма. М., 1995
Коэн С. Переосмысливая советский опыт. Вермонт, 1986
«Красный архив», тт. 1–2, 1922; 3–4, 1923; 5–7, 1924; 8-13, 1925; 17, 1926; 29, 1928; 32, 37, 1929; 38, 1930; 44, 47–49, 1931; 52, 1932; 58, 61, 1933; 72, 1935; 74, 1936
Краткий исторический очерк развития и деятельности ведомства путей сообщения за сто лет существования его (1798–1898). СПб., 1898
Крестьянское движение в 1827–1869 гг. Вып. 1, М., 1931
Кривошеин К.А. А.В.Кривошеин (1857–1921 г.). Его значение в истории России начала ХХ века. Париж, 1973
Кризис самодержавия в России. 1895–1917 гг. Л., 1984
Крузе Э.Э. Положение рабочего класса России в 1900–1914 гг. Л., 1976
Кулишер И.М. История русской торговли до девятнадцатого века включительно. Пб., 1923
Кулышев Ю.С., Тылик С.Ф. Борьба за хлеб. Л., 1972
Ланда С.С. Дух революционных преобразований. Из истории формирования идеологии и политической организации декабристов. (1816–1825). М., 1975
Левшин. О заселении степей. Труды ВЭО, ч. LIII, 1801
Лейкина-Свирская В.Р. Интеллигенция в России во второй половине XIX века. М., 1971
Лемке М.К. Очерки освободительного движения «Шестидесятых годов». Изд. 2-е, СПб., 1908
Лемке М. Николаевские жандармы и литература. 1826–1855 гг. СПб., 1908
В.И.Ленин и ВЧК. Сборник документов (1917–1922 гг.). М., 1975
Ленин В.И. Памяти Герцена. Сочинения, изд. 4-е, т. 18. М., 1952
Ленин В.И. Развитие капитализма в России. Процесс образования внутреннего рынка для крупной промышленности. Сочинения, изд. 4-е, т. 3. М., 1950
Ленин Н. (В.Ильин). Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции. Пг., 1919
Лиддел Гарт. Правда о войне 1914–1918 гг. М., 1935
Ллойд Джордж Д. Военные мемуары, т. 1–2. М., 1934
Лосицкий А. Выкупная операция. СПб., 1906
Лосский Н.О. История русской философии. [Закрытое издание], М., 1954
Воспоминания Ф.П.Лубяновского. 1777–1834. М., 1872
Декабрист М.С.Лунин. Общественное движение в России. Письма из Сибири. М.-Л., 1926
Любомиров П.Г. Очерки по истории русской промышленности в XVIII и в начале XIX в. М., 1930
Ляхов А. Основные черты социальных и экономических отношений в России в эпоху Императора Александра I. М., 1912
Лященко П.И. История народного хозяйства СССР, т. 1. Изд. 2-е, М., 1950
Лященко П.И. Очерки аграрной эволюции России, т. 1, СПб., 1908
Соблазнитель генералов. Переписка В.А.Маклакова с И.И.Тхоржевским. «Родина» № 12, 1997
Маевский Л. Экономика русской промышленности в условиях первой мировой войны. М., 1957
Малинин В.А. История русского утопического социализма (от зарождения до 60-х годов ХIХ в.). М., 1977
Марков Н.Е. Войны темных сил. Т. 1, Париж, 1928
Карл Маркс. Избранные произведения. В двух томах. М., 1933
Мартынов Е.И. Царская армия в февральском перевороте. Л., 1927
Маслов С. Историческое обозрение Имп. Московского общества сельского хозяйства. М., 1850
Международные отношения в эпоху империализма. Серия 3, т. VI, ч. I. М.-Л., 1935
Международные отношения 1870–1918 гг. Сборник документов. М., 1940
Междуцарствие 1825 года и восстание декабристов в переписке и мемуарах членов царской семьи. М.-Л., 1926
Мельгунов С. Мартовские дни 1917 года. Париж, 1961
Мельгунов С. На путях к дворцовому перевороту. Париж, 1979
Мельгунов С. Церковь и государство в России. СПб., 1909
Мемуары декабристов. Северное общество. М., 1981
Мемуары декабристов. Южное общество. М., 1982
Менталитет и аграрное развитие России (ХIХ-ХХ вв.). Материалы международной конференции. Москва. 14–15 июня 1994 г. М., 1996
Мигулин П.П. Экономический рост русского государства за 300 лет (1613–1913). М., 1913
Миллер Л. Святая мученица Российская Великая княгиня Елизавета Федоровна. Франкфурт-на-Майне, б.г.
Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. М., 2001
Речь Милюкова П.Н. «Русские Ведомости», № 239, 19 октября (1 ноября) 1917
Милюков П.Н. Воспоминания. М., 1991
Милюков П. Очерки по истории русской культуры. Часть первая. Изд. 6-е, СПб., 1909
П.Н.Милюков: историк, политик, дипломат. Материалы международной научной конференции. Москва, 26–27 мая 1999 г. М., 2000
Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1816–1843. М., 1997
Министерство внутренних дел. Исторический очерк. 1802–1902. СПб., 1902
Министерство финансов. 1802–1902. Ч. 1–2. СПб., 1902
Минувшее: Исторический альманах. Вып. 18. М.-СПб., 1995
Мировая война в цифрах. М., 1934
Мироненко С.В. Самодержавие и реформы. Политическая борьба в России в начале XIX в. М., 1989
Мироненко С.В. Страницы тайной истории самодержавия. М., 1990
Миронов Б.Н. Внутренний рынок России во второй половине XVIII — первой половине XIX в. Л., 1981
Миронов Б.Н., Степанов З.В. Историк и математика. (Математические методы в историческом исследовании). Л., 1975
Миронов Б.Н. Хлебные цены в России за два столетия (XVIII–XIX вв.).Л., 1985
Михневич Н.П. Стратегия. В двух книгах. СПб., 1911
Военные поучения фельдмаршала графа Мольтке. СПб., 1913
Мордвинов Н.С. Избранные произведения. М., 1945
Архив гр. Мордвиновых, т. VII. СПб., 1903
Мстиславский С. Пять дней. Начало и конец Февральской революции. Изд. 2-е, Берлин-Пб.-М., 1922
Мулукаев Р.С. Полиция в России (XIX в. — нач. ХХ в.). Н. Новгород, 1993
Муравьев-Апостол И.М. Письма из Москвы в Нижний Новгород. «Сын Отечества», т. 8–10, 1813
Мыльников А.С. Искушение чудом: «Русский принц», его прототипы и двойники-самозванцы. М., 1991
Мякотин В.А. А.С.Пушкин и декабристы. Берлин, 1923
Набоков В. Временное правительство и большевистский переворот. Лондон, 1988
Наленг Д., Наленг Т. Юзеф Пилсудский — легенды и факты. М., 1990
Невский В.И. Январские дни в Петербурге в 1905 г. Харьков, 1925
Незнамов А.А. Оборонительная война. СПб., 1909
Некоторые новые материалы к вопросу о кончине Императора Александра I. СПб., 1914
Нечкина М.В. Грибоедов и декабристы. Изд. 3-е, М., 1977
Нечкина М.В. Движение декабристов. В двух томах. М., 1955
Нечкина М.В. День 14 декабря 1825 года. Изд. 2-е, М., 1975
Нечкина М.В. Общество соединенных славян. М., 1927
«Нива», №№ 11–12, 16, 17, 1917
Никитин Б. Роковые годы. (Новые показания участника). Изд. 2-е, Вермонт, 1987
Николаев В. Александр Второй — человек на престоле. Историческая биография. Мюнхен, 1986
Николаевский Б. Русские масоны в начале ХХ века. «Грани», № 153, 1989
Великий князь Николай Михайлович. Император Александр I. М., 1999
Великий князь Николай Михайлович. Легенда о кончине Императора Александра I в Сибири в образе Старца Федора Кузьмича. СПб., 1907
Николай Первый и его время. Документы, письма, дневники, мемуары, свидетельства современников и труды историков. В двух томах. М., 2000
Н.Н. Война 1812 г. «Правда», № 100, 25 августа (7 сентября) 1912
Нольде Б.Э. Начало войны. Опыт дипломатического исследования. «Русская мысль», 1914, октябрь
Общественное движение в России в начале ХХ-го века. Под ред. Л.Мартова, П.Маслова и А.Потресова. В пяти томах. СПб., 1909-1911
Огановский Н.П. Закономерность аграрной эволюции, часть. 2. Саратов, 1911
Окунь С.Б. История СССР. Лекции, часть 2. 1812–1825 гг. Л., 1978
Ольденбург С.С. Царствование императора Николая II. СПб., 1991
Ольминский М. Государство, бюрократия и абсолютизм в истории России. Изд. 3-е, М.-Л., 1925
О переселениях (Выписка из частного письма из Рейнских областей). «Дух журналов», кн. 47, 1817
О поправлении деревень. Труды ВЭО, ч. XVII, 1771
Опыт русского либерализма. Антология. М., 1997
Орешин В.В. Вольное экономическое общество в России. 1765–1917. Историко-экономический очерк. М., 1963
Оржеховский И.В. Самодержавие против революционной России. М., 1982
Оржеховский И.В. Третье отделение. «Вопросы истории», № 2, 1972
Отечественная история. История России с древнейших времен до 1917 года. Энциклопедия. М., т. 1, 1994; т. 2, 1996
Отречение Николая II. Воспоминания очевидцев, документы. Под ред. П.Е.Щеголева. Л., 1927
От февраля к октябрю. (Из анкет участников Великой Октябрьской социалистической революции). М., 1957
Очерки экономической истории России первой половины XIX в. М., 1959
Павлов-Сильванский Н. Государевы служилые люди. Происхождение русского дворянства. СПб., 1898
Павлов-Сильванский Н.П. Очерки по русской истории XVIII–XIX вв. СПб., 1909
Падение царского режима. Стенографические отчеты допросов и показаний, данных в 1917 г. в Чрезвычайной Следственной Комиссии Временного Правительства. т. IV, Л., 1926
Пайпс Р. Россия при старом режиме. М., 1993
Пайпс Р. Русская революция. В двух частях. М., 1994
Пайпс Р. Три «почему» русской революции. Минувшее: Исторический альманах. Вып. 20. М.-СПб., 1996
Палеолог М. Царская Россия накануне революции. М., 1923
Пантин И.К., Плимак Е.Г., Хорос В.Г. Революционная традиция в России. М., 1986
Первушин С.А. Прекращение продажи питей как один из факторов современной дороговизны. М., 1916
Первушин С.А. Хозяйственная конъюнктура. Введение в изучение динамики русского народного хозяйства за полвека. М., 1925
Перегудова З.И. Политический сыск России (1880–1917). М., 2000
Перегудова З.И. Строго законспирированы. М., 1983
Першин П.Н. Аграрная революция в России. Кн. 1, М., 1966
Пирумова Н.М. Бакунин. М., 1970
Писарев Ю.А. Тайны первой мировой войны. Россия и Сербия в 1914–1915 гг. М., 1990
Писканов Н. Дворянская реакция на декабризм. «Звенья», вып. 2, 1933
Платонов О. Терновый венок России. Тайная история масонства. 1731–1996. Изд. 2-е, М., 1996
Победоносцев К.П. Исторические исследования и статьи. СПб., 1876
Погребинский А.П. Очерки истории финансов дореволюционной России (XIX — ХХ вв.). М., 1954
Покровский М.Н. Внешняя политика. Сборник статей (1914–1917). М., 1919
Покровский М.Н. Дипломатия и войны царской России в XIX столетии. М., 1923
Покровский М.Н. Империалистская война. М., 1934
Покровский М. Очерки по истории революционного движения в России ХIХ и ХХ вв. Лекции, читанные на курсах секретарей уездных комитетов РКП(б) зимою 1923/24 г. Изд. 2-е, М.-Л., 1927
Полетика Н.П. Сараевское убийство. Исследование по истории австро-сербских отношений и балканской политики России в период 1903–1914 гг. Л., 1930
Политические деятели России. 1917. Биографический словарь. М., 1993
Политические партии России. Конец ХIХ — первая треть ХХ века. Энциклопедия. М., 1996
Русский дворянин Правдин. Сравнение русских крестьян с иноземными. «Дух журналов», кн. 49, 1817
Предпринимательство и предприниматели России. От истоков до начала ХХ века. Под ред. А.К.Сорокина. М., 1997
Предтеченский А.В. Очерки общественно-политической истории России в первой четверти XIX века. М.-Л., 1957
Преображенский Е.А. Финансы в эпоху диктатуры пролетариата. М., 1921
Пресняков А.Е. 14 декабря 1825 г. М.-Л., 1926
Проблемы истории общественного движения и исторической науки. Сб. статей. М., 1981
Прокопович С.Н. Народное хозяйство в дни революции. (Три речи). М., 1918
Прокофьева Л.С. Крестьянская община в России во второй половине XVIII — первой половине XIX в. (по материалам вотчин Шереметевых). Л., 1981
Пугачев С.С. Пушкин, Радищев и Карамзин. Саратов, 1992
Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в десяти томах, т. VIII. М., 1958
Пыпин А.Н. Общественное движение в России в царствование Александра I, т. 3. Изд. 5-е, Пг., 1918
Пыпин А.Н. Русское масонство. XVIII и первая четверть XIX в. Пг., 1916
Равдин Б.А., Рогинский А.Б. Вокруг доноса Грибовского. / Освободительное движение в России. Межвузовский сб., вып. 7-й. Саратов, 1978
Ранние славянофилы. А.С.Хомяков, И.В.Киреевский, К.С. и И.С.Аксаковы. М., 1910
Рапопорт В. и Алексеев Ю. Измена Родине. Очерки по истории Красной Армии. Лондон, 1989
Рахматуллин М.А. Хлебный рынок и цены в России в первой половине XIX в. / Сб.: Проблемы генезиса капитализма. М., 1970
Рашин А.Г. Население России за 100 лет (1811–1913 гг.). М., 1956
Революционное движение в русской армии. 27 февраля — 24 октября 1917 года. Сборник документов. М., 1968
Революция и гражданская война в описаниях белогвардейцев. Мемуары. Сост. С.А. Алексеев. Т. 2: Октябрьская революция. М.-Л., 1926
Редигер А. Воспоминания военного министра. Т.2, М., 1999
Рид Дж. 10 дней, которые потрясли мир. М., 1957
Риттер Х. Критика мировой войны. Пг., 1923
Романович-Славатинский А. Дворянство в России от начала XVIII века до отмены крепостного права. Изд. 2-е, Киев, 1912
Ронге М. Разведка и контрразведка. М., 1937
Российские либералы: кадеты и октябристы (документы, воспоминания, публицистика). М., 1996
Российские самодержцы (1801–1917). М., 1993
Россия и Черноморские проливы (XVIII-ХХ столетия). Под ред. Л.Н.Нежинского и А.В.Игнатьева. М., 1999
Ростовцев Я.И. Отрывок из моей жизни 1825 и 1826 гг. «Русский Архив», № 1, 1873
Рубин И.И. История экономической мысли. Изд. 2-е, М.-Л., 1928
Рубинштейн Н.Л. Сельское хозяйство России во второй половине XVIII в. (историко-экономический очерк). М., 1957
Рууд Ч., Степанов С. Фонтанка, 18. Политический сыск при царях. М., 1993
Рычков П.И. Наказ для деревенского управителя или приказчика о порядочном содержании и управлении деревень в отсутствие господина. Труды ВЭО, ч. XVI, 1770
Савич Н.В. Воспоминания. «Грани», №№ 127, 129, 130, 1983; 152, 1989
Сазонов С.Д. Воспоминания. Париж, 1927
Салов И. Начало железно-дорожного дела. «Вестник Европы», кн. IV, 1899
Самарин Ю.Ф. Записки о крепостном состоянии и о переходе из него к гражданской свободе. Сочинения, т. II. М., 1878
Сафонов М. Демарш адъютанта. «Родина», № 7, 2001
Сафонов М.М. Константиновский рубль и «немецкая партия». Сб.: Средневековая и новая Россия. СПб., 1996
Сведения о питейных сборах в России, ч. 3. СПб., 1860
Светланин А. Дальневосточный заговор. Франкфурт-на-Майне, 1953
Святловский В.В. История социализма. Пг., 1922
Сельское хозяйство на путях восстановления. Комиссия СНК СССР по изучению современной деревни. Под ред. Л.Н.Крицмана, П.И.Попова и Я.А.Яковлева. М., 1925
Семевский В.И. Волнение в Семеновском полку в 1820 г. «Былое», № 2, 1907
Семевский В.И. Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX века. В двух томах. СПб., 1888
Семевский В.И. Политические и общественные идеи декабристов. СПб., 1909
Сенин А.С. Александр Иванович Гучков. М., 1996
Сергеев Е.Ю. «Иная земля, иное небо…» Запад и военная элита России (1900–1914 гг.). М., 2001
Сидоров А.Л. Финансовое положение России в годы первой мировой войны. М., 1960
Смена вех. Сборник статей. Прага, 1921
Советская историография. Под ред. Ю.Н.Афанасьева. М., 1996
Солженицын А.И. Двести лет вместе (1795–1995). Т. I. М., 2001
Солженицын А. Красное колесо. Повествование в отмеренных сроках. Узел I. Август четырнадцатого. В двух томах, М., 1993
Солженицын А.И. Наконец-то революция: Главы из книги «Красное Колесо» В двух книгах, Екатеринбург, 2001
Солженицын А. Россия в обвале. М., 1998
Соловьв С.М. Публичные чтения о Петре Великом. М., 1984
Соловьев Ю. 25 лет моей дипломатической службы. 1893–1918. М.-Л., 1928
Соловьева А.М. Железнодорожный транспорт России во второй половине XIX в. М., 1975
Сперанский В.Н. Из истории военно-экономической подготовки войны 1812 г. / Из истории общественного движения в России в XIX веке. Ученые записки Горьковского государственного университета им. Н.И.Лобачевского. Серия историко-филологическая, вып. 78, т. 2. Горький, 1966
План государственного преобразования гр. М.М.Сперанского. М., 1905
Старцев В. Масонство в России. / Сб.: За кулисами видимой власти. М., 1984
Столыпин. Жизнь и смерть. Сборник. Изд. 2-е, Саратов, 1997
Стратегия в трудах военных классиков. М., 1924
Струве П. Крепостное хозяйство. Исследования по экономической истории России в XVIII и XIX вв. СПб., 1913
Струмилин С.Г. Очерки экономической истории России и СССР. М., 1966
Сувениров О.Ф. Трагедия РККА. 1937–1938. М., 1998
Суворов В. Очищение. Зачем Сталин обезглавил свою армию? М., 1998
Судьбы современной русской интеллигенции. М., 1925
Суханов Н.Н. Записки о революции. Изд. 2-е, т. 1, М., 1991
Воспоминания Сухомлинова. М.-Л., 1926
Тайные общества в России в начале XIX столетия. М., 1926
Такман Б. Первый блицкриг. Август 1914. М.-СПб., 1999
Тарле Е.В. Континентальная блокада. В двух томах, т. 1, М., 1913
Татищев С.С. Император Александр II. Его жизнь и царствование. В двух томах. СПб., 1903
Тихомиров Л.А. Тени прошлого. Воспоминания. М., 2000
Толь С.Д. Масонское действо. СПб., 1914
Томсинов В.А. Светило российской бюрократии. Исторический портрет М.М.Сперанского. М., 1991
Троицкий К. Церковь и государство в России. М., 1923
Троицкий С.М. Финансовая политика русского абсолютизма в XVIII веке. М., 1966
Тройницкий А. Крепостное население России по 10-й народной переписи. СПб., 1861
Троцкий И.М. Третье отделение при Николае I. М., 1930
Троцкий Л.Д. История русской революции. Т. 1. Февральская революция. М., 1997
Труды ВЭО, ч. VII, 1767; ч. IX, 1768
Трухановский В.Г. Уинстон Черчилль. Политическая биография. М., 1968
Туган-Барановский М. Русская фабрика в прошлом и настоящем, т. I. Изд. 7-е, М., 1938
Тун А. История революционных движений в России. Изд. 4-е. Л., 1924
Россия и русские Николая Тургенева. Т. 1, М., 1915
Тыркова-Вильямс А. На путях к свободе. Нью-Йорк, 1952
Тютюкин С.В., Шелохаев В.В. Марксисты и русская революция. М., 1996
Удалов Ф. Показание о сельском домостроительстве и земледелии, сообщенное к сведению определенным в казенных волостях управителям. Труды ВЭО, ч. XXIII, 1773
Удалов Ф. Собрание экономических правил. Труды ВЭО, ч. XV, 1770
Ульянов Н. Замолчанный Маркс. Франкфурт-на-Майне, 1969
Унгерн-Штейнберг Ф. Наблюдения и опыты по части усовершенствования разных отраслей сельского хозяйства в России. СПб., 1841
Уткин А. Забытая трагедия. Россия в первой мировой войне. Смоленск, 1999
Уткин А.И. Черчилль: победитель двух войн. Смоленск, 1999
Утопический социализм. Хрестоматия. М., 1982
Фалькенгайн Э. Верховное командование 1914–1916 в его важнейших решениях. М., 1923
Февральская революция: от новых источников к новому осмыслению. Сборник статей. М., 1997
Февральская революция 1917. Сборник документов и материалов. М., 1996
Федоров В.А. Помещичьи крестьяне центрально-промышленного района России конца XVIII — первой половины XIX в. М., 1974
Федотов Г.П. Новый град. Нью-Йорк, 1952
Федотов Г.П. Империя и свобода. Избранные статьи. Нью-Йорк, 1989
Фонвизин Д. Сочинения. СПб., 1866
Фортунатов А.Ф. Урожаи ржи в Европейской России. СПб., 1893
Фош Ф. О ведении войны. Маневр перед сражением. Изд. 2-е, М., 1937
Фош Ф. О принципах войны. Пг., 1919
Хайек Ф.А. Дорога к рабству. Лондон, 1985
Хлеб и революция. Продовольственная политика коммунистической партии и советского правительства в 1917–1922 годах. Сборник. М., 1972
Хрестоматия по отечественной истории (1914–1945 гг.). М., 1996
Хромов П.А. Экономическая история СССР. Период промышленного и монополистического капитализма в России. М., 1982
Царев Н.Т. От Шлиффена до Гинденбурга. М., 1956
Цареубийство 11 марта 1801 года. Записки участников и современников. СПб., 1908
Чаадаев П.Я. Сочинения и письма в двух томах. М., 1914
Ченцов М.В. История русской промышленности. Краткий очерк. М., 1925
Чернов В.М. Перед бурей. Воспоминания. М., 1993
Н.Г.Чернышевский в воспоминаниях современников. М., 1982
Черчилль У Вторая мировая война. Ростов на-Дону, 1997
Черчилль У. Мировой кризис. М.-Л., 1932
Чечулин Н.Д. Русский социальный роман XVIII века («Путешествие в Землю Офирскую г. С., Швецкаго Дворянина» — сочинение князя М.М.Щербатова). СПб., 1900
Чистов К.В. Русские народные социально-утопические легенды XVII–XIX вв. М., 1967
Чичерин Б.Н. Опыты по истории русского права. М., 1858
Чулков М.Д. Пересмешник или славенские сказки. / Русская проза XVIII века, т. I, М.-Л., 1950
Шанецкий А. Американский ученый о русском историческом процессе (Рецензия на книгу: Ричард Пайпс. Россия при старом режиме). / Память. Исторический сборник. Вып. 4. М., 1979, Париж, 1981
Шанин Т. Революция как момент истины. 1905–1907 — 1917–1922. М., 1997
Шапошников Б. Мозг армии. М.-Л., кн. 1, 1927
Шацилло К.Ф. От Портсмутского мира к Первой мировой войне. Генералы и политика. М., 2000
Шварте М. Техника в мировой войне. М.-Л., 1927
Швитков М. Ответ на вторую задачу 1804 г. О причинах дороговизны на съестные припасы и об отвращении оных. Труды ВЭО, ч. 57, 1805
Швитков М. Ответ на задачу 1809 г. О двух главных способах, назначенных к лучшему деревнями управлению. Труды ВЭО, ч. 62, 1810
Шемиотт П. Мысли об усовершенствовании сельского хозяйства и улучшении быта поселян-хлебопашцев. Изд. 2-е, СПб., 1839
Исповедь Шервуда-Верного. «Исторический Вестник», 1896, январь
Шеремет В. Босфор. Россия и Турция в эпоху первой мировой войны по материалам русской военной разведки. М., 1995
Шильдер Н.К. Император Александр Первый. Его жизнь и царствование. В 4-х томах. СПб., 1897-1898
Шильдер Н.К. Император Николай Первый. Его жизнь и царствование. Т. I. СПб., 1903
Широкалова Г.С. Современный аграрный кризис в России: исторические параллели. «Государство и право», № 2, 1994
Шлиффен. Канны. М., 1938
Шлихтинг. Основы современной тактики и стратегии. Ч. 2, кн. 1. СПб., 1910
Шляпников А.Г. Канун семнадцатого года. Семнадцатый год. В двух томах. М., 1992
Штейн В.М. Очерки развития русской общественно-экономической мысли ХIХ-ХХ веков. Л., 1948
Шуб Д. Политические деятели России (1850-ых — 1920-ых гг.). Сборник статей. Нью-Йорк, 1969
Шульгин В.В. Дни. Л., 1927
Щеголев П.Е. Алексеевский равелин. Книга о падении и величии человека. Л., 1929
Щеголев П.Е. Декабристы. М.-Л., 1926
Щеголев П.Е. Дуэль и смерть Пушкина. М.-Л., 1928
Щеголев П.Е. Николай I и декабристы. Пг., 1919
Щеголев П.Е. Охранники, агенты, палачи. М., 1992
О повреждении нравов в России князя М.Щербатова и Путешествие А.Радищева. Факсимильное издание. М., 1983
Щербатов М.М. Статистика в рассуждении России. Сочинения, т. I. СПб., 1896
Эйдельман Н. Лунин. М., 1970
Эйдельман Н. Последний летописец. М., 1983
Эйдельман Н. Пушкин. История и современность в художественном сознании поэта. М., 1984
Эйдельман Н.Я. Герцен против самодержавия. Секретная политическая история России XVIII–XIX веков и Вольная печать. М., 1973
Эйдельман Н.Я. Грань веков. Политическая борьба в России. Конец XVIII — начало XIX столетия. М., 1982
«Экономическая Жизнь» №№ 15, 16, 17, 40, 52, 101; 24, 25 и 27 января, 22 февраля, 7 марта и 12 мая 1920
Экономическая история России ХIХ-ХХ вв.: современный взгляд. М., 2001
Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистической революции. Документы и материалы. Часть третья. Сельское хозяйство и крестьянство. Л., 1967
Экономическое развитие и классовая борьба в России ХIХ и ХХ вв. Сборник, т. II. Л., 1924
Энгельман И. История крепостного права в России. М., 1900
Эпоха Николая I. Сборник. М., 1910
Эрнефельд Б.К. Тяжелый фронт. Из истории борьбы большевиков с царской тайной полицией. М., 1983
Юрков И.А. Экономическая политика партии в деревне. 1917 — 1920. М., 1980
Ягунин В. Александр Одоевский. М., 1980
Якоб Л. Ответ на задачу Вольного экономического общества 1812 г. Труды ВЭО, ч. 66, 1814
Яковлев Н. 1 августа 1914. Изд. 3-е, М., 1993
Якушкин В.Е. Государственная власть и проекты государственной реформы в России. СПб., 1906
Записки И.Д.Якушкина. М., 1905
Якушкин П. Велик Бог земли русской. Сочинения. СПб., 1884
Янов А. Россия против России. Очерки истории русского национализма. 1825–1921. Новосибирск, 1999
Ярославский Е. Краткие очерки по истории ВКП(б). Ч. I. Изд 3-е, М.-Л., 1928
Яснопольский Л. Военная налоговая реформа. «Русская Мысль», 1915, февраль
Ясный Н. Мировой хлебный рынок. (Производство, потребление, торговля, цены). Энциклопедия русского экспорта, т. 1, Берлин, 1924
Яцунский В.К. Социально-экономическая история России XVIII–XIX вв. Избранные труды. М., 1973
14 декабря 1825 года и его истолкователи (Герцен и Огарев против барона Корфа). М., 1994
1812 год. Воспоминания воинов русской армии. М., 1991
Allen D. The Fight for Pearce. N.Y., 1930
Aretin K.O. Das Alte Reich. 1648–1806. Bd. 3. Stuttgart, 1997
Baumeister W. Rußland nach dem Wiener Kongreß im Urteil diplomatischer Vertretungen in St. Petersburg 1815–1825. Eine vergleichende Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung der württembergischen Berichterstattung. Tübingen, 1970
Dedijer V. Saraevo 1914. Kn. II. Beograd, 1978
Fischer F. War of Illusions. Lnd., 1975
Fülöp-Miller R. Der heilige Teufel. Rasputin und die Frauen. Berlin-Wien-Leipzig, 1927
Germany and the Revolution in Russia. L., 1958
Germany’s Aims in the First World War. N. Y., 1961
Studien über die inneren Zustände, das Volksleben und insbesondere die ländlichen Einrichtungen Russlands von August Freiherren von Haxthausen. Bd. 1, 2, Hannover, 1847; Bd. 3, Berlin, 1852
Höhne H. Der Krieg im Dunkeln — Macht und Einflus der deutschen und russischen Geheimdienste. Frankfurt-Berlin, 1988
The Kerensky Memoirs: Russia and History‘s Turning Point. Lnd, 1965
Kettle M. The Allies and the Russian Collapse. March 1917 — March 1918. L., 1981
Krautheim H.J. Öffentliche Meinung und imperiale Politik. Das britische Rußlandbild, 1815–1854. Berlin, 1977
LeDonne J.P. Absolutism and ruling class: the formation of the Russian political order 1700–1825. NY [u.a.], Oxford Univ. Hress, XVII, 1991
Lieven D.C.B. Russia and the Origins of the First World War. Lnd., 1984
Lincoln W.B. Nikolaus I, von Rußland, 1796–1855. München, 1981
Lutz H. Zwischen Habsburg und Preußen. Deutschland 1815–1866. Berlin, 1998
Orlovsky D.T. The Limits of reform. The Ministry of Internal Affairs in imperial Russia, 1802–1881. Zfrvard Univ. Press, VIII, 1981
Palmer A. Alexander I: der rätselhafte Zar. Frankfurt/M. [u.a.], 1994
Pappas N.C. Greeks in Russian militari service in the late 18th and 19th centures. Thessaloniki, 1991
Pares B. The Fall of the Russian Monarchy. Lnd., 1939
Pearson R. The Russean Moderates and the Crisis of Tsarism. Lnd, 1997
Pleticha H. Deutsche Geschichte. Bd. 4. 1618–1815. München, 1998
Ragsdale H. Detente in the Napoleonic era. Bonaparte and the Russians. Regents Press of Kansas, XII, 1980
Riasanovsky N.V. A Parting of ways. Government and the education public in Russia, 1801–1855. Oxford Clarendon Press, VIII, 1976
Riasanovsky N.V. The Image of Peter the Great in Russian history and thought. Oxford Univ. Press, IX, 1985
Sementovskij-Kurilo N. Alexander I, von Rußland. Frankfurt/M., 1967
Stone N. The Earsten Front, 1914–1917. Lnd., 1976
Stock F. Kotsebue in litterarischen Leben der Goethezeit. Düsseldorf, 1971
Trotsky L. Lenin. P., 1925
Utechin S.V. Geschichte der politischen Ideen in Rußland. Stuttgart [u.a.], 1966
Westwood J.N. Endurance and endeavour. Russian histori 1812–1980. Oxford Univ. Press, XIV, 1982





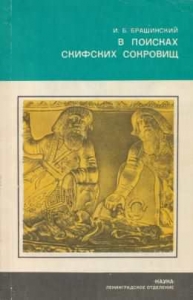
Комментарии к книге «Заговор графа Милорадовича», Владимир Андреевич Брюханов
Всего 0 комментариев