Sven Steenberg Vlasov Свен Штеенберг Генерал Власов Перевод с английского — А. Колин
Предисловие
Русский генерал Андрей Андреевич Власов известен тем, что в годы Второй мировой войны возглавил оппозицию Сталину. Фамилия Власова связана с одной из тех попыток свержения советского режима, у которых имелся верный шанс на успех. Лишь немногим людям известны подлинные события драмы, в которой Власову было суждено сыграть центральную роль. В послевоенные годы пропаганда и легенда так затуманили историю, что значение этого человека и то, какие надежды связывали с ним многие русские, не прояснилось и по сей день.
Случай Власова просто поразителен по тому, сколько света он проливает на психологические и моральные проявления отдельных личностей в России перед лицом тоталитарной диктатуры. Власов и Освободительное движение олицетворяли собой дух русского народа со всеми возможностями и всеми стоявшими перед ним трудностями — духа, который нашел яркое выражение впервые с момента возникновения советского государства в то время, когда от шестидесяти до семидесяти миллионов граждан Советского Союза жили вне досягаемости власти Сталина.
Цель данной работы — вывести фигуру Власова из тумана забвения и показать его борьбу такой, какой она была, без искажений и домыслов. Можно будет считать задачу этой книги выполненной, если она поможет читателю прояснить мотивы, которые толкнули сотни тысяч русских на союз с агрессором против своего собственного правительства.
Автор выражает благодарность тем, кто предоставил ему свои личные записи и архивные документы. Принимая во внимание скудность документального материала, посвященного Русскому освободительному движению, точное воспроизведение событий стало бы без такого сотрудничества просто невозможным.
Ниже приводятся имена и фамилии людей, снабдивших автора необходимой информацией: Гюнтер д’Алькен, Ростислав Антонов, Вячеслав Артемьев, Готтлоб Бергер, Макс Бернсдорф, Аделаида Биленберг, Вернер Борманн, Фридрих Бухардт, Герт Бушманн, барон Эдуард фон Деллингсгаузен, Фриц Делонге, Константин Дульшерс, Ганс Элих, Сергей Фрелих, Вернер Геттинг-Зеебург, Иван Гордиенко, Николаус фон Гроте, Адам Грюнбаум, Вальтер Ханзен, Готтард Хейнрици, Вернер Хеннинг, Хайнц Герре, Ральф фон Хейгендорф, Генрих-Детлоф фон Кальбен, Николай Кандин, Фарид Капкаев, Александр Казанцев, Ганс Керль, Герт Клейн, барон Гельмут фон Клейст, Дмитрий Космович, Отто Краус, Теодор Краузе, Эрхард Крегер, Роберт Крец, Константин Кромиади, Анатолий Кружин, граф Григорий Ламсдорф, Анатоль Михайловский, Ольдвиг фон Нацмер, Теодор Оберлендер, Манфред фон Паннвиц, Герберт фон Пастор, Эгон Петерзон, Герхард Петри, Клаус Пельхау, Владимир Поремский, Владимир Поздняков, Фриц Прелле, Николай Ребиков, Роман Редлих, Виктор Ресслер, барон Георг фон дер Ропп, Александр Зайцев, Михаил Шатов, Бальдур фон Ширах, Фердинанд Шёрнер, Владимир Шубут, Гельмут Швеннигер, Марго фон Швердтнер, Юрий Жеребков, Эрих фон Зиверс, Эрнст Штеен, Вильфрид Штрик-Штрикфельдт, Сунь Кюйчи, Николай Тензоров и Мелитта Видеманн.
Свен Штеенберг
Глава I Генерал
Шел сентябрь 1941 года. В течение сорока восьми часов генерал-майор Андрей Андреевич Власов тщетно пытался связаться по рации с Москвой. Кремль ответил только вечером 18 сентября. Полученное указание состояло всего из двух слов: «Отступайте. Сталин». Власов отдал своим войскам приказ об оставлении Киева, который до тех пор удерживал под ударами атакующих частей Вермахта, и об отходе на восток.
Немецкое нашествие Власов — очень крупный, несколько грузный человек с широким лицом, полными губами, высоким лбом и умными глазами, прячущимися за толстыми стеклами очков, — встретил командиром 4-го механизированного корпуса во Львове. В результате ожесточенных оборонительных боев его соединению пришлось отступать к Бердичеву. В конце июля, тогда всего только сорокалетний, Власов получил назначение на должность командующего 37-й армии, входившей в состав войск Киевского военного округа,[1] контролировавшего стратегически очень важный район, что служило подтверждением высокого доверия и признания руководством Советского Союза заслуг и способностей молодого командира.
Его армия стала последней, оставившей позиции на Днепре уже после того, как немцы в более чем полутораста километрах к востоку завершили глубокий и самый крупный в истории войн охватный маневр, сомкнув «клещи» в тылу советских войск. Немцы имели все основания благодарить Сталина за успех этой операции, в ходе которой они окружили все войска русских на юго-западном участке фронта, заперли и уничтожили их в котле площадью 120 тысяч квадратных километров. Несмотря на отчетливо видимые признаки надвигавшейся катастрофы, Сталин стремился удержать позиции на Днепре любой ценой. Не слушая отчаянных призывов маршала Семена Буденного разрешить ему приступить к отходу, Сталин бросал в огонь все новые и новые силы. Лишь спустя трое суток после того, как немцы замкнули кольцо, он соизволил дать войскам разрешение на прорыв в восточном направлении.
Но было уже поздно. Командование стремительно утрачивало контроль над механизмом управления войсками, армии рассыпались, быстро росло число дезертиров. Сталину приходилось дорогой ценой расплачиваться за годы деспотичного правления. Чистки в армии, лагеря, насильственная коллективизация — горнило террора, в котором сгинули миллионы, — все это сказалось теперь. Значительная часть населения приветствовала немцев как освободителей. В плен сдались 600 тысяч солдат и офицеров.
Между тем Власов избрал иной путь. Что особенно примечательно, за ним последовало ядро его армии — подобные вещи вовсе не являлись правилом в те дни. Он устремился в восточном направлении форсированными маршами, минуя районы, где обретались разрозненные части других армий, и в итоге вывел из окружения несколько тысяч человек.[2] Однако вскоре он попал в госпиталь в Воронеже с тяжелой формой гриппа.
Поначалу никто из местных представителей власти, казалось, не замечал его. Власов виделся им «битым» генералом, которого скорее всего ожидала немилость высшего руководства. Однако в середине октября маршал Семен Тимошенко, сменивший Буденного на посту командующего фронтом, сообщил Власову о назначении его комендантом тыловых районов армии. Когда же, практически сразу за этим назначением, Сталин телефонным звонком вызвал его в Москву, о хворавшем генерале словно бы разом вспомнили все — глава НКВД, комендант города, высокопоставленные военные и всевозможные официальные лица в гражданском руководстве. Власова еще не списали со счетов, его карьере — карьере, исключительной даже по советским меркам, — дали дальнейший ход.[3]
Власов родился 1 сентября 1900 г.[4] в небольшом селе Ломакино Нижегородской губернии и был восьмым сыном крестьянина, который подрабатывал портным, чтобы дать своим детям образование. Однако в царской России возможности, предоставлявшиеся выходцам из рабочих и крестьянских семей, были весьма ограниченными. Только старшему сыну, Ивану, удалось закончить педагогический институт в Нижнем Новгороде. Для Андрея, самого младшего, гибкий ум и сообразительность которого отмечал сельский учитель, не было иного пути, как только духовная семинария, поскольку православная церковь традиционно довольно либерально подходила к происхождению одаренных детей. В итоге Андрей попал в семинарию в Нижнем Новгороде. Правда, удалось это лишь благодаря большим жертвам и помощи старшего из братьев.
В общем, когда в стране вспыхнула революция, Власов сидел на школьной скамье. Революция обещала людям мир, землю, свободу и упразднение классовых и сословных различий, чего, конечно, не мог не желать Андрей. Окончив семинарию, он против желания отца не пошел по духовной стезе и в 1918 г. начал изучать сельское хозяйство. Однако весной 1919 г. его призвали в Красную Армию. Так он оказался в числе военнослужащих 27-го стрелкового полка.
После учебы на курсах подготовки комсостава Власова осенью 1919 г. сделали командиром взвода 2-й Донской дивизии, которая тогда вела бои с частями белой армии Деникина. Там у Власова появилась возможность набраться боевого опыта, проявить талант военного и продемонстрировать качества характера, в значительной мере способствовавшие его быстрому взлету. Он научился понимать, как нужно «завоевывать уважение солдат, как заставить их слушаться, но в то же время и как укрепить в них веру в самих себя».[5]
В начале 1920 г. Красная Армия очистила от белогвардейцев Украину и Северный Кавказ. 2-ю Донскую дивизию, в которой Власов к тому времени командовал ротой, перебросили с Кавказского фронта на Крымский, где сосредотачивались свежие войска противника под началом генерала Врангеля. Власова назначили адъютантом начальника штаба дивизии, а затем по его собственной просьбе — он не любил штабной работы — командиром разведывательного подразделения. Когда в ноябре 1920 г. с войсками Врангеля было, наконец, покончено, для Власова завершился первый активный этап на пути становления его как боевого офицера.
Служба нравилась Андрею, и он решил остаться в армии. Хотя в то время всего за два года численность вооруженных сил Советской России сократилась с 6 миллионов до 600 тысяч человек, Власова оставили на действительной службе ротным командиром. Ко дню празднования пятилетней годовщины образования Красной Армии, в знак признания высокого уровня подготовки роты Власова, начальник штаба РККА Лебедев вручил ему серебряные часы с надписью. В 1924 г. его назначили командовать полковой школой подготовки 26-го стрелкового полка; в 1928 г. он закончил очередные курсы комсостава и в 1929 г. возвратился в свой прежний полк уже командиром батальона. В 1930 г. он преподавал тактику в Ленинградском училище для красных командиров, а вскоре после этого его направили в Москву на повышение квалификации. Вернувшись в Ленинград после подготовки, он получил назначение на должность заместителя руководителя преподавательского состава. Тогда же по рекомендации начальства он вступил в Коммунистическую партию.
Несколько следующих лет Власов провел в штабе Ленинградского военного округа, где к 1935 г. дослужился до должности помощника по военной подготовке. В ходе инспекционной поездки заместителя командующего округом Примакова было признано особо неудовлетворительным состояние дел во 2-м стрелковом полку 4-й Туркестанской дивизии, в связи с чем Примаков назначил командиром полка Власова. Последний в короткий срок навел порядок в части, а затем принял командование 137-м стрелковым полком, который вскоре заслужил репутацию лучшего полка в округе. Следующим назначением Власова стал пост начальника штаба 72-й дивизии. Именно находясь на этой должности, ему было суждено пережить период чисток, связанных с «делом Тухачевского». Опыт работы в качестве начштаба дивизии и последовавшая затем в 1938 г. командировка в Китай сослужили наиважнейшую службу в дальнейшей карьере Власова.
Все подробности «дела», названного по фамилии главного его фигуранта — высокопоставленного командира Красной Армии, смелого реформатора маршала М. Н. Тухачевского, — не вышли на поверхность и по сей день. Неясно даже, существовал ли вообще какой-то заговор — тем более заговор, «последствия которого могли быть сокрушительными и который Сталин предотвратил всего за одиннадцать часов до его начала»,[6] — или же просто Сталин принял меры предосторожности, стремясь уничтожить опасный властный центр, оставшийся после чисток в партии и органах тайной полиции — группу высокопоставленных критически настроенных офицеров. Некоторые из ближайших и наиболее влиятельных соратников Сталина уже пытались как-то обуздать постоянно набиравшую темпы машину террора, однако они вставали на ее пути как одиночки, не располагавшие реальной силой, за что расплачивались собственными жизнями. Армия же представляла собой источник постоянной угрозы для Сталина.
Предупредили ли Сталина органы секретной полиции, как утверждает официальная версия, или же он поверил в зреющий заговор с подачи Гитлера через президента Чехословакии Эдуарда Бенеша, на что намекает Никита Хрущев, или же советский руководитель сам спровоцировал Гитлера на подобную подачу, по-прежнему неизвестно.[7] Между тем есть все основания считать, что официальное обвинение — «шпионаж в пользу иностранного государства и подготовка к поражению Красной Армии в планируемой войне против Советского Союза» — не соответствовало истине. Более вероятно то, что Тухачевский — постоянно бивший тревогу и указывавший на опасность, которую представляет для России национал-социалистическая Германия,[8] незадолго до ареста побывавший в Англии и во Франции, — обсуждал с представителями официальных кругов этих стран способы отстранения от власти Гитлера. Оппозиционеры в среде немецких вооруженных сил тоже вполне могли участвовать в подобных переговорах.[9]
Как бы там ни было, расправа Сталина носила устрашающий по размаху характер. По самым скромным оценкам, были арестованы около тридцати тысяч офицеров. Ликвидации подверглись три из пяти маршалов, 13 из 19 командующих армиями и более половины из 186 командиров дивизий. Не было пощады даже их семьям. Так, жертвами террора пали мать Тухачевского, его сестра Софья и его братья, Александр и Николай; еще четыре сестры угодили в лагеря.[10]
Несомненно, эти события оказали влияние на формирование отношения Власова к сталинскому режиму, хотя сам он непосредственно никак не пострадал — даже не был арестован. Однако он получил прекрасное представление о том, сколь шаткой была в те времена почва под любым высокопоставленным офицером Красной Армии. Однажды его дивизионный комиссар показал на фотографию маршала Блюхера, висевшую в кабинете Власова, и порекомендовал:
— На вашем месте я бы снял это.
— Уже? — спросил Власов.
— Уже! — ответил комиссар.
Фотография была подписана самим маршалом, которого Власов знал по военной академии.[11]
Власову повезло. Он не только избежал ареста, но и весной 1938 г. получил звание полковника, а также и назначение от командующего Киевским военным округом на пост руководителя отдела военной подготовки. Однако он продолжал оставаться в «зоне поражения» до тех пор, пока в ноябре того же года не был направлен в составе группы военных советников в Китай.
Так Власов впервые оказался в командировке в некоммунистической стране. Сначала он прибыл в г. Чунцин, где размещалось китайское правительство. Одни русские советники на фронте носили китайскую военную форму без знаков воинского различия, другие ходили в гражданском. Большинство имели военные псевдонимы, так, Власов был в Китае Волковым. Он быстро достиг взаимопонимания с китайцами, завоевал их любовь и уважение, а особенно прославился с блеском прочитанными лекциями в китайском военном училище в Чунцине.
В Китае Кремль проводил двухстороннюю политику. С одной стороны, СССР поддерживал Чан Кайши в его борьбе против японцев, а с другой — искал возможности усилить позиции китайских коммунистов. Секретные службы СССР дали Власову соответствующий намек, однако он не отреагировал, поскольку ничего подобного не содержалось в полученных им официальных инструкциях. Мысль о предательстве доверия и дружбы с китайцами казалась ему отвратительной.
С февраля по май 1939 г. он служил советником при маршале Чжень Цзышане, командующем Вторым военным округом Северо-Западного фронта провинции Шаньси. Это было очень непростое задание. Под теми или иными предлогами маршал то и дело саботировал распоряжения Генерального штаба. Его считали человеком умным, упрямым и склонным к интриганству, а также мастером тонкого искажения фактов. Подчиненным ему войскам надлежало принять участие в широкомасштабной операции, а задача Власова заключалась в том, чтобы убедить маршала в этой необходимости. Путем искусной дипломатической игры советник завоевал доверие маршала и получил разрешение на инспекцию его войск.
В данном предприятии большую роль сыграл личный переводчик Власова, Сунь Кюйчи. Двадцатидевятилетний Сунь был юристом по образованию, приписанным к русской миссии отделом печати Военного министерства. Человек умный и разносторонний, он скоро подружился с Власовым. Суня особенно поражала способность Власова сосредотачивать все силы на решении непосредственных задач. Русский офицер умел отодвигать в сторону все остальное и никогда не выпивал в служебное время. Он не раз демонстрировал личную храбрость. Поскольку во время разведывательных операций постоянно существовала опасность попасть в плен к японцам, Власов приказывал всегда находившемуся рядом Суню застрелить его в критической ситуации.
Вне службы Власов проявлял себя как человек веселый и простой. Он воздерживался от споров на политические темы и никогда не занимался пропагандой коммунистического образа жизни. От прямых вопросов он обычно уходил, отшучиваясь как-то так: я-де простой солдат, пусть о политике судят политики, которые лучше разбираются в таких вопросах. Он предпочитал не высказываться критически о положении в Советском Союзе, хотя по многим его косвенным замечаниям можно было бы сделать вывод о том, что Власов не принадлежал к числу сторонников сталинских методов руководства.
Низкорослые китайские лошадки мало подходили для человека такого телосложения, как Власов, потому верхом он представлял собой довольно комическое зрелище.
— С судьбой не поспоришь, — как-то заявил он Суню. — Я Дон Кихот, а ты мой Санчо Панса.
Закончив задание в качестве помощника при Чжень Цзышане, Власов сделался начальником штаба группы советников. После почти года, проведенного в Китае, в ноябре 1939 г. он был отозван в СССР. На прощальном банкете, который дал в его честь маршал Чан Кайши, Власову вручили орден Юнь-Ги («Благословенное облако»), а жена маршала подарила золотые часы. Однако во время остановки в Алма-Ате на пути домой все подарки у него и его спутников изъяли под предлогом «регистрации», так что никто больше их никогда не видел.[12]
По приезде домой Власов обнаружил, что очень многое изменилось. СССР подписал пакт о ненападении с Германией; Польша подверглась разделу; Латвия, Эстония и Литва влились в состав СССР; Красная Армия столкнулась с трудностями в ходе финской войны. И над всем этим мрачной тенью маячил сталинский террор. Мысли о том, для чего делалась революция и во что она в итоге вылилась, тяготили Власова. Однако он считал, что политические вопросы не его дело — так или иначе, он был не в силах что-либо изменить, — и с головой погрузился в работу. Дел же было более чем достаточно, поскольку вскоре после возвращения его назначили командиром 99-й стрелковой дивизии. В этой дивизии, считавшейся худшей в армии, несли службу солдаты пяти разных национальностей, некоторые из которых едва говорили по-русски.
Быть в ту пору командиром в Красной Армии было отнюдь не просто. Помимо всех обычных обязанностей, немало времени приходилось тратить на участие в партсобраниях, посещать которые являлось важнейшей обязанностью всех членов партии. Любой коммунист — будь то прачка или коновод — мог подвергнуть критике вопросы, в которых она или он зачастую ничего не смыслили. Так, например, однажды некий истопник выступил с критикой Власова как дивизионного командира. Когда же Власов заметил товарищу, что он не может судить о том, как надо руководить дивизией, тот ответил, что все коммунисты равны, а ему (Власову) надлежит лучшим образом выполнять свои обязанности.
Чтобы не утратить авторитет и попросту не превратиться в посмешище, Власов решил контратаковать. На следующее утро он наведался в штабное помещение за час до начала рабочего дня и застал истопника спящим перед холодной печью. Командир немедленно отправил нерадивого истопника на гауптвахту сроком на двадцать суток за халатное отношение к служебным обязанностям. Контрудар принес желаемые плоды — Власов спас свой престиж. Однако не все кончилось так просто — понадобилось потратить немало сил на «подковерную» борьбу, необходимо было найти контакт с дивизионным комиссаром, который имел право при желании отменять приказы командира.
Правительство создало институт политработников и комиссаров из-за недоверия к военным, оно побаивалось, что однажды армия повернет оружие против режима. В 1928 г. Иван Уншлихт — видный деятель своего времени — так высказался по случаю празднования десятилетней годовщины Красной Армии: «Товарищи, не забывайте, что костяк нашей рабоче-крестьянской армии состоит из молодых представителей крестьянства, которые вступают в нее, находясь под властью настроений, преобладающих в деревне… и настроения эти враждебны нам!»[13]
Несмотря на подобные тенденции и невзирая на иные сложности, Власову удалось повысить уровень дисциплины и боевой подготовки дивизии. 4 июня 1940 г., всего за несколько месяцев до своего сорокалетия, он стал генерал-майором.[14]
Вскоре после этого он впервые после окончания командировки в Китай провел отпуск в родном селе. Ездить домой в отпуск было делом дорогостоящим. Он служил предметом гордости многочисленной родни и всех односельчан. Его приезд всегда был событием, от него ждали приглашений, подарков. И хотя он вынужден был потом месяцами отказывать себе во всем, Власов не считал себя вправе лишить удовольствия родных и близких. Между тем его пожилой отец упорно не желал верить в то, что сын живет лишь на жалованье.
— В мое время, — говаривал он, — на одном фураже для эскадрона можно было наэкономить достаточно, чтобы купить небольшой домик.
Отец Андрея служил в молодости в кавалерийском гвардейском полку, демобилизовался в чине унтер-офицера и с тех пор то и дело вспоминал былое. Убежденный монархист, он не скрывал того, что новый порядок не по нему.
В 1933 г. Власов женился на женщине-враче из соседнего села, которая родила сына в то время, пока муж находился в Китае. Имущество родителей жены Власова, признанных «кулаками», было экспроприировано, и, чтобы не ставить под удар карьеру мужа, ей пришлось отказаться от них. Между тем Власов тайно оказывал поддержку попавшим в беду тестю и теще. Судьба старшего брата, Ивана, принимавшего участие в мятеже в 1919 г. и расстрелянного в ходе его, была еще одной из тщательно охраняемых семейных тайн Власовых.
Летом 1940 г. высший командный состав Красной Армии обрушился с критикой на военных комиссаров, обвиняя последних в поражениях, понесенных в финской войне. В борьбе принял участие и Власов, который таким образом дебютировал на военно-политическом поприще. На партийных собраниях в войсках Киевского военного округа он отстаивал мнение, что политическая пропаганда не может являться самоцелью, а должна служить основополагающей цели — повышению боевой подготовки личного состава.[15]
В августе 1940 г. власть комиссаров была значительно ограничена, с этого времени командиры пользовались исключительным правом решать вопросы военного характера. Данное изменение облегчило работу Власову, развязало руки и позволило превратить часть в лучшую дивизию в Красной Армии. Маршал Тимошенко вручил ему именные золотые часы, а армейская пресса, газета «Красная звезда», так или иначе отметила его в десятке материалов. Не осталась в стороне и «Правда». В частности, 27 сентября Тимошенко написал о Власове и его дивизии, что они «продемонстрировали способность решать тактические задачи в особо сложных условиях».
Генерал Мерецков, начальник Генерального штаба Красной Армии, тоже превозносил дивизию после посещения. В одной из публикаций политического руководства Киевского округа Власов заслужил похвалы как «командир образцовой дивизии, как солдат и человек».[16] Особо подчеркивалась его способность «достигать грамотного взаимодействия в применении всех видов вооружения на самом высоком уровне в обстановке, максимально приближенной к боевой». 21 ноября «Красная звезда» призывала все дивизии взять равнение на 99-ю, сделать ее образцом для себя. Власов тоже написал длинную статью «Новое в подготовке войск», которая вышла также и в форме брошюры.[17] Имя его стало известно буквально всем в армии, что вообще само по себе было в то время делом необычным, так как после «дела Тухачевского» выделять высших офицеров было не принято. В декабре 1940 г. Власов удостоился и еще одной чести — быть содокладчиком генерала Мерецкова, которому предстояло выступить перед высшими представителями офицерского корпуса Красной Армии по поводу подготовительных мер военного характера в будущем году. В январе 1941 г. Власов стал командиром 4-го механизированного корпуса во Львове, а в феврале, по случаю празднования двадцать третьей годовщины создания Красной Армии, ему вручили орден Ленина.
Отступление в начале войны и разгром под Киевом стали источником глубокого разочарования для Власова. Он осознал, что ошибки в руководстве и организации войск отражают несовершенство всей советской системы. Тем не менее на том этапе для него не существовало иного способа противодействия немецкой агрессии. Он мог лишь надеяться, что неминуемый рост влияния армии во время войны приведет к изменениям и в самой системе. Об ином решении он тогда не мог и помыслить.
Итак, едва встав с больничной койки, Власов сел в самолет, который отвез его на встречу со Сталиным.
Глава II Любимец Сталина
К октябрю в Москве воцарилась паника. Населением владели самые разнообразные настроения — от страха перед приближавшимся врагом до тайной надежды на крушение диктатуры Сталина. Участились грабежи. Правительственные архивы, органы управления, министерства и дипломатический корпус эвакуировались в Куйбышев. Составы для привилегированных представителей режима, располагавших правом приоритетного передвижения, запрудили Казанский вокзал — единственный, с которого еще отправлялись поезда в восточном направлении. Все новые эшелоны беспрестанно катились на восток, мешая доставке свежих войск из Сибири. Сталин остался в Москве с членами Политбюро, многие из которых занимали места уничтоженных предшественников. Кроме самого Сталина, в живых оставались лишь три из четырнадцати членов и кандидатов в члены первого советского Политбюро — Молотов, Ворошилов и Калинин.
Власов добрался до Москвы 10 ноября 1941 г., когда на станциях выгружались из эшелонов авангарды сибирских дивизий. С помощью жесточайших мер Сталину удалось восстановить относительный порядок. Тайной полиции было приказано «расстреливать на месте всех провокаторов, шпионов и вражеских агентов, которые нарушают закон и порядок». Вновь созданные рабочие батальоны шли на фронт, а женщин сгоняли в предместья столицы на рытье окопов и противотанковых заграждений.
Власова — по обычаю Сталина — вызвали около полуночи. Он поехал в Кремль с маршалом Ворошиловым и генералом Шапошниковым, начальником Генерального штаба. Миновав несколько контрольно-пропускных пунктов, они очутились в кабинете Поскребышева — странного и почти таинственного человека, который на протяжении многих лет пользовался абсолютным доверием Сталина. Власов, которому предстояла первая встреча со Сталиным, не мог подавить некоторого волнения. Спустя некоторое время он вслед за Ворошиловым и Шапошниковым был препровожден в командный бункер Сталина. В углу стоял гигантский письменный стол хозяина. Вдоль одной из стен тянулся длинный, покрытый кумачом стол для заседаний, за которым сидели Берия, Жуков, Маленков и Сталин. Быстрый и даже проворный в движениях Сталин поднялся и поздоровался с вновь прибывшими за руку. Так как он был роста ниже среднего, Власов, казалось, нависал над ним, как скала.
— Товарищ Жуков, — произнес Сталин, говоривший тихо, но очень четко.
Маршал Жуков наглядно доложил обстановку — очень неблагоприятную на тот момент. На центральном участке фронта немцы находились всего в сорока километрах от Москвы. На юге бронетехника генерала Гудериана вышла почти на самые подступы к Туле. Поскольку распутица, давшая потрепанной Красной Армии некоторую передышку, закончилась, следовало ожидать возобновления немецкого наступления. Можно было предполагать, что 3-я танковая группа генерал-полковника Гота на севере и Гудериан на южном участке предпримут охватный маневр Москвы — возьмут ее «в клещи». Хотя сибирские части прибывали во все большем количестве, существовали сомнения, удастся ли бросить их в бой своевременно.
Когда Жуков закончил, Сталин обратился к Власову:
— А что вы думаете по поводу обстановки?
Медленно, словно бы раздумывая на ходу, Власов указал на то, что сама по себе мобилизация неподготовленных рабочих, переброска и развертывание их на фронте без регулярных войск ничего не дадут. Если в ближайшие дни в достаточном количестве прибудут сибирские части, тогда можно попробовать осуществить прорыв на запад — так удастся немного выиграть время. А дальше скажет свое слово русская зима.
— С войсками любой сможет защитить Москву, — жестко, почтит грубо бросил Сталин. — Необходимо мобилизовать миллионы жителей города и бросить их на оборону каждого квартала, каждого дома. Плюс к тому товарища Берию обязали обеспечить десять тысяч осужденных из лагерей.
— Есть танки? — поинтересовался Власов.
— Нет у меня танков, — отозвался Сталин и вдруг с ухмылкой обратился к Маленкову: — Товарищ Маленков, сколько танков мы можем дать товарищу Власову?
— Пятнадцать, — ответил Маленков.
— Что ж, получите пятнадцать танков. Больше все равно нет.
Затем Сталин назначил Власова командующим новой 20-й армии, создавать которую предстояло на ходу. Потом Сталин поднялся — обсуждение было закончено. Власова немало поразили холодное самообладание Сталина, его ясное осознание ситуации, отсутствие как рисовки, так и замешательства при отдании приказов в отчаянной обстановке. Более того, в такой трудный час Сталин позволял себе с улыбкой говорить о том, что у него есть всего пятнадцать танков.[18]
Приняв командование несуществующим соединением, Власов вместе с Шапошниковым поехал в штаб армии, чтобы обсудить задачи, которые ему предстояло решать в связи со своим новым назначением. Наибольшую трудность представляла нехватка транспортных средств. Власов решил цугом прицепить к пятнадцати танкам — ни одним больше, ни одним меньше — по нескольку тяжелых саней с боеприпасами и вооружением. Многие другие проблемы приходилось решать подобным же примитивным способом, хотя ничего нового или необычного тут для русских не было. Немцы так глубоко продвинулись, что 20-й армии пришлось вступать в боевые действия еще до завершения своего формирования. На севере немецкие танки, миновав район Красной Поляны, вышли к предместьям столицы. На северо-западном и центральных участках фронт находился примерно в тридцати километрах, а на юге танки Гудериана ревели моторами под Каширой. Падение Москвы было, казалось, делом решенным.
О возможности удержать оборону по всему фронту не шло и речи. Несмотря на нехватку сил, Власов решил контратаковать. Он шел на риск, однако атака представлялась ему единственным способом нарушить планы противника — задержать немецкое наступление. Силами нескольких танков, командование над которыми он возглавил лично, и моторизованных частей он сумел пробить брешь в позициях немцев, однако через несколько часов оказался в окружении, отрезанный от остальных войск армии. По рации Власов отдал приказ об отвлекающем ударе на следующее утро и устремился вперед, чтобы поддержать своих встречной атакой с запада. Маневр увенчался успехом, и оба острия наступления соединились под Химками.
Немцы остановили наступление — обороняющимся удалось выиграть столь драгоценное для них время. Однако очень скоро натиск возобновился, снова стало казаться, что враг вот-вот прорвется в Москву. Власов истратил последние резервы, а тем временем с севера поступали все более тревожные донесения. И вот в критический момент на фронт прибыла готовая к бою сибирская бригада. Ее командир получил приказ выступить на усиление соседней армии на севере, однако в пути часть сбилась с дороги из-за разыгравшейся метели. Власов тотчас же включил бригаду в состав своего командования. Он прекрасно понимал, чем может грозить ему подобное самоуправство, но время поджимало, к тому же его армии требовалась срочная помощь. Он дал вновь прибывшим два часа отдыха, а затем бросил их в бой на самом угрожаемом участке.
Решение это стало своего рода поворотным пунктом. Немцы столкнулись с противодействием, и удар их не достиг цели. Метели и образовавшиеся из-за них метровые сугробы осложняли работу служб снабжения, отказывали двигатели и оружие, остро не хватало теплого обмундирования, и тысячи обмороженных ожидали отправки в тыл. Самоубийственное наступление, приказ о котором отдал Гитлер, захлебнулось. Немецкие дивизии, оказавшиеся не в состоянии сдерживать контратаки свежих частей, начали откатываться. Однако и им в свою очередь удалось заставить русских остановиться, и на какой-то момент обстановка на фронте стабилизировалась.
На следующий день, 6 декабря, Власов принял второе решение, которое раз и навсегда определило исход битвы за Москву. Несмотря на большой риск, не зная точного положения дел у противника, он возобновил контратаку. Измотанные немецкие части начали отступать. 20-я армия Власова устремилась вперед, выдвигаясь примерно на 150 км от Волоколамска к Ржеву. Соседствовавшие с ней русские армии тоже перешли в наступление.[19] Впервые с начала войны удалось серьезно потрепать овеянные ореолом славы блицкрига немецкие дивизии. Москву отстояли, спасли, и одним из ее спасителей по праву можно назвать Власова.
Конечно, командовал на центральном направлении Жуков, и помимо 20-й армии Власова там действовали многие другие соединения — 30-я армия Лелюшенко, 1-я ударная армия Кузнецова, 16-я Рокоссовского, 5-я Говорова, 50-я Болдина и 10-я армия Голикова. Однако 20-я армия Власова находилась в центре, и именно она совершила действия, переломившие ход сражения.
Фамилия его была теперь у всех на устах, и журналисты наперебой искали встречи с ним. Американский корреспондент Ева Кьюри писала: «Этот человек знает, как сражаться, и сражается не только с решимостью, не только с храбростью, но и со страстью».[20] Илья Эренбург встретился с Власовым и написал об этой встрече статью.[21] 24 января 1942 г. Власов получил орден Красного Знамени[22] и звание генерал-лейтенанта.[23]
* * *
Необычайно холодная даже для России зима медленно уступала место весне. Грязи было больше, чем обычно. Распутица сделала невозможным ведение боев и дала Красной Армии время на пополнение частей. В конце февраля Власов получил несколько суток отпуска и встретился с женой и сыном, как позднее оказалось, в последний раз. 6 марта его вновь вызвал Сталин и в присутствии Молотова, Берии, Ворошилова, Маленкова и главкома ВВС генерала Новикова назначил заместителем командующего Волховским фронтом, чтобы Власов мог, по выражению Сталина, «навести порядок» — чего не удалось достигнуть генералу Мерецкову.
В конце встречи, после того как было проанализировано военное положение, Сталин сказал, что политическая неблагонадежность населения и некоторых частей армии создали критическую обстановку в первые месяцы. Однако, к счастью, «фашисты скоро сами проучили этих людей». Власов был поражен — никогда еще никто так откровенно не признавал фактов. Высказывание Сталина говорило об осознании им опасной возможности того, что немцы могли мобилизовать против него враждебно настроенное к коммунистам население. Еще 16 июля 1941 г. в секретном приказе № 0019 Сталину пришлось фактически признать, что «на всех фронтах есть немало частей, которые бросают оружие и с распростертыми объятиями переходят на сторону врага при первом же боевом соприкосновении… в то время как число надежных комиссаров и командиров невелико».[24]
Представление о том, как мало полагался Сталин на свои собственные войска, сколь слаба была его вера в них, позволяет составить сделанное им Рузвельту и Черчиллю предложение о том, чтобы американские и британские части действовали на советской территории. Спустя полтора месяца после начала войны в России специальный посол Рузвельта Гарри Гопкинс докладывал о готовности Сталина приветствовать развертывание американских войск на любом участке фронта, даже при условии, что они будут находиться исключительно под управлением американского верховного командования.[25] А в сентябре 1941 г. Сталин телеграммой обращался к Черчиллю:
По моему мнению, есть только один выход — создание второго фронта на Балканах или во Франции уже в этом году, что приведет к переброске туда с Восточного фронта от тридцати до сорока [немецких] дивизий. В то же время до октября необходимы поставки тридцати тысяч тонн алюминия, а также ежемесячно — четырехсот самолетов и пятисот танков. Без соблюдения этих двух условий помощи Советский Союз либо потерпит поражение, либо окажется настолько ослабленным, что утратит способность содействовать своим союзникам путем проведения собственных операций на фронте в ходе борьбы с гитлеризмом.
Когда Черчилль отозвался, что «создание второго фронта на этот момент по техническим причинам не представляется реальным», Сталин ответил:
«…Я не сомневаюсь в желании Британского правительства стать свидетелем победы Советского Союза… Если оно считает открытие второго фронта на западе невозможным, нельзя ли найти какой-то способ более активно поддерживать Советский Союз на его фронтах? Я считаю, Великобритания могла бы без риска высадить от двадцати пяти до тридцати дивизий в Архангельске или же перебросить их через Иран в южные районы России. Таким образом, военное сотрудничество между советскими силами и войсками Британии могло бы быть начато на территории СССР…»[26]
Данное предложение имело беспрецедентное политическое значение. Войска капиталистических держав под своим собственным командованием на территории Советского Союза, до тех пор отгороженного от всего остального мира железной стеной?! Нет нужды удивляться, почему советские историки никогда не обсуждают этого факта — признания слабости Сталина.
К концу 1941 г. Вермахт оккупировал территории, на которых проживало до одной трети населения России — около шестидесяти миллионов человек. В этих районах производилось примерно шестьдесят пять процентов всего добываемого в стране угля, шестьдесят восемь процентов железной руды, выплавлялось пятьдесят восемь процентов стали и шестьдесят — алюминия. Не говоря уже о сорок одном проценте выпускаемых в СССР железнодорожных вагонов. За вторую половину 1941 г. общий объем советской промышленной продукции снизился более чем наполовину, а выплавка стали — на две трети.[27] В таких условиях шаг на политическое сплочение немцами враждебных Сталину сил мог бы сыграть решающую роль в разгроме СССР.
9 марта 1942 г. Власов, Ворошилов, Маленков и Новиков встретились с Мерецковым в ставке последнего. Они нашли хозяина крайне подавленным: Сталин открыто высказал свое неудовольствие им, и генерал представлял, какие последствия могут его ожидать. Положение и в самом деле сложилось критическое, хотя едва ли стоило винить в этом Мерецкова. В начале года Сталин лично распорядился начать наступление на Ленинград, для каковых целей задействовалась усиленная свежими войсками 2-я ударная армия. Предприятие представлялось крайне рискованным, потому что маршрут наступления пролегал через малонаселенную, заболоченную местность, по нескольким плохим дорогам, при этом немцы занимали там хорошо подготовленные позиции. Подобное наступление могло бы еще увенчаться успехом зимой, но с началом оттепелей местность становилась непроходимой.
В конце января, после нескольких недель кровопролитных боев, наступающие пробили бреши в немецких позициях на берегах Волхова, продвинувшись почти на сто километров. Однако бои измотали армию, в то время как немецкое противодействие все усиливалось. Расширить участки прорыва оказалось невозможным, создавалась угроза того, что противник заткнет «бутылочное горлышко». Подступала распутица, и избежать катастрофы можно было только за счет отвода армии на восточный берег Волхова. Власов как раз и предложил такое отступление, но Сталин категорически отверг его и вместо этого приказал продолжать идти вперед. Все возражения и даже полет в Москву в попытке убедить Сталина изменить приказ ничего не изменили. В итоге Власов сдался — неподчинение было бы равносильным самоубийству.
Вскоре после этого, уже 19 марта, случилось то, чего Власов так опасался: немцы блокировали участки прорыва и армия оказалась отрезанной от основных сил фронта. Власов лично принял командование армией и 21 марта вылетел в котел. 27 марта ему удалось восстановить сообщение с фронтом, пробив крошечный «тоннель» длиной километра полтора и шириной в несколько сот метров. Он вновь принялся настаивать на разрешении на отход, и вновь Сталин приказал продолжать наступление. Солдаты Красной Армии двинулись вперед «через заболоченные леса, по бездорожью, часто по пояс в снегу и по колено в воде».[28] Однако вскоре силы наступления были исчерпаны, и армии пришлось перейти к обороне.
Именно тогда в ставке Власова неожиданно появилась Мария Воронова, которая передала командующему письмо от жены. На обратной стороне конверта имелся отпечаток детской ладошки их сына — приветствие отцу и своего рода талисман для него. Это письмо было последним, которое дошло до Власова, и он сохранил его при себе до самой смерти.
В письме содержалась и такая фраза: «Были гости». Сотрудники тайной полиции обыскали его дом — несмотря на всю его безупречную службу, несмотря на награждения от Сталина. Горькое осознание этого стало одним из мотивов, побудивших Власова принять вскоре судьбоносное решение.
Мария была волевой и решительной женщиной тридцати лет, муж которой сгинул где-то в Сибири. В течение нескольких лет она помогала жене Власова по хозяйству и ухаживала за ребенком. Теперь, как она заявила, она пришла, чтобы остаться при штабе Власова и готовить ему обед. Он все еще не полностью оправился от болезни, и его жена попросила Марию позаботиться о муже. Она осталась, несмотря на нежелание Власова, которого все больше тревожила складывавшаяся на фронте обстановка.
Положение армии между тем становилось все более отчаянным. Снабжение не поступало, немецкие атаки становились все более яростными, росли потери. Однако Сталин отдал приказ об отступлении только 14 мая. Путем огромных усилий Власову удалось вывести несколько дивизий. Тем не менее 20 мая немцы перерезали все линии коммуникаций между частями Власова. Перед лицом уничтожения оказались девять дивизий и семь бригад.[29] Только в районе Ботетская — Мясной Бор — Чудово нашло смерть 14 тысяч человек. Тысячи и тысячи других утонули либо умирали от ран или от голода в заболоченных лесах. Только 32 000 удалось уцелеть — они попали в плен. Штаб Власова фактически выбыл из боевых действий, став жертвой неожиданного артиллерийского обстрела, в котором погибло или было тяжело ранено большинство штабных офицеров. Помощь не приходила — Сталин бросил его армию. Он отправил на спасение самого Власова и его штаба парашютистов, однако те не сумели отыскать штаб-квартиру командующего и сами полегли в боях.
Власов приказал уцелевшим солдатам прорываться малыми группами. Ему самому не удалось пересечь линию фронта. Долгое время — сырыми и душными ночами, знойными днями — он в сопровождении вернейших из помощников блуждал по лесам и болотам. От запаха разлагавшихся трупов становилось нечем дышать; голод изводил их — это было просто пыткой. Единственное, чего хватало в изобилии, так это времени. И Власов попытался прояснить для себя некоторые вещи, додумать до конца то, что ему раньше все как-то не удавалось. Служба, профессия, карьера — это была его жизнь, теперь наступил момент подвести некий итог. Ему вдруг стало отчетливо видно то, что раньше он вольно или невольно отодвигал от себя, то, от чего отстранялся: ошибки правительства, произвол властей, террор, бессмысленное принесение в жертву тысяч и тысяч людей, как происходило это под Киевом и теперь на Волхове.[30] Он не находил выхода для себя. Может быть, застрелиться? Из-за кого? Из-за Сталина?
Власов продолжал скитаться, ожидая уготованного ему судьбой. Возможно, какой-то шанс перейти линию фронта еще имелся. О сдаче в плен он как-то не думал. За несколько недель его отряд сократился до Марии, начальника штаба армии Виноградова и денщика последнего.[31] Когда голод стал особенно невыносимым, они пришли просить хлеба на одинокий хутор. Положение к тому моменту стало совершенно безнадежным, и они решили отдать себя на милость селян. Может быть, крестьяне согласятся спрятать их и будут подкармливать, пока немцы не уйдут подальше и пока не появится возможность перейти линию фронта.
11 июля Власов и Мария зашли в небольшую лесную деревушку Туховежи, тогда как Виноградов с денщиком решили попытать счастья в соседнем селе Ям-Тесово. Все знаки различия они сняли. Шинель свою Власов отдал Виноградову, который был ранен, страдал от лихорадки и которому поэтому все время было холодно. В деревне Туховежи староста согласился помочь и поместил их в лишенный окон сарай пожарной команды, а потом донес немцам. Восстановить дальнейшие события помогает рассказ переводчика германского 38-го корпуса Клауса Пёльхау, который повествует о странных обстоятельствах пленения Власова:
«На рассвете 12 июля офицер разведки корпуса капитан фон Швердтнер разбудил меня, сказав, что прошлым вечером около села Ям-Тесово двое патрульных застрелили Власова, тело которого надо опознать. Несмотря на несколько скептическое настроение, — мы уже несколько недель искали Власова и не раз и не два звучали ложные тревоги, — мы отправились туда немедленно. Когда проезжали через Туховежи, русский староста попросил нас взять двух партизан, которых поймали накануне вечером, когда они пришли просить хлеба. Поскольку нашей задачей было опознать убитого, мы обещали заняться партизанами на обратном пути.
В Ям-Тесово, куда перенесли тело, командир стоявшей там части доложил о взятии в плен легко раненного денщика убитого. Первым делом мы решили допросить пленного, подтвердившего, что он и правда был денщиком Власова. Как он сказал, вместе с поварихой Власова они несколько недель бродили по лесам в надежде перебраться через фронт к своим. Голод время от времени вынуждал их заходить в села, где, как они предполагали, не было немцев. Так же они поступили и на сей раз, однако в них стали стрелять, и Власов погиб. Что же случилось с поварихой, денщик не знал.
На трупе была шинель генерал-лейтенанта, сходились и прочие приметы, даже золотой зуб, значившийся в «ориентировке на поимку». У нас не было оснований сомневаться, что перед нами не Власов, и мы, заполнив соответствующие документы, передали тело для погребения. Сделали донесение в штаб корпуса по рации.
На обратном пути мы уже проехали Туховежи, как вдруг вспомнили о задержанных партизанах. Мы вернулись, и староста подвел нас к зданию, которое было заперто, но оставалось без охраны. Мы поставили двух солдат с автоматами перед входом, а когда староста открыл дверь, я прокричал по-русски в кромешную темноту, чтобы все, кто находится там, выходили наружу. Кто-то немедленно откликнулся басом на ломаном немецком:
— Не стреляйте, генерал Власов!
Затем в проеме появился человек, удивительно похожий на того, похоронить которого мы только что распорядились. На нем была офицерская форма без знаков различия, и он протянул мне документы в тонкой сафьяновой коже с личной подписью Сталина, которые подтверждали, что перед нами заместитель командующего Северо-Западным фронтом[32] и 2-й ударной армией. Затем он достал из кармана брюк бельгийский пистолет и протянул его капитану фон Швердтнеру. Когда я спросил, что за женщина рядом с ним, он ответил, что она повариха. Я сказал ему, что мы только что опознали одного убитого как Власова и что особой приметой являлся золотой зуб. Власов указал на свой золотой зуб, находившийся на том же месте, как и у убитого, и предположил, что тот, должно быть, начальник его штаба, полковник Виноградов, внешне чем-то похожий на него, Власова. Мы все еще не были полностью убеждены, и на обратном пути капитан фон Швердтнер задавал ему множество каверзных вопросов, ответы на которые рассеивали наши сомнения.
Высказывания Власова позволяли сделать вывод, что он осознал безнадежность своего положения и предпочитал плен самоубийству. Он спросил, должен ли был генерал, по мнению немцев, в подобной ситуации застрелиться. Швердтнер ответил, что сдача в плен не есть позор для генерала, который до последнего момента вел в бой свои войска и сражался. В штабе корпуса сначала не хотели признавать нашего пленного за настоящего Власова. Но все встало на свои места, когда якобы денщик Власова признался, что просто хотел защитить генерала, а на самом деле являлся денщиком Виноградова. На следующий день мы под надежной охраной отправились в штаб 18-й армии в Сиверскую. Генерал-полковник Линдеманн, командующий армией, непосредственный оппонент Власова в боях на Волхове, принял Власова вежливо, как подобает. Генералы подробно обсудили ход сражения».[33]
Глава III Политический разворот кругом
15 июля 1942 г. на станции Сиверская Власов попрощался с Марией, которую отправляли на работы. Самого его два фельджандарма под началом лейтенанта Эрнста Штеена сопровождали в Лётцен в Главное командование сухопутных войск (ОКХ).[34]
Во время поездки Власов все больше молчал. Он, судя по всему, пребывал в состоянии глубокой подавленности, хотя и не утратил интереса к происходящему, так как наблюдал за всем очень внимательно. Свое оцепенение он сбросил только во время остановки в Эйдткунене, где проводилась обязательная дезинфекция для очистки от вшей. Толчком послужила группа маленьких девочек в ярких летних платьицах, которые, ведомые воспитательницей, проследовали мимо, распевая песенку. Тронутый зрелищем Власов непроизвольно схватил за рукав сопровождающего. Мирная сценка позволила разогнать царившие в его душе на протяжении последних дней и недель переживания; когда дети прошагали дальше, в глазах его появились слезы. Начиная с этого момента он все больше и больше улыбался. На пути через Восточную Пруссию он, рассматривая поля, деревни, пасущийся на лугах скот, вдруг с явным одобрением воскликнул:
— Германия — хорошо![35]
17 июля Власов с сопровождающими прибыл в Лётцен. Спустя несколько дней генерала отправили в Винницу, где с начала летнего наступления находилось ОКХ и куда перевели лагерь дознания. Учреждение данного института, созданного без ведома высокопоставленных лиц, было одобрено графом Клаусом фон Штауфенбергом, возглавлявшим II отдел административного управления Генерального штаба.
Комендантом лагеря являлся прибалтийский немец, капитан Эгон Петерсон, который славился умением завоевывать доверие вверенных ему пленных. Как и все офицеры в отделе иностранных армий Востока, он выступал против «восточной политики» (Ostpolitik). В лагере обычно размещалось от восьмидесяти до ста особо отобранных пленных, с которыми, по меркам того времени, обращались очень хорошо: генералам предоставлялись отдельные комнаты, тогда как, скажем, полковники обычно жили в одной комнате по двое или трое. При этом все получали положенное в немецкой армии пищевое довольствие.[36]
Власов встретил в лагере и других высокопоставленных офицеров Красной Армии. Вполне понятно, что многие пленные, несмотря на тревогу за будущее, поначалу рассматривали плен как своего рода внутреннее освобождение. Постепенно у Власова возникла тесная дружба с полковником Владимиром Боярским, который, будучи начальником штаба, а позднее и командиром 41-й стрелковой дивизии, попал в плен раненым. Боярский, импульсивный, но умный человек, был фанатичным патриотом России. Он заявлял о своей ненависти к советскому режиму и считал возможным для свержения его воспользоваться немецкой помощью, однако честно предупреждал, что готов сотрудничать, только если целью Германии будет освобождение России, но никак не ее завоевание.
Ему и Власову были отчетливо ясны существовавшие возможности для свержения режима. Они знали, какие настроения преобладают среди офицеров Красной Армии, и понимали, что большинство из них будет выполнять свой долг. Ситуация могла бы, однако, коренным образом измениться, если бы вместо немцев они оказались перед русским национальным правительством и русской освободительной армией, которая имела бы основания притязать на право представлять национальные интересы России.
После такого рода обсуждений 3 августа 1942 г. они подготовили меморандум,[37] в котором заявляли, что большинство населения и армии с радостью воспримет перспективу свержения сталинского режима — принимая во внимание, что Россия будет рассматриваться (Германией) как равноправный союзник. Для достижения данных целей они предлагали организовать «Центр по созданию Русской армии». Только такая освободительная армия, ведущая борьбу за интересы России, позволит избежать опасности быть заклейменными как предатели.
Так или иначе, Власов и Боярский озвучивали мнение, которое высказывалось уже и до них. В ходе наступления в глубь России стало совершенно очевидным, что большинство народа на оккупированных территориях готово сотрудничать с немцами, которых оно воспринимало как освободителей от сталинского террора.
Нельзя забывать, что население это заплатило за коллективизацию в сельском хозяйстве десятью миллионами жизней,[38] испытало на себе чистки 1936–1938 гг., проводившиеся руками ГПУ (тайной полиции) Ежова, — так называемую ежовщину.[39] Ежегодно от восьми до десяти миллионов людей бросалось в лагеря, где их ждал изнурительный рабский труд.[40] В то время как под столь мощным воздействием террора какое-то организованное сопротивление сделалось фактически невозможным, у огромного числа людей — друзья и родственники которых пали жертвами тирании — появились стойкие личные мотивы для ненависти к Сталину. Трудно, наверное, было бы отыскать в истории пример, когда бы режим в тот или иной стране ненавидело бы столь большое количество ее граждан. Данное обстоятельство служит единственным объяснением тому, что миллионы советских людей, которые, безусловно, были ничуть не менее патриотичны, чем граждане других государств, оказались готовыми пойти на контакт с захватчиками против своего собственного правительства.
В начале Восточной кампании имелись бесчисленные примеры, дававшие возможность составить точное представление о том, до каких пределов простиралось неприятие режима русским народом. Американец Чарльз Тейер описывает реакцию крестьян в селе километрах в 200 к юго-западу от Москвы, которые, услышав о наступлении немцев, воскликнули: «Наконец-то! Пусть только Кремль даст нам оружие. Мы-то уж знаем, в кого нам стрелять. Когда Гитлер переедет мост перед нашим селом, мы встретим его там хлебом и солью».[41]
Осенью 1941 г. около двух тысяч человек, в основном студенты из Ленинграда, скрылись в лесах поблизости от Гатчины, с тем чтобы избежать призыва в Красную Армию. Они ожидали прихода немцев в надежде вместе с ними бороться против сталинского режима. Они надеялись, что найдется какая-то политическая платформа, способная заменить большевизм. Немцы же, однако, запретили им любую политическую деятельность и не нашли ничего лучшего, чем использовать этих людей как водителей и подсобных рабочих на кухне в тылу. Часть той группы перебежала к партизанам в конце 1943 г., когда проводимая немцами политика стала особенно губительной для русских патриотов.
В Погегене, около Тильзита, где находился один из первых возникших на территории Литвы лагерей для военнопленных, двенадцать тысяч человек — половина заключенных — подписали меморандум, в котором заявлялось, что настало время развернуть гражданскую войну против сталинского режима, а также выказали готовность принять в этой войне активное участие. В конце 1941 г., когда содержавшиеся в Минске в лагере для офицеров военнопленные услышали о предстоящей отправке их в Германию, они принялись кричать:
— Не хотим ехать в Германию! Дайте нам оружие! Мы хотим воевать против Сталина![42]
Не менее показательна и запись в дневнике попавшего в плен капитана Красной Армии, датированная 14 января 1942 г.: «Почти половина села сотрудничает с немцами. Партизан не просто не поддерживают, их выдают и убивают».[43]
Миллионы русских оказались перед дилеммой: принять сторону немцев — единственной силы, способной уничтожить Сталина, — или же оборонять страну и таким образом укреплять положение ненавистного правительства. Информации о том, сколько же душевных мук вынесли люди в столь непростой ситуации, крайне мало. В значительной степени решение обуславливалось тем, как обращались с русскими немцы, или же зависело от того, какое мнение складывалось у русских в отношении намерений немцев. Если они верили, что немцы и в самом деле стремятся дать им свободу, люди эти превращались в отчаянных, готовых на самопожертвование бойцов. Если же первые контакты не ладились, оставляли негативное впечатление, то выбор делался, так сказать, в пользу «меньшего зла» (в данной ситуации), и тогда русские сражались за свою страну.
Некоторые же — например, хорошо известная 40-тысячная Украинская повстанческая армия (УПА), — разочаровавшись в немцах, отвернулись и от них, и от Советов и продолжали сражаться против сталинского режима еще несколько лет после окончания войны.
Вне сомнения, на впечатление самого Власова оказал влияние гуманный прием и человеческое отношение со стороны генерала Линдеманна — его противника во время боев на Волхове. Так или иначе, встреча в Виннице с представителями отдела иностранных армий Востока ОКХ, и прежде всего с капитаном Вильфридом Штрик-Штрикфельдтом, сыграла ключевую роль в принятии им решения.
Ко времени перевода Власова в Винницу Вермахт, отразив прошедшей зимой попытки Красной Армии прорвать фронт, овладел Севастополем. Предпринятое в начале мая наступление, развернутое маршалом Тимошенко в районе Харькова силами сорока свежих дивизий, захлебнулось, множество частей попало в окружение. Затем Вермахт перешел в новое летнее наступление, нацеленное на Кавказ и на Волгу. Огромные территории с многими миллионами жителей оказались под немецкой оккупацией.
Тем временем политическое руководство Германии все больше отдалялось от того, чтобы выработать единую и реалистичную «восточную политику». За монолитным фасадом тоталитарного государства кипели баталии клик и кланов, о существовании которых весь остальной мир едва ли догадывался. В умах обитателей ставки Гитлера, несмотря на поражения прошедшей зимы, превалировала одна цель — беспощадное подчинение и колонизация. В Имперском министерстве по делам оккупированных восточных территорий Альфред Розенберг пытался провести свою идею расчленения русского доминиона на автономные сатрапии, включающие Украину, Белоруссию, Кавказ и Туркестан. Между тем назначенные Гитлером «рейхскомиссары» — особенно гауляйтер Эрих Кох на Украине — придерживались политики жестокой эксплуатации и уничтожения, что сводило на нет любые приведенные выше планы. Генрих Гиммлер лелеял мечты о Великом Рейхе, в котором славянские «унтерменши» (т. е. недочеловеки) играли бы роль бездумных роботов. Йозеф Геббельс склонялся то к одним, то к другим идеям, однако не располагал ни властью, ни волей для проведения их в жизнь.
Кроме всего прочего, существовали люди, не принимавшие эти сверхманиакальные и нереалистические идеи не только по причинам военной стратегии, но и по соображениям совести. Деятельность этой группы особенно активизировалась после прошедшей зимы и велась на различных направлениях с одной целью — добиться изменения «восточной политики». Граф Клаус фон Штауфенберг (позднее один из главных участников заговора с целью устранения Гитлера) назвал свою группу «Ассоциацией по борьбе со смертельно опасным идиотизмом». В нее входило — помимо ряда армейских командиров и штабных офицеров, участвовавших в боях на Востоке, — заметное большинство высших офицеров ОКХ, среди них и генерал-квартирмейстер Эдуард Вагнер; немало офицеров из отдела пропаганды ОКВ; адмирал Вильгельм Канарис, глава немецкой военной контрразведки; группа дипломатов, возглавляемая бывшим послом Германии в Москве графом Фридрихом фон дер Шуленбургом. Даже некоторые военнослужащие войск СС, воевавшие на Восточном фронте, а также отдельные сотрудники СС из III (внутреннего) и VI (зарубежного) управлений начали осознавать всю утопичность и пагубность «восточной политики». Конечно, многими из них двигали не соображения совести, а политический расчет.
На описываемом этапе в данном предприятии фактические возможности успешной реализации подобного проекта имелись только у представителей руководства Вермахта. Демонстрируя высокое духовное мужество, они взялись за дело, используя все имеющиеся у них средства, которых было не так-то много. Верховное командование вооруженных сил (ОКВ), а в особенности фельдмаршал Вильгельм Кейтель и генерал-полковник Альфред Йодль, подчинялись Гитлеру безоговорочно и требовали от армии не ввязываться в политические вопросы. Таким образом, оставался лишь один способ пробить барьер, названный Штауфенбергом «стеной идиотизма и слепоты»: собирать точные данные разведки, которые дали бы неопровержимые доказательства неадекватности проведения политики, целиком опирающейся на силу. Более того, предстояло поставить высшее руководство перед фактом осознания того, что обстановка не может измениться без перетряски всей структуры Восточного фронта. Однако прежде отдел иностранных армий Востока не слишком энергично работал в желаемом направлении.
В апреле 1942 г. начальник штаба сухопутных войск генерал Франц Гальдер назначил главой отдела иностранных армий Востока подполковника Рейнхарда Гелена. Гелен, давний противник зверских методов Гитлера, считал, что единственный шанс на свержение советского режима заключается в честном союзе с русским народом. Он привлек к работе ряд молодых, сходным образом настроенных офицеров Генерального штаба, которые располагали опытом боевых действий, бывали на Восточном фронте и знали Россию. Отдел вскоре получил большое количество точных разведывательных данных. Он накопил немало информации по итогам допросов военнопленных, донесений военной разведки о происходящем на стороне русских. Из самых разных частей и подразделений Вермахта и независимых от него управленческих структур в отдел стекались горы петиций и служебных записок, суть их заключалась в одном — если Германия не хочет подвергнуть риску все достигнутое, ей необходимо коренным образом менять «восточную политику», пока отношение населения к немцам не примет формы отторжения и даже ненависти.
Чем дальше, тем понятнее становилось, что нельзя бороться с коммунизмом его методами, необходимо привлекать людей на свою сторону перспективой лучшего общественного устройства. Необходимую поддержку населения России в долгосрочной перспективе можно было получить лишь за счет выработки общественных и политических целей, воевать за которые оно будет готово. Условия для выбора подобных ориентиров сложились уже довольно давно. Военным властям на местах приходилось (с молчаливого одобрения ОКХ и без ведома ставки Гитлера) принимать срочные решения. Принимая их, они становились свидетелями того, что готовность к сотрудничеству демонстрировало поразительно большое количество населения. Генерал-полковник Шмидт, командующий 2-й танковой армией, стал первым командиром такого уровня, который прокомментировал ситуацию в меморандуме от 18 сентября 1941 г., озаглавленном «Относительно возможности подрыва большевистского сопротивления изнутри». После отступления Красной Армии на местах стихийно возникали вооруженные отряды местной самообороны, которые брали на себя задачи борьбы с оставшимися в тылу партийными функционерами и партизанами. Таким отрядам разрешили действовать сначала в качестве «народной милиции», а позднее — «полиции порядка». Немецкие дивизии на фронте все чаще задействовали дезертиров и пленных в качестве водителей, механиков, подносчиков боеприпасов и для других вспомогательных целей. Такие люди получили немецкую форму без знаков различия, в большинстве случаев они располагали оружием и, если возникала необходимость, сражались плечо к плечу с немцами. Для них придумали обозначение «хильфсвиллиге» (сокр. «хиви»),[44] и число таких добровольцев быстро достигло нескольких сотен тысяч человек.
Начиная с июля 1941 г. все пленные в составе 134-й пехотной дивизии получили статус военнослужащих, так что к концу 1942 г. почти половина дивизии состояла из бывших советских солдат. Хотя этот эксперимент со всеми его перспективами так и остался явлением исключительным, он тем не менее наглядно демонстрировал существовавшие возможности.[45] Полностью укомплектованные добровольцами батальоны под командованием немцев задействовались для борьбы с партизанами, а также для охраны линий коммуникаций в тыловых районах. В двух случаях крупные русские части были созданы под исключительно русским командованием: Русская национальная народная армия (РННА) в Осинторфе и Русская народная освободительная армия (РОНА) в Локте.[46]
В общем и целом, по состоянию на осень 1942 г., от 800 до 900 тысяч граждан России различных национальностей с оружием в руках сражались против своего собственного правительства, между тем Гитлер даже не знал об этом. Так как все способы добиться изменения «восточной политики» прямыми путями не приводили к результатам, оппозиция внутри Вермахта возлагала надежды, во-первых, на убедительные доводы — неизбежные поражения, и во-вторых, на появление возможности выставить в игре некую фигуру крупного лидера, способного возглавить Русское освободительное движение, — своего рода русского Шарля де Голля.
И вот в этой атмосфере трений, разочарований и нетерпения прогремела весть о пленении Власова — одного из наиболее способных и известных русских генералов, одного из спасителей Москвы. Появление его в роли врага Сталина могло бы произвести впечатление. Важно было поскорее выяснить степень его недовольства Сталиным и принципиальную готовность повернуть оружие против него. Для того чтобы установить это, требовался подходящий человек — некто, кто бы не только знал русских людей, но имел бы достаточно такта, чуткости и понимания человеческой природы, кто сумел бы представить ситуацию так, чтобы заручиться доверием Власова.
На эту роль Гелен избрал капитана Вильфрида Штрик-Штрикфельдта. Штрикфельдт, немец из Прибалтики, во время Первой мировой войны служил офицером в царской армии. Гелен добился его перевода из штаба группы армий «Центр» в свой отдел, когда узнал, что Штрикфельдт придерживается того же мнения, что и он, Гелен, с начала Восточной кампании.
В октябре 1941 г. офицеры Генерального штаба фон Тресков и фон Герсдорф поручили Штрик-Штрикфельдту разработку проекта создания русской освободительной армии из 200 тысяч добровольцев. Через полковника фон Трескова, в ту пору начальника оперативного отдела штаба группы армий «Центр», по одобрении командующего группой армий Федора фон Бока план был направлен на рассмотрение фельдмаршалу Вальтеру фон Браухичу, на тот момент главнокомандующему, а уже через него в ставку фюрера. Для пущей верности к плану прикладывалось обращение к Гитлеру, подписанное русским бургомистром Смоленска и десятью видными горожанами. Этот документ предполагал обеспечить быстрое свержение советского режима путем предоставления русским независимости, создания оппозиционного правительства и организации освободительной армии.
Однако в ноябре последовал лаконичный ответ Кейтеля: «Политические проблемы не являются делом армии в принципе. Что касается фюрера, такие вопросы вообще не подлежат обсуждению с ним».[47] Тем не менее через несколько дней пакет документов вернулся в ставку с категоричным резюме Браухича: «Считаю это жизненно необходимым для успешного завершения войны». Вскоре Гитлер снял с должностей как Браухича, так и Бока, а негативный ответ Кейтеля стал, таким образом, окончательным. Когда генерал Грейфенберг, подарив от имени группы армий бургомистру Смоленска два товарных вагона с медикаментами, вернулся к обсуждению темы обращения, бургомистр резко оборвал его словами:
— Если целый месяц нет ни ответа ни привета по поводу столь важного для успешного завершения войны документа, какого ответа, как вы думаете, следует ожидать.[48]
Примерно в то же самое время Штрик-Штрикфельдт подготовил другой меморандум совместно с офицерами группы армий «Центр», на которых большое впечатление произвело дружественное отношение населения к немцам и которые высказывали озабоченность по поводу нетерпимого положения в переполненных лагерях для военнопленных. В меморандуме предлагалось освободить всех военнопленных, происходивших из населенных пунктов, расположенных на оккупированных территориях, за исключением партийных функционеров, и создать отряды вооруженной народной милиции. Если бы такой план был претворен в жизнь, удалось бы сделать безосновательными претензии советских властей в отношении плохого обращения и казней военнопленных, кроме того, значительно возросло бы количество дезертиров, не смогло бы набрать силу и еще слабое тогда партизанское движение, не говоря уже о том, что хватило бы и еды, и адекватных помещений для содержания оставшихся пленных. Но ставка фюрера предпочла игнорировать эти доводы и отвергла предложения, хотя проводимая Советами политика выжженной земли делала невозможным как достойное содержание огромного числа пленных, так и эвакуацию их в другие районы. По поводу замечания адмирала Канариса, сделанного примерно в то же время в отношении недопустимости существующего обращения с военнопленными, Кейтель написал следующее: «Волнения и озабоченность солдата, привыкшего сражаться по-рыцарски, понятны. Однако в данном случае мы имеем дело с необходимостью искоренения враждебной идеологии. Я одобряю и поддерживаю подобные методы».
Преобладание подобных тенденций влекло за собой очень тяжелые последствия. В течение зимы множество военнопленных умерло от голода и эпидемий, среди уцелевших росло разочарование и крепло негодование. Многие превратились в непримиримых врагов немцев. Встревоженный и напуганный ситуацией Штрик-Штрикфельдт, который обладал ясным видением происходящего и понимал необходимость кардинальных перемен, пошел на установление контакта с Власовым.
Власов тем временем пытался разобраться в своих чувствах и мыслях. Он слышал и видел разное и стремился как-то разложить по полочкам противоречивые впечатления. Товарищи по лагерю — вчерашние командиры — рассказывали ему о том, какие вещи творятся в других лагерях для военнопленных. И в то же время он не мог забыть, как великодушно, почти по-приятельски принимал его Линдеманн, и того, свидетелем чего стал в Лётцене и в Виннице. Что же было по-настоящему присуще немцам? Действительно ли они были благородными или только хотели казаться такими? А как же жестокость и притеснения? Было ли это лишь неизбежным злом, которое приносит любая война?
В ходе первой встречи с Власовым Штрик-Штрикфельдт узнал о, так сказать, внешних деталях русской жизни. Услышал о бедности, в которой жили Власовы при царе, о том восторженном энтузиазме, с которым многие встретили революцию, обещавшую повсеместные улучшения, о «зеленой улице», которая открывалась крестьянскому сыну в Красной Армии; режим сделал сына бедняка офицером, помог подняться, ничем не задел его лично. Однако вскоре Штрик-Штрикфельдт почувствовал, что все не так-то просто — этот человек старался не замечать многого, закрывал глаза, поскольку знал, не сделай он так, его карьере, возможно, пришел бы конец. Однако он не забыл того, что, вопреки желанию, видел, но от чего отмахивался, и ад на берегах Волхова заставил его по-другому посмотреть на пережитое. Может статься, он впервые получил возможность додумать многое до конца, и уже потом, под влиянием разговоров с такими же пленными, внутри его произошел перелом — перелом во взгляде на Сталина и на его систему.
Штрик-Штрикфельдту не представлялось важным то обстоятельство, что перелома этого и решения никогда не случилось бы, не будь испытания Волховом и плена. Главное — решение было принято, стало фактом, и он мог положиться на Власова. Теперь надлежало указать выход, показать, как через понимание можно обрести свободу. После дней прощупывания, когда доверительность в их отношениях возросла, Штрик-Штрикфельдт решил, что пора поговорить начистоту, причем так, как он в тот период мог бы говорить не со многими из немцев. Только так, считал он, можно заручиться полным доверием такого человека, как Власов.
Постепенно перед Власовым открывался странный и неизвестный доселе мир. Он вдруг с удивлением обнаружил, что, в отличие от положения на его родине, у немцев не все и не всегда зависело от воли одного-единственного человека, что более или менее открыто можно проводить в жизнь какие-то альтернативные планы, что существовали круги, стремившиеся подтолкнуть Гитлера к действиям, которые они считали правильными и разумными. Но ведь Гитлер тоже был диктатором. Так что же, может быть, этот симпатичный капитан — кандидат в покойники, которого следует сторониться?
Принять решение возглавить освободительное движение было для Власова очень непросто. Он понимал, что, однажды встав на этот путь, свернуть с него будет невозможно, придется идти до конца — до последней черты, что бы ни ждало его за ней. Однако он тоже видел возможности. Важнейшим, как представлялось ему, будет необходимая для достижения успеха свобода действий. Но предоставят ли ему ее немцы? В итоге доверие к Штрикфельдту склонило чашу весов. Власов достаточно разбирался в людях, чтобы распознать, честно ли ведет себя с ним тот или иной человек или нет. Итак, они заключили своего рода пакт о личной готовности идти до конца и взять на себя ответственность за последствия. Власов превратился в союзника определенных сил в Германии, причем в союзника не только против Сталина, но также и против Гитлера.[49]
Уже скоро, когда отдел пропаганды ОКВ отправил в Винницу для знакомства с Власовым и организации его доставки в Берлин обер-лейтенанта Дюрксена, Власов был искренне готов к сотрудничеству. Гелен решил, что Штрик-Штрикфельдт останется с Власовыми, и в соответствии с этим тоже перевел его в отдел пропаганды. Гелен предвидел, какие трудности морального характера выпадут на долю Власова, и опасался, что тот не сможет пройти через испытания без дружеской поддержки немца, которому он полностью доверял. Кроме того, Штрикфельдту предстояло несколько «разбавить» слишком «академическую» деятельность отдела пропаганды практическим опытом и таким образом тоже подкрепить усилия, направленные на коренное изменение «восточной политики».
Штрикфельдт приехал в Берлин за несколько дней до Власова. Там он встретился с особо отобранными противниками сталинского режима из числа пленных и перебежчиков, разместившимися в доме № 10 на Виктория-Штрассе. Он (Штрик-Штрикфельдт) говорил с ними откровенно — даже настолько откровенно, что поначалу некоторые из них заподозрили, что перед ними провокатор. Но в итоге они поняли, что перед ними просто очень смелый и мужественный человек, несогласный с «восточной политикой» по причине своей осведомленности в обстановке и по соображениям совести. В какой-то момент, когда кто-то из присутствовавших на встрече высказал мысль, что немецкое руководство, возможно, заключит союз с русскими врагами большевизма с тем только, чтобы использовать их, а потом обмануть, кто-то другой вполголоса заметил, что тогда они уйдут в леса и будут партизанить против немцев. На это Штрикфельдт ответил:
— В таком случае в лесу мы с вами, вероятно, встретимся.[50]
Для обитателей специального изолятора на Виктория-Штрассе важность пропаганды и политической борьбы в военное время являлась самоочевидной. Посему, когда они услышали, что все силы активной пропаганды ОКВ на Востоке фактически представлены двумя офицерами — капитаном фон Гроте и обер-лейтенантом Дюрксеном, — они сочли это либо скверной шуткой, либо «тактическим маневрированием» с применением «дымовой завесы». Умственно разносторонний и находчивый Гроте, одаренный талантом переговорщика, что называется, специально родился для такой работы. Он происходил из Прибалтики и, как и русский этнический немец Дюрксен, знал русских и понимал их проблемы. Более того, в лице полковника Ганса Мартина, заведовавшего пропагандой на Востоке, он получил подходящего начальника, который вначале придерживался официальной линии, однако быстро осознал, каковы ставки в игре, и тоже сделался активным сторонником перемен. Благодаря поддержке Мартина значительная доля работы в управлении перешла к русским. Привлекались к ней не только обитатели специального изолятора, но и «старые эмигранты» — те, кто бежал из России во время Первой мировой войны. Они были как бы вне штата — не подчинялись никаким посторонним представителям немецких властей.
Это относится и к Александру Степановичу Казанцеву, игравшему куда более важную роль в Русском освободительном движении, чем можно было предположить, учитывая его положение. Он был одним из лидеров эмигрантской организации НТС — объединения русских патриотов, основанного на заре старой русской эмиграции. Их сплотила воедино вера в то, что нельзя завоевать доверие населения России, ставя перед ним цели вроде реставрации монархии и крупного помещичьего землевладения, что в борьбе с коммунизмом надлежит использовать новые идеи. НТС имел жесткие организационные структуры и приступил к отправке членов своей организации на оккупированные территории России сразу же после начала русской кампании. Им было позволено — без ведения немецкого политического руководства — рекрутировать сторонников среди населения и военнопленных, подстегивать создание органов самоуправления и обороны на местах, а также собирать разведывательные данные на предмет возможности народного восстания против Сталина.
НТС, довольно быстро распознавший реальные цели и намерения Гитлера в его «восточной политике», решительно отвергал национал-социализм. Тем не менее он продолжал сотрудничать с немцами, поскольку считал невозможным покончить с советской системой без их помощи. С другой стороны, руководители НТС также считали, что и немцам не удастся ничего достигнуть без помощи русского народа и что им — хотят они того или нет — придется похоронить планы завоевания и колонизации России. Таким образом, НТС рассматривал себя как некую третью силу и видел свои главные задачи в максимальном укреплении своих позиций.
Официально НТС с немецкими властями не сотрудничал, однако многие его члены, с тем чтобы более активно двигаться к цели, работали в разных административных и военных структурах. Так, например, они сотрудничали в министерствах пропаганды и экономики, в отделе пропаганды ОКВ и, кроме того, в Восточном министерстве Розенберга, куда их привели начальник политического отдела Лейббрандт и начальник учебных лагерей Кнюпфер. В отличие от Лейббрандта, который поддерживал политику Розенберга, Кнюпфер отвергал программу Гитлера — Розенберга и намеренно развязывал руки людям из НТС.
В учебных лагерях постоянно находились тысячи перебежчиков и пленных, которых готовили для использования на оккупированных территориях в администрации, в пропаганде и в органах поддержания порядка. Лагеря открывали перед НТС широкие возможности. Прежде всего они давали шансы подбирать подходящих людей и обучать их, чтобы, отправив их затем в оккупированные районы, наладить контакт с местными жителями и рекрутировать их в свою организацию. НТС был очень важен для немцев, поскольку представлял собой единственную организацию русских, которая играла активную роль во время Восточной кампании.[51]
В отделе пропаганды ОКВ Александр Казанцев помогал в изготовлении листовок и выпуске газет и мог таким образом оказывать выгодное для НТС влияние на обитателей изолятора на Виктория-Штрассе. Воздействие это имело далеко идущие последствия, поскольку многие видные фигуры освободительного движения проходили на начальном этапе через изолятор. Поскольку Казанцев еще не бывал на оккупированных территориях на Востоке, он не представлял себе, насколько велико в военнослужащих германской армии неприятие государственной «восточной политики». Он не хотел признавать того факта, что «третья сила» способна стать таковой только через открытое и искреннее сотрудничество с этой немаловажной частью немецкого народа.
17 сентября Власов прибыл в Берлин, где встретился с Мелетием Александровичем Зыковым, выдающейся, хотя и несколько загадочной фигурой Русского освободительного движения. Попавший в плен под Батайском в апреле 1942 г., Зыков неизбежно подлежал ликвидации сотрудниками СС, поскольку был комиссаром и имел восточную внешность. К счастью для него, на начальника разведки группы армий «Юг», подполковника барона фон Фрейтаг-Лорингхофена, произвел впечатление острый ум пленного, и он отправил его через лагерь в Виннице в распоряжение отдела пропаганды ОКВ. Уже в лагере Зыков заявил о том, что является страстным врагом Сталина, поэтому и стал перебежчиком, чтобы представить немецкому руководству радикальную программу по искоренению советского режима. В дальнейшем он, правда, не преминул заметить, что является русским и станет сотрудничать с немцами только в том случае, если они намерены освободить Россию, а не поработить ее.
Гроте и Дюрксен в деталях обрисовали ему политическую обстановку и постарались убедить его в том, что он лучшим образом послужит своей стране путем поддержки здравомыслящих элементов в немецком руководстве. Попросив время на обдумывание, Зыков в течение тридцати шести часов подготовил доклад о структуре и принципах организации советской экономики, сделав особый упор на то, что касалось производства вооружения. Данные его не шли в сравнение с тем, что немецким офицерам разведки когда-либо приходилось читать. Перед ними был рапорт специалиста, располагающего огромным запасом информации, причем эксперта, обладающего поразительной способностью анализировать имеющиеся сведения. Спустя неделю он представил «Организационный план практической мобилизации русского народа на борьбу со сталинским режимом». Он продемонстрировал точные знания существующих условий и психологической ситуации в Советском Союзе и подтвердил правильность направления мышления тех, кто объединился вокруг Штауфенберга, Гелена и Гроте. Зыков также считал важным поначалу поставить во главе русской оппозиции режиму генерала Красной Армии, популярность которого строилась бы целиком на его реальных достижениях на поле боя. Он был убежден, что такой человек найдется, едва лишь Германия проявит готовность вступить в честный альянс с русскими. Если же данное условие будет соблюдено, падение сталинского режима станет лишь вопросом времени.
Зыков — никогда не повышавший голоса, ухоженный человек среднего роста со смуглым лицом — едва переступил сорокалетний рубеж. Он быстро оказался в центре маленького круга единомышленников. Люди восхищались его умом и уважали его, однако по-настоящему нравился он лишь немногим. Его превосходство было уж очень очевидным, а его энциклопедические знания — просто поразительными, между тем ответы на неподобающие вопросы — слишком резкими, а сам он как личность — чересчур неприступным. Как ни странно, с холодным разумом в нем сочеталась романтическая чувствительность. Этот выдержанный, всегда владевший собой интеллектуал был художественно одаренным человеком, способным наизусть безошибочно цитировать поэтов. Он неохотно заговаривал о своем прошлом, но, несмотря на его умение тщательно скрывать подробности о себе, одно было несомненным: против Сталина выступал представитель интеллектуального потенциала революционной России.
Родившийся в Одессе в семье небогатого торговца, Зыков уже на ранней стадии завязал контакты с революционной интеллектуальной элитой. Он был лично знаком с Лениным и другими вождями революции, одним из первых получил орден Красного Знамени и быстро продвинулся с поста главного редактора провинциальной газетки в Узбекистане до помощника Николая Бухарина, главного редактора «Известий». Женившись на дочери наркома образования А. Бубнова, Зыков оказался вхожим в высшие партийные круги. Иногда он выступал по вопросам истории литературы. Когда Бухарин и Бубнов пали жертвами чисток, он тоже получил три года исправительных работ в Сибири. В 1940 г., однако, его восстановили в партии и назначили в политические структуры Красной Армии, одним словом, он стал комиссаром.[52] Такова вкратце была история жизни убежденного социалиста, который и не скрывал, что, мечтая о будущей России, мечтает о России социалистической.
Данное обстоятельство, а также отторжение эмиграции «первой волны» ставило его в обособленное положение по отношению к прочим врагам Сталина, особенно к НТС. На почве различия взглядов он не раз и не два сталкивался с Казанцевым, между ними разгорались жаркие споры, однако последний тем не менее не мог не признавать выдающихся способностей Зыкова. Гроте и Дюрксен тоже ценили возможность сотрудничать с ним. Гроте успокоил подозрения СС в отношении того, что Зыков мог оказаться коммунистическим агентом, замечанием на тот счет, что Советы едва ли бы стали задействовать для таких целей политического комиссара еврейской наружности.
Сам же Зыков не признавал, но и не отрицал того, что он еврей. Как-то в компании за карточным столом и выпивкой один из участников игры напрямую спросил его об этом. Зыков задумался, а потом спокойно произнес:
— Не стоит рассуждать о подобных вещах во время игры. Вот доиграем и поговорим.[53]
Он так и не пояснил, какую же игру имел в виду: игру в карты или же другую игру — игру с жизнью и смертью, в которую играл каждый день.
К моменту приезда Власова Зыков находился в Берлине уже несколько месяцев. Обитатели особого изолятора до хрипоты обсуждали возможности свержения ненавистного режима сталинской диктатуры, однако надежды на то, что на них когда-нибудь всерьез обратят внимание, все уменьшались и уменьшались. С появлением Власова стало казаться, что можно будет, наконец, добиться перелома. Сознавая, сколь значительным может стать его выход на авансцену событий, они ожидали его с нетерпением. После же первых бесед с ним никто уже не сомневался, что он обладает качествами, столь необходимыми в создавшемся положении. Пролетарий по происхождению, Власов не был замешан ни в каких неблаговидных деяниях, пользовался популярностью в армии и умел говорить убедительно. Вряд ли самый последний солдат в Красной Армии поверил бы в то, что он стал врагом Сталина из оппортунизма. Власов почти естественно занял место в центре этого небольшого круга обитателей дома на Виктория-Штрассе, хотя поначалу, что характерно, он лишь только слушал и наблюдал.
Но вот, наконец, и он начал говорить — рассказывать о своей жизни, о встречах со Сталиным, о битве на Волхове, в процессе этих бесед как бы отстраняясь от пережитого. Взглянув на перенесенное им другими глазами, он смог трезво оценить опыт, чего был не в состоянии сделать еще несколько недель тому назад. Он без труда сошелся с Зыковым в отношении политических планов. Взаимодействие с этим человеком, знания которого, работоспособность и исключительную одаренность в области пропаганды и психологической стратегии он немедленно оценил, стало для Власова плодотворным во многих аспектах, и при этом оно не вело к умалению его собственных дарований и независимости.
Через некоторое время Штрикфельдт смог отправить в дом на Виктория-Штрассе еще одну личность, которой суждено было сыграть ключевую роль в окружении Власова, — генерал-майора Василия Федоровича Малышкина. Если для того, чтобы в общих чертах охарактеризовать Зыкова, годилось слово «интеллектуал», Малышкин представлял собой своего рода синоним понятия «идеальный штабной офицер». Он был сильным, жизнерадостным человеком, излучавшим заразительный оптимизм и обладавшим кипучей энергией. Сын бухгалтера из Новочеркасска, Малышкин увлекся революцией, будучи неисправимым молодым идеалистом в форме унтер-офицера, он вступил в партию и после выпуска из военного училища сделался профессиональным солдатом. Когда Малышкин занимал пост начальника штаба Сибирского военного округа, его командующего, Великанова, арестовали и расстреляли в связи с «делом Тухачевского». Вскоре после этого арестовали и самого Малышкина. В течение месяцев его так энергично «допрашивали», что несколько раз без сознания отправляли в камеру. Однако он обладал железным здоровьем и несгибаемой волей, что помогло ему пережить страшные времена и не подписать «признания». В итоге, просидев четырнадцать месяцев, он был освобожден и отправлен в санаторий на поправку здоровья. Затем ему разрешили работать по специальности, и он стал преподавателем в военном училище. Начало войны Малышкин встретил на должности начальника штаба 19-й армии, в составе ее он и служил, когда угодил в плен к немцам под Вязьмой.
Малышкин страстно ненавидел большевизм — ненавидел его потому, что режим уничтожил все мечты, которые он связывал с революцией. Не мог он забыть и унижений, вынесенных во время заключения. У Малышкина быстро сложились добрые отношения с обитателями дома на Виктория-Штрассе. Он любил читать стихи Есенина, с которым некогда дружил и который говорил ему, что Малышкин читает его стихи лучше, чем он сам.
Еще находясь в Виннице, Власов после обсуждения темы с Штрикфельдтом и с полковником бароном фон Ренне написал первое воззвание с призывом встать на борьбу с режимом Сталина. ОКХ намеревалось использовать в ставке фюрера факт создания документа в качестве «подтверждения» того, какой эффект могли бы произвести слова фигуры подобной Власову на военнослужащих Красной Армии. Донесения с подтверждением успешности листовки поступили уже после их прибытия в Берлин. Реакция превзошла все ожидания — количество перебежчиков возросло очень значительно; все они интересовались Власовым и хотели встретиться с ним.[54] На основании такого успешного начала Гроте с одобрения ОКХ решился на следующий шаг. Теперь ему требовалось принципиальное согласие Власова возглавить освободительное движение и армию. После нескольких дней переговоров и обсуждений с Штрикфельдтом и Гроте Власов согласился. Однако он выдвинул условие, что данная операция должна носить не просто пропагандистский, но и политический характер.
Поскольку преждевременное раскрытие планов могло поставить под угрозу весь проект, на начальном этапе предлагалось сформировать комитет освобождения и армию под руководством Власова. Решающим аргументом служило то соображение, что лишь Власов, человек известный всей России, может выступать в качестве главы движения. Организаторы надеялись, что в итоге удастся добиться от политического руководства одобрения создания оппозиционного режима, гарантий независимости и делегирования властных полномочий на оккупированных территориях гражданской администрации. Тем временем Власов, Зыков и Малышкин набросали текст обращения.
Они с нетерпением ожидали ответа из ставки фюрера. Идея казалась столь логичной, столь нетерпящей возражений, столь естественно необходимой, суливший полной успех, что инициаторы предприятия — невзирая на прошлый негативный опыт — не могли и помыслить о том, что их предложения встретят отказ. Все это показывало, как плохо они понимали ход мыслей Гитлера. Случилось, с их точки зрения, необъяснимое — проект отвергли.
Мартин и Гроте повторяли атаку снова и снова, но всякий раз без успеха. Начертанные лиловым пером резолюции Кейтеля говорили одно и то же: «Пропаганда — пожалуйста и сколько хотите. Политика же не есть дело армии, такова установка фюрера. Даже и речи быть не может!» И, в конце концов, последовало раздраженное: «В дальнейшем подобные предложения запрещаются!»
Так прошел октябрь. В начале ноября Гроте удалось еще дважды «пропихнуть» служебные записки Кейтелю через полковника фон Веделя, возглавлявшего отдел пропаганды ОКВ. В обращениях чуть ли не с мольбой настоятельно повторялась мысль о необходимости использовать уникальную возможность. Но Кейтель решительно оборвал Веделя и «окончательно и бесповоротно» запретил использовать такого рода приемы. Наконец, офицерам пропаганды пришлось признать, что казавшееся им продиктованным свыше решение вовсе не выглядит таким для ставки фюрера, что продолжать осаждать его просьбами бесполезно и что планы их рассыпаются в прах, разбившись о тупое непонимание Гитлера и его окружения. Он оставался верен своим основополагающим решениям и не собирался отказываться от покорения и колонизации России, а посему было бы нелогичным подхлестывать у народа национальное самосознание, поскольку в итоге любое правительство и армия, созданные под знаменем противодействия сталинскому режиму, повернутся против Германии, как только осознают, что цель ее не освобождение, а порабощение русских.
Кейтель — единственная ниточка, связывавшая Вермахт с Гитлером, — был примитивно мыслящим человеком, начисто лишенным хоть какого-нибудь политического чутья, он не только ничего не сделал для поддержки начинаний Вермахта, но еще и «сыпал соль на раны», нанесенные ему отказами Гитлера. В любом случае, Кейтелю не хватало твердости, чтобы отстаивать перед Гитлером собственное мнение. Он превратился в высокого военного чиновника, автоматически выполнявшего волю Гитлера и не имевшего на него какого бы то ни было влияния. Впрочем, и ОКВ действовало не самостоятельно, а всего лишь служило совещательным органом — военным штабом при Гитлере. Зависимость Кейтеля от Гитлера была до такой степени прочной, что он не рисковал вступаться даже за самых высокопоставленных офицеров. Он отлично понимал собственную слабость и однажды признался генералу Вестфалю: «Так вот, знаете ли, и становишься швалью».[55]
Особенно в сложившемся положении страдал Штрик-Штрикфельдт. Что должен был он теперь говорить Власову? Как объяснить ему все происходившее? Лишним доказательством личной храбрости и бескомпромиссной преданности принятому решению Мартина, Гроте и Штрикфельдта служит то, что они не переставали искать путей, надеясь достигнуть цели если не напрямую, то обходными путями. Между тем они оказались не в состоянии уяснить для себя то, что «восточная политика» являлась по своей сути неотъемлемой составляющей идеологии национал-социализма, а потому любые их попытки были обречены на провал изначально.
Подполковник барон фон Рённе, глава III секции отдела иностранных армий Востока, как-то спросил Штрикфельдта, почему тот все это делает, зачем подвергает себя такой опасности. Штрикфельдт ответил, что, во-первых, чувствует себя обязанным перед богом и своей совестью, во-вторых, потому, что это политически верно, и, в-третьих, потому, что он уважает и высоко ценит русский народ и хочет помочь ему избавиться от большевизма. На что Рённе с присущей ему способностью смотреть в корень проблемы отозвался так: «Первое сегодня неприменимо, второе верно, а третье — предательство, — после чего с играющей на губах улыбкой подытожил: — Но вы, безусловно, правы».[56]
Власов сделал свои выводы из известий, которые в итоге докатились до него, хотя он был просто не в состоянии оценить весь размах катастрофы. Его пугала мысль о том, что кто-то может воспользоваться его именем, что его могут толкнуть на путь, который приведет как его самого, так и проект к верной гибели. Штрикфельдт, чувствовавший смятение и недоверие Власова, не стал пытаться приукрашивать ситуацию. В то же время он упорно держался намерения не сдаваться — считал, что борьбу за изменение «восточной политики» необходимо продолжать.
Штрикфельдт обрисовал новый план, разработанный им, Мартином и Гроте. Поскольку в настоящий момент не представлялось возможным создать комитет и освободительную армию, им следует по меньшей мере сделать вид, что такая перспектива реальна. И в самом деле, освободительное движение уже существовало — те миллионы, которые изъявляли готовность с оружием в руках сражаться против советского правительства, разве они не сила? Декларация, возвещающая о создании комитета освобождения и армии, пусть и не отражающая действительного положения дел, сможет подхлестнуть к действиям массы на местах и создать такую ситуацию, игнорировать которую долго не сможет даже Гитлер. До сего момента они стремились сначала выработать политику, а уже потом перейти к пропаганде. Теперь же им предстояло вести пропаганду, причем так, как будто бы под ней стоит реальная политика.
Прошло немало времени, прежде чем Власов отважился пойти на риск. Он не видел никакой гарантии изменения немецкой «восточной политики» и просто не смог бы доверять Штрикфельдту, если их предприятие останется пропагандистским трюком. Зыков уверял, что нельзя достигнуть успеха без такой уловки. Только под давлением свершившегося факта и можно чего-то добиться. Штрикфельдт указывал на то, что, несмотря ни на какие запреты, декларация станет известной на оккупированных территориях.
Окончательную версию «Декларации Смоленского комитета» обитатели специального изолятора закончили в начале декабря. В ее написании важную роль сыграл Зыков. Название «Смоленский комитет» возникло из-за того, что первый толчок к созданию организации освободительного движения исходил из этого города в конце 1941 г. Декларацию подписали Власов и Малышкин. В ней содержался призыв к уничтожению коммунистического строя и к подписанию почетного мира с Германией. Среди всего прочего, воззвание обещало снятие ограничения выбора места жительства для работающих, восстановление свободного предпринимательства, возвращение крестьянству отобранной при коллективизации земли и прекращение использования принудительного труда; кроме того, гарантировало свободу слова и вероисповедания и защиту от необоснованных арестов и содержания под стражей.
Десять суток спустя ОКВ одобрило манифест под видом пропагандистского шага при условии, что он не будет распространяться на занятой немцами территории. Поскольку документ содержал и политическую программу, его надлежало представить вниманию Имперского министерства по делам оккупированных восточных территорий. Последовала неделя препирательств и торговли с представителями данной структуры, и все это тогда, когда на горизонте уже отчетливо замаячила перспектива Сталинградской катастрофы. Официальные лица в министерстве опасались, что листовка, несмотря на фактическую свою фиктивность, способна подхлестнуть «великоросский» шовинизм и таким образом ущемить интересы представителей национальных меньшинств СССР, которых оно поддерживало.
Пока изо дня в день тянулось долгое и томительное ожидание ответа Розенберга, Штрикфельдт устроил встречу Власова с еще тремя пленными генералами. Один из них бывший командующий 19-й армией Михаил Лукин, который в конце 1941 г. выражал желание встать на борьбу со сталинским режимом. Однако он настаивал на создании оппозиционного правительства и Русской освободительной армии. Лукин признался Власову, что перестал верить в искренность намерений немцев и не станет сотрудничать с ними без соответствующих заверений со стороны Гитлера.[57] Ту же позицию занимали и два других генерала.
В то время от майора Хайнца Герре, офицера отдела иностранных армий Востока, поступило сообщение о допросе попавшего в плен начальника штаба 3-й гвардейской армии Крупенникова. Крупенников интересовался, почему советских военнопленных не призывают к войне против Сталина. На вопрос Герре относительно того, насколько сам Крупенников готов к этому, последний ответил:
— Предположим, я был бы рад вернуться в Россию, но не в Россию советскую. Многие из нас устали жить под Сталиным.
Одновременно Крупенников настаивал на выработке четко сформулированной программы, которая бы помогла русским разрешить конфликт с совестью. Если немцы примут такую политику, тогда, по его оценкам, до семидесяти процентов пленных офицеров встанут на борьбу против Сталина. Они сами либо кто-то из членов их семей пострадали от режима. Крупенников также предлагал создать национальную освободительную армию, которая сумеет показать себя лучше, чем силы других союзников Германии, о боевых качествах которых Крупенников отзывался с презрением.[58]
Власов отказался говорить с Крупенниковым, поскольку тот тоже настаивал на гарантиях. Посмотрев на поношенный и плохо сидевший костюм, который достал для него Штрикфельдт, Власов не без яда заметил:
— Вы даже не можете найти мне костюма по размеру, а собрались мир завоевывать![59]
Власов не подвергал сомнению добрую волю Штрикфельдта, однако он все больше и больше разочаровывался в реальных способностях этого немецкого офицера чего-то достигнуть. При этом Власов не осознавал всей глубины бессилия своих немецких друзей.
В тот период томительного ожидания в кругу Власова появился человек, ставший впоследствии одним из ближайших его коллег, — Георгий Николаевич Жиленков. Тридцатитрехлетний Жиленков был высокопоставленным функционером коммунистической партии, который, будучи секретарем одного из райкомов Москвы, имел почти неограниченную власть над более чем 400 тысячами человек. Когда вспыхнула война, его в звании бригадного комиссара назначили в 32-ю армию, которую немцы окружили под Смоленском. Попав в плен с остатками разгромленной армии, он выдал себя за простого солдата, был записан в немецкую часть как «хиви» и служил на грузовике подвозчиком боеприпасов. Он бы, возможно, так и продолжал вести двойную жизнь, если бы с группой других «хиви» не был приговорен к расстрелу по подозрению в саботаже, что вынудило его открыть правду о том, кем он в действительности являлся.[60] По приказу из отдела иностранных армий Востока его отправили в специальный лагерь в Лётцене, а оттуда — в дом № 10 по Виктория-Штрассе, где он и сошелся с Казанцевым и Зыковым.
Жиленков представлял собой, казалось бы, превосходный продукт советской системы. Будучи сиротой, он вырос и получил образование за счет государства. Его острый ум и привлекательная наружность помогли ему быстро подняться по ступенькам карьерной лестницы партийного функционера. Было странно, что такой человек, всем обязанный советскому государству, может перейти на сторону немцев, хотя в ту полную тревог зиму у него не единожды возникала возможность пересечь линию фронта и добраться до своих.
Причины, толкнувшие его на такое решение, были типичны для русских. Жиленков изложил свои соображения в беседе с Казанцевым. Человек, занимающий такой видный партийный пост, он постоянно чувствовал себя в неуверенном положении, но даже не это, а неизбежная необходимость постоянно словом и делом демонстрировать энтузиазм и непоколебимую веру в великого вождя Сталина и в непогрешимость его действий — вот что угнетало его больше всего. Простого выражения одобрения было мало — требовалось страстное восхищение. В связи с занимаемой должностью Жиленкову приходилось по три четыре раза в неделю выступать с речами на собраниях и митингах, то есть постоянно и убедительно играть роль борца за ленинско-сталинские идеалы. Даже тем, кто искренне верил в них, такое бывало непросто, а уж для тех, кто не горел верой, и вовсе непереносимо. Большинство не верило как в непогрешимость Сталина, так и в разумность методов его террористического правления. Однако и им приходилось постоянно лгать — словом, жестом и делом.
Член партии не мог выйти из нее. Для таких, как Жиленков, оставалось, по сути дела, два пути: продолжать карабкаться по лестнице или же сгинуть в каком-нибудь лагере, закончив путь в общей могиле.
— Как это ни парадоксально, — признавался Жиленков, — но я впервые почувствовал себя свободным человеком здесь, среди врагов, в плену. И это я — я, важное лицо в партии, имевшее все основания когда-нибудь сделаться членом Центрального комитета. Что же тогда чувствовали простые люди?! Я узнал это, когда многие дни и месяцы скитался с ними по лесам, и позднее, когда работал на немцев. Я даже и не представлял того, какие преступления совершал режим, никогда не подозревал, до какой степени ненавидели партию обычные люди — рабочие и крестьяне. Стал осознавать правду лишь тогда, когда нам впервые удалось поговорить свободно. У меня нет никакого желания провести остаток дней в Сибири. Всего несколько часов пребывания в плену превосходно убедили меня в этом. Режим так мало верит тем, кто пожертвовал всем, отдал все свои силы делу революции. — Позднее в Лётцене Жиленков заявлял: — Обращайтесь с нами как с равноправными друзьями и союзниками, и мы будем ваши. Вот я — ваш, но вы можете заполучить большинство генералов и половину партийного аппарата.[61]
Пребывание Жиленкова на Виктория-Штрассе оказалось непродолжительным. В середине августа — практически перед самым появлением там Власова — он и Боярский, знакомый Жиленкову еще по Лётцену, получили назначение возглавить первое крупное формирование, состоявшее исключительно из военнопленных и перебежчиков и организованное под русским командованием — так называемое экспериментальное соединение «Центр». Само создание такого формирования наглядно демонстрировало настроения очень многих русских, доминировавшее на первом этапе Восточной кампании, — хватило одного только небольшого толчка, чтобы вызвать у них желание сражаться за освобождение страны от советской диктатуры.
Инициатива образования экспериментального соединения «Центр» исходила от эмигранта Сергея Никитича Иванова, который имел прочные связи с нацистской партией и Вермахтом и пропагандировал в этих кругах идею создания Русской освободительной армии. Однако успеха ему удалось добиться только в разведке Вермахта, которая располагала большей свободой действий, чем все прочие службы. Адмирал Канарис усматривал будущий потенциал части, которая являлась бы резервом кадров для специальных операций за линией фронта, а позднее, возможно, смогла бы послужить ядром при создании Русской освободительной армии. Он отправил Иванова в Смоленск на встречу с возглавлявшим абверкоманду-203[62] подполковником доктором Вернером Геттинг-Зеебургом, который тотчас же предложил свое содействие.
В Берлине Иванов склонил к участию в своем предприятии двух других эмигрантов — тридцатилетнего сына царского генерала Игоря Сахарова, не единожды награжденного за участие в боях во время Гражданской войны в Испании и получившего звание лейтенанта от Франко, а также бывшего командира полка Константина Григорьевича Кромиади. Кромиади, однако, ясно дал понять, что не станет сотрудничать с наемниками и что согласен участвовать только в том случае, если будет сформирована национальная русская армия, полноправная военная сила со своей собственной военной формой, имеющая целью борьбу за освобождение России.
Соединение было создано в начале марта 1942 г. Иванова назначили его политическим руководителем, а также лицом, ответственным за связь с германскими властями. Сахаров стал его полномочным представителем. Кромиади под псевдонимом Санин принял военное руководство как комендант лагеря. Часть получила наименование «Русский батальон особого назначения» под кодовым названием «Операция Граукопф».[63] Для постоя был определен поселок Осинторф, расположенный в районе бывших торфяных разработок на железнодорожной ветке Орша — Смоленск, посреди громадных болот, и имевший достаточное количество казарменных помещений для размещения десяти тысяч человек. Часть организовывалась по русскому образцу и получала трофейное вооружение. Личный состав носил советское обмундирование с добавлением погон (которых тогда в Красной Армии не существовало) и бело-сине-красных кокард на фуражках.
Русские — убежденные, что немцы таким образом наконец-то приступили к созданию освободительной армии, — называли свою часть Русской национальной народной армией, или сокращенно РННА. В июле 1942 г. численность личного состава РННА достигала трех тысяч человек, а к концу года она выросла до семи тысяч. Центральный штаб имел штатный состав штаба дивизии. Изначально часть состояла из четырех пехотных батальонов, одного артиллерийского дивизиона и одного инженерно-саперного батальона; существовали планы развернуть батальоны в полки. В каждом батальоне имелись курсы подготовки унтер-офицерского состава, а при центральном штабе — офицерская школа. Были созданы библиотека и офицерский клуб, велась пропаганда русского национального движения, кроме того, РННА издавала даже свою собственную газету — «Родина».
Солдаты и офицеры набирались в лагерях для военнопленных. Недостатка в добровольцах командование не испытывало. Едва представители РННА обнародовали свою программу, желающих стало больше, чем требовалось. Даже партизаны искали связей с Кромиади. Они говорили: «Мы бы присоединились к вам, да не доверяем немцам. Они поставят к стенке и нас, и вас».[64]
Кроме Кромиади, Иванова и Сахарова, к части присоединились и трое других эмигрантов: лейтенант Виктор Ресслер, лейтенант граф Григорий Ламсдорф и лейтенант граф Сергей фон дер Пален. Однако все остальные солдаты и офицеры были из Красной Армии. Среди них наличествовало несколько прекрасных штабных офицеров, семь из которых ранее носили звания полковников и служили либо в штабе дивизии, либо даже армии. Бывший офицер Генерального штаба майор Риль занял должность начальника штаба соединения, полковник Горский возглавил артиллерийский дивизион, полковник Кобзев и майоры Иванов, Головинкин и Николаев — батальоны, а майор Бочаров — разведку.
Многие из новобранцев прибывали в Осинторф в плачевном состоянии — иные просто умирали с голоду. Большинство и решило-то вступить лишь для того, чтобы избежать голодной смерти; между тем, как происходило практически всегда, когда русские получали возможность без давления, свободно изменить свое мнение и когда видели, что им предоставляется реальная возможность сражаться со сталинским режимом, они быстро становились убежденными членами освободительного движения.
Подполковник Геттинг-Зеебург, противник «восточной политики», полностью поддерживал создание соединения. Русские очень уважали его, восхищались и даже дали прозвище «Дедушка». Тресков, начальник оперативного отдела группы армий «Центр», и Герсдорф, начальник разведки, тоже всеми силами выступали за него. Они располагали возможностью обратить внимание фельдмаршала Гюнтера фон Клюге на успешность действий соединения в операциях диверсионно-подрывного характера и на явную политическую благонадежность личного состава.
Первая крупная операция соединения, в которой задействовались триста человек под началом Бочарова, имела место в мае 1942 г. в районе Ельни. В их задачу входило попробовать на прочность боевую готовность и боевой дух корпуса под командованием генерала Белова, который немцы окружили, но который через лесистые районы все же сохранил сообщение с другими силами Красной Армии. Несмотря на несколько острых моментов, — происходили сильные столкновения с частями корпуса, а майор Бочаров даже на некоторое время попал в плен, — операция завершилась полным успехом. Среди всего прочего, на сторону РННА в полном составе перешло разведывательное подразделение под командованием Героя Советского Союза старшего лейтенанта Князева. (Однако Князев и двадцать человек из его отряда впоследствии вновь перебежали на сторону Советов, когда решили, что немцы ведут себя не как искренние союзники. Он откровенно обсуждал обстановку с Кромиади, которому объяснил, что Сталин — безусловное зло, но подчинение России немцам еще хуже.)
Дальнейшие победы записали на свой счет подразделения под командованием лейтенанта графа Ламсдорфа, майора Риля и майора Грачева. Кроме того, один батальон РННА был переброшен в Шклов для охраны района. Немецкие официальные лица на торжественной церемонии передали власть русским. Данный акт поднял настроение населения, которое считало РННА своей собственной национальной армией. Существовали большие надежды на дальнейшее продвижение в плане обеспечения русских национальных интересов. Местная самооборона видела себя частью РННА, большое количество людей искало возможности вступить в ее ряды. Советское руководство обратило на процесс становления движения пристальное внимание. Были отправлены агенты с целью внедрения в состав РННА и деморализации ее рядов.
В июне часть посетил начальник штаба группы армий генерал Вёлер. Скоро между ним и Геттинг-Зеебургом произошло столкновение. Несдержанный и раздражительный Вёлер, скверный характер которого не являлся ни для кого секретом, обвинил Геттинг-Зеебурга во лжи на том основании, что тот будто бы предоставил в распоряжение РННА больше оружия, чем необходимо. Геттинг-Зеебург потребовал разбирательства. В Берлине, однако, опасались разрастания трений и попросту перевели его в другое место. Сменивший его полковник Гетцель держал дистанцию в данном вопросе, а отношения его с русскими не носили характера теплоты и взаимопонимания. Он не оказывал уже той поддержки части, как его предшественник. Ситуация осложнялась отсутствием такта и понимания со стороны немецких властей, что только углубляло раздражение русских и укрепляло в них чувство обиды. Однако им пришлось скоро испытать и еще один чувствительный удар, когда пришел приказ всем представителям старой эмиграции покинуть оккупированные территории — приказ распространялся среди прочих и на такого популярного командира, как полковник Кромиади. Последний приказ, который он подписал 26 августа 1942 г., являлся вполне типичным для соединения и отражал превалировавшие в нем настроения. Он не содержал ни одного упоминания о немцах, был целиком посвящен теме освобождения родины и заканчивался таким заявлением: «Не забывайте никогда, что вы русские, что страдающая Россия взывает к помощи».[65]
То, насколько сильно русские не доверяли немцам, как отчаянно они искали выхода, показывает вызвавший много споров план дальнейших действий, где обсуждалась в том числе и возможность разоружения и роспуска формирования. На такой случай командование решило уйти в леса и оттуда направить немцам ультиматум с требованием предоставить право сражаться на равных основаниях как отдельному соединению. Немцам пришлось бы считаться с силой этой хорошо вооруженной части, дислоцированной на небольшом расстоянии в тылу от линии фронта. При дальнейшем и более взвешенном рассуждении участники споров все же пришли к выводу, что данный шаг ослабил бы позиции русских патриотов. Но, так или иначе, подобные настроения были очень сильны.
Такое вот положение застали Жиленков и Боярский по своем прибытии в расположение соединения. Нельзя сказать, что они были свободны от предвзятостей — оба опасались, что «старая» эмиграция выражает интересы немцев и создает банды наемников. В свою очередь и соединение встретило новых командиров с недоверием. Жиленков был как-никак партийным функционером и комиссаром, но что еще хуже — первая речь, с которой он обратился к личному составу, изобиловала пропагандистской риторикой и льстивыми реверансами в адрес немцев. Недоверие достигло такой степени, что некоторые офицеры обратились к Кромиади за разрешением ликвидировать Жиленкова — он казался им плохо замаскированным агентом-провокатором.
Личный разговор между Боярским и Кромиади в итоге помог прояснить обстановку — выяснилось, что мнения их совпадают. Боярский заверил собеседника, что Жиленков придерживается тех же позиций, что и они, однако, как бывший комиссар, он находится под постоянной угрозой из-за непредсказуемости немцев и фактически все время балансирует между жизнью и смертью. По сей причине ему до поры до времени приходится декларировать то, во что сам он не верит. Под командованием Жиленкова и Боярского созданная в Осинторфе бригада была придана группе армий «Центр» под наименованием экспериментальное соединение «Центр». Оба офицера быстро осознали, что ей вполне под силу стать ядром освободительной армии, что она располагает потенциалом, который дает шанс путем проведения успешных боевых операций на фронте произвести заметное воздействие на немецкие власти и заставить их обратить на себя должное внимание.
К началу декабря бригада находилась в полной боеготовности. Когда 16 декабря у немцев возникла острая нужда в резервах, Тресков предложил фельдмаршалу фон Клюге послать соединение на фронт. Клюге тотчас же отправился с проверкой в лагерь и остался вполне доволен результатами поездки. Но затем — так, словно хотел соблюсти какие-то формальности, — он вдруг приказал рассредоточить русские части и побатальонно придать их разным немецким соединениям, при этом снабдив личный состав немецким обмундированием. Все доводы Трескова, пытавшегося убедить командующего в том, что подобное решение может нанести серьезный психологический ущерб делу, пропали втуне. Клюге хорошо знал точку зрения Гитлера и не хотел рисковать.
В итоге Герсдорфу пришлось ехать в Осинторф со скверными вестями и с надеждой убедить Жиленкова и Боярского в неизбежной необходимости смириться с ситуацией. Боярский впал в ярость — он считал, что лучше расстрел, чем клеймо наемника. Оба офицера обратились к Клюге с воззванием, в котором упирали на то, что их бригада представляет собой часть будущей русской армии и станет сражаться только в таком качестве. Она была создана с целью освобождения России от большевизма и рассматривала свои взаимоотношения с германской армией как с армией союзнической. В глазах немцев подобная реакция выглядела равносильной мятежу. Тем же вечером, бесцеремонно исключив из процесса переговоров Трескова и Герсдорфа, Клюге направил Жиленкову ультиматум: или он подчинится приказу, или же предстанет перед трибуналом, соединение же будет расформировано.
В этот критический момент вновь вмешался Тресков. Они с Геленом сошлись на том, что Жиленкову и Боярскому необходимо перенести свою деятельности в Берлин с целью организации комитета освобождения. Русские офицеры стали бы тогда «официальными представителями» данного органа, что исключило бы их из числа военнопленных. Затем Тресков послал за обоими русскими офицерами, однако они отказались ехать до получения официального разрешения и гарантий неприкосновенности. Он же объяснил им то, насколько серьезно может пострадать их предприятие и насколько сильно отдалит их от достижения цели неподчинение приказу Клюге, ибо данный факт даст важный козырь в руки противников разумной «восточной политики», кроме того, Тресков пообещал, что будет продолжать курировать часть лично. Прислушавшись к этим доводам, они на следующий день покинули место расположения РННА. Произведенный в полковники майор Риль принял на себя обязанности командира, а майор Безродный — начальника штаба.
Сложилось исключительно неудобное положение, связанное с угрозой резкой смены настроений личного состава. В ночь после того, как было объявлено о разделении бригады на отдельные части и о предстоящем введении немецкого обмундирования, к партизанам дезертировало триста человек. Однако остальные остались и были переброшены в район Бобруйск — Могилев для охраны территории и борьбы с партизанами.
Так закончила свои дни РННА. Первая попытка создания национальной Русской освободительной армии провалилась практически в самом начале.
Чтобы убрать с «линии огня» Жиленкова и Боярского, их отправили в распоряжение отдела иностранных армий Востока. Когда стало ясно, что Клюге не будет стремиться к принятию против них каких-то особых мер, обоих перевели в Берлин. Жиленков остался на Виктория-Штрассе, тогда как Боярского назначили начальником подразделения пропагандистов на северном участке фронта. Рассказанное Жиленковым Власову, с одной стороны, подкрепило убеждение последнего в реальности перспектив задуманного, а с другой стороны, усилило его опасения в отношении позиции Гитлера, особенно в свете того, что ответа на «Смоленскую декларацию» так и не последовало, а решения Имперского министерства по делам оккупированных восточных территорий продолжали носить неразумный характер.
Тем временем, пока Восточное министерство продолжало стойко противостоять упорному давлению отдела пропаганды ОКВ и других структур Вермахта, из самых разных армейских частей на Восточном фронте продолжали-поступать служебные записки с требованиями, в связи с опытом практических действий на местах, немедленным и радикальным образом изменить «восточную политику». В процессе продвижения немцев к Волге и Кавказу местное население выказывало еще большее стремление к сотрудничеству, чем на центральном направлении. На этих территориях не было партизан. По инициативе начальника разведки группы армий «Юг», подполковника фон Фрейтага-Лорингхофена, были немедленно созданы казачьи части для усиления немецкого фронта на огромных просторах от Дона до Волги. В степях Калмыкии сформировали шестнадцать эскадронов калмыков, а вскоре появились и отдельные Туркестанский, Азербайджанский, Грузинский, Армянский и Северокавказский добровольческие легионы.[66]
В марте 1942 г. под властью немцев находилось свыше шестидесяти или даже семидесяти миллионов советских граждан. От того, сколько ума, такта и искренности проявят ко всем этим людям немецкие военные и гражданские власти, напрямую зависело, будет ли взаимодействие укрепляться, или же расположение местных жителей к немцам в массовом порядке обернется недоверием, враждебностью, а затем и непримиримой ненавистью. Осознание данного факта привело постепенно к кристаллизации мнения армии в отношении нетерпимости текущих методов администрации и неприемлемости планов колонизации. На основании сотен служебных записок, направленных по инстанциям из различных армейских соединений, были написаны соответствующие отчеты генералом фон Роком,[67] полковником Геленом[68] и полковником фон Тресковым.[69]
Командиры частей в тыловых районах армии, зная о том, что Кейтель блокирует поступление к Гитлеру подобного рода негативной информации, потребовали совещания у Альфреда Розенберга, рейхсминистра по делам оккупированных восточных территорий. Эта встреча состоялась в Берлине 18 декабря 1942 г. Командующий тылом группы армий «Центр», генерал граф Шенкендорф, нарисовал жуткую картину того, какое положение сложилось на местах в результате политики губернаторов (рейхскомиссаров) самого Розенберга и мер, принимаемых Министерством экономики, а также СС и Гестапо. Генералы указывали на то, что угроза роста партизанской деятельности есть прямое следствие такого рода действий властей, а также и на то, какой резонанс они могут вызвать в добровольческих частях.
Тонкости различий во взглядах Гитлера и Розенберга на «восточную политику» оставались для генералов книгой за семью печатями. Они упирали на необходимость для Германии поддерживать дружественные отношения с русским народом также и в будущем, а кроме того, на то, что сейчас Германия прилагает максимум усилий для исключения в дальнейшей перспективе такого сотрудничества в принципе. Они предоставляли исключительно трезвую и непредвзятую оценку военной обстановки и постоянно подчеркивали факт неизменного ослабления позиции немцев, исправить которую представлялось возможным только через сотрудничество с населением. Шенкендорф попросил Розенберга сказать фюреру всю правду. Он заявил, что не верит в наличие у Гитлера ясного представления о происходящем на советских территориях, оккупированных Вермахтом и управляемых Восточным министерством.
Розенберг явно не остался глух ко всему тому, что узнал. Помимо комендантов армейских тыловых районов, на встрече присутствовали представители всех отделов Генерального штаба, и все эти офицеры совершенно очевидно держались единой точки зрения. Мнение круга лиц, группировавшихся теперь вокруг Власова, было услышано и зазвучало на более высоком уровне — теперь и немецкие военные не сомневались в справедливости следующего заявления: «Завоевание России под силу только самим русским». Подполковник Шмидт фон Альтенштадт указал, что если немцы не изменят существующего положения, те полмиллиона русских, что приписаны к частям Вермахта, послужат в дальнейшем источником непредсказуемых бед. Он добавил, что нет никакого сомнения во все еще сохраняющемся у этих людей стремлении выступать с оружием в руках против сталинского режима, но им необходимы твердые свидетельства того, что существующая политика будет сдана немцами на свалку.
Нет ничего случайного в том, что присутствовавшие на совещании офицеры представляли военные, а не моральные причины необходимости срочной смены «восточной политики». Они знали, что соображения морали для Гитлера пустой звук. Не случайно и то, что ни один из них не высказывался за разделение России. Для них не подлежало сомнению то, что уничтожить диктатуру Сталина можно лишь общими силами всех регионов и потому планы перекройки страны лишь сыграют на руку советскому режиму.
Розенберг обещал содействие в деле изменения «восточной политики».[70] 21 декабря он направил меморандум Гитлеру, в котором суммировал основные доводы, прозвучавшие на совещании, и попросил у фюрера разрешения обратиться с личным докладом. Гитлер вскоре принял его, однако неизменно настаивал на том, что дело генералов воевать, а не заниматься политикой. Тем не менее вполне вероятно, что под воздействием доводов, обрушенных Вермахтом на Розенберга, 12 января 1943 г. Гитлер дал добро «Смоленской декларации». Однако он запретил какое бы то ни было распространение заявления на немецкой стороне — только по ту сторону линии фронта.
Поскольку отдел пропаганды ОКВ уже провел все детальные приготовления, колесо кампании завертелось немедленно. Миллионы листовок были распространены на всех фронтах, но некоторые из них — как втайне и планировалось — «случайно» попали и на оккупированные территории. Успех операции превзошел все самые оптимистические ожидания тех, кто окружал Гелена и Гроте. Первые же донесения со всех участков фронта говорили о значительном росте числа перебежчиков — почти все они без исключения просили о включении их в освободительную армию Власова. Немного позднее поступили данные о реакции на оккупированных территориях. В донесениях говорилось о «глубокой заинтересованности и всеобщем одобрении»; население ожидало «дальнейших шагов в данном направлении»; было «чрезвычайно важно предоставить Освободительному комитету реальную власть, чтобы не утратить доверия к пропаганде».[71]
Волнительное ожидание охватило многие слои общества. После всех сомнений в искренности немецкого руководства, всего того отчаяния, которое приносила его политическая близорукость, наконец-то стало казаться, что изменения неизбежны. Те из немцев на оккупированных территориях, которые встречались с русскими и пользовались их доверием, то и дело слышали одни и те же нетерпеливые вопросы. Русские добровольцы требовали своего включения в Русскую освободительную армию, или РОА.[72] Никто из них даже не знал, что РОА не существует, что «Смоленский комитет» — «бумажная» организация. Между тем их реакция стала политической реальностью, с которой противники официальной политики надеялись укрепить свои позиции.
— Джинн вырвался из бутылки. Пусть попробуют теперь запихать его обратно, — заявил Зыков,[73] выразив не только надежды, но и злобную радость окружения Власова.
Дату одобрения «Смоленской декларации» можно было рассматривать как день рождения Русского освободительного движения. Впервые скрытые под ним силы получили программу, в первый раз были озвучены цели борьбы, а не просто идентифицирован враг. Интересно отметить, что этот документ, несмотря на «патронаж» Гитлера, выражал демократические идеалы.
Советский пропагандистский аппарат продолжал хранить молчание. Между тем на места спускались приказы немедленно уничтожать листовки, любого, кто занимался их распространением, ждала смерть. Сталин осознал то, какую угрозу представляло освободительное движение для правительства, о чем свидетельствуют далеко идущие изменения политической линии. Коммунисты вдруг принялись призывать советских граждан к «народной борьбе за освобождение отчизны». Правительство, уничтожившее множество священников и еще недавно закрывавшее церкви, разрешило службы во многих из них. Погоны, прежде считавшиеся атрибутом буржуазии, вновь заняли место в комплектах обмундирования; появились награды с именами национальных героев прошлого — царских генералов Суворова и Кутузова; кроме того, был распущен Коминтерн.
Почти четверть века партия стремилась к созданию «нового советского человека», теперь, похоже, все труды пошли насмарку. Сталин не мог призывать народ на защиту социалистической (коммунистической) системы и на борьбу за международный коммунизм, вместо этого ему пришлось сзывать народ на смертный бой за родину. Его пропаганда возымела действие не в последнюю очередь из-за разочарования в немцах. Многие начинали думать, что коммунизму придется меняться под давлением армии-победительницы. На оккупированных территориях партизаны принялись сеять слухи, что будто бы ни Освободительный комитет, ни РОА, ни сам Власов не были на самом деле на стороне немцев, а что все в действительности являлось пропагандистским трюком. И чем дольше не поступало никаких известий о прогрессе у лидеров освободительного движения, тем более достоверными казались слухи.
Глава IV Борьба за свободу действий
По мере роста в руководствах групп армий озабоченности в отношении обстановки на фронте и в тылу, у военных все более крепла уверенность в необходимости посещения Власовым оккупированных районов. Клюге и Шенкендорф согласились принять на себя ответственность за данный шаг, с тем чтобы не терять времени, пока будут идти согласования в высших эшелонах власти. Принимая во внимание настроение населения и личного состава добровольческих частей, приезд Власова становился просто необходимым. Хотя Клюге и Шенкендорф официально «обезопасили» турне Власова как «пропагандистское», Мартин и Гроте отлично понимали, насколько рискованным может стать данный шаг для них самих и для их предприятия. Тем не менее они продолжали заниматься приготовлениями к поездке Власова.
Поначалу Власов ехать отказывался. Пока комитет не получил официального одобрения, пока освободительная армия оставалась по сути дела фикцией, он не мог обещать ничего из того, что будут ожидать от него население и добровольцы в вооруженных формированиях. Долгие споры и обсуждения с другими русскими, однако, убеждали его не сдаваться. Пусть даже «Смоленская декларация» и не смогла поколебать упорства ставки фюрера, приезд Власова, как считали они, повлечет за собой столь сильные демонстрации того, какие чувства владеют народом, что отмахнуться от этого будет уже невозможно.
Принимая во внимание важность фигуры Власова и его открытого выступления против советского режима, порой просто поражаешься тому, сколь смехотворно ничтожными бывали те препятствия, которые поглощали энергию его немецких покровителей в штабах Вермахта на самом высоком уровне. Так, например, некоторым офицерам из отдела пропаганды приходилось платить за его одежду из личного кармана просто потому, что он не мог появиться перед людьми, скажем, в поношенных костюмах. Власов не мог ходить в немецком обмундировании, о советском же и вовсе речь не шла, поскольку данное обстоятельство плохо бы повлияло на население, а формы Русской освободительной армии не существовало, как не существовало и самой армии. Итак, Власов был обречен до конца дней ходить в неком мундире, появившемся на свет в результате импровизации его «крестных отцов». После нескольких суток упорных поисков Штрикфельдт добыл, наконец, некое подобие военной формы, состоявшей из черных брюк с красными генеральскими лампасами, темно-коричневого кителя без петлиц и погон и того же цвета шинели с красными отворотами. В Смоленске капитан Петерсон заменил серебряные пуговицы золотыми, положенными генералам.
Более не рассматривавшийся немцами как военнопленный, Власов занимал небольшой, скудно обставленный номер во второсортной гостинице «Русский Двор» в центре Берлина. Штрикфельдт попросил его выехать в поездку 25 февраля 1943 г. в сопровождении офицера разведки из штаба Шенкендорфа подполковника Владимира Шубута и капитана Петерсона, которого он уже знал по Лётцену и которому предстояло взять на себя обязанности переводчика.[74] В спальном вагоне почтового поезда они с Силезского вокзала в Берлине выехали в Лётцен, а уже оттуда на военном эшелоне с возвращающимися на фронт отпускниками в Смоленск.
Генерал фон Шенкендорф принял Власова в своей штаб-квартире на окраине города. Они обсудили вопросы ставшей насущно необходимой политической борьбы, ее перспективы и возможности. Затем Власов побывал в соборе, который до оккупации города Вермахтом служил в качестве зернохранилища, и имел продолжительную беседу со священником. Вечером того же дня в местном театре в обстановке всеобщего подъема состоялось первое со дня плена выступление Власова перед большой группой русских.
Глубокий и зычный голос Власова был хорошо слышен отовсюду в зале. Говорил он просто, легко подбирая подходящие сравнения, и немедленно добился отклика у слушателей. Будучи сам человеком из народа, он хорошо знал, чем взять аудиторию. Он так и излучал уверенность, убежденность и властность.
Начал Власов с того, что коротко описал свою служебную карьеру в Красной Армии и обрисовал причины того, почему повернул оружие против Сталина. Он говорил о целях освободительного движения и о том, что после победы Россия должна будет занять надлежащее место в европейском содружестве стран и народов. Он упирал на то, что русским, и никому иному, должна принадлежать роль ниспровергателей Сталина. Несмотря на то что союзниками в их борьбе станут немцы, национал-социализм не будет перенесен на российскую почву. Русским не придется носить иностранную форму. После победы будет образовано правительство, отвечающее требованиям и условиям России. Свое выступление он закончил предложением к собравшимся высказать мнения.
Первым взял слово действующий глава Смоленского округа. Он заявил о том, что население на оккупированных территориях надеялось на очень многое, а получило мало, и задал вопросы, которые задавали с начала войны тысячи и миллионы русских: правда ли то, что немцы намеревались превратить Россию в колонию, а самих русских в рабов? Не правы ли те, кто говорит, что охотнее будут жить в России при проклятых большевиках, чем под кнутом немецкого надсмотрщика? Им все время говорят, против кого они должны сражаться, но не говорят — за что. Никто еще официально не объявлял о том, каковы послевоенные планы в отношении страны. Почему бы немцам не передать власть в оккупированных районах русской администрации? Почему добровольцам, которые сражаются вместе с немцами, не разрешают иметь свои штабы и русских командиров? Одним словом, собравшиеся хотели знать ответы на все эти «почему».
Именно этих вопросов и боялся Власов. Он мог обещать лишь надежду. Он подчеркнул то, что уже сам факт его появления здесь, его публичных выступлений говорит о росте понимания проблемы со стороны немцев. Он заметил, как делал в речах и в дальнейшем, что немцам поначалу казалось, будто бы большинство народа сражается за коммунизм. Недоверие и ввело их в ошибку, однако теперь многие немцы осознали это. Вот он и работает совместно с ними, чтобы устранить непонимание и сделать то, что необходимо сделать. Просто глупо думать, что можно превратить в рабов 190-миллионный народ. Однако участие немцев нужно, чтобы покончить со сталинским коммунизмом, и поскольку большинство людей мечтают о свержении Сталина, принимать такую помощь не есть предательство или измена. Цели эти уже заявлены в «Смоленской декларации». Если же Власов хочет добиться поставленных задач, ему необходимо доверие и содействие народа, как нужны они ему для того, чтобы убедить немецкое руководство в принятии соответствующих мер. Громкие аплодисменты, сопровождавшие его высказывания, говорили о том, сколь глубоко страдали собравшиеся от неопределенности, как много значили для них слова надежды.
На следующий день Власов побывал в добровольческой части и в редакционных отделах местной русской газеты. Затем он встретился с белорусским майором Дмитрием Космовичем, который действовал в зоне ответственности группы армий «Центр» и прославился тем, что очистил от партизан крупные районы вокруг Брянска и Смоленска. Космович, один из представителей образованной элиты, вышедший из среды белорусского крестьянства, был эмигрантом со стажем, в Белграде он вступил в политическую организацию, ставившую себе целью независимость Белоруссии. Он вернулся домой в начале Восточной кампании и с помощью немцев добивался выполнения поставленных задач.
То была первая встреча Власова с таким радикальным сторонником сепаратизма. Космович выразил готовность сотрудничать, если Власов и его Освободительный комитет гарантируют независимость Белоруссии. Власов же со своей стороны пытался убедить собеседника, что сначала надо разделаться с общим врагом, а уж потом предоставить в подобном вопросе делать выбор народу, не говоря уже о том, что провозглашение раздела России сейчас дало бы Сталину превосходный козырь в политической игре. Расстались участники встречи недовольные друг другом.
Тем не менее переговоры эти имели важное значение для Власова. Пример Космовича доказал, как легко мобилизовать население и то, сколько могут сделать сами русские, если они, а не немцы будут распоряжаться на оккупированных восточных территориях. К моменту прибытия Космовича в Смоленск в обширных лесах вокруг города действовала партизанская бригада численностью почти в две тысячи человек. Справиться с бригадой было непростой задачей, поскольку она осуществляла связь с Красной Армией через леса около Демидова, где отсутствовала сплошная линия фронта. Партизаны реквизировали скот и провизию в деревнях и селах и терроризировали население, которое в итоге направило депутатов в Смоленск просить помощи.
Командовавший дислоцированными в регионе германскими войсками и комендант города генерал Поль поручил Космовичу организовать сеть самообороны. Первый шаг был направлен на защиту ближайших сел и деревень. В каждом селе со складов трофейного снаряжения вооружили по 100–150 человек. Построили бункеры, создали систему быстрого оповещения соседних отрядов на случай внезапного налета партизан. Особенно остро нуждался Космович в офицерах и унтер-офицерах, которые требовались для подготовки крестьян. Из лагеря для военнопленных отобрали шестьдесят офицеров, включая и многих кадровиков в звании вплоть до полковника. Они ненавидели Сталина, однако немцы сделали все, чтобы эти люди разочаровались и в них. Посему эксперимент имел и элементы риска, так как через партизан бывшие пленные могли практически в любое время перебежать на сторону Красной Армии. Однако случаев дезертирства не отмечалось.
Во все расширявшемся круге опоясывавших Смоленск сел одна деревня за другой получала оружие, охраняя себя и центр от партизан. Начиная с июня 1942 г. отряды местной милиции, официально именовавшиеся «службой порядка» (Ordnungsdienst — OD),[75] также временно разместились в лесных землянках около Демидова, образовав тем самым в итоге сплошной участок линии фронта. В самом Смоленске Космович организовал моторизованную оперативную группу, которую, смотря по обстановке, можно было быстро перебросить на особо угрожаемый участок обороны. Общая численность милиции в районе Смоленска в итоге достигла почти 3000 человек, а всего в зоне ответственности группы армий «Центр» — примерно 100 тысяч. Космович, назначенный инспектором «службы порядка», свел эти силы в батальоны под единым общим командованием для скорейшего преобразования их в предполагаемую освободительную армию. Вскоре, однако, ОКВ запретило любую централизацию. Такое решение принесло очередное разочарование не только русским, но и немецкому командованию в тыловых районах армии, которое упрочило свое положение за счет поддержания инициативы Космовича.[76] Метод Космовича был прост, для успешной реализации его планов не требовалось ничего, кроме одного — Луговности населения к сотрудничеству. И высокий уровень этой готовности стал лишним подтверждением обоснованности эксперимента.
Поездка Власова заняла три недели. Он выступал перед жителями городов и сел и перед добровольческими формированиями. Повсюду его встречали с большим энтузиазмом: его появление явно способствовало восстановлению упавшего духа и вновь зажигало в сердцах людей утраченную уже почти совсем надежду. Особенно сильное впечатление его визит произвел на казачий полк Кононова в Могилеве. Хотя за первый год войны на сторону немцев перебежали десятки тысяч солдат, они переходили к ним либо поодиночке, либо малыми группами. Мощная система советских информаторов, как видно, позволяла предотвратить дезертирство целых частей и подразделений. Между тем майор И. Н. Кононов, командир 436-го стрелкового полка 155-й стрелковой дивизии, сумел привести свой полк к немцам целиком. Это был единственный подобный случай за всю войну.[77]
Кононов закончил военное училище, с 1927 г. состоял в партии, прошел финскую войну и удостоился награждения орденом Красного Знамени. Как и Власов, он не пострадал от действий правительства, однако видел, как коса сталинского террора выкашивает лучших офицеров Красной Армии. Он знал настроения личного состава своего полка. Когда во время отступления его части выпало прикрывать тыл, он отправил к противнику одного из самых доверенных людей, пообещал переход полка на сторону немцев при условии, если ему позволят принять участие в создании Русской освободительной армии, которая будет сражаться против сталинского режима. Немцы предложение приняли. Затем он созвал офицеров полка и объявил им, что он — враг правительства Сталина, что принял решение включиться в борьбу за освобождение России. Желающие могут встать на его сторону, те же, кто не хочет, могут остаться — ничего плохого не случится с ними. За исключением нескольких комиссаров, все согласились идти за Кононовым. Затем он обратился ко всему личному составу полка, сообщив ему о принятом решении. Каждому солдату предоставлялся выбор — последовать за командиром или сохранить верность Красной Армии. Все пошли за ним, и 22 августа 1941 г. он без каких бы то ни было сложностей провел полк за линию фронта к немцам.
Кононову повезло — он встретил поддержку в лице генерала Шенкендорфа. Шенкендорф обещал сделать все, что было в его власти для получения у Главного командования разрешения на создание объединенной Русской освободительной армии. Тем же временем под собственную ответственность он санкционировал формирование казачьего полка.[78] Шенкендорф хорошо представлял себе, что в тот момент нечего и надеяться получить добро на создание русского полка.
Кононов, сам из донских казаков, согласился «временно» (как он думал) на организацию такой части. Он не сомневался, что немецкое руководство быстро поймет, как легко свалить сталинский режим с помощью самих русских. Шенкендорф предоставил Кононову все полномочия действовать по своему усмотрению и назначил лейтенанта графа Риттберга офицером по связям между собой и Кононовым. Риттберг скоро завоевал доверие и дружбу Кононова и оставался в рядах полка до самого окончания войны.
Через неделю после перехода на сторону противника Кононов побывал в лагере для военнопленных в Могилеве, где намеревался набрать добровольцев для первой части Русской освободительной армии. Желание вступить в нее выразили более четырех из пяти тысяч военнопленных, находившихся в лагере, однако Кононов отобрал из них всего пятьсот, из которых 400 были казаками. Остальным пришлось сказать, чтобы они ждали своего шанса, который обязательно представится им позднее. Аналогичная история повторилась в лагерях под Бобруйском, Оршей, Смоленском, Пропойском и Гомелем.
19 сентября 1941 г., по прошествии всего менее месяца, новый казачий полк численностью в 77 офицеров и 1799 нижних чинов стал реальностью. Кононову пришлось отказаться от части своих бывших солдат, поскольку они не являлись казаками, хотя на неказачий элемент приходилось до сорока процентов личного состава полка. Тех, кого он не взял в свой полк, не отправили в лагеря для военнопленных, а включили в состав подразделений гражданской администрации или же распределили в полицейские части.
Тем временем Шенкендорф обеспечил личный состав вооружением и снаряжением и сам зачитал приказ ОКХ об учреждении 120-го Донского казачьего полка. Полковым знаменосцем стал донской казак по фамилии Белоградов, просидевший двенадцать лет в сталинских концлагерях; двое его братьев и четверо сыновей были замучены тайной полицией.
Кононов надеялся на создание в ближайшее же время более крупных частей, чего, однако, не произошло. Более того, 27 января 1943 г. ему сообщили о том, что существование русских подразделений численностью свыше батальона запрещается, а потому его полк переименовывается в 600-й Донской казачий дивизион; хотя он на тот момент состоял из почти двух тысяч человек и в феврале ожидал приема в свой состав еще тысячи.[79] Впоследствии было сформировано особое бронетанковое подразделение, названное 17-м казачьим танковым батальоном; приданное германской 3-й танковой армии, оно периодически принимало участие в боевых действиях на фронте. Сто двадцать человек из батальона Кононова, переодетые в советскую форму, проникли в расположения русских частей в районе г. Великие Луки. Им удалось захватить в плен советский военный трибунал — пять военных судей и двадцать одного охранника, освободить сорок одного приговоренного к смерти красноармейца и завладеть важными документами.
Приезд Власова наполнил батальон новой надеждой. Личный состав интерпретировал деятельность генерала как знак роста понимания со стороны немцев. Кононов и Власов быстро пришли к взаимопониманию и сошлись на решении о создании казачьего соединения в рамках будущей освободительной армии. Кононов, всегда враждебный к идеям сепаратизма, оставался в рядах сторонников такой идеи до самого конца войны.[80]
В Бобруйске — т. е. на следующей остановке в ходе поездки — местное подразделение пропаганды планировало транслировать речь Власова по радио. Однако наверху — в Министерстве пропаганды — инициативу не одобрили. Тогда с тем чтобы как можно шире разнести весь о визите Власова, в новостях передали о том, что он приезжает на радиостанцию с целью проверки ее работы. В Бобруйске Власову представили подробное описание состояния дел в крупном районе на оккупированной территории, находившемся под управлением русской администрации. Данный район, расположенный в зоне ответственности 2-й танковой армии, находился неподалеку от линии фронта и имел своим центром поселок Локоть на восточной опушке большого лесного массива, протянувшегося на юг от Брянска. И здесь командование Вермахта демонстрировало больше понимания политической необходимости, чем немецкие гражданские власти. Эксперимент в районе Локтя служил одним из наиболее убедительных примеров того, чего можно было бы достигнуть, если определяющим в политике стало бы понимание реальности, а не иллюзии и попытки проведения в жизнь утопических планов.
Положение в данном районе, на центральном участке фронта, отражало все проблемы, с которыми приходилось сталкиваться на оккупированных территориях. Партизаны всегда имели возможность скрыться в глубине обширных первобытных лесов региона. Плодородные поля, обрабатывавшиеся крестьянами, располагались поблизости от крупных городов Орла и Брянска. Здесь удалось создать первый крупный район, управляемый русскими, где были поставлены в строй и введены в действие первые части русских добровольцев. Инициатива и отвага командующего 2-й танковой армией генерал-полковника Шмидта, который не побоялся принять надлежащие меры за спиной ставки фюрера и вопреки желанию Гитлера, помогла установлению дружбы и взаимного доверия между военной администрацией и населением.
Настроения были однозначно антисоветскими. Крестьяне поделили имущество колхозов сразу после отхода Красной Армии и вооружились оружием, которое побросали красноармейцы, с тем чтобы защищать села от рассеявшихся солдат и противодействовать карательным акциям партизан. Такая тенденция оказала влияние также и на военнослужащих Красной Армии, которые после завершения боев в Брянском котле тысячами разбрелись по лесам. Многие нашли приют в окружающих селах, где не хватало рабочих рук. Остальные сдались немцам и были задействованы в частях или вступили в местную милицию. Таким образом, некое движение противников сталинского режима образовалось в регионе даже до установления в нем немецкой администрации. Первым представителем власти в районе пос. Локоть стал высокий, видный инженер по фамилии Воскобойник — человек выдающегося ума и одаренный оратор. За несколько недель ему удалось создать нечто вроде автономной администрации, которую поначалу охранял от партизан вооруженный отряд общей численностью пятьсот человек.
Такую ситуацию застал в этих краях Вермахт, и генерал Шмидт узаконил статус территории как автономного района под управлением русских. Вся полнота исполнительной власти была возложена на русских, и все немецкие войска и органы управления, за исключением маленького штаба связи, были оттуда отозваны. Русские приняли на себя обязанности по поддержанию порядка, ведению борьбы с партизанами и по снабжению немцев четко оговоренным количеством провианта.
С течением времени территория автономии расширялась до тех пор, пока не стала включать в себя восемь районов с населением в 1,7 млн. человек. При этом в ее распоряжении имелась бригада, насчитывавшая более чем 20 тыс. человек, под русским командованием, — этого числа вполне хватало для того, чтобы держать территорию свободной от партизан вплоть до отступления немцев. Бригада — ее личный состав носил советскую форму с национальной эмблемой и погонами — состояла из пяти пехотных полков, одной бронетанковой бригады, укомплектованной двадцатью четырьмя танками Т-34,[81] одного инженерно-саперного батальона, одного охранного батальона и одного дивизиона противовоздушной обороны. Русские, рассматривавшие эту бригаду как часть будущей освободительной армии, официально называли ее Русской освободительной народной армией (РОНА). Нередко в РОНА перебегали и партизаны, некоторые из которых приходили туда из районов, расположенных на удалении в сто километров. Так, в конце весны 1943 г. в Локоть прибыл целый отряд из восьмидесяти человек с командиром во главе.
После того как Воскобойник погиб в бою с партизанами, главой автономного округа и командиром бригады сделался другой инженер по фамилии Каминский, которого генерал Шмидт произвел в бригадные генералы. Под началом Каминского, поддерживавшего плотные контакты с немцами, округ стал воплощать в себе образец того, чего могли достигнуть русские без вмешательства немцев. Там издавалась собственная газета, работал театр, банк, несколько заводов и фабрик, вошли в строй две больницы с русским медперсоналом. Существовала даже своя налоговая служба. В результате восстановления личной собственности экономика региона быстро пошла на поправку, уровень жизни населения превосходил все показатели по оккупированным территориям. Поставки сырья и продовольствия немецкой армии осуществлялись образцово.
Планировалось даже создание «национал-социалистической» партии, хотя это предприятие сделало не более нескольких робких шагов. Как бы то ни было, эта так и не созданная партия не претерпела влияния немецкой национал-социалистской идеологии, которой русские не понимали и не принимали.
Хотя власть Гиммлера не распространялась на территории под управлением армии, генерал Шмидт хотел дополнительно подстраховать вышеописанные начинания посредством привлечения офицера связи Службы безопасности СС при армии.
В конце 1942 г. Каминский представил вниманию генерала Шмидта служебный доклад с перечнем достижений и с приложением дальнейшего плана действий. В документе этом он не преминул заметить, что постоянное нежелание очертить позитивные политические цели может привести к нежелательной смене настроений у населения. По сути своей, предложения Каминского повторяли собой то, что уже предлагалось в сотнях служебных записок, в рапортах и докладах немцев и русских: русская автономная администрация на всех оккупированных территориях; возглавляемая русскими командирами освободительная армия; русский оппозиционный режим и гарантии независимости России в ее границах по состоянию на 1938 г. Генерал Шмидт лично представил все эти предложения вышестоящему начальству и… был быстро отозван с Восточного фронта.
Все вышеописанное происходило всего в каких-то ста километрах от фронта. Некоторые из немцев высказывали опасения, что РОНА в один прекрасный день перекинется на другую сторону, однако на деле происходило обратное. Так, например, когда летом 1943 г. бригаду бросили в бой против частей Красной Армии, прорвавших немецкий фронт около Дмитровска, она по итогам длившихся двое суток боев отразила советскую атаку. Дезертиров не было. Осенью 4-й полк бригады получил приказ удерживать г. Севск до тех пор, пока не будет закончено общее отступление.[82] Однако Советы окружили район за счет неожиданного прорыва танков и за двое суток кровопролитных боев вырезали всех бойцов РОНА до последнего человека. Пощады не получили даже раненые. Раненого командира полка, молодого майора, привязали к бронемашине и таскали по улицам города, пока он не умер.
Это произошло в связи с общим отступлением немецких войск к Днепру. Большая часть бригады — свыше пятидесяти тысяч человек[83] — приняли участие в отступлении и по его завершении были размешены в районе г. Лепель. Именно здесь после того, как сделались известными планы немецкого руководства, начался процесс деморализации.[84]
Поездка в Локоть не включалась в планы маршрута поездки Власова, поскольку данный регион не находился под юрисдикцией Шенкендорфа. Тем не менее турне Власова укрепило его уверенность в том, что объединенное руководство, последовательная политическая линия и — что особенно важно — полная свобода действий смогут преобразовать потенциал желания людей сотрудничать в мощное освободительное движение.
Власов завершил поездку посещением четырех батальонов добровольцев, созданных вместо РННА после того, как Клюге приказал расформировать часть.[85] Личный состав их был уже готов похоронить свои мечты о большой Русской освободительной армии, однако появление Власова — в само существование которого они уже почти перестали верить — вновь всколыхнуло в них надежду. Его приезд произвел глубочайшее впечатление на бойцов, и батальоны остались верны своим идеалам до самого конца.[86]
Фельдмаршал фон Клюге принял Власова перед отъездом последнего в Берлин. Хотя и куда более сдержанный, чем Шенкендорф, Клюге без предвзятости выслушал Власова, обсудил с ним цели предприятия и обещал оказать всю зависевшую от него поддержку. Поездка Власова не оставила равнодушными не только население и части добровольцев, но также и военные, и гражданские власти. Теперь очень и очень многие осознавали, сколь крупным политическим козырем являлся Власов, но, как верно отмечал фельдмаршал Кюхлер, миссия Власова была обречена на провал, если только немцы немедленно не выработают и не обнародуют четкие и ясные директивы в отношении России. Лицманн, генеральный комиссар Эстонии, призывал к усилению взаимодействия с враждебными большевизму слоями населения, которым следовало прямо сказать о том, какое будущее им уготовано. Лицманн являлся одним из идеалистов, которого постигло глубокое разочарование тем, какие формы принял национал-социализм при Гитлере. «Господь свидетель, что и я и мой отец верили совсем в иное, когда вступали в партию», — признался он доктору Керстену, врачу Гиммлера.[87] И даже Геббельс писал в дневниках: «Восточное министерство положило Власова под сукно. Это демонстрирует удивительную нехватку [политического] чутья со стороны наших центральных берлинских властей».[88]
Должностные лица различных автономных русских администраций тоже составляли отчеты и рапорты. Среди них были глава Островского округа Аксенов, профессор Сошальский, а также возглавлявший Почепский район Павлов, который писал следующее:
«Непонятно, какую опасность может усматривать для себя немецкое руководство в создании оппозиционного правительства. Такой режим мог бы принять на себя функции обеспечения административного управления на оккупированных территориях и создание армии, которая стала бы плечом к плечу с немцами сражаться за окончательное уничтожение большевизма. Русское правительство необходимо для того, чтобы убедить русский народ в том, что немецкая армия явилась не завоевывать страну, а освобождать ее от большевизма. Не стоит забывать о том, что большинство русского народа не желало воевать с немцами, и о том, что в начале войны оружие складывали целые части. Немцы допускают ошибку, обращаясь с такими пленными, как с врагами. Если русским солдатам показать, что с ними не будут поступать так, как поступали на первых этапах войны, и что существуют русские власти, способные защитить их, они будут сдаваться так же, как и раньше».[89]
Никто их всех этих официальных лиц даже не осознавал, что порабощение славянских «недочеловеков» являлось неотъемлемой частью национал-социалистического плана господства.
По возвращении в Берлин в середине марта Власов написал рапорт, в котором почти с мольбой отчаяния подчеркивал то, как сильно изменились настроения населения, и то, что перемены эти произошли вследствие слепоты и ошибок немцев; то, как все сильнее распространялись опасения в отношении того, что немцы стремятся не к освобождению, а к уничтожению русской государственности и порабощению русского народа; то, как умелая пропаганда Сталина подхлестывает эти страхи; он говорил, что теперь самое время — и, возможно, это последняя возможность — изменить политику. Сегодня еще возможно заручиться поддержкой большинства населения — завтра шанс будет окончательно упущен.
Подполковник Шубут, сопровождавший Власова в ходе поездки, тоже написал отчет, который, как он надеялся, дойдет до Гитлера. В основном он просил принять те же меры, к которым призывал и Власов, но добавлял:
«Турне генерала Власова, слух о котором быстро распространился в городах и селах, повсеместно рассматривается как последняя инспекционная поездка перед переходом к решительным действиям. Надежды на решение вопроса будущего России значительно выросли. Власов — своего рода легендарная фигура для частей добровольцев, они видят в нем человека, способного возглавить их и повести к лучшей жизни. Сейчас настало время, пришел критический момент, когда надо действовать — действовать решительно. Последствия нового разочарования непредсказуемы».[90]
Важные круги Вермахта продолжали оказывать давление с целью изменения «восточной политики». Гиммлер, однако, жаловался Мартину Борману в письме, датированном 4 марта 1943 г., в отношении действий Вермахта в направлении создания Русского комитета и освободительного движения, он просил фюрера принять решение.[91] Последовательная уверенность кружка офицеров, действовавших в направлении выработки реалистической «восточной политики», выразилась в создании «центра планирования». В этом центре собрали выдающихся членов освободительного движения, с тем чтобы подготовить руководящую элиту и надежные офицерские кадры. В задачи центра входила также подготовка проекта политических и экономических планов борьбы со сталинским режимом и переустройства России. Здесь, как, впрочем, и в остальных случаях, двигающей силой являлся Штрик-Штрикфельдт, чрезвычайно обеспокоенный тем, что время идет, а ничего реально так и не меняется. Штрикфельдт проконсультировался с Геленом и в итоге получил от Штауфенберга добро на организацию «Восточного отдела пропаганды»,[92] состоявшего из 1200 русских сотрудников. Подходящих людей подбирали в частях добровольцев, в лагерях для военнопленных и даже в трудовых лагерях. Проект замаскировали под вывеской лагеря подготовки отборных бойцов добровольческих частей и курсы пропаганды. Штрикфельдт отыскал пригодные для жилья бараки под Дабендорфом, всего что-то в тридцати километрах к югу от Берлина. Андреевский флаг взвился над лагерем как символ освободительного движения.
Небольшая группа немцев взяла на себя экономические и технические вопросы, тогда как русские самостоятельно осуществляли рабочую деятельность лагеря и регулировали быт его обитателей. Со временем жильцы особого изолятора на Виктория-Штрассе тоже переместились в Дабендорф. Еще тридцать пять человек были переведены туда из Вульхайде, где с октября 1941 г. действовал тренировочный лагерь под общей юрисдикцией Министерства пропаганды и отдела пропаганды ОКВ. Его начальник и организатор барон Георг фон дер Ропп получил звание «инструктора». Необходимо отметить, что пищевое довольствие в Вульхайде ничем не отличалось от того, которое получали военнопленные в других лагерях, а потому есть основания считать, что курсантами тренировочного лагеря двигали не материальные мотивы. В качестве помощников Ропп выбрал нескольких русских офицеров. Как и все прочее, связанное с политической пропагандой, И это начинание представляло собой плод импровизации, а размеры его никак не соответствовали важности задачи.
Самый старший по званию из русских коллег Роппа генерал Благовещенский сделался главой русской администрации лагеря в Дабендорфе, тогда как Ропп вел программу подготовки. Официально его задача состояла в том, чтобы следить за «идеологической благонадежностью» курсантов. В действительности же, конечно, он и его немецкие офицеры связи сосредотачивали основные усилия на том, чтобы уберечь лагерь от постороннего вмешательства и чтобы курсы велись в русле русского патриотизма. Штрикфельдт возглавлял отдел пропаганды, а ротмистр Эдуард фон Деллингсгаузен служил его заместителем. Дабендорф ни в коем случае не представлял собой продолжение эксперимента в Вульхайде, но являлся новым начинанием отдела пропаганды ОКВ и ОКХ. Министерство пропаганды было сознательно исключено из участия в проекте.
Лагерь начал официально функционировать 1 марта 1943 г. В первом наборе доминировали бойцы добровольческих частей из фронтовых районов. По прибытии в Дабендорф они получили официальное освобождение от статуса военнопленных и были приведены к присяге генералом Малышкиным. Они носили немецкую форму со знаками различия Русской освободительной армии — РОА. (Эти знаки различия были введены в предшествующий месяц для всех русских добровольческих формирований и имели в основном психологическое значение, поскольку освободительная армия под единым командованием оставалась на тот момент не более реальной, чем и прежде.)
К разработке символики был привлечен русский художник А. Н. Родзевич. Он сделал девять эскизов, на всех из которых преобладали цвета старого русского флага — белый, синий и красный. Эскизы поступили на одобрение в Имперское министерство по делам оккупированных восточных территорий. Розенберг лично перечеркнул все девять, после чего эскизы вернулись обратно, вызвав горькую ремарку Власова:
— Я бы так и оставил — русский флаг, перечеркнутый немцами из страха перед ним.[93]
Тогда Малышкин предложил использовать Андреевский крест, и эскиз, в итоге получивший одобрение Розенберга, представлял собой синий Андреевский крест на белом поле. Розенберг, вероятно, не знал, что знамя с этим крестом служило флагом царского военно-морского флота.
Власов увидел потенциал начинания в Дабендорфе и приписал создание лагеря росту интереса со стороны немецкого руководства. Он по-прежнему и не подозревал, что Дабендорф являлся замаскированным предприятием, как не знал и того, что если бы в ставке фюрера узнали о подлинных целях и задачах лагеря, его немецкие друзья и попечители оказались бы под арестом, не говоря уже об участвовавших в предприятии русских.
Некоторое время спустя он встретился с генерал-лейтенантом Федором Ивановичем Трухиным,[94] прибывшим из Вустрау — из лагеря под опекой Восточного министерства — в составе группы специалистов, набранных Штрикфельдтом для службы инструкторами в Дабендорфе. Трухин был человеком большого ума и высокой культуры, обладавшим широкой эрудицией и всем набором качеств, необходимых для хорошего преподавателя. Он был выходцем из русского дворянского рода, принявшим революцию молодым офицером. После выпуска из военного училища он быстро продвигался по службе. В начале войны Трухин служил начальником штаба Прибалтийского военного округа,[95] в плен к немцам попал раненым летом 1941 г. Он назвался противником Сталина, в лагере Вустрау завязал контакты с НТС и скоро стал одним из лидеров организации. Представлялось вполне естественным, что он примкнет к Власову и включится в освободительное движение. Трухин пользовался любовью и уважением многих, хотя людей несколько отталкивали его мрачная молчаливость и сдержанность. Вместе с тем его спокойная уверенность сослужила хорошую службу многим в период изматывающего ожидания. Однако сам он быстро утратил веру в компетентность немецкого руководства и с пессимизмом смотрел в будущее, не видя сколько-нибудь благоприятных перспектив для участников освободительного движения. Тем не менее он продолжал работу, не открывая своих предчувствий. Уверенность в том, что чаяния многих молодых русских должны когда-нибудь сбыться, стала для него основополагающим вопросом — делом совести и чести.
Первый курс в Дабендорфе закончил подготовку 22 марта 1943 г., при этом Власов председательствовал в выпускной комиссии. Он лелеял надежду, что Дабендорф превратится в идеологический центр Русского освободительного движения и в место отбора и подготовки способных руководителей. Редакционная коллегия, возглавляемая Зыковым, тоже обосновалась в Дабендорфе. Выпуск русской газеты «Клич» приостановили и вместо нее начали печать «Зарю» — для военнопленных и работающих на принудительных работах и «Доброволец» — для бойцов добровольческих частей. В первых выпусках, тираж которых достигал около 600 тысяч экземпляров, появилась «Смоленская декларация». Впоследствии средний тираж «Зари» колебался от 100 до 120 тысяч экземпляров, а «Добровольца» — обычно достигал примерно 20 тысяч (до осени 1944 г., когда он поднялся до 40–60 тысяч).
Допросы пленных и изучение приказов позволили установить, что советское правительство строго запретило любые разговоры на тему Русской освободительной армии и проинструктировало политических работников и комиссаров обратить особое внимание на «власовские листовки». После многомесячного молчания советские армейские газеты поставили на Власове клеймо «троцкиста, одного из пособников Тухачевского и вражеского агента, работавшего до войны на немцев и японцев». В то время как в газетах красочно расписывались колонизаторские притязания немцев и их зверства, ни единым словом в них не упоминалось об освободительном движении и армии.[96] Данный показатель тоже свидетельствовал о том, что дело Власова было многообещающим. И тем не менее как одобрение, так и поддержка свыше — со стороны немецкого руководства — по-прежнему отсутствовали.
По этой причине Власов ответил отказом на просьбу Гроте и Штрикфельдта посетить район действий группы армий «Север». После успешного вояжа Власова в зону ответственности группы армий «Центр» фельдмаршал Кюхлер и генерал-полковник Линдеманн добивались его приезда в их зону и выражали полную готовность принять ответственность за его присутствие там. Власов считал, что снова вернется с пустыми руками, что, как раньше, не может привести в пример ни одного позитивного решения немецкого руководства. И снова его удалось уговорить, приведя в качестве аргумента то обстоятельство, что успех поездки поможет усилить давление на ставку фюрера.
Итак, 19 апреля 1943 г. он отправился во второе турне по оккупированным восточным территориям, сопровождаемый капитаном фон Деллингсгаузеном и своим адъютантом, капитаном Антоновым, который перебежал к немцам под Сталинградом после того, как прочитал одну из листовок Власова.[97] В Риге — на первой остановке — местное подразделение пропаганды встретило Власова с большой помпой, очень красочно разрекламировав его, несмотря на предостережение Гроте не делать этого. Русский журнал «Новый путь» расписал его как будущего освободителя России.[98] Визит Власова в редакционные отделы русской газеты «За Родину» так описывался одним из присутствующих:
«В штате редакции сотрудничало около сорока военнопленных, среди них — профессора, художники, журналисты, учителя, а также бывшие офицеры. Настроение их было подавленным. Никто уже больше не верил в перемену политики немцев, особенно в свете возмутительного отношения к персоналу. Так, немецкий рядовой по фамилии Кноп приказал всему штату помогать при погрузке пропагандистских материалов. Карикатурист Борис Завалов, выпускник художественного училища и прекрасный художник, опоздал на пять минут, потому что хотел доделать рисунки, и в результате Кноп отделал его своим ремнем и наградил пинками. Данный инцидент показал всем и каждому бесправное положение русских: вот как обращались союзники с ними — с теми, кто добровольно и бесплатно работал в антибольшевистской газете. Некоторые из сотрудников редакции уверяли, что немцы устроили подставу с Власовым, что сам Власов погиб во время боев в районе Волхова. Среди нас были двое офицеров 2-й ударной армии, видевшие в то время Власова. Они говорили, что смогли бы опознать его. Можно понять, как накалились страсти, когда он вошел в помещение.
Все были тотчас же поражены исходившей от него спокойной уверенностью. Он коротко рассказал о своей карьере, объяснил причины, почему решил выступить против сталинского режима, и изложил свое мнение о возможностях и задачах движения. Когда он закончил, присутствующие стали задавать вопросы. Более всего они хотели знать, разрешат или нет немцы массовое национальное движение. Власов ответил, что немцам придется сделать это, если только они не хотят потерпеть крах. Когда кто-то высказался в отношении того, что немцы наши самые главные союзники, нравится это кому-то или нет, Власов ответил, что самые главные союзники — миллионы по ту сторону линии фронта. Указав на рисунок, где изображалась бессмысленная атака польской кавалерии против немецких танков, он заявил:
— Мы должны сделать все, чтобы не закончить так, как храбрые польские уланы».[99]
Вот и эта группа интеллектуалов не имела сомнения в отношении возможности свержения Сталина, однако они очень и очень сомневались, что немцы позволят Власову действовать свободно.
Следующую остановку Власов сделал во Пскове, где находился с 24 апреля по 3 мая. Ему устроили официальный прием, на котором присутствовали городские власти, представители различных немецких правительственных органов, автономной русской администрации и церкви. Власов побывал и в редакции местной русской газеты, где ему представили членов так называемой «инициативной группы». Она была создана зимой 1942 г. для того, чтобы путем активной пропаганды набирать добровольцев для освободительной борьбы против Сталина. В состав членов группы входил и Хроменко, главный редактор газеты, а ее председателем являлся Боженко, который позднее стал капитаном РОА. Продолжая турне, Власов побывал в разных городах, в том числе в Маслогостицах, в Гдове, в Плюссе, в Луге, в Сиверской и в Волосове, где общался с русскими добровольцами и населением, в том числе и в неофициальной обстановке. Тысячи людей стекались, чтобы видеть и слышать его.
Несмотря на все эти ободряющие проявления энтузиазма, Власов испытывал огромное разочарование из-за отношения немецкого руководства. Особенно остро это проявилось в Плюссе в разговоре с его переводчиком, Тертом Клейном. По приказу административного отдела службы тыла группы армий Клейн сопровождал Власова в качестве наблюдателя с самого приезда последнего во Псков. Он заслужил доверие Власова тем, что постарался обратить его внимание на усилия по улучшению жизни населения и откровенной критикой «восточной политики». Особенно поразило Власова открытие школ. (Он не знал, что школы для русского населения были фактически запрещены высшими властями и местная администрация разрешила печатать учебники за свой счет с молчаливого одобрения командующего группой армий.)
Добравшись до своей комнаты в конце напряженного дня, после обильных возлияний на обеде у одного из командиров, Власов, что называется, вывернул перед Клейном душу. Отбросив маску оптимиста, которую нацеплял публично, чтобы не повредить делу, он откровенно высказался в отношении подходов немецкого руководства. Впечатления, полученные в ходе этой поездки, только укрепили его во мнении, что предпринимаемые повсеместно населением усилия предоставляют прочную основу для создания массового освободительного движения и для формирования большой и мощной национальной армии. Достаточно поместить уже имеющиеся добровольческие части под его командование, как получится армия численностью более полумиллиона человек.
Однако немцы не доверяют ему. Ему не позволяют встретиться с Гитлером. Офицеры, которых он знает, безусловно, искренни с ним, однако они, судя по всему, не располагают достаточным влиянием. Он всегда испытывал большое уважение к немцам — они отличные организаторы и прекрасные солдаты, — однако он не понимает Гитлера и не принимает его национал-социализма. Судя по всему, Гитлер прислушивается к советам старой эмиграции, а эмигранты не любят его, Власова, за участие в революции. Все те, кто группируется вокруг него, — революционеры, которые не хотят реставрации царского режима и восстановления старой системы. Они лишь стремятся реализовать то, что обещала революция. Только поставив перед людьми такую цель, можно надеяться заручиться их поддержкой.
Что просто необходимо, так это создание русского оппозиционного правительства, а также официальное заявление высшей власти Германии о том, что она стремится освободить, а не завоевать Россию; нужно передать административное управление на оккупированных территориях русским — местным жителям; развернуть части РОА на одном из участков фронта; дать возможность РОА просеивать и отбирать кадры из перебежчиков и пленных; вверить пропаганду против сталинского режима органам освободительного движения. Данные меры быстро и решительно приведут к успеху.
Иными способами он недостижим, без такого шага Германию ждет поражение, поскольку нельзя оккупировать такую громадную страну, как Россия, без воли ее населения. Без помощи русских не свалить Сталина. У Германии нет альтернативы — иначе она будет разгромлена. Он терялся в догадках, почему наверху не могут осознать реальности. Теперь, пока немцы занимают большие территории в России, еще не поздно все изменить, даже несмотря на то, что очень много драгоценного времени потеряно зря. Однако скоро будет поздно, причем не только для Германии — крах ее будет также концом для него и для его сторонников. Просто невыносимо сидеть и, молча наблюдая, ждать, пока немецкое руководство сделает, наконец, правильные выводы. Может быть, предстоящие поражения на фронтах помогут немцам задуматься. Вот только бы не было поздно.[100]
Речь Власова в городском театре 30 апреля стала апогеем его пребывания во Пскове. Билеты распространялись в самом городе и в ближайших селах. Зал, вмещавший в себя до двух тысяч человек, был переполнен уже за час до начала, сотни толпились снаружи. Когда Власов появился перед слушателями, те приветствовали его рукоплесканиями стоя.
Русский обращался к русским и говорил о проблемах русских. О Гитлере не упоминалось, хотя немецкий народ назывался равным и желанным партнером. Цель была недвусмысленно ясна: освобождение родины от большевизма, создание свободной и демократической России. Именно на это надеялись люди и именно за это готовы были идти в бой.
Подобная агитация за национальные цели неизбежно встревожила адептов нацистской колонизации и сторонников расовой теории, согласно которой славяне считались недочеловеками. В качестве аргумента они ухватились за высказывание Власова в Гатчине, в штабе немецкой 18-й армии. Пораженный теплым приемом, он выразил надежду, что когда-нибудь сможет отблагодарить за гостеприимство в Москве. Вполне понятное проявление вежливости было истолковано как признак далеко идущих амбиций. Какой-то славянин осмеливался нагло приглашать немцев как равных в гости к независимому русскому правительству.
Нет потому ничего удивительного в том, что в то самое время, пока Власов воодушевлял соотечественников, вселяя в них энтузиазм, пока более дальновидные командиры Вермахта ожидали перемен в политике Гитлера на Востоке, Кейтель требовал отчета от отдела пропаганды, кто позволил Власову попирать священную волю фюрера и сеять смуту, делая политические заявления, в которых звучат ничем не оправданные и недопустимые надежды. Он потребовал полный текст заявления Власова и угрожал принятием строгих мер, если подтвердится, будто Власов публично вел себя как «будущий русский вождь». Его высказывание в Гатчине не забылось — дезавуировать его было нельзя, приходилось докладывать по инстанциям. На следующий день Кейтель издал приказ всем причастным к делу структурам, включая командующих групп армий и армий. Он выражал традиционные для ставки фюрера настроения и звучал следующим образом:
«Ввиду совершенно бесстыдных заявлений русского военнопленного генерала Власова, сделанных им в поездке по группе армий «Север», которая происходила без ведома фюрера и без моего ведома, приказано немедленно под особой охраной вернуть генерала Власова в лагерь для военнопленных, из которого не выпускать ни по какому случаю. Фюрер более не желает слышать фамилии Власова ни в какой связи, кроме как с операциями пропагандистского характера, в которых потребуется упоминание имени генерала Власова, но не он сам. Если же генерал Власов вновь будет выступать публично, его надлежит передать в руки Тайной государственной полиции [Гестапо] для обезвреживания».[101]
Приказ стал сильнейшим ударом по тем, кто поддерживал Власова и ратовал за перемены в «восточной политике». Гелен и Штауфенберг пустили в ход все имевшиеся у них связи, чтобы оставить Власова в Берлине, и добились этого, но с условием — теперь ему надлежало находиться «под стражей». Штрикфельдт сумел найти небольшую виллу на Кибицвег в Далеме (улица в одном из районов Берлина), куда Власову предстояло отправиться по прибытии в город.
Власов, взбудораженный успехом поездки и не подозревавший о том, какая угроза нависла над ним и над его планами, 10 мая вернулся в Берлин. Его привезли в дом на Кибицвег, где его встретил Малышкин. Начиная с этого момента Власову предстояло жить там в обществе Малышкина, адъютанта Антонова, повара и русского телохранителя, присланного ему из Дабендорфа. На верхнем этаже находились две спальни с ванными комнатами, а на нижнем — кабинет и столовая. Относительная роскошность новых апартаментов произвела на Власова хорошее впечатление — он усмотрел в перемене добрый знак. Он не подозревал о том, что в действительности этот переезд означал, что его списали как политическую фигуру.
Вскоре после этого Штрикфельдт обрел надежного немецкого офицера связи в лице Сергея Фрёлиха, который присоединился к «свите» на Кибицвег в качестве «майордома». От русской матери Фрёлих научился свободно говорить по-русски. Он взялся за дело как доброволец и получил назначение благодаря добрым взаимоотношениям со штандартенфюрером СА Гиргензоном.
А между тем круги Вермахта, поддерживавшие Власова, не спешили выполнять приказ Кейтеля. 14 мая состоялось совещание, на котором присутствовали граф Шенкендорф, Герсдорф, Трескоф, Гелен и Шмидт фон Альтенштадт. При участии генерала Вагнера и полковника фон Фрейтаг-Лорингхофена они решили добиться встречи между представителями Генерального штаба и уполномоченными ведомства Розенберга с целью совместного обращения к Гитлеру. Поскольку все армейские каналы к Гитлеру им блокировал Кейтель, оставался один путь — действовать через Розенберга.
Розенберг, несмотря на всю неуверенность в успехе, дал согласие на заседание, которое состоялось 25 мая 1943 г. в Мауэрвальде, в штаб-квартире Генерального штаба сухопутных войск. Доктор Бройтигам, профессор фон Менде и доктор Кнюпфер представляли Министерство по делам оккупированных восточных территорий, тогда как от Генерального штаба присутствовали двадцать офицеров во главе с генералом Вагнером, генералом Гельмихом и Геленом. Перед Вагнером горой возвышались папки со служебными рапортами, жалобами и обращениями из армий, призывавшими к позитивным сдвигам в «восточной политике». Венчало гору резюме, написанное Тресковым на основании представленных материалов и подписанное фельдмаршалом фон Клюге. В резюме прямо и откровенно говорилось о том, что война будет проиграна, если не произойдет переориентации в «восточной политике».
Оказалось, однако, что представители Розенберга не уполномочены принимать решения. Единственным результатом жарких прений стало обещание Бройтигама довести мнение Генерального штаба до сведения Розенберга и сделать все возможное для получения позитивного ответа.[102] Шмидт фон Альтенштадт подытожил настроения, объединявшие офицеров Генерального штаба:
— Если бог хочет кого-то наказать, сначала он делает его слепым!
Розенберг в конечном итоге сдался под доводами Бройтигама и согласился встретиться с Гитлером и с Йодлем или Кейтелем.
Тем временем Кейтель прослышал о совещании и о критике в свой адрес со стороны офицеров Генерального штаба. Совершенно очевидно вознамерившись раз и навсегда покончить с инициативами подобного рода, он сумел настроить Гитлера резко против Власова. И такая возможность представилась ему во время совещания у фюрера 8 июня.
Для начала он «доложил», что листовка № 13, помимо обычных стимулов для перебежчиков, обещала русским шанс вступления в Русскую освободительную армию. Тут требовалась кое-какая редактура. Гитлер немедленно оседлал своего любимого конька и разразился одним из своих длинных монологов. Солидарный с Кейтелем, он совершенно не возражал против любых возможных мероприятий в области пропаганды при условии, «чтобы практически из них не вытекало никаких, даже самых незначительных, последствий, и чтобы прежде всего не допустить распространения такого образа мыслей, какой я, к сожалению, уже обнаруживал у некоторых господ. Это несколько раз проявлялось и у Клюге… Здесь я могу лишь сказать: мы, совершенно точно, никогда не создадим русской армии — это фантазия первого разряда. Прежде чем мы это сделаем, будет гораздо проще, если я из этих русских сделаю рабочих для Германии… Но важнее всего то, что мы упустили бы из виду цели войны, которые поставили себе с самого начала…»[103]
Несмотря на Сталинград, невзирая на неудачи и поражения на всех фронтах, Гитлер настаивал на незыблемости целей войны, что исключало предоставление России независимости и как следствие появление такого ее атрибута, как русская армия. Он не мог понять, сколь недостижимыми становились его цели в сложившихся обстоятельствах. Генерал Курт Цейтцлер, начальник Генерального штаба сухопутных войск, высказал солидарность с мнением Гитлера и рекомендовал, чтобы Гитлер лично разъяснил свою точку зрения командующим группами армий. Удовлетворенный, Кейтель подытожил ситуацию в конце совещания:
— Ну вот, теперь все ясно. Просто мелкий самообман. Люди надеются облегчить себе ношу и не понимают того, сколько неприятностей создают себе сами.
Он довел до сведения Розенберга, что фюрер категорически запретил любую деятельность Власова на оккупированных территориях. Что же до обещаний, уже сделанных Власову, то об их выполнении не могло идти и речи. Встреча с фюрером, о которой просил Розенберг, стала нецелесообразна.
Своим решением Гитлер полностью подрубил на корню первую широкомасштабную кампанию, направленную на достижение серьезного изменения «восточной политики». Большинство офицеров, служивших на Востоке, полагали, что ни один здравомыслящий человек не способен всерьез оспорить их доводы. Однако это лишь в очередной раз показывает, как мало они понимали ход мышления Гитлера и дух национал-социализма.[104]
Случай с капитаном Теодором Оберлендером наглядно показывает, как беспощадно расправлялось нацистское руководство с теми, кто критиковал его политику. 22 июня 1943 г., ровно во вторую годовщину начала советско-германской войны, капитан Оберлендер, командир нескольких кавказских добровольческих частей,[105] написал служебную записку, в которой утверждал, что обстановка на Востоке приближается к критической точке и что ситуация требует немедленного разрешения. Если Германия не изменит «восточную политику», все повернется против немцев: «В истории бывают моменты, которые случаются лишь однажды. Те, кто придет потом, будут напрягать все силы, но тщетно, ибо Провидение не даст им того, на что готово было расщедриться еще совсем недавно».
Оберлендер отправил свой меморандум всем, кто имел полномочия принимать решения, включая Кейтеля, Розенберга и Гиммлера, даже и не подозревая, что накликал тем самым на себя несчастье. Через неделю его выгнали из армии, а если бы не вмешательство такой фигуры, как рейхсминистр К. Франк, Оберлендера и вовсе бы сгноили в концентрационном лагере. Также ему поручили готовить раненых офицеров СС к государственным экзаменам по юриспруденции.[106] Кейтель и Гиммлер отозвались о служебном докладе Оберлендера как о «закулисной попытке подбить клинья под основу «генеральной линии» фюрера, под которой тот однозначно и недвусмысленно подписался 8 июня».
Оппонентам «восточной политики» в Вермахте пришлось признать, что на данном этапе Гитлер свел к нулю все их планы. И это в тот самый момент, когда опубликование «Смоленской декларации» и публичные выступления Власова дали столь сильный эффект. Население и добровольческие формирования с нетерпением ожидали дальнейших шагов. Только самое высокое армейское руководство знало о негативном решении Гитлера, но они держали Власова в неведении, так что и он продолжал надеяться на прогресс. Немецкой журналистке Мелитте Видеманн он признался, что наконец-то смог примириться с совестью, поскольку убедился, что большинство народа думает и чувствует то же, что и он.[107]
Весть о пребывании Власова на Кибицвег тайными путями распространилась в заинтересованных кругах, а потому все больше и больше посетителей, стекалось туда «на огонек» — солдаты-отпускники; угнанные на работы в Германию; старые эмигранты и немцы. Количество направляемой на его имя корреспонденции выросло до такой степени, что Штрикфельдту пришлось выделить Власову номер» немецкой полевой почты и организовать помощь в обработке потока поступлений. Жизнь на Кибицвег потекла своим чередом: повседневная рутина, постоянное ожидание — ожидание решений, которых все не было. Власов смог выносить этот груз только потому, что Штрикфельдт и его единомышленники офицеры без устали работали над тем, чтобы установить новые связи, которые оказались бы полезными их общему делу.
Тем временем процесс развития Русского освободительного движения продолжался без ведома ставки фюрера. Отдел пропаганды в Дабендорфе превратился в наиболее важный инструмент этой деятельности. Лишенный поддержки официальных немецких органов, но прикрываемый приписанным к нему немецким персоналом, политический и идеологический центр Русского освободительного движения рос с поразительной быстротой. Первый подготовительный курс представлял собой в большей или меньшей степени импровизацию, но уже второй, начавшийся 23 марта 1943 г., на котором обучилось около тысячи «студентов», действовал по разработанному методическому плану.
Ключевую роль в этом прогрессе сыграла группа под руководством Трухина, переведенная в Дабендорф из Вустрау. Трухин сменил Благовещенского и на посту русского коменданта лагеря. Он наполнил Дабендорф новым духом, вдохнул свой динамизм в весь персонал центра. Следующей по значению фигурой рядом с ним можно назвать Александра Николаевича Зайцева, который как старший преподаватель взял на себя идеологический инструктаж и помог ученикам составить ясное и четкое представление о характере устройства будущей России. Молодой и многообещающий ученый, Зайцев попал в плен в 1941 г. В Вустрау он вошел в контакт с представителями НТС и, осознав, что без организации политических целей не добиться, присоединился к группе.
Его лекции всегда отличались высоким преподавательским мастерством, ему удавалось убеждать слушателей своим искренним патриотизмом и открытостью, а также и демонстрируемой порой острой и ироничной критикой немецкой «восточной политики». Вместе с тем его беспощадные нападки на коммунизм вызывали душевное смятение у некоторых из учащихся. Прежде у них была идеология, на которую они возлагали свои надежды, в которую верили, ради которой трудились, пускай даже Сталин извратил ее. Теперь же на месте твердого фундамента образовался вакуум. Только на самом последнем этапе курса обучения они смогли понять, что же предлагается им взамен. Зайцев сумел завоевать доверие всех их почти без исключения, и они стали убежденными сторонниками освободительного движения. Отмечалось даже несколько случаев самораскрытий советских агентов, которые переходили к Власову.
Заявленная цель — свободная, демократическая, хотя и не безусловно капиталистическая Россия. Искреннюю дружбу с немецким народом не следует смешивать с национал-социализмом, все это выглядит вполне логичным, особенно учитывая те длительные и прочные связи, которые возникли и развивались между русской и немецкой культурой особенно на протяжении девятнадцатого столетия, принимая во внимание и то, что те немцы, с которыми русские связывали себя союзническими узами, являлись противниками «восточной политики» и друзьями русского народа.
Когда немцы водрузили свое боевое знамя на высочайшей из вершин Кавказа, на-Эльбрусе, Зайцев отметил, что данный факт имеет в большей степени значение для альпинизма, а не для военной стратегии. В лекции, посвященной будущему русского государства, он заявлял:
«Свобода слова и печати есть один из фундаментов государства, построенного на приоритете законности. Ибо это предоставляет каждому возможность видеть все, что происходит в стране. Это служит гарантией того, что гнусные козни и интриги, которые могут плести власть предержащие или отдельные граждане, не избегнут огласки и будут пресечены. Там, где существует подлинная свобода слова и печати, немыслим тоталитарный режим, при котором к высшей власти восходят недоучившиеся семинаристы и ефрейторы».[108]
Дважды Гестапо пыталось упрятать Зайцева за решетку, и пришлось немало потрудиться, чтобы не допустить этого. В первом случае его обвинили в осуждении уничтожения евреев, восхвалении марксизма и распространении убеждения в том, что немцы не смогут выиграть войны без русских патриотов. Зайцев мастерски защищался в ходе допросов: ничего подобного, он просто сказал, что ликвидация евреев может негативным образом сказаться на настроениях православных христиан, что и соответствует истине. Ему приходилось обсуждать причины успеха марксизма в России, потому что он не смог бы убедить слушателей в его пагубности, если бы стал отрицать то хорошее, что есть в этой идеологии.
На сей раз Гестапо ограничилось предупреждением, объяснив, что немцам для победы русские не нужны, и разрешило ему продолжать занятия.
Еврейский вопрос не представлял проблемы для большинства русских, которые привыкли жить в многонациональном государстве. Те же, кто высказывал симпатии антисемитизму, обычно оправдывали подобные склонности ссылками на высокий процент евреев среди коммунистического руководства.
Вторично арест Гестапо угрожал Зайцеву из-за его антинемецких заявлений и членства в НТС. На сей раз удалось предотвратить худшее благодаря очень грамотному рапорту барона фон дер Роппа, переданному Гельмутом фон Клейстом, офицером разведки.[109] Для людей подобных Зайцеву пропаганда их идей в Третьем рейхе без серьезных последствий становилась возможной лишь благодаря немецким офицерам связи — таким, как фон дер Ропп, который возглавлял программу обучения; его заместителям, Рагожину и Керковиусу; коменданту лагеря капитану Петерсону; заместителю Штрикфельдта барону фон Деллингсгаузену; а также начальнику разведки барону фон Клейсту. Все они постоянно и главным образом заботились о том, как уберечь русских от Службы безопасности СС и Гестапо, а не о том, что являлось их официальной задачей, — о выявлении пагубной активности коммунистических агентов. Как-то раз, когда фон дер Ропп неожиданно появился во время критического обсуждения русскими действий немцев, один из участников воскликнул:
— Осторожно! Немецкий офицер!
Фон дер Ропп закрыл погоны руками и произнес:
— Теперь все — нет никакого немецкого офицера! Можете говорить свободно.
Как и другие офицеры, он сознавал, что подобные дискуссии не имеют ничего общего с предательством и прокоммунистическим заговором, однако русские все больше разочаровывались в немцах и чувствовали, что те предают их. Памфлет «Дер Унтерменш» («Недочеловек»), вышедший по приказу Гиммлера весной 1943 г., сыграл немалую роль в укреплении подобных настроений. Кроме всего прочего там утверждалось: «Унтерменш — творение природы, которое внешне ничем не отличается от человека, но является тем не менее чем-то совершенно иным — отвратительным существом, провалившейся попыткой создания человека, — имея все черты человека, оно умственно, духовно находится на более низшей ступени, чем любое животное».[110]
Порой русские вполне оправданно позволяли себе выпускать пар. Например, русский граф Ламсдорф представился высокопоставленному немецкому офицеру штаба на центральном участке фронта так:
— Недочеловек капитан граф Ламсдорф прибыл![111]
Когда один из помощников Власова как-то слишком громко хлопнул дверью, Власов произнес, обращаясь к немецким офицерам, оставшимся в помещении:
— Прошу прощения, что поделаешь с этим недочеловеком!
Дабендорф превратился в центр оппозиции национал-социализму и планам Гитлера. Под покровительством Вермахта там велась работа в направлении целей, которые — случись так, что они открылись бы, — привели бы к немедленному аресту не только участвовавших в проекте русских, но и немцев. Гестапо и Служба безопасности СС, разумеется, «копали» в поисках компрометирующего материала на Власова и его окружение. Шеф Гестапо Генрих Мюллер не делал секрета из того, что был бы рад ликвидировать их. Однако не раз и не два Вермахту удавалось предотвратить непоправимое. К 1944 г. группа получила поддержку даже внутри Службы безопасности СС, где тоже нашлись люди, которые пришли к осознанию опасности «восточной политики» Гитлера. Кроме того, Дабендорф стал местом рождения нового русского офицерского корпуса, имевшего особый, ни с чем не сопоставимый характер. Даже если офицеры возвращались в свои прежние части, они оставались членами связанной прочными узами политической организации. Постепенно родилась и собственная служба разведки, поставлявшая Власову и его соратникам поток необходимой информации.
Хотя Дабендорф нельзя с полной уверенностью назвать ядром Русского освободительного движения, — все же оно представляло собой несколько спонтанное собрание разных людей, сторонников различных идей, возникших после начала Восточной кампании, — в организационном плане он, без сомнения, являлся своего рода «острием наступления» — передовой колонной. Под управление Дабендорфа можно было практически в любую минуту поставить все существовавшие добровольческие части, русскую местную милицию и органы автономной администрации. Та свобода, с которой там позволялось обсуждать любые вопросы, побудила русских называть Дабендорф «свободной республикой». Многие из поступавших туда на подготовку шли в Дабендорф с недоверием. Однако честность и дух братства, которые сопровождали обсуждения, позволяли завоевать расположение даже таких скептиков.
Власов всегда находился в курсе того, что происходит в Дабендорфе, — Трухин и Зайцев обсуждали с ним все проблемы. Первые тридцать три выпуска «Зари» и «Добровольца» практически не редактировались немцами, и Зыков на полную катушку использовал возможность выражать идеи патриотизма и построения национального русского государства. Он упирал на тот факт, что союзниками русских выступали не какие-то немецкие отщепенцы, и на то, что читателю предлагалась не немецкая газета для русских, но русская газета.
Как бы там ни было, такое положение сохранялось лишь недолгое время. После тридцать третьего выпуска все редакторы предстали перед полковником Мартином, который указал им на то, что они превышают свои полномочия. На это Зыков ответил:
— Вы, конечно, имеете право рассматривать нас как провокаторов и советских агентов, можете не верить нам, но, может быть, вы все же дадите себе труд задуматься, почему мы спорим с вами по некоторым вопросам, не боясь навлечь на себя вашу немилость. Если бы мы были агентами, не проще было бы нам во всем соглашаться с вами, а тем временем делать свое черное дело.[112] Мартин объяснил, что всего лишь должен следовать приказам. Перед ним лежали ордера на арест, и он ломал голову, как бы сделать так, чтобы не воспользоваться ими. Зыков, как видно, еще не осознал того факта, что сторонники русского национализма и равенства русских в глазах нацистов мало чем отличались от распространителей советской пропаганды. Цензура в итоге была ужесточена. Начальство потребовало резких антисемитских и антизападнических заявлений. Зондерфюреру Вернеру Борманну поручили надзор за деятельностью редакций.
После столкновения с Мартином русские ударились в обсуждение того, стоит ли продолжать работу в сложившемся положении. Зыков, привыкший принимать решения быстро, тут вдруг заколебался. Однако в итоге он высказался за продолжение сотрудничества. Оставалось надеяться на то, что под давлением обстоятельств все само станет на свои места.[113] Однако с течением времени окружение Власова все больше охватило уныние, все меньше и меньше доверяли они немецкому руководству. Зыков коротко и точно выразил мрачный взгляд русских на ожидавшее их будущее:
— Я невысоко оцениваю наши шансы, хотя я верю в падение сталинского режима: тридцать процентов за то, что немцы уничтожат нас; тридцать — за то, что мы попадем в лапы к Сталину; еще тридцать — что нас повесят американцы или англичане, несмотря ни на какое наше к ним уважение; я оставляю только десять процентов на то, что нам удастся выйти из всего этого, сохранив шкуру.[114]
Примерно в то же время Власов узнал об аресте и смерти своей жены. Каким образом — неизвестно.
В дневнике под датой 28 июня 1943 г. Герре отметил то, какие настроения превалируют среди сторонников освободительного движения: «Отказываться от надежды, что обстановка на фронтах еще может принудить высшее руководство к принятию здравых решений, означает по сути ставить крест на самой возможности проявления здравомыслия. Сейчас наша задача состоит в том, чтобы найти средства удержать добровольцев с Востока от падения в небытие и поддержать Власова и его окружение, чтобы они не бросили дела».
Хотя решение Гитлера исключало какие-либо основополагающие перемены в политических целях, можно было предпринять несколько организационных мер по повышению статуса восточных добровольцев. Штауфенбергу удалось добиться от начальника штаба Цейтцлера одобрения набросанного Фрейтаг-Лорингхофеном служебного распоряжения в отношении «хиви». Несколько позднее понадобилось принимать решения в отношении обмундирования и статуса военнослужащих добровольческих формирований — очередной приказ. Генерал Гельмих, назначенный в декабре 1942 г. начальником над восточными войсками, приписал «командиров восточных войск» в качестве советников к разным армейским командирам и командующим. В Мариамполе возникла «школа местных офицеров, унтер-офицеров и переводчиков» с русским генерал-майором Ассбергом в качестве начальника. Трудоемкий процесс статистических подсчетов — вполне понятно, что из частей обычно старались не давать точной численности добровольных помощников, — помог установить по состоянию на июнь 1943 г. наличие более чем 600 тысяч «хиви» и примерно 200 тысяч бойцов добровольческих частей — резерв, который позволял немедленно, как только поступит соответствующий приказ, создать освободительную армию.[115]
Штрикфельдт без устали искал людей, которые могли бы так или иначе оказаться полезными делу. Одним из таких оказался писатель Эдвин Двингер, участвовавший во вторжении в Россию и на собственном опыте убедившийся в пагубности «восточной политики». Другим стал Гюнтер Кауфманн, главный редактор журнала гитлерюгенда «Воля и власть». Под влиянием прежних руководителей гитлерюгенда, служивших на Восточном фронте, Кауфманн выпустил номер журнала, специально посвященный русскому вопросу. В номере содержался текст «Смоленской декларации» и статья Двингера «Каждый русский — средство для победы над большевизмом». Так или иначе публикации не оказали влияния на взгляды властей. Гиммлер и Розенберг просто запретили распространение этих материалов.
Кауфманн сумел заинтересовать восточной проблемой Бальдура фон Шираха — прежде возглавлявшего молодежь рейха, а теперь гауляйтера в Вене — и организовать поездку Власова в Вену. Власову оказали там все возможные почести. Его поместили в гостиницу «Бристоль» как гостя Шираха, который выделил Власову свой автомобиль, чтобы тот мог ездить и осматривать достопримечательности.
Ширах не являлся ни сторонником «восточной политики», ни теории, которая возводила славян в ранг недочеловеков. Когда Ширах получил от Кейтеля приказ с предписанием кормить русских военнопленных не более раза в день и заставлять их спать прямо на полу или на земле, он разорвал его и распорядился, чтобы находившимся в его юрисдикции русским обеспечивали нормальную еду и условия для жизни. Он не одобрял нападения на Советский Союз, считал его неправильным шагом и усматривал в нем причину возможного поражения. Ширах все еще полагал, что можно заключить со Сталиным сепаратный мир, пусть даже для этого и пришлось бы выдать ему всех русских добровольцев, перешедших на сторону немцев.
Не зная психологической ситуации в Советском Союзе и на оккупированных восточных территориях, Ширах не разделял точки зрения Власова, что Сталина можно свалить, объединив усилия с русским народом. Но, сверх всего прочего, Ширах рассматривал Власова как предателя и, несмотря на то, что оказывал русскому гостеприимство, внутренне не принимал его. Если он и подталкивал Гитлера к тому, чтобы разрешить создание армии Власова, то только потому, что считал военное положение критическим и искал способа улучшить его.[116] Власов и Штрикфельдт не видели истинной позиции Шираха и думали, что смогли повлиять на него правильностью своих убеждений. Помпезный прием, который Ширах оказал Власову, укрепил в последнем надежду на успех его начинаний.[117]
В тот период тревог и волнений новую надежду принес вдруг Сергей Иванов. После провала эксперимента в Осинторфе он, веря, что СД располагает большим могуществом и политическими возможностями, чем армия, представил свои планы в Главное управление имперской безопасности (РСХА). Фактически под его командование вверили приданную СД русскую бригаду, которую ему с помощью опытных помощников предстояло превратить в первую часть РОА. Иванов немедленно обратился к старым товарищам — Кромиади, Сахарову и Ламсдорфу — и с одобрения СД побывал у Власова, чтобы получить разрешение действовать от его имени. После некоторых колебаний Власов согласился. Он увидел для себя возможность прояснить, пользуется ли СД одобрением со стороны Гиммлера или ставки Гитлера. Власов, однако, выставил условие — руководство новой частью примет на себя Жиленков.
Бригада СД дислоцировалась под Псковом и называла себя «Дружиной». Командовал ею бывший офицер советского Генерального штаба подполковник Родионов, носивший псевдоним Гиль.[118] Данная бригада представляла собой единственное крупное формирование под командованием русских, организованное СД; она стала также единственной частью, которую сдал партизанам собственный командир.
СД создала перед войной собственную разведку, действовавшую параллельно с военной разведкой адмирала Канариса.[119] В ходе Восточной кампании в СД возникла особая организация под названием «Цеппелин», совершенно независимая от военной разведки (Абвер-I), имевшая целью заброску агентов в советский тыл. Бригада «Дружина» служила местом сбора таких агентов, проверки их надежности и имела своей задачей борьбу с партизанами.
Бригада появилась на свет как так называемый «Русский национальный союз», образовавшийся в лагере для военнопленных Сувалки зимой 1941/42 г. с целью борьбы с большевизмом.[120] По численности группа приблизительно соответствовала батальону. После передачи в распоряжение СД и переименования летом 1942 г. часть передислоцировали в район г. Старый Быхов. Изначально ее возглавлял ряд высокопоставленных русских штабных офицеров, среди которых — генерал-майор Богданов, бывший командир 47-й стрелковой дивизии, вышеупомянутый подполковник Родионов, подполковник Орлов, майор Юхнов и майор Андрющенко. Девиз части был кратким — «За Россию».
Вторая часть «Дружины» появилась немного позднее. Ее ядро, состоявшее из 135 человек, было набрано 11 декабря 1942 г. в Шталаге майором Блажевичем и возглавлявшими лагерь Алелековым и Макаренко; позднее группу отправили в Гайдов под Люблином. В марте 1943 г. обе части перебросили в район нас. пункта Глубокое в Белоруссии, объединив вместе под названием «бригада СС «Дружина»», несмотря на то, что никакого отношения к СС она не имела.[121]
Примерно в это время началась цепь происшествий, которая привела к политической деморализации части. В феврале 1943 г. несколько бойцов бригады побывали в Берлине. Хотя на них и произвели впечатление уровень жизни, трудолюбие и деловитость немцев, контакты с обитателями концентрационного лагеря в Ораниенбауме и с женщинами, насильственно увезенными на работы в Германию, высветили факты плохого обращения немцев с людьми. Кроме того, под влиянием Блажевича Гиль-Родионов сформировал вокруг себя некое командное ядро, подавлявшее и каравшее всех, кто ему не нравился. К тому времени Блажевич, несколько раз ездивший в Латвию и установивший там связь с советской разведкой, уже вовсю вел целенаправленную работу по деморализации части. Трусоватый и склонный к оппортунизму Гиль все больше и больше подпадал под влияние Блажевича. Офицеров, пытавшихся противостоять их тактике, либо снимали с должностей, либо просто расстреливали. Что же касается СД, служба предоставила Гилю полную свободу действий. Офицер связи СД, штурмбаннфюрер СС Аппель, бывший одним из командиров СА, свел свою деятельность к тому, что обучал русских офицеров правилам поведения в офицерском клубе.
В мае 1943 г. «Дружина» вместе с немецкими частями приняла участие в широкомасштабной операции против партизан. Действия бригады не давали поводов для беспокойства, перебежчиков не было. Затем в ней провели интенсивную кампанию пропаганды патриотизма, и бригада стала рассматриваться как часть Русской освободительной армии. После вступления в ряды формирования новых добровольцев численность личного состава поднялась почти до трех тысяч человек.
Между тем сплотившаяся вокруг Гиля группа занималась в основном тем, что пьянствовала, гонялась за юбками и играла в карты. Гиль все больше и больше пренебрегал своими обязанностями командира, многие офицеры в бригаде были разочарованы его стилем руководства. Сложившаяся обстановка вынудила РСХА в Берлине задуматься о смене руководства. Однако местные власти СД имели другое мнение. Гиль заявил, что, как только создание освободительной армии будет провозглашено официально, его соединение в полном составе перейдет под командование Власова. Что же до Жиленкова, то Гиль нашел способ обезвредить его, поставив командовать учебным подразделением численностью в триста человек.
Местный штаб СД одобрил этот шаг и передал Жиленкова с его группой в распоряжение штурмбаннфюрера СС Отто Крауса, который организовал во Пскове главное командование «Цеппелина» на северном участке фронта. Краус имел совершенно иной круг обязанностей и не имел возможности управлять крупной русской частью. Более того, стало очевидным, что операция не санкционирована политически. Чтобы не разочаровывать русских и сохранить надежду на фундаментальные перемены в ближайшем будущем, Краус выразил желание создать подразделение из пятисот человек. Часть получила название 1-й Гвардейской бригады РОА и дислоцировалась в селе Стремугка, примерно в пятнадцати километрах от Пскова. Она стала первым вооруженным формированием, поддерживавшим регулярную связь с Власовым.
Появление бригады вызвало серьезные волнения. Население, конечно же, что-то слышало об освободительной армии, однако не очень-то верило в ее реальное существование. Но, с другой стороны, люди видели бригаду, они знали о ней, и это вызывало слухи и домыслы о том, что где-то ведется создание других частей и подразделений, которые позднее будут объединены в одну большую армию. Солдаты вели себя образцово, и скоро у них наладились дружеские связи с населением. Отделения отправлялись в села и деревни помогать со сбором урожая. В штаб стекались письма с выражением благодарности.[122]
22 июня 1943 г., в ознаменование второй годовщины советско-германской войны, немцы устроили во Пскове военный парад. Ко всеобщему удивлению, открывала его рота гвардейской бригады. Событие стало поистине сенсационным, оно укрепило веру в то, что освободительная армия и в самом деле находится в процессе формирования.
А между тем обстановка в «Дружине» накалялась. Прибытие Жиленкова усилило подозрение Гиля и его когорты в том, что СД вознамерилось отстранить их от командования по причине неподобающего поведения. Блажевич вступил в прямой контакт с партизанами. В начале августа советское руководство разрешило партизанской бригаде им. Железняка вступить в переговоры с Гилем в отношении перехода всей части на сторону Советов. Чтобы подозрение не пало на него, Гиль поручил-это задание своему начальнику разведки, генерал-майору Богданову, который ничего не знал об истинных намерениях Гиля. В ходе переговоров Богданов категорически отверг перспективу перехода бригады на сторону советских войск и лишь обещал приостановить операции против партизан на тот период, на который те оставят в покое бригаду, немецкие части и население. Переговоры оказались безуспешными. И тогда Гиль вступил в них лично. Партизаны обещали ему прощение всех прегрешений, если бригада дезертирует с оружием, будет сражаться против немцев и сдаст Богданова, а также эмигранта, капитана графа Мирского. Гиль принял предложение.
13 августа 1943 г. «Дружину» окружили партизаны. Гиль дал сигнал тревоги, а затем совместно со своим окружением выстрелами в спину убил многих из офицеров и солдат, которые, как он подозревал, воспротивятся предательству. Среди убитых оказались Богданов, полковник Орлов, все полковые командиры, за исключением одного, который последовал за Гилем, и все батальонные командиры. Группа связи СД тоже была вырезана. Затем часть заняла железнодорожную станцию Круглевщина и перерезала сообщение с Полоцком. Она атаковала Глубокое, но нападение было отражено. Перебежчики из «Дружины» затем ушли в лес вместе с партизанами.
Некоторые из солдат и офицеров, захваченных во время неожиданного нападения, вернулись в Глубокое. Тридцать уцелевших офицеров и пять сотен бойцов мало-помалу нашли путь назад. Та часть «Дружины», которая перешла к партизанам, была переименована в 1-ю Антифашистскую бригаду, а Сталин наградил Гиля орденом Красной Звезды. Личный состав бригады понес большие потери в серии боев и стычек, как и их бывшие товарищи, оставшиеся на другой стороне и тоже участвовавшие в тех столкновениях. Зимой 1943/44 г. триста уцелевших бойцов бригады попали в окружение около станции Зябки и были полностью перебиты. Гиля застрелил один из его бывших офицеров со словами: «Собаке собачья смерть».[123]
К концу августа 1943 г. стало совершенно ясно, что СД не располагает ни желанием, ни способностью создать крупную освободительную армию. Все, чего добивалась эта служба, ограничивалось привлечением подходящих людей для организации «Цеппелин». Краус, не желавший более иметь дела с группой Жиленкова, попросил вывести ее из-под его ответственности. Таким образом, утратившие еще одну надежду русские вернулись в Берлин. Только Ламсдорф остался в 1-й Гвардейской бригаде, которая продолжала действовать, но уже на более скромном уровне.
Тем временем Власов в Берлине столкнулся с проблемой представителей первой волны эмиграции. Зыков и Жиленков, опасавшиеся негативного отклика в России, официально отказались от каких бы то ни было отношений с этими людьми. Власов, однако же, проявил готовность к сотрудничеству с ними при условии, что они не будут настаивать на восстановлении дореволюционных порядков. Связи эмиграции в Париже, контакты с западными державами могли оказаться полезными для того, чтобы обеспечить признание Русского освободительного движения на Западе. Поначалу большинство эмигрантов, особенно старое поколение, не хотело иметь ничего общего с Власовым. В их глазах он был одним из соратников Сталина и революционером. Однако постепенно возобладало понимание того, что освободительное движение направлено на создание новой демократической, пусть и не царской, России, которую старая эмиграция тоже была готова принять.
Движущей силой в данном случае оказался молодой начальник Русского бюро по частным делам во Франции Юрий Сергеевич Жеребков, внук генерала Алексея Жеребкова, бывшего генерал-адъютантом при царе Николае II. Юрий Жеребков встретился с Власовым в феврале 1943 г. во время поездки в Берлин и тотчас же осознал, какие совершенно новые перспективы открывает для русского дела этот человек. Он оказал поддержку деятельности Власова и стал пропагандировать освободительное движение в эмигрантской газете на русском языке «Парижский вестник», редактором которой являлся. В начале июня он вернулся в Берлин рассказать Власову о проделанной работе и сделать ему предложение посетить Париж. Власов выражал готовность предпринять такое путешествие, однако сомневался, что немцы дадут ему на это разрешение. Принимая во внимание недвусмысленное отношение Кейтеля, нарушение его приказа могло означать смертный приговор как для самого Власова, так и для всего освободительного движения. Под давлением Гроте и Штрикфельдта Мартин в конце концов согласился отпустить Малышкина, если Жеребков добьется разрешения от военного коменданта Парижа.
И вот 24 июля 1943 г. в Ваграмском зале в центре Парижа состоялась волнительная встреча. Четыре тысячи человек столпились в главной аудитории, а еще две тысячи слушали речи выступающих через мегафоны. Присутствовали представители французских и немецких властей, еще остававшихся в Париже дипломатических миссий и зарубежные корреспонденты. Собравшиеся приветствовали появление Малышкина овациями, длившимися несколько минут. Это был первый из бывших советских генералов, посетивших Париж. Трудные годы в окружении чужих людей, тоска по далекой родине, надежда на возвращение, а также и горечь, вызванная унижениями со стороны немецких властей, — все это нашло отражение в национальной демонстрации, которая превосходила все что-либо подобное в истории эмиграции.
Встреча казалась средством, чтобы весьма впечатляющим образом сделать перед Западом заявление о целях освободительного движения и открыть путь для его признания как политической силы. Малышкин говорил совершенно откровенно и делал заявления, крайне опасные как для него самого, так и для всего освободительного движения в целом. Всего за несколько недель до этого Гитлер строго-настрого запретил всякую патриотическую и политическую деятельность Власова и его окружения.
Последствия не заставили себя ждать. Уже на следующий день военный комендант Парижа вызвал к себе Жеребкова, чтобы сказать ему о том, что немецкое руководство расценивает некоторые из сделанных на встрече заявлений как нетерпимые, а потому есть основания ожидать серьезных неприятностей. Чтобы оградить Власова и его движение от опасности, Жеребков и Малышкин тут же внесли поправки в стенограмму встречи, в которой либо вовсе вымарали, либо подретушировали все патриотические и антинемецкие высказывания.[124]
Жеребкову удалось убедить полковника Шмидтке, главу отдела пропаганды при коменданте, принять этот текст как оригинал, хотя Шмидтке уже известили об антинемецких заявлениях Малышкина. Кроме того, Жеребков провел переговоры с начальником Службы безопасности (СД) во Франции доктором Кнохеном и немецким генеральным консулом доктором Квирингом, которые являлись тайными врагами «восточной политики». Эти официальные лица впоследствии передали своим начальникам в Берлине позитивные отзывы о встрече русских. СД допросило Малышкина по его возвращении в Берлин, однако он держался ретушированной версии стенограммы. Таким образом опасность удалось отвратить. Однако Жеребкову приказали больше подобных встреч не устраивать и держаться подальше от Берлина.[125]
Осознание того факта, что драгоценное и невосполнимое время бездарно утекает, мучило Власова более всего. Как-то вечером за игрой в карты он неожиданно взорвался:
— Не понимаю! Я знаю Сталина, его методы, его слабые места, я точно знаю, что и как делать. А что делаю? Сижу и играю в преферанс![126]
Как, каким образом Власов мог постичь происходящее, когда мотивы противоборствующих властных верхов были непроходимыми джунглями даже для его немецких друзей? Он видел правившую в Германии диктатуру, но на деле она являлась пародией на тиранию Сталина. Он видел властных чиновников, но у них не было единого мнения. Единая политика, единая система — отсутствовали.
— «Кровь и земля» — но это не есть идеология, — как-то заметил он.
Советское государство стояло на ином и явно непоколебимом фундаменте. Как и все советские граждане, Власов получил суровую закалку, которая продолжала оказывать влияние на ход его мышления, хотя он и отринул коммунизм. Как многие русские, он приписывал Германии наличие у нее более сильной идеологической основы, чем коммунизм. Поначалу ему казалось просто непостижимым отсутствие сплоченности — то, что у людей на самом верху нет даже общей схемы действий, то, что, хотя приказы Гитлера выполняются, различные властные элементы порой отчаянно противоборствуют друг другу.
Иногда Власов позволял себе откровенную и даже грубую критику:
— Странная страна, в которой нельзя ничего узнать о вражеских догматах, потому что Гестапо окружило все непробиваемой стеной — оно сидит на информации. В нашей стране можно прочитать все, правда, с уничтожающими комментариями.
Однажды он высказался в таком духе:
— Мне нравится ваш порядок, ваша дисциплина, но вам не хватает широты. Вы даже не можете найти мне приличной одежды. Как же вы собираетесь победить Сталина?[127]
Медленно, постепенно, шаг за шагом постигал он природу реальности происходившего у немцев. В этом ему помогли частые разговоры с Теодором Краузе, с которым Власов познакомился через Штрикфельдта. Краузе, немец из Санкт-Петербурга и начальник одного из отделов прессы в ОКВ, служил своего рода проводником между русской и немецкой культурами.
Власов не считал необходимой выработку какой-то контр идеологии для борьбы с советским режимом. Все, что, по его мнению, требовалось, — поддержка и провозглашение борьбы за то, что отсутствовало у Советов: законность, частную собственность, защиту личности, свободу от произвола, короче говоря, за то, чего так не хватало русским людям. Национал-социализм не годился, он не мог подходить Власову, который уже понял, что в основе своей это есть инструмент достижения власти — идеология насилия и подавления. Как и в случае с большинством русских, изначально высокая оценка, даваемая деловитости немцев, признание их достижений постепенно уступали место разочарованию и отвращению; им приходилось делать ставку на Германию только потому, что никто больше не воевал со Сталиным. Чувства эти только усиливались за счет постоянных ударов по зачастую наивным понятиям Власова о справедливости.
В сентябре 1943 г. произошел инцидент, поставивший под угрозу все имевшиеся достижения. 15 сентября Цейтцлер посетил генерала Гельмиха и сообщил о дезертирстве нескольких восточных батальонов. Фюрер немедленно распорядился разоружить все части добровольцев, начиная с группы в восемьдесят тысяч человек, которых теперь надлежало отправить во Францию для работы в угольных шахтах. Фюрер требовал представить данные о выполнении приказа в течение сорока восьми часов. Цейтцлер отмел возражения Гельмиха, что он не знает подобных примеров, что практика доказывает обратное, что степень ненадежности достигает не более одного процента, и это несмотря на то, какие тяжелые бои приходится вести сейчас всем в ходе общего отступления немцев. Фюрер отдал: ясный приказ, а он, Цейтцлер, сыт по горло моральными пощечинами, которые достаются ему то и дело из-за этих чертовых добровольцев.
Штаб Гельмиха с лихорадочной быстротой принялся собирать сведения об истинном положении дел. Было установлено, что нет никаких признаков ненадежности у восточных добровольцев, приданных как группе армий «Север», так и группе армий «Юг». В последней ряд подобных частей выдержали все испытания, и притом с честью. Дезертировали только казачий батальон и часть строительного батальона на южном фланге группы армий «Центр», при этом обе части не были соответствующим образом снаряжены для выполнения поставленных задач. В итоге разговоры о всеобщей ненадежности добровольцев, принимая во внимания всю напряженность отступления, попросту безосновательны. Совершенно очевидно, что Гитлеру просто требовался козел отпущения, выход для ярости, охватившей его из-за ухудшения обстановки на фронте.
Гельмих попросил Герре[128] явиться к Цейтцлеру с подробным рапортом. Несмотря на необходимость принять меры для предотвращения выполнения абсурдного приказа, Гельмих не считал себя годным для выполнения такой задачи. Он был солдатом, привыкшим подчиняться приказам. Политические переговоры, споры с начальством — все это было не в его стиле. Герре доставил Цейтцлеру доказательство того, что на сторону противника перебежали не более 1300 добровольцев и добровольных помощников («хиви»), то есть не более 0,17 процента от общего числа добровольцев у немцев. Он указал на то, что разоружение восьмидесяти тысяч человек повлечет за собой катастрофические последствия, о которых в ставке фюрера, по всей видимости, никто не имеет никакого представления. Разоружение станет огромным бесчестьем для русских, а отправка на работу в шахты — унизительным наказанием. Они включились в борьбу по собственному желанию, сражались честно и безупречно храбро. Разоружение приведет как раз к тому, в чем их необоснованно обвиняют, — к росту ненадежности. Более того, такая акция неминуемо и сильнейшим образом скажется на настроении шести миллионов восточных рабочих.
Цейцлер, наконец, сдался, но объяснил, что, насколько это возможно, надо выполнить распоряжения Гитлера. Когда Герре сказал ему, что удастся набрать не более трех, максимум пять тысяч человек, что даже и такое число будет трудно собрать, Цейтцлер взорвался:
— Вы с ума сошли? Вы что, серьезно думаете, что фюрер пойдет на нечто подобное?[129]
Герре ответил, что фюреру придется так поступить, потому что иначе все обернется катастрофой. В итоге Цейтцлер согласился еще раз обратиться к Гитлеру, однако потребовал вперед список частей, разоружение которых, по мнению генерала восточных войск, не приведет к тяжелым последствиям. Через трое суток решение было принято. Гитлер нехотя согласился на разоружение только тех формирований, которые указал Гельмих. Однако то, что вначале показалось победой разума, очень скоро обернулось чем-то совершенно иным, когда ставка фюрера приказала перевести все добровольческие части на Западный фронт.
Гитлер начисто игнорировал то обстоятельство, что добровольцы стремились воевать за освобождение своей страны, что они не были наемниками, которым все равно, с кем сражаться. Требовалось найти какое-то убедительное основание для такого перевода, поскольку в противном случае было бы не избежать бунтов и актов неподчинения. Однако в ставке фюрера никто, по-видимому, не собирался принимать в расчет подобные соображения.
Тем временем произошел инцидент, показавший, сколь щекотливым был вопрос выбора пяти тысяч якобы ненадежных добровольцев. Струги Красные, маленький городок на железнодорожной ветке Луга — Гатчина, в котором находилось семьдесят немцев, подвергся нападению отряда в шесть или семь сотен партизан. Ситуация казалась безнадежной. Когда половина немецкого гарнизона уже полегла в бою, командиру удалось добраться до расположенной километрах в трех станции, где стоял эшелон с объявленными «ненадежными» и разоруженными бойцами тюркского батальона. Командир вооружил батальон с находившегося рядом со станцией склада, повел его в атаку на партизан с тыла и разгромил их. Погибло больше ста партизан.[130]
Несколько частей, находившихся под юрисдикцией СС, были освобождены от переброски. Одной из них являлась бригада Каминского, которая после отступления из района Локтя в район Лепеля вела бои с партизанами. Каминский попытался и там создать автономный район, однако ему приходилось действовать на незнакомой местности, тогда как заверения немцев в том, что они обязательно вернутся, теряли основательность день ото дня. Постепенно нарастал процесс деморализации.
Казачью дивизию, организованную Штауфенбергом в конце апреля, перебросили не на Западный фронт, а в Югославию, воевать с партизанами Тито. Ядро казачьей дивизии состояло из трех частей: полка Кононова из Могилева, полка, возглавляемого подполковником Юнгшульцем и немало поучаствовавшего в боях летом 1942 г. в районе Моздок — Ачикулак, а также из батальона из района Полтавы под началом подполковника фон Вольфа. Командир дивизии, полковник (позднее генерал-лейтенант) Гельмут фон Паннвиц был личностью выдающегося военного дарования и человеческих качеств и смог быстро заслужить доверие казаков.[131]
Дивизия закончила подготовку в сентябре, а две недели спустя начала боевые действия в Хорватии. К тому времени в Югославии уже была развернута другая русская часть — пятнадцатитысячный Русский охранный корпус генерала Штейфона. Корпус состоял исключительно из русских эмигрантов времен Первой мировой войны,[132] которые пошли воевать добровольцами, чтобы сражаться на Восточном фронте, но которых вместо этого отправили сражаться против партизан Тито.
Казаки находились на особом положении, поскольку Розенберг планировал выделение для них автономного региона, «Казакии», и уже имел наготове казачью администрацию во главе со старым царским генералом П. Н. Красновым. Десятки тысяч казаков отступали вместе с немцами — огромными колоннами текли со своими семьями в западном направлении. Наиболее крупную группу беженцев возглавлял атаман Сергей Павлов, который по своей собственной инициативе создал казачью часть после ухода Красной Армии и созвал в Новочеркасске сход представителей различных казачьих станиц. На этом собрании было решено сформировать для немцев большую казачью армию. Пятнадцать тысяч человек, половина при оружии, приняли участие в «исходе», возглавляемые после смерти Павлова генералом Домановым. После многомесячного похода эти силы в итоге были направлены в район Тольмеццо на севере Италии.
Учебно-запасной полк казачьей дивизии Паннвица численностью от 10 до 15 тысяч человек был создан в Мохове. Командиром стал бывший царский генерал А. Г. Шкуро, прославившийся в Гражданскую войну и награжденный орденом Бани королем Англии Георгом V.[133]
В конце сентября состоялась встреча Краснова и Власова.[134] Но поскольку руки Власова все еще оставались связанными, результатов не последовало. Краснов выразил готовность сотрудничать с Власовым, отказавшись, однако, поставить свои силы под командование последнего. Такой позиции он держался до конца, хотя подавляющее большинство казаков желало включения в единую освободительную армию.[135]
Переброска казаков с Восточного фронта прошла без серьезных трудностей. Однако скоро стало ясно, что русские добровольческие части не готовы слепо подчиняться приказам немцев. Они упорно требовали возможности увидеться с Власовым. В воздухе попахивало неподчинением и мятежом. В такой ситуации генерал Йодль и вспомнил о Власове, о котором Вермахт «пекся, точно о только что снесенном яйце». Теперь Власов мог наконец показать, обладает ли он той степенью влияния, как упорно утверждалось. Он потребовал от Власова написать открытое письмо с обращением к добровольческим частям с разъяснением, что переброска необходима.
Поначалу Штрикфельдт не захотел добиваться этого от Власова, который в свете всех последних событий пребывал в состоянии подавленности и отчаяния. Он наконец-то осознал, что немецкое руководство не рассматривает добровольцев иначе как наемников, и поклялся найти способ публично разоблачить это предательство, требовал даже, чтобы его отправили обратно в лагерь как военнопленного. Чтобы успокоить Власова, Штрикфельдту понадобилось несколько дней. Он указал на то, что, принимая во внимание точку зрения Гитлера в данном вопросе, любой инцидент может закончиться разоружением всех добровольческих частей. В случае гладко проведенной передислокации их, по меньшей мере, окажется возможным сохранить. Ну а потом, под влиянием постоянного ухудшения обстановки на фронте, возможно, в настроении Гитлера произойдут позитивные перемены.
В итоге Гроте — с целью восстановить спокойствие, чтобы иметь возможность продолжать организацию освободительной армии, — набросал проект письма, в котором переброска рассматривалась как временная мера, обусловленная сложившимся на фронте положением. Однако казалось очень маловероятным, что Йодль согласится с трактовкой Гроте. Но произошло неожиданное — Йодль одобрил письмо.
Данное событие послужило причиной поразительного улучшения настроения Власова. Он почему-то счел, что положительный ответ Йодля на одно обращение — чуть ли не официальное заявление об организации освободительной армии; несмотря на немалое количество скверных примеров, Власов и помыслить не мог, чтобы высокопоставленный немецкий офицер поступил бесчестно. Окружавшие Власова немцы не разубеждали его в этом. Они считали, что должны продолжать готовить Власова и восточные войска к их возможному участию в боевых действиях.[136]
Штрикфельдт послал запрос на разрешение для Власова посетить добровольческие части. Однако Йодль отказал, и указанная им причина не оставляла сомнений в его отношении к данному вопросу. На полях заявления Штрикфельдта он написал: «Нет. Хватит «открытого письма». Никто не намерен повторять ошибки с дабендорфскими пропагандистами да еще стократ умноженными. Дабендорф, — гнездо антинемецкой деятельности. Пора покончить с ним». Конечно же, направленность собравшихся в Дабендорфе не являлась антинемецкой как таковой, однако они безоговорочно были оппозицией национал-социализму.
В октябре 1943 г. в обращении к высшим офицерам войск СС и армии Гиммлер заявлял:
«…На генерала Власова возлагались большие надежды. Однако надежды эти были вовсе не столь основательны, как кто-то мог бы предполагать. Я думаю, ошибка проистекает из неверной оценки славян. Любой славянин, любой русский генерал — если мы вызовем его на разговор, если мы заставим заговорить в нем его чванство — примется распинаться в том духе, который неприемлем для немцев… Господин Власов — и это не удивляет меня — подвизался на ниве пропаганды в самой Германии и, я должен сказать, во многих случаях позволял себе даже высмеивать нас, немцев. Я усматриваю в этом большой вред. Мы можем вести пропаганду, направленную за границу, применять любые методы, какие нам понравятся… Годятся любые средства, которые предоставляют в наше распоряжение эти дикие народы и которые приводят к тому, что вместо немца на убой пойдет русский. Все меры хороши, все приемлемы перед богом и людьми. Однако произошло нечто, чего мы не хотели: с наглостью, присущей русским, славянин господин Власов принялся рассказывать сказки. Он утверждал: «Германия не могла и не может победить Россию, завоевать Россию под силу только нам, русским». Данная позиция, господа, очень опасна… Утром, днем и вечером немецкий солдат должен молиться: «Мы превосходим любого врага во всем мире». Если русский — может быть, позавчерашний подмастерье мясника, а вчерашний генерал при Сталине — приходит к нам как перебежчик, приходит и со славянской самонадеянностью разглагольствует, а потом позволяет себе заявлять, что-де только русские могут завоевать Россию, у меня есть что возразить: этот тип уже одним только подобным заявлением доказывает, что он есть свинья…
Все те тяготы и лишения, которые предстоят нам грядущей зимой, в ходе которой мы, безусловно, истребим еще два или три миллиона русских — все это только проходные этапы… Для нас конец войны означает открытую дорогу на восток, создание Германского рейха… Это значит, что мы проведем границы немецкого государства на пятьсот километров восточнее. Это означает мир, господа, это означает конец войне, это означает наступление прекрасного будущего, о котором мы мечтали».[137]
Речь Гиммлера стала известна обитателям дома на Кибицвег три дня спустя. Штрикфельдт традиционно имел обыкновение честно обсуждать с Власовым все сложности, однако теперь он бы предпочел избежать разговора относительно столь классического примера нацистского высокомерия. Несколько раз на протяжении тех недель разочарований и горечи Власов был близок к тому, чтобы все бросить. Долгие разговоры с Малышкиным, Трухиным, Жиленковым и Зыковым в итоге привели их к решению продолжать начатое во благо добровольцев, военнопленных и всех соотечественников, угнанных на принудительные работы в Германию. Возможности помочь — ослабить тяготы, облегчить положение — возрастали, и Дабендорф играл благотворную роль в такого рода процессах. Выпускники курсов делились личными впечатлениями о пребывании в тюрьмах или лагерях военнопленных, так что Власов всегда владел информацией, а уже через Гроте и Штрикфельдта можно было если не вовсе оградить хотя бы часть людей от жестокого обращения, то хотя бы смягчить его.
Более того, возникла и окрепла независимая и полулегальная разведка, которая поставляла данные о происходящем в русских добровольческих частях и на оккупированных восточных территориях. Порвать с немцами, как бы бесчестно они ни вели себя, означало бы не просто поставить под удар все уже достигнутое, но и покончить со всем Русским освободительным движением. Как ни поразительно, несмотря на отношение немецкого руководства и на все препоны, которое оно чинило русским, политически значимое движение уже стало фактом. Ядро его состояло из выпускников школы в Дабендорфе; в него входили семь бывших советских генералов, примерно шестьдесят полковников и несколько тысяч офицеров в других званиях, ученые, инженеры и представители многих иных профессий. Не все они разделяли одни и те же политические взгляды, но все хотели видеть Россию свободной от сталинского режима.
В те времена в письменной форме были изложены политические установки и программы для РОА и обозначены общие цели:
«РОА есть прежде всего русская армия, то есть, армия национальная по своей природе, целям и духу. Первейшая цель борьбы — создание национального русского государства. РОА есть освободительная армия, задача которой — освобождение народа от существующего режима. Тем не менее РОА не стремится к восстановлению положения, существовавшего до революции, а к построению новой России, основанной на новых принципах… РОА не только инструмент борьбы, но также и политическая сила — часть Освободительного движения народов России».[138]
Власов и его сторонники надеялись, что их друзья в Вермахте все же преуспеют. Они считали возможным свержение Гитлера и подумывали о том, как бы наладить контакты с Западом. Не смолкали споры о том, что если Гитлер под давлением сложившегося на фронте положения даст Власову свободу действий, а потом, когда диктатура Сталина падет, вновь вернется к проведению в жизнь экспансионистской политики. Они понимали, что при таких обстоятельствах конфликт с Германией станет неизбежным, и надеялись на содействие западных держав. Если уж союзники выступают на стороне коммунистической России в войне с Гитлером, то совершенно очевидно поддержат Россию некоммунистическую. В таком случае падение Гитлера было бы обеспечено.
Долгий период тщетных ожиданий решения охватывает весь 1943 г. и едва ли не половину 1944 г. Тем не менее кое-чего добиться все же удалось. Для солдат-добровольцев были организованы двадцать новых госпиталей. Был создан русский корпус медсестер, которые получили свою отдельную школу и особое обмундирование. Появились центры восстановления для раненых, лечебницы для солдат-инвалидов, реабилитационные лагеря и библиотеки, было даже даровано право награждения Железными крестами. Русские пропагандисты, в том числе и несколько женщин, были приписаны ко всем более или менее крупным частям на передовой.[139]
Немалую лепту в дело достижения этих успехов внес генерал Эрнст Кестринг, сменивший 1 января 1944 г. Гельмиха на посту командующего добровольческими частями. Кестринг вырос в Москве, говорил по-русски и служил в Москве военным атташе. Он прекрасно видел все ошибки «восточной политики», но уже не считал возможным ее изменение. И все же он делал что мог для поддержания русского национального порыва.
Тем временем идея Русского освободительного движения начинала выглядеть привлекательной для все большего количества немцев. Многие из них стремились к контакту с Власовым, не счесть попыток — пусть и в итоге бесплодных — как-то помочь ему. Всегда желанным гостем в доме на Кибицвег был полковник фон Фрейтаг-Лорингхофен, говоривший по-русски начальник разведки группы армий «Б», который вселил во Власова новую надежду намеками на возможные в скором будущем перемены. Имея возможность общаться с Власовым без переводчика, Фрейтаг-Лорингхофен говорил с ним откровеннее, чем было бы возможно при наличии третьего лица. Что конкретно имел в виду Фрейтаг-Лорингхофен, стало совершенно ясным, когда он покончил с собой сразу же после провала покушения на Гитлера 20 июля.
Несмотря на визиты гостей, поддержку и выражения сочувствия, этот период бессмысленного ожидания подрывал силы Власова. Он пил, вечерами напролет играл в карты. Малышкин и Кромиади (по возвращении из Пскова последний сменил Калугина в качестве секретаря Власова) были его постоянными спутниками. Перед чужими он скрывал свои страхи, пытался спрятать переживания за фасадом благодушия и постоянно излучал уверенность. Природное обаяние — свойство, которым он искусно пользовался, когда хотел, — не изменяло ему, и он умел быть веселым и общительным в компании друзей. Однако под маской этой жизнерадостности зрело ощущение давящей безнадежности, мрачное и тревожное осознание того, что «все уже слишком поздно». Однажды, будучи в гостях у Мелитты Видеманн, он как-то сказал ее русской горничной:
— Если доведется попасть домой, Надя, не забудь меня. Расскажи друзьям, что наши намерения по отношению к нашему народу были благородными.[140]
Весной 1944 г. в Берлине неожиданно появилась Мария Воронова, местонахождение которой Власов все это время тщетно пытался установить. Она вышла на Фрёлиха в Риге, где тот проводил свой отпуск. Теперь Мария приняла в свои руки заботу о маленьком, лишенном хозяйки доме. Поначалу она очень мало делилась откровениями о том, что происходило с ней в эти годы, однако через несколько суток после появления она призналась Власову, что партизаны в Литве послали ее отравить его.
Примерно тогда же Власов познакомился с двумя офицерами, которым было суждено стать одними из наиболее верных его соратников, с полковниками Меандровым и Мальцевым. Меандров был уравновешенным и серьезным человеком, истовым патриотом, а импульсивный и деятельный Мальцев обладал отменным даром красноречия. В тридцатые годы он служил командующим ВВС в Средней Азии. После «дела Тухачевского» он на два года попал в заключение, а потом, после захвата немцами Крыма, изъявил желание остаться начальником расположенного в Ялте госпиталя для персонала военно-воздушных сил. С одобрения немцев, он создал эскадрильи из русских летчиков, которые занимались сбросом пропагандистского материала и высадкой агентов в тылу у Советов. Кроме того, он бывал в лагерях для военнопленных и подневольных рабочих, где вел набор людей для освободительного движения. Ездил Мальцев обычно в сопровождении двух своих офицеров, Антелевского и Бычкова, — оба были Героями Советского Союза и… фанатичными противниками Сталина.
Весной 1944 г. у Власова побывал казачий генерал Шкуро. Они обсудили вопрос передачи под командование Власова дивизии Паннвица после того, как начнется формирование Русской освободительной армии. Оба они сошлись во мнении о нецелесообразности того, чтобы кто-то из прежних царских генералов (таких, как и сам Шкуро) принимал под командование казачьи части, поскольку это даст советской пропаганде возможность утверждать, будто освободительная армия имеет целью восстановление дореволюционного порядка. Как и многие казаки, Шкуро считал себя русским и рассматривал план Розенберга по созданию автономной «Казакии» как некую скверную шутку. Через Шкуро Власов восстановил отношения с Кононовым, которого не встречал со своей поездки в Могилев.
В июне 1944 г. дивизия Паннвица получила статус корпуса, став 15-м казачьим корпусом, численность личного состава которого перевалила за двадцать тысяч человек.[141] В следующем месяце Паннвиц побывал у генерала Готтлоба Бергера, начальника Главного управления СС, и предложил перевести свой казачий корпус под номинальную юрисдикцию СС. Такой шаг дал бы корпусу возможность получить больше оружия, а заодно и размежеваться с местными органами полиции и чиновниками администрации, которые своими притязаниями создавали постоянные трудности казакам. Бергер согласился. Служившие в корпусе немецкие офицеры остались офицерами Вермахта, форма у личного состава также не изменилась.
Власов узнал о переменах в Белоруссии, где в начале 1944 г. в Минске был дан «зеленый свет» созыву Белорусской Рады. Председателем ее стал профессор Островский.
Рада издала призыв к созданию армии, и, хотя в победу немцев теперь уже мало кто верил, вступить в нее добровольцами вызвались тридцать тысяч человек. В Белоруссии тоже надеялись на содействие западных держав после ухода с политической сцены национал-социализма. Считалось возможным, что после свержения Гитлера Вермахт, который пользовался поддержкой населения оккупированных территорий, единым фронтом с западными державами выступит против Сталина.[142]
В январе 1944 г. семьдесят два добровольческих батальона в итоге прибыли во Францию. Поскольку Власову не позволили посетить эти части, во Францию поехал Жиленков вместе с Фрёлихом. Обстановка там сложилась отнюдь не удовлетворительная. Многие немецкие офицеры связи, равно как и командиры полков, к которым были приписаны батальоны, никогда не имели дела с восточными добровольцами или опыта службы на Востоке, их отношение к добровольческим частям оставляло желать лучшего. Более того, части эти, которые Гитлер счел недостаточно надежными, чтобы применять их в России, отправлялись теперь на позиции Атлантического вала. Обращение к главнокомандующему войсками на Западе майора Вальтера Ханзена, офицера по оперативным вопросам добровольческих частей, принесло некоторые улучшения, однако ситуация по-прежнему оставалась далекой от разрешения. Все, что объединяло этих людей, была надежда на создание Русской освободительной армии.[143]
Примерно в то же время генерал Трухин побывал в добровольческих частях на итальянском фронте, сопровождаемый капитаном фон Деллингсгаузеном и своим адъютантом Ромашкиным. Поездка была предпринята по инициативе фельдмаршала Альберта Кессельринга, поскольку у русских отмечались случаи дезертирства и сильного снижения боевого духа. После ужина, за которым помимо него и Кессельринга присутствовали еще двадцать высокопоставленных офицеров, Трухин ночью в машине Кессельринга отправился на фронт в районе Монте-Кассино и Неттуно. Оказалось, что большинство немецких командиров сражавшихся там русских батальонов не знали ни слова по-русски и не понимали, как следует обходиться с подчиненными. Вооружение и обмундирование добровольцев уступало в качестве тому, чем располагали немецкие части, и русских вообще очень раздражало отношение к ним как к каким-то второсортным солдатам. Сверх того, они не желали сражаться на чужом фронте. И все же, несмотря на все вышеперечисленные негативные факторы, к противнику перебежало всего двадцать два бойца. Один же батальон, командир которого говорил по-русски и где ротами и взводами командовали русские, заметно отличился в боях.
Трухин выступал с речами, он побывал на самых передовых позициях, успокоил страсти скорой перспективой для солдат вступить в ряды многочисленной Русской освободительной армии, а также сказал им, что с 1 мая русским рабочим на территории рейха не нужно больше носить унижающие знаки различия как остарбайтерам. В ходе заключительных переговоров Кессельринг пообещал улучшить вооружение батальонов и проследить за отношением к ним, он заметил, что главная проблема заключается в отсутствии основополагающего решения русского вопроса. Он заверил Трухина, что лично употребит влияние в Берлине для скорейшего появления такого решения. Прежде чем Трухин отбыл обратно, в Риме его принял генерал фон Макензен, который выразил понимание русской проблемы.[144]
В июне в доме на Кибицвег появился Казанцев. Он снабдил Власова важными новостями о положении в оккупированных районах, а кроме того, предоставил информацию о ситуации в различных немецких структурах, где работали члены НТС. Положение НТС становилось все более шатким. Зимой 1942/43 г. организация развернула интенсивную кампанию антинемецкой пропаганды среди русских, кроме того, Гестапо всерьез заподозрило НТС в том, что организация эта вместе с Вермахтом является активным противником «восточной политики».
Казанцев привез Власову предложение от главы НТС Байдалакова завязать отношения с представителями западных держав, в контакт с которыми союз вошел через швейцарские каналы. Власов, однако, предложение отклонил. Покуда западные союзники считают Гитлера врагом номер один, покуда основной груз войны ложится на Сталина, они вряд ли протянут руку дружбы врагам Сталина, только если те не будут готовы немедленно ударить по Гитлеру, а такой шаг неминуемо привел бы к краху освободительного движения.[145]
Вскоре после этого разговора для НТС прозвучал новый и очень тревожный сигнал — были отстранены от службы некоторые члены организации, подвизавшиеся на работе в различных немецких правительственных структурах. Только доктору Владимиру Поремскому, одному из вожаков НТС, сказали правду. Это сделал доктор Кнюпфер, его начальник в Восточном министерстве. Кнюпфер признался Поремскому, что увольняет его потому, что Поремского рано или поздно арестуют, а Кнюпферу не хотелось бы, чтобы это произошло в его отделе. Он, правда, пообещал держать увольнение Поремского в тайне. «Труба пропела» вскоре — сотни членов НТС были брошены в тюрьмы и концентрационные лагеря. Уцелеть удалось только тем, кто являлся тайными членами организации, и среди них Зайцеву, Трухину и Казанцеву.
Глава V Слишком мало и слишком поздно
Казанцев побуждал Власова поговорить с арестованными, однако последний не очень верил в шанс быть услышанным. Кроме того, ему приходилось помнить о необходимости действовать так, чтобы не поставить под удар собственные планы, которые вдруг совершенно неожиданно получили поддержку с той стороны, откуда Власов и его друзья менее всего могли на нее надеяться, — от Гиммлера с его войсками СС.
Ни войска СС, ни даже Главное управление имперской безопасности (РСХА), тоже действовавшее под юрисдикцией Гиммлера, не являлись столь монолитными структурами, как казалось снаружи. Многие командиры частей СС, служившие на фронте и в оккупированных районах на Востоке, по своему опыту знали, сколь нерациональной являлась «восточная политика»; среди них и в РСХА тоже были противники государственной программы. Хотя сам шеф Гестапо Мюллер непоколебимо держался верности тезиса о том, что все славяне являются «унтерменшами», в Службе безопасности (СД) находилось немало молодых интеллектуалов, которые, располагая точными данными об обстановке, не могли не осознавать непригодность и нежизнеспособность официальной доктрины.
Среди них был и глава службы внешней разведки Вальтер Шелленберг, а также начальник внутренней разведки Отто Олендорф. Олендорф откровенно выступал против тактики Эриха Коха, рейхскомиссара Украины, который, как выразился Олендорф, своими действиями помог создать сопротивление куда более сильное, чем это удалось бы противнику. Олендорф также озвучивал острую критику и внутренних политических мер, особенно привычку Гитлера в обход существующих организаций поручать какие-то новые задачи особым представителям. В результате нормальное функционирование государственного аппарата сковывали расплодившиеся в немыслимых количествах ведомства и подведомства, укомплектованные нередко некомпетентными людьми, работавшими рядом друг с другом и против друг друга — происходившее походило на самую настоящую карикатуру на тоталитарную-диктатуру.[146]
С начала войны встречалось все больше противников «восточной политики» и среди майоров и капитанов СС, которые тоже пытались через легальные каналы как-то повлиять на положение дел. Хотя и не располагая властью для формирования политики, они постепенно тоже начали становиться политическим фактором. Среди них попадалось немало людей, которые просто не нашли альтернативы нацистской партии и были глубоко разочарованы происходившим. И вот хотя официально СД не позволялось надзирать за партийными органами, — на этом власть Гиммлера ограничивалась, — последний располагал точной информацией о коррупции, некомпетентности и мегаломании партийных бонз.
Разочарованный элемент располагал достаточным опытом во внутрипартийном маневрировании, чтобы отыскать необходимые рычаги для достижения той или иной цели. Таким людям вполне хватало ума осознавать, что добиться результата можно только окольными путями и тщательно завуалировав истинные намерения. Выходить с предложениями можно было, только руководствуясь соображениями немецкой военной стратегии, интересов «окончательной победы» Германии. Любые действия в лоб были бы обречены на провал, потому что ставили под вопрос принципы национал-социализма и не вписывались в рамки целей и задач Гитлера. Не говоря уже о том, что подобные пути были чрезвычайно опасными.
В структуре СД данный элемент сосредотачивался в отделе внутренней разведки III-б, возглавляемом штандартенфюрером СС Гансом Элихом, на которого возлагалась особая ответственность за решение вопросов национального свойства в оккупированных районах и проблем иностранных рабочих в самом рейхе; именно из этого учреждения постоянно поступали рапорты о последствиях проведения в жизнь «восточной политики». Деятельность подобного характера усилилась, когда в конце 1943 г. главой отдела III-б-2, ответственного за политическую разведку среди восточных народов, проживающих на оккупированных территориях, стал штурмбаннфюрер СС Фридрих Бухардт.
Бухардт, владевший русским языком, выходец из Прибалтики, располагал информацией (несколькими доведенными до его сведения примерами), собранной по итогам различных операций в зоне ответственности группы армий «Центр». Он уже в то время указывал на то, что добиться успеха без соответствующего разумного плана будет невозможно, в частности, и на то, что имя Власова значит для перебежчиков, военнопленных и гражданского населения куда больше, чем готово полагать немецкое чиновничество.
Когда Бухардт вступал в должность, Олендорф заверил его, что он сможет бороться за выработку новой «восточной политики», при условии принятия надлежащих мер предосторожности. Бухардт получил возможность рекрутировать на эту работу своих соотечественников из Прибалтики. Прибалты широко задействовались практически всеми восточными службами из-за знания необходимых языков; многие имели сношения с Бухардтом. Шел процесс кристаллизации особой группы, которую объединял Бухардт. Группа строила свои предложения на рапортах и докладах, изученных и переработанных ее членами; все эти документы свидетельствовали о необходимости принятия политических решений. Главная цель состояла в том, чтобы завоевать поддержку некой фигуры, пользующейся большим влиянием на Гитлера и способной добиться от него одобрения в той или иной форме.
Как и прежде, в числе непримиримых врагов русского национального движения оставались многие высшие официальные лица во главе с рейхсляйтером Мартином Борманом, Гестапо и Розенберг с поддерживаемыми им группами национальных меньшинств. Все они рассматривали любые поощрения дела Власова как предательство по отношению к немцам. Вдобавок были и те, кто, хотя и выступал за лучшее обращение с русскими, хотели оставить открытым путь для переговоров со Сталиным, как это было в 1939 г.
По тем же причинам противниками Власова являлись и японцы, которые любыми путями стремились вставлять палки в колеса его программе. Они попытались польстить Гиммлеру, поместив его снимок в своей прессе.[147] В феврале 1944 г. японский посол Осима предложил заключить сепаратный мир с Советским Союзом, но Гиммлер торпедировал этот план.[148]
Гиммлер, безусловно, тоже находился в стане врагов Власова, но между тем все же казалось, что к нему удастся найти подход. Хотя внешне он безоговорочно поддерживал установки Гитлера в отношении Востока, Гиммлер с готовностью шел на разного рода эксперименты — такие, как создание эстонских, латвийских, кавказских и даже русских частей СС, — что свидетельствовало о некотором сомнении в отношении действенности существующей «восточной политики». Представлялось до известной степени логичным предложить «Власовекое предприятие» или «Власовскую акцию» Гиммлеру как своего рода гарантию на случай поражения Германии. Принимая во внимание нерешительность и противоречивый характер Гиммлера, а также склонность к поддержке неожиданных и даже абсурдных проектов, имелась по меньшей мере перспектива возможности повлиять на него. Так, например, он вполне серьезно поручил различным службам проверить жизнеспособность идеи о создании по границе европейской части России казачьих военных поселений, которые могли бы послужить своеобразной стеной на пути из Азии. Или вот еще пример. Весной 1943 г. он высказывал намерение в ходе нового немецкого наступления в России ликвидировать православную церковь, поскольку она служила инструментом укрепления русского национализма, и насадить буддизм с целью «умиротворения» русских! А немного позднее он давал указания Гестапо выискивать в концентрационных лагерях религиозных пацифистов — сектантов, миролюбие которых могло ослабить военную эффективность русских и парализовать их волю к борьбе.[149] Новый шанс забрезжил на горизонте, когда Гиммлеру понадобился говорящий по-русски офицер СД, и Бухардт предложил своего земляка, гауптштурмфюрера фон Радецки. Соответственно через этого человека к Гиммлеру потекли свежие и отражающие действительность сведения, что позволило ему позднее сделать заключение о назревшей необходимости срочно менять положение вещей.
Тем временем насторожилось Гестапо. Оно отметило рост в русских уверенности в себе и факты участившихся антинемецких заявлений. Однако собранным материалам не хватало веса, чтобы преодолеть защиту, которой пользовались русские со стороны Вермахта, и Гестапо решило «копать» под Власова — собирать против него материал на базе политических и идеологических свидетельств. Посему оно обратилось в III управление СД с просьбой направить досье на Власова для ознакомления. Бухардт и Элих посоветовали Олендорфу не передавать досье под предлогом того, что в нем содержатся сведения, касающиеся разведки, а не полиции. Олендорф, хотя и не принадлежавший к числу друзей шефа Гестапо Мюллера, знал настроение Гиммлера и вовсе не хотел оказаться втянутым в борьбу с Гестапо. Таким образом, он не отказал прямо, но нашел способ задержать выдачу досье под различными предлогами. Не имея времени на ожидания, группа Бухардта через фон Радецки выпалила по Гиммлеру новым и еще более убедительным докладом, в котором ратовала за необходимость немедленных позитивных перемен в «восточной политике» по следующим причинам:
1) Около 700 тысяч представителей восточных народов с оружием в руках как добровольцы, служащие в настоящее время немцам, сохранят свою преданность рейху и не утратят боевого духа только при условии, если перед ними поставят политические цели, за которые они будут готовы сражаться. Однозначно негативного лозунга борьбы с большевизмом более недостаточно.
2) Пропагандистские действия, которых ждет Гиммлер, не дадут успеха без предложения подобных целей.
3) Восточным рабочим, столь важным для военной промышленности, тоже нужно дать цели, чтобы люди эти стали работать в собственных интересах. Принуждение и насилие приводят к сокращению выпуска продукции и снижению ее качества, а кроме того, эти рабочие, количество которых исчисляется миллионами, могут легко послужить деструктивным фактором для экономики.
Помимо этого в документе содержалась рекомендация неформально принять Власова и выслушать его предложения.
Решительный поворот в пользу Власова в конечном итоге произошел не вследствие усилий СД, а отдельной личности, действующей по собственному почину, а именно штандартенфюрера СС Гюнтера д’Алькена. Д’Алькен принадлежал к группе молодых интеллектуалов, которые в годы, предшествовавшие 1933 г., считали национал-социализм единственной альтернативой коммунизму — при этом упор они делали на «социализм», как на реакцию общества на «бремя греха» буржуазии. Когда нацисты пришли к власти, ему было только двадцать три года, а всего несколько лет спустя он уже сделался главным редактором журнала СС «Дас шварце Кор» («Черный корпус». — Прим. перев.).
Начало Восточной кампании д’Алькен встретил командиром подразделения военных корреспондентов и пользовался полной поддержкой Гиммлера. Позднее на часть была возложена пропагандистская деятельность, и численность ее с батальонной достигла полковой. Журналисты и пропагандисты разных национальностей трудились вместе под эгидой СС над концепцией «Новой Европы». Тридцатичетырехлетний д’Алькен стал одним из самых молодых полковников в войсках СС.
Он и его подчиненные не являлись профессиональными военными и действовали нетрадиционно. Степень притязаний Гиммлера они уяснили для себя быстрее, чем кто бы то ни было, и без страха критиковали партийных руководителей. Однажды, когда Гроте побывал в части по служебной надобности, он на своем опыте убедился в их страстной и бескомпромиссной оппозиции к «золотым фазанам».[150] Поначалу Гроте подумал, что стал объектом намеренной провокации. Они рассуждали относительно того, что хотят «лучшего» национал-социализма, и то и дело высказывались в таком духе, мол, «подождите, вот скоро мы вернемся домой!»
Уроженец Рейнской области, д’Алькен в начале войны еще мало понимал особенности боевых действий на Востоке. Коммунизм в его сознании ассоциировался с тем, что узнал он, сражаясь с красными на улицах Германии. Изувеченные тела советских людей, которые ему приходилось видеть как военному корреспонденту, мало повлияли на его точку зрения — он не замечал или не хотел замечать преступлений, творимых немцами.
Однако допросы множества советских военнопленных, общение с русским населением и беседы с многими командирами частей СС, измерявших «восточную политику» мерками реальности, с которой они сталкивались, — все это сыграло свою роль в открытии перед д’Алькеном новых горизонтов. Еще в 1941 г. генерал корпуса войск СС по фамилии Биттрих[151] как-то заявил:
— Все, что говорит Генрих (Гиммлер), — чистейшая чушь! Дела пойдут очень и очень скверно, если мы в корне не поменяем свой подход.
Генералы СС Крюгер, Хауссер и Штайнер громогласно пророчествовали в том же духе. Штайнер назвал Гиммлера дураком в присутствии пятнадцати высокопоставленных офицеров,[152] а в июне 1943 г. он позволил своему другу, графу фон дер Шуленбургу, бывшему заместителю комиссара полиции Берлина, высказаться: «Нам придется прикончить Гитлера, пока он совсем не доконал Германию», — при этом даже не возразив, не говоря уж о том, чтобы донести на фон дер Шуленбурга властям.[153]
Эти офицеры СС совершенно не уважали Гиммлера, однако они не располагали никаким политическим влиянием. И вот, зная, что находившийся в непосредственном подчинении Гиммлера д’Алькен — не тот человек, который затыкает уши, когда с ним говорят начистоту, они и поделились с ним своими опасениями. Все эти события постепенно привели д’Алькена к осознанию того факта, что «восточные» установки национал-социализма ошибочны. Когда д’Алькен выступал по радио в первую годовщину Восточной кампании, он уже чувствовал, как не вяжется то, что он говорит, с тем, что он думает. Он стал посылать Гиммлеру рапорты и доклады, в которых постоянно подчеркивалась разница между реальностью и представлениями о ней руководства. В данном направлении он мог позволить себе зайти гораздо дальше, чем кто-нибудь другой, поскольку нравился Гиммлеру, который похвалялся им и его талантами в присутствии самого Гитлера. Д’Алькен воспользовался ситуацией.
Как уже отмечалось выше, в июне 1943 г. Гитлер решительно запретил Вермахту политическое использование Власова и освободительного движения. Д’Алькен, не знавший о том запрете, впервые осмелился высказать Гиммлеру мнение командиров СС, а также и то, к чему пришел на собственном опыте. Особо он подчеркивал, что «восточная политика» неверна, она загоняет русских обратно в объятия большевизма, и только коренные перемены способны принести победу. Гиммлер, однако, просто не мог терпеть чего бы то ни было, что могло подрывать цели и идеологию национал-социализма.
В ноябре д’Алькен приступил к пропагандистской операции в зоне ответственности бригадефюрера Штайнера. Он распорядился провести тысячи допросов, проанализировал их и подготовил на их базе доклады, в которых подчеркивал негативное воздействие непродуманных политических подходов на русских. После небольшой интерлюдии на итальянском фронте, где ему тоже пришлось вести пропагандистскую кампанию против частей польского генерала Андерса, д’Алькена вновь перебросили на Восточный фронт. Гиммлер требовал новых, широкомасштабных усилий в области пропагандистской деятельности. А д’Алькен вновь и вновь твердил о том, что решительных побед можно достигнуть только путем глобальных перемен в «восточной политике» и за счет использования Власова и Русской освободительной армии. Другого пути он не видел.
Гиммлер между тем уже не проявлял в своем неприятии подобных идей прежнего упорства, однако по-прежнему не хотел и слышать о Власове. Между тем он предоставил д’Алькену поразительно много свободы действий — даже дал ему возможность подыскать других русских генералов. Д’Алькен тотчас же повстречался в Берлине с Гроте, изложил ему состояние дел и попросил назвать кого-нибудь, кто мог бы заменить Власова. Большего на тот момент достигнуть не представлялось возможным. Гроте предложил Зыкова и Жиленкова. Зыков являлся весьма выдающейся личностью, однако Гестапо держало его под наблюдением, считая евреем и марксистом. Данные обстоятельства не очень заботили д’Алькена — ему требовались люди высокого полета.
Уже на следующий день дома у д’Алькена в Ванзее состоялась беседа, на которой присутствовали Зыков, Жиленков, Штрикфельдт и Деллингсгаузен. Зыков немедленно объявил себя русским патриотом, яростно раскритиковал допущенные немцами ошибки и в качестве условия своего сотрудничества потребовал полную независимость в организации пропагандистской операции. Д’Алькен ответил, что знает об упущенных возможностях и о том, как скверно обращались с русскими. Хотя он не мог гарантировать, что ему удастся успешно сдвинуть камень с места, он честно обещал попробовать и выразил уверенность, что новые усилия принесут результат. Русские, пораженные откровенностью д’Алькена, согласились сотрудничать после переговоров с Власовым. Что ж, может статься, у СС получится то, что не вышло у Вермахта?
Старт кампании назначили через двое суток. Однако произошло нечто, что ярко продемонстрировало всю беззащитность русских, находившихся под покровительством Вермахта, и показало, какими методами может воспользоваться одна нацистская служба против другой. Когда д’Алькен со своей группой готовился к отъезду, вдруг пропал Зыков — исчез бесследно.
Дело было не только в том, что Зыков находился под подозрением у Гестапо, у него имелись враги и в самом Дабендорфе. Многие опасались, что его марксистская политика повредит движению, и группа русских, имевших на то свои причины, просила Власова о его удалении. Власов, однако, отказал. Хотя он и не всегда сходился с Зыковым во мнениях, Власов высоко ценил его ум и патриотизм.
Зыков не скрывал того факта, что он горько разочаровался в немцах и у него постоянно возникали с ними конфликты. Особенно злил его запрет на упоминание в речах и публикациях русского народа как нации и России как государства. «Цензурные установки» дошли до того, что, к примеру, в статье к годовщине смерти Пушкина не разрешалось использование слова «Россия». Зыков жил с бывшей актрисой, Зинаидой Петровной Андрич, дочерью царского генерала, с которой познакомился в Белграде; эта стройная и привлекательная женщина восхищалась им. Их маленький дом в Калькберге, что километрах в двадцати пяти севернее Берлина, представлял собой островок культуры и изысканности, где всегда были рады гостям.
Вечером накануне запланированного отъезда Зыкова с ним в доме находился верный помощник и адъютант по фамилии Ножин. Когда они сидели за ужином, Зыкова вдруг позвали к телефону, который находился в булочной-пекарне, расположенной в нескольких сотнях метров от дома Зыкова. Ножин пошел с ним. Оба обратно не вернулись.
В 5 утра фроляйн Андрич сообщила о случившемся капитану фон Деллингсгаузену, который немедленно связался со штабом Гестапо. Дежурные офицеры явно не горели желанием что-то предпринимать — по причине отсутствия бензина, днем кого-нибудь пошлют на поезде. Позднее чиновник на своей машине отвез Деллингсгаузена в штаб-квартиру Гестапо, где к тому моменту мало что могли сообщить по делу. Соседи видели, как Зыков и Ножин о чем-то оживленно спорили с троими мужчинами, а потом все они уехали на машине. Поиски в ближайшем лесу оказались бесплодными.
Несколько месяцев спустя один чиновник из Гестапо намекнул Деллингсгаузену о причастности к делу его организации. Однако то, куда увезли Зыкова и Ножина, где и как они встретили смерть, — все это осталось загадкой.[154] Власов предоставил фроляйн Андрич убежище в своем доме на Кибицвег. В итоге, когда все поиски закончились, не принеся результата, она вернулась в Белград. Д’Алькену, расследование которого тоже ничего не дало, пришлось ехать на фронт без Зыкова. Руководство русской группой принял на себя Жиленков.
Пропагандистская операция под кодовым названием «Скорпион Востока» стартовала в конце июня. Д’Алькен распределил свой персонал по различным дивизиям и оборудовал себе штаб-квартиру в населенном пункте Зымня-Вода неподалеку от Львова. Принципы пропаганды были по большей части выработаны Жиленковым. Однако постепенно становилось все очевиднее, что никто и ничто не может заменить имени Власова. Д’Алькен, руки которому связывал Гиммлер, предложил в руководители освободительного движения Жиленкова. Но Жиленков отказался — будучи в прошлом функционером коммунистической партии, он не мог рассчитывать стать столь же привлекательной фигурой, как Власов.
11 июля советские войска перешли в наступление на участке группы армий «Юг».[155] В ту же ночь адъютант д’Алькена, Роберт Крец, под глубоким впечатлением от разговора с Жиленковым, уговорил д’Алькена вылететь в Германию и встретиться с Гиммлером с целью убедить того в том, что единственный шанс добиться победы заключен в честном пакте с Власовым и в радикальном изменении всей «восточной политики»; все прочее бессмысленно и в итоге приведет к катастрофе.[156] Д’Алькен, удрученный теми же мыслями, быстро принял решение, даже не предупредив Гиммлера, находившегося в то время в Зальцбурге.
Гиммлер принял его холодно. Только на следующий день, во время поездки в Восточную Пруссию, он нашел время для встречи с д’Алькеном, который без всяких оговорок честно выложил ему свои соображения относительно ситуации. Когда Гиммлер принялся возражать в духе того, какие последствия будет иметь смена политики для идеологии нацизма, д’Алькен возразил, что сейчас речь идет о победе или поражении, а о последствиях можно поговорить и потом.
Дискуссия с Гиммлером продолжалась больше часа. Рейхсфюрер СС всячески пытался избежать выдвижения на первые роли Власова, во-первых, из-за отношения к нему Гитлера, а во-вторых, из-за собственных нелестных замечаний в его адрес. В итоге он уступил.
— Я знаю вас уже давно, — заключил Гиммлер в конце разговора с д’Алькеном. — Вы всегда были реалистом. Я не могу заподозрить вас в помешательстве на русских, как это происходит у балтийцев и у некоторых армейских снобов. Благословляю вас, поговорите с Власовым и доложите мне.[157]
В тот же вечер д’Алькен вылетел обратно на фронт за Жиленковым. 15 июля они вернулись в Берлин.
Сутки спустя состоялась встреча д’Алькена и Власова. Власов встретил собеседника осторожно, однако говорил искренне и уверенно, чем произвел на него впечатление. Он уже отчаялся найти хоть одного разумного немецкого руководителя, однако, коль Гиммлер и в самом деле может и хочет принять давно уже запоздалое решение, кое-что значительное еще можно успеть сделать. Власов потребовал объединения всех разбросанных там и тут добровольческих частей под своим командованием, подчинения национальных комитетов, исключительного права вести политическую работу среди военнопленных и русских рабочих в рейхе, передачу под его опеку пропагандистской деятельности и создание политического и интеллектуального русского центра, которому будет позволено издать декларацию с разъяснением миру целей Русского освободительного движения.
Д’Алькен пообещал сделать все от него зависящее. 17 июля он вручил Гиммлеру полный оптимистических перспектив доклад. Гиммлер сказал, что уже поговорил с фюрером и встретится с Власовым в своей штаб-квартире 21 июля, и еще сообщил, что собирается сделать его (Власова) маршалом. Д’Алькен заметил, что в целях пропаганды было бы нежелательно повышение Власова в звании немцами, этот довод убедил Гиммлера отказаться от данного намерения. Между тем само по себе оно показывало то, насколько он был незнаком с проблемой.
В Берлине д’Алькен поставил Власова в известность о своем разговоре с Гиммлером, попросил его подготовиться к встрече, а затем улетел обратно на фронт.[158] Власов осознал, что намерения д’Алькена искренни, и, несмотря на все унижения, которые перенес в последние время, выразил готовность поговорить с Гиммлером. Он понимал, какие усилия потребуются для того, чтобы убедить мир в том, что он и его сподвижники не предатели, а бойцы, ведущие политическую битву против режима, который русский народ никогда не принимал. Штаб Власова бросился в спешке собирать соответствующие материалы и документы, необходимые в качестве подкрепления аргументов на переговорах. Однако незадолго до того, как Власов и Штрикфельдт отправились в дорогу, Гиммлер телеграммой сообщил им о том, что встреча откладывается по непредвиденным обстоятельствам. Он обещал назначить новую дату. В тот самый вечер в отделе пропаганды узнали о провалившемся покушении на Гитлера. Стало известно, что в заговоре приняли участие генерал Вагнер, полковник Штауфенберг, Шмидт фон Альтенштадт, Ренне, Тресков и Фрейтаг-Лорингхофен. Возникли серьезные опасения, что Гестапо воспользуется возможностью заодно уничтожить Власова и его сторонников, однако страхи эти, к счастью, не оправдались. Приглашение на ужин Власову и его помощникам от обергруппенфюрера Бергера, начальника Главного управления СС, напротив, указывало на то, что ставки Власова только поднялись.
После провала заговора 20 июля Вермахт потерял самых пламенных сторонников Русского освободительного движения, теперь все шансы так или иначе связывались с Гиммлером, и только время могло показать степень искренности последнего — с такими мыслями Власов и его приближенные отправлялись в гости к Бергеру. Случилось так, что штандартенфюрер СС Эрхард Крёгер прибыл из Дании и явился к Бергеру в тот же день, когда проходил этот официальный прием. Когда переговоры завершились, Бергер поинтересовался мнением Крёгера о том, как прошел ужин. Он-де пригласил генерала Власова с подачи Гиммлера, однако не испытывал полного доверия к переводчику из Вермахта.
На вечере Бергер, не осознавая того, насколько бестактно поступает, подарил своему гостю Власову книгу Франка Тисса «Цусима». Власов поблагодарил и таинственно заметил, что «Цусима» обернулась поражением для России, а он хочет поднять тост за удачу, которая будет сопутствовать ей в следующей битве. Он объяснил Бергеру, что готов к любым серьезным действиям против Сталина, однако больше не позволит использовать себя просто как прикрытие для пропаганды.
Бергер был человеком весьма скованным, внутренне очень в себе неуверенным и неискушенным в политических играх. Тем не менее его нельзя было упрекнуть в недостатке отваги — он часто высказывал свое мнение без обиняков, причем даже и Гиммлеру. Бергер провел на фронте всю Первую мировую войну, удостоился наград и вернулся домой в звании капитана, чтобы потом, кое-как перебиваясь, зарабатывать себе на хлеб учителем физкультуры. Сначала выступал сторонником «Штальхельма»,[159] потом присягнул на верность СС, в вооруженных формированиях которых вел военную подготовку,[160] чему — как и умению ладить с Гиммлером — и был обязан своей карьерой. Всего за несколько лет Бергер дорос до генерала СС и начальника Главного управления СС.
Крёгер настоятельно посоветовал Бергеру дать Гиммлеру позитивный отзыв о встрече и принять участие в подготовке проекта Власова. Если Гиммлер согласится, Крёгер просил поставить его руководить реализацией политической и административной части операции. На следующее утро Бергер доложил Гиммлеру и получил разрешение начать «акцию» с Крёгером во главе. Последний немедленно принялся собирать штаб.[161] Крёгер, таким образом, оказывался все еще под началом Бергера.[162]
До своего перевода в войска СС Крегер служил в СД, что облегчало дело, особенно в свете того, что глава РСХА, Эрнст Кальтенбруннер, держался невысокого мнения о Бергере и считал, что тот — будучи ответственным за проект Власова — вернее всего провалит операцию. Взаимоотношения Бергера с СД всегда оставляли желать лучшего — так, предшественника Кальтенбруннера, Рейнхарда Гейдриха, он называл жадным до власти и совершенно неразборчивым в средствах.
Крегер давил на Бергера, стремясь убедить его уговорить Гиммлера поскорее принять Власова, чтобы выработать, так сказать, договор о намерениях. В данном направлении действовал и Шелленберг. Гиммлер, однако, оттягивал встречу под предлогом занятости. Новости о переменах к лучшему у Власова быстро распространялись, и представители других славянских народов — особенно болгары, словаки, чехи и сербы — стремились к контакту с ним. Несмотря на однозначное неприятие национал-социализма, они в то же время жаждали свержения сталинского режима, от которого не ожидали ничего хорошего.
В то же время финский маршал Карл Маннергейм полуофициально через одного из своих генералов дал знать, что готовящийся сепаратный мир Финляндии с Советским Союзом есть следствие его разочарования «восточной политикой» Германии. Он являлся патриотом Финляндии, но как бывший гвардейский офицер царской России был связан тесными узами с русским народом. Окончательное решение его зависело от того, пойдет ли немецкое правительство — пусть это уже и казалось поздно — на кардинальную смену «восточной политики». Запрос СД к Гиммлеру по вопросу прояснения позиции Маннергейма остался без ответа.[163]
Чтобы избавить Власова от суеты подготовительного периода, ему предложили немного отдохнуть где-нибудь в стороне от дел. Надо было набраться сил перед встречей с Гиммлером. Власов возражал, говорил, что не нуждается в отдыхе, что если он от чего-то и устал, так это от ничегонеделания, но в итоге он сдался и в середине августа со Штрикфельдтом и Фрёлихом отбыл в Рупольдинг, неподалеку от которого в старом монастыре молодая вдова врача Аделаида Биленберг организовала дом отдыха для лишенных заботы семей погибших солдат. Она откликнулась на просьбу приютить у себя на время Власова с его штабом.
Фрау Биленберг и сама тоже проживала в монастыре, так что неминуемо имели место частые личные контакты ее с гостями — были диспуты и музыкальные вечера. Впервые с того момента, как он попал в плен, Власов очутился в домашней атмосфере. Нет ничего удивительного, что фрау Биленберг, привлекательная молодая женщина, вызвала в нем живой интерес, тогда как со своей стороны окруженный легендой русский генерал с его обширными планами и возможностями не мог не заинтриговать ее. Власов пел под гитару русские песни, рассказывал о том, как жил, и вел себя куда более общительно, чем прежде. Тяготившие его в Берлине переживания отступили на второй план. Так в последние недели перед последней попыткой начался любовный роман — более чем острое впечатление для Власова, принимая во внимание то, что он никогда полностью не забывал о том, какие опасности ждут его впереди.[164]
В начале сентября 1944 г. из Франции вернулся Малышкин, тщетно пытавшийся узнать там о судьбе добровольческих частей, окруженных в ходе немецкого отступления после вторжения союзников и прорыва фронта в Нормандии.[165] Оказалось совершенно невозможным узнать, каковы были потери, сколько вообще уцелело бойцов. Американцы официально говорили о двадцати тысячах пленных. Перебежчиков почти не было главным образом потому, что эти люди все еще надеялись оказаться в рядах освободительной армии. Пропаганда союзников тоже внесла свою лепту, пообещав отправлять русских перебежчиков обратно домой — этого-то они как раз больше всего и боялись.[166]
Долгожданное приглашение последовало 9 сентября — Гиммлер примет Власова 16-го числа. 15 сентября Власов сел на Штеттинском вокзале Берлина в обычный почтовый поезд. С ним вместе следовали д’Алькен, Штрикфельдт и в качестве представителя СД штандартенфюрер Ганс Элих. Крёгер подсел к ним в Позене, где проводил выходные дни и где его застала весть о предстоящей встрече.
В поезде д’Алькен еще раз обсудил с Власовым основные вопросы, которые надо поднять в разговоре с Гиммлером, подчеркнув тот факт, что после 20 июля Гиммлер сделался главнокомандующим армией резерва и посему был наделен властью создавать новые воинские части, в том числе и очень крупные, а кроме того, имел полномочия вводить самые радикальные изменения в «восточную политику». Д’Алькен посоветовал Власову откровенно перечислить совершенные ошибки, указать на упущенные возможности, а потом выходить с предложениями на ближайшее будущее. Он хотел, чтобы Власов, которого он описал Гиммлеру как выдающуюся личность, соответствовал данной оценке и произвел должное впечатление. Д’Алькен был убежден, что в случае успеха встречи она послужит началом исторического поворота и самым решительным образом повлияет на ход войны.
Власов с сопровождающими прибыли в ставку Гиммлера в 9 утра, а часом позже там же началось обсуждение. По просьбе Гиммлера Штрикфельдт в нем не участвовал. С точки зрения нациста он считался русофилом и вообще человеком неблагонадежным. Присутствовали Власов, д’Алькен, Элих и Крёгер, при этом последний выступал и в качестве переводчика.[167] Д’Алькен как инициатор встречи официально представил Власова, которому Гиммлер пожал руку. Все устроились за большим круглым столом.
Гиммлер открыл обсуждение следующим: ему известно о прошлом Власова, о его деятельности и планах. Он выразил сожаление о некоторой запоздалости их встречи, однако высказал уверенность, что и теперь еще не слишком поздно. Решения такого порядка требуют времени на оценку возможностей. Лично он (Гиммлер) обычно долго все обдумывает, но, раз сделав выбор, он остается верен ему. Он знает о совершенных немцами ошибках, а потому просит Власова проявлять безжалостную откровенность. Власов не должен истолковывать то, что встречу пришлось отложить, как акт недоверия. Он попросил о понимании тех трудностей, которые возникли после 20 июля.
Власов, обращавшийся к Гиммлеру «господин министр», поблагодарил за приглашение. Затем он указал, что встреча между Гиммлером, наисильнейшей фигурой в германском военном руководстве, и им самим, первым генералом, сумевшим нанести поражение немецкой армии в этой войне, является программной уже по своей сути. Он заявил, что происходит из крестьянской семьи, что любит свою страну и по этой самой причине ненавидит сталинский режим. Несмотря на все свои последние успехи, большевистская система будет обречена на погибель, если удастся нанести ей удары в самые уязвимые места. Условием должно служить сотрудничество Русского освободительного движения и немцев как абсолютно равных сил. Ему было бы интересно узнать отношение Гиммлера к данному вопросу в принципе, а в частности конкретно — какова его оценка памфлета «Дер Унтерменш».
Гиммлер умело уклонился от прямого ответа. Он сказал, что обеим сторонам следует избегать обобщений. В памфлете речь шла о человеческих созданиях при коммунистической системе, которые угрожают России не меньше, чем Германии. Сам факт данной встречи доказывает, что никто не считает недочеловеками всех русских. В каждом народе есть некоторое количество таких, однако в Советском Союзе они стоят у власти, тогда как в Германии их помещают в концентрационные лагеря. Он как раз и желает помочь Власову все поменять местами и в России. Он хотел бы знать, будет ли русский народ, по мнению Власова, считать генерала освободителем, если как раз это он и сделает.
Власов не стал ограничиваться только настоящей ситуацией. Среди всего прочего он заметил, что объявленная Сталиным Отечественная война, с помощью которой он теперь пытается спасти коммунистическую систему, носила прежде какой угодно, только не национальный характер. Еще до немецкого нападения на СССР в июне 1941 г. Сталин замышлял в конце 1942 г. вторжение в Юго-Восточную Европу, нацеливаясь на Румынию, Болгарию и Дарданеллы. План этот основывался на ленинской теории империалистической войны, в соответствии с которой в конфликте между капиталистическими государствами Советский Союз должен ударить по той из сторон, которая выйдет победительницей, — в данном случае по Германии. Никто не ожидал нападения немцев так рано, а потому они легко разгромили не до конца свинченную и налаженную советскую военную машину. Это отчасти объясняет крупные победы немцев на начальном этапе. Хотя он (Власов) и признает выдающиеся достижения немецких солдат, он считает себя обязанным сказать, что теми путями, какими немцы ведут войну, выиграть ее они не в состоянии. Советский режим можно свалить только политическими, но никак не военными средствами. Однако немцы ведут войну по старым, империалистическим шаблонам — то есть как чисто завоевательную.
Сталин ожидал и боялся того, что немцы ударят «с другого бока». Он почти открыто радовался — и одновременно удивлялся — тому, что видел, а затем призвал к Отечественной войне. Приди немцы как освободители, а не как завоеватели, правительство Сталина давно бы рухнуло. Но он (Власов) пребывает в уверенности, что даже и теперь массы русских людей еще можно поднять на борьбу против диктатуры Сталина, появись сейчас единая Русская освободительная армия; самим же немцам, если те провозгласят освободительные лозунги, уже никто не поверит. Вот по этой причине формирование такой армии есть самая насущная потребность сегодня. Он располагает достаточным авторитетом, чтобы возглавить ее, поскольку является не действующей в безвоздушном пространстве никому не известной темной лошадкой из эмиграции, а одним из самых известных генералов Красной Армии, фамилию которого слышали все ее солдаты и офицеры. Он не перебежал к немцам, но попал в плен, очутившись в безвыходном положении.
В одиночестве скитаясь по лесам в Волховском котле и позднее, беседуя с такими же, как он, военнопленными, он пришел к осознанию, что Сталин олицетворяет несчастье России и что его можно и нужно свергнуть с помощью русского народа. Вот поэтому он и выразил готовность сотрудничать с немцами, особенно после того, как познакомился со многими из тех из них, кто одобрял его планы. Он даже не может перечислить, сколько раз с тех пор, как было принято решение, его постигали разочарования.
Не дрогнув ни единым мускулом лица, Гиммлер выслушивал слова, которые прежде давно бы уже привели к взрыву гнева. Напоминание Власова о своей победе под Москвой, доктрина о славянских недочеловеках, грубые политические промахи немцев, невозможность одолеть Россию военными средствами и, наконец, высказанная точка зрения, что только Россия, освобожденная от сталинского режима, способна спасти Германию, — никто прежде не осмеливался вот так с маху выложить Гиммлеру подобные аргументы. То, что Власов озвучил их в такой час, говорило о его уверенности в себе и внутренней независимости.
Гиммлер поинтересовался тем, какую оценку даст Власов военной обстановке. Власов объяснил, что советская система, как любая совершенно негибкая общественная структура, имеет свои слабые места и что она может быть крайне уязвимой. Появление крупных, выступающих единым фронтом русских национальных сил теперь станет сюрпризом для Сталина. Германия располагает живой силой для русской армии — более чем миллионом человек, большая часть которых уже служит в существующих небольших по численности вооруженных формированиях. Если объединить их, одновременно заключив союз между немцами и временным русским национальным правительством, можно будет добиться поворота в войне.
Гиммлер коснулся трудностей с обеспечением вооружением, особенно тяжелым, а также последствий, которые повлечет за собой быстрый вывод из боевых действий русских частей, уже находящихся на фронте там, где не хватает людей немцам. Как бы то ни было, он обещал создать армейский корпус и другие части. Он уже консультировался с Гитлером и Йодлем. Власов может считать себя главнокомандующим Русской освободительной армией в звании генерал-полковника, обладающим дисциплинарными полномочиями и правом назначать офицеров на должности вплоть до полковничьих. Для назначения на более высокие командные посты он должен подавать ходатайства в управление личного состава немецкой армии.
Власов, располагавший очень точными и свежими статистическими данными, вновь настаивал на немедленном выводе всех русских частей из-под управления немцев и передаче под его командование. Он также требовал снятия запрета на переговоры с представителями сепаратистских меньшинств под опекой Розенберга и подчинения всех этих групп ему. Он заявил о желании принять концепцию устройства России как федеративного государства в качестве основы для открытия таких переговоров. Окончательное формирование русского государства можно будет завершить на основе данных референдума. В настоящее время сепаратисты предоставляют советской пропаганде массу козырей в политической борьбе. Было бы самым лучшим вариантом создать единое германское ведомство, наделенное властью быстро и окончательно решать все вопросы (касающиеся русских).
Затем разговор коснулся русских рабочих в Германии, которых Власов рассматривал как ресурс живой силы (для армии). Гиммлер возразил, указав на то, что от высвобождения большого количества рук пострадает военная промышленность. Вместе с тем он признал, что совершается довольно мало актов саботажа, особенно если принять во внимание, в каких, к сожалению, тяжелых условиях живут эти люди. Он бы приветствовал усилия Власова в русле повышения их политической активности.
Власов предложил вариант отдать их (рабочих из числа граждан СССР) под власть русского правительства. Они, безусловно, стали бы работать лучше и с большей охотой; при русской администрации повысилась бы и дисциплина. Гиммлер заметил, что было бы лучше, если бы Власов сосредоточил силы на улучшениях, скажем, в плане пищевого довольствия, условий быта и т. д. Данные усилия послужили бы росту его же популярности. Власов с этим согласился.
Гиммлер закрыл дискуссию выражением уверенности, что не видит причин в ближайшем же будущем не начать действовать в направлении решения оговоренных проблем. После формирования освободительной армии и русского альтернативного правительства Власов будет представлен Гитлеру на официальной церемонии. Гиммлер утвердил Крёгера на его посту как политического представителя с дополнительными полномочиями в вопросах практической координации. Крёгеру предстояло работать в тесном взаимодействии с Главным управлением СС в сфере экономических вопросов, а кроме того, тесно сотрудничать с д’Алькеном по части проблем психологической войны.
После завершения совещания все присутствующие приступили к еде и повели непринужденную беседу. Гиммлер задавал вопросы о профессиональном прошлом Власова, о его деятельности в Китае, о битве за Москву, выражая особый интерес в отношении импровизаций, на которые приходилось пускаться Советам. Когда он спросил, почему провалился заговор Тухачевского, Власов ответил, что Тухачевский совершил ту же ошибку, что враги Гитлера, — он не принял в расчет массы. Власов ушел в 3 часа дня. Гиммлер затем коротко поговорил с д’Алькеном и Элихом. Власов явно произвел на него благоприятное впечатление, и он заверил, что сдержит данное обещание. Однако Власов был и остается русским, а потому с ним надо быть начеку. Он попросил д’Алькена приглядывать за ним и тотчас же сообщать о любых неожиданных поворотах в развитии событий.[168]
* * *
Поначалу Власов горел оптимизмом. Он и его сподвижники считали, что делом наипервейшей необходимости является создание единой армии и некоего правительственного ядра, представлявшего освободительное движение, что дало бы им основу для переговоров с западными державами после краха национал-социализма. Участвовавшие в предприятии Власова немцы действовали быстро и энергично. По просьбе Гиммлера, д’Алькен побывал у шефа Гестапо Мюллера, который, как следовало опасаться, мог попытаться помешать реализации новой политики, и поставил его в известность о решениях Гиммлера. Д’Алькен сказал, что все это будет иметь свои последствия и для Гестапо и что Гиммлер просил его провести соответствующие приготовления. Зная об особой позиции д’Алькена, Мюллер выразил ему свое неодобрение схемой предстоящих действий, но, раз Гиммлер отдал такой приказ, он подчинится. Затем д’Алькен беседовал с Кальтенбруннером, который поначалу слушал скептически, а потом вдруг произнес:
— Теперь я смотрю на это дело по-другому. Замысел действительно грандиозный! — В конце встречи он добавил: — Слушаю вас и почти готов разделить ваш оптимизм.[169]
В начале ноября д’Алькен серьезно заболел и оставался не у дел до февраля 1945 г. Данное обстоятельство означало утрату одного из главных двигателей всего предприятия. Однако и он не смог бы «пробить» все необходимое; и вообще, глядя в ретроспективе, трудно понять оптимизм д’Алькена.
Вместе с тем немецкая военная промышленность работала тогда с полной отдачей, и, принимая во внимание глубокое понимание психологической обстановки на советской стороне, д’Алькен полагал, что появление на фронте крупного войскового соединения под началом Власова окажет решающее воздействие на события.
Тем временем, пока д’Алькен вел переговоры с Мюллером и Кальтенбруннером и приступал к переориентации пропагандистской деятельности своего полка, Бухардт занимался созданием единого штаба РСХА для связи с Власовым, набирая персонал из отделов и подотделов СС и СД. Новая группа получила независимый статус айнзацкоманды (оперативной группы). Она называлась «Специальной айнзацкомандой «Восток» и занимала место рядом с возглавляемым Крёгером штабом связи СС. Впоследствии между главами заинтересованных ведомств — Шиллингом, Олендорфом и Мюллером — возникли ожесточенные раздоры по поводу назначения начальника новой связной группы. Однако в итоге им стал Бухардт как инициатор проекта.[170]
Для окружения Власова личность такого начальника имела огромное значение. Чем больше русские приходили к выводу, что Гиммлер и Гитлер их обманывают, тем чаще позволяли они себе давать волю антинемецким настроениям. Если бы СД сообщила об этом, весь проект мог бы с треском провалиться. Одним благоприятным фактором являлась готовность сотрудничать друг с другом Бухардта и Крёгера, которые многие годы дружили и разделяли взгляды по поводу «восточной политики» рейха. А работать приходилось в обстановке крайней напряженности, что, в общем-то, неудивительно, принимая во внимание натянутый характер отношений между РСХА и Бергером.
Раздражительность и непредсказуемость Бергера была показана его реакцией на донесение о том, что некий унтер-офицер РОА позволял себе злобные высказывания в адрес вероломных немцев в зале ожидания на вокзале Берлина. Он будто бы грозил:
— Погодите, вот будет у нас своя армия, мы разнесем их на куски!
Бергер хотел тут же сообщить об этом Гиммлеру и прикрыть всю «лавочку Власова». Крёгеру пришлось немало потрудиться, чтобы успокоить его и убедить в том, что выходка какого-то унтер-офицера, который просто позволил себе распустить язык, не имеет такого уж большого значения.
Вместе с тем, несмотря на обещания Гиммлера, никаких изменений в «восточной политике» так и не происходило. Как не было ясно, насколько полно информирован в отношении происходящего Гитлер. Результатом становилась всеобщая неуверенность, которая мешала Крёгеру принимать необходимые политические и административные меры. Обстановка еще больше осложнялась нараставшим хаосом в верхах, когда один нацистский руководитель нередко отменял приказы другого. Ну и, конечно, невероятная инертность гражданской и военной бюрократии, которая оказалась не в состоянии справиться с делами, которые не вписывались в обычную рутину.
Гауляйтер Эрих Кох запретил любые упоминания о деятельности Власова в Восточной Пруссии и потребовал разоружить восточные части на ее территории. Гиммлер не сделал ни шагу, чтобы вмешаться. Розенберг — все еще не расставшийся с замыслами разделения России и считавший, что он один стоит во главе проекта Власова, — вызвал Крёгера и упрекнул его во вмешательстве в дела своего министерства, а потом еще пожаловался на это Гиммлеру и Борману.
Отношение самого Гиммлера тоже не претерпело фундаментальных изменений, как показывает его замечание Бергеру, что-де, если затея с Власовым вызывает столько раздражения уже в самом начале, он, пожалуй, прикроет все дело.[171] Его мелочность и оппортунизм еще отчетливей проявились, когда он вызвал для обсуждения необходимых шагов, которые предстоит предпринять, генерала Кёстринга. Несмотря на противодействие Бергера, Крёгеру ранее удалось заручиться одобрением Гиммлера того, чтобы контроль над армией Власова вверили не СС, а Вермахту. Крёгер считал, что Вермахт располагает лучшими специалистами и большими техническими возможностями, кроме того, СС стали бы обузой для освободительного движения как в политическом плане, так и пропагандистском.[172] Согласие Гиммлера на подобное предложение было более чем удивительным, поскольку он, как и все нацистские руководители, после событий 20 июля особенно не доверял Вермахту.
— Намерения армии были плохи, — заявил он 3 августа на совещании гауляйтеров в Позене.
Гиммлер даже не представлял себе количества восточных добровольцев. Когда Кёстринг сказал, что общее число их достигает 800–900 тысяч человек, он был просто поражен. Никто ничего подобного ему не говорил — стоило из-за чего взволноваться! Вместо того чтобы увидеть в данном факте готовность русских к сотрудничеству с немцами, он перепугался. Сначала надо создать две дивизии, потом еще, однако… он должен поговорить с фюрером. В общем, можно подытожить: во всей своей сложности проблема целиком до конца никогда так и не обсуждалась и не обдумывалась.
Чтобы выяснить уровень принципиальной заинтересованности Гитлера в предприятии Власова, Кестринг предложил, чтобы ОКВ поместило все разбросанные добровольческие формирования под номинальное командование Власова. Ответ говорил сам за себя: Йодль заявил, что у него нет намерений помогать организации палачей Германии, а Кейтель сказал, что слишком часто выслушивает от Гитлера упреки в связи с этой аферой и что и пальцем не пошевелит для Власова.[173]
Гитлер нехотя согласился на формирование нескольких русских дивизий и на провозглашение освободительного комитета. Однако он ни на минуту не собирался вступать в честные партнерские взаимоотношения с Власовым, что показывает совещание в ставке 27 января 1945 г. Когда Гудериан заговорил о том, что Власов намерен представить переводы протоколов допросов в связи со стычками между русскими и немецкими солдатами, Гитлер заявил:
— Власов — никто.
После чего последовали следующие высказывания:
«Геринг: Солдат Власова так ненавидят с той стороны, что не церемонятся, когда те попадают в плен.
Гитлер: Не говорите так, они все же дезертируют.
Геринг: Все, что они могут делать, — это дезертировать. Ни на что другое просто не способны.
Гудериан: Не стоит ли ускорить формирование двух дивизий в Мюнзингене?
Гитлер: Да, покончите с этим.
Фегелейн: Рейхсфюрер (Гиммлер) хочет получить командование над обеими дивизиями.
Гитлер: Власов не получит командования.
Геринг: Они ничего больше и не могут — только дезертировать. С другой стороны — жрут меньше…»[174]
Вот с таким полным непониманием — так примитивно — подходили высшие руководители рейха к кардинальной проблеме войны. На протяжении всей русской кампании в оперативном штабе Гитлера не было ни одного эксперта по Востоку.
А тем временем в Далеме и Дабендорфе, где после встречи Власова с Гиммлером русские продолжали верить в наличие у последнего власти и намерений для реализации проекта, полным ходом шла организация «Комитета освобождения народов России» (КОНР). Сначала были созданы четыре управления: административное, которое возглавил Малышкин, являвшийся также и заместителем Власова; гражданское — для защиты интересов восточных рабочих и военнопленных — под началом генерала Закутного; управление пропаганды (Жиленков) и Генеральный штаб вооруженных сил КОНР, начальником которого стал Трухин, а заместителем — Боярский. Были определены кандидатуры командиров двух первых дивизий и начальника офицерской школы. В качестве политического фундамента создали проект декларации с заявлением целей освободительного движения. Ее предстояло провозгласить на помпезно-торжественной церемонии в Праге, которую выбрали для этого, потому что считалось необходимым провести процедуру провозглашения в славянском городе.
Декларации придавалось особо важное значение. Вступление написал бывший помощник Зыкова — Ковальчук; Зайцев — основной текст; а Нарейкис — заключение. После того как его просмотрели и одобрили Власов и ближайшие соратники, документ поступил на рассмотрение к соответствующим немецким властям, при этом Розенберга в данном процессе обошли. Текст, политическую важность которого признавали все, писался с таким умыслом, чтобы, сказав все необходимое, ухитриться не дать противникам никакого шанса для нападок.
И вот, несмотря на то, что писалась она во времена диктатуры, сама по себе декларация получилась твердо демократическим документом. Главные требования, призывы и цели заключались в следующем: свержении советского режима и реализации целей февральской революции 1917 г., которые советы предали; заключение почетного мира с Германией, что должно было фактически исключать колонизаторскую политику или владычество последней; принятие немецкой военной помощи на условиях, которые бы не нарушали чести и независимости русских, и осуждение любого деспотизма и угнетения других народов. Если уж судить честно — несмотря на отсутствие явных высказываний по поводу национал-социализма, — декларация фактически была направлена не только против советского режима.
Гиммлер вернул проект с замечанием, что он слишком пространен, и посетовал также на отсутствие безоговорочной позиции по поводу еврейского вопроса и западных держав. Крёгер уговаривал Гиммлера пропустить текст таким, какой есть, поскольку русским, безусловно, лучше известна психология их соотечественников и то, как наиболее действенным образом обратиться к ним. Власов категорически отказался включать любые антисемитские пункты. Однако для того, чтобы дать ход декларации, была найдена формулировка, подразумевавшая борьбу не только против Сталина, но и против западных союзников. Затем финальная версия поступила на подпись к Гитлеру из рук представителя Министерства иностранных дел Зоннлейтнера.
Гитлер между тем отказался одобрить ее. Гиммлер ничего не сказал ему о декларации, и фюрер хотел поговорить с ним о ней. Совершенно очевидно, никто не пытался обсудить крупные перемены в «восточной политике»; Гиммлер представил всю программу просто как тактический маневр. Как и прежде, сторонники политических перемен оставались вынуждены продвигать свои предложения под прикрытием тактических или пропагандистских операций, пока желаемый результат не будет достигнут автоматически, то есть, можно так сказать, «неумышленно» — как бы сам собой.
Гитлер в итоге все же согласился на церемонию провозглашения декларации в Праге, но тихо, без помпы. В результате большинство приглашенных на церемонию немецких чиновников отказались от участия. Лишь обергруппенфюрер СС Лоренц участвовал в процедуре как официальный представитель немецкого правительства.[175]
Тем временем изначальный оптимизм Власова перерастал в разочарование. Гиммлер не сдержал почти ни одного из своих обещаний. Вместо заявленных десяти дивизий к середине октября в процессе формирования находилась только одна, кроме того, оказалось невозможным высвободить добровольческие части, несшие службу в рядах Вермахта.
Неудачей окончился также и план установления практического сотрудничества с представителями других национальных структур — попытка поставить под командование Власова 162-ю тюркскую дивизию, украинскую дивизию и казачий корпус. Поддерживаемые Розенбергом, представители национальных групп отказались признавать полномочия Власова. Свое отношение они обьяснили тем, что сражаются за независимость своих народов, тогда как Власов для них служит воплощением русского империализма. Власов считал занятые ими позиции эгоистическими и недальновидными, поскольку манифест гарантировал «равенство всех народов России, их право на национальное развитие, самоопределение и, если потребуется, полный суверенитет». Что касается последнего, то существовала четкая оговорка: народы сами будут ратифицировать решения руководящих органов после низвержения советской системы. По словам Власова: «нельзя победить Сталина иначе, как сжав пальцы в кулак». Большинство добровольцев и восточных рабочих не разделяло экстремистских и нереалистических взглядов сторонников национального сепаратизма, они рассматривали КОНР как естественного и наиболее эффективного своего представителя — об этом свидетельствуют подписанные ими петиции и сведения в рапортах СД.
Особенно непросто складывались взаимоотношения с западными украинцами из бывшей польской Галиции. Эти люди, на которых приходилось от пяти до шести процентов проживающих в мире 35 млн. украинцев, исповедовали католицизм, тогда как остальные украинцы — православие. Западные украинцы были куда более фанатичными в плане национального самоопределения, чем их собратья из Советского Союза. Они считали, что великороссы всем сердцем поддерживали Сталина за то, что он сделал Россию даже большей, чем она была при царе, и опасались, что сотрудничество с Власовым не просто не принесет им поддержки русского народа, но и лишит симпатий нерусских. Подобная точка зрения совпадала с мнением Розенберга, и с его помощью такие силы пытались всеми возможными путями заблокировать путь Власову. Лидер западных украинцев Бандера даже ездил в Югославию, чтобы встретиться с бойцами казачьего корпуса, и выступал с высказываниями против Власова до тех пор, пока Паннвиц не остановил его, угрожая арестом в случае, если он будет продолжать агитацию на его территории.[176]
Олендорф и Шелленберг использовали давление, чтобы сгладить разногласия этнических групп. В итоге они устроили встречу Власова с одним из наиболее воинственных представителей кавказцев по фамилии Кедия;[177] однако из этого ничего не вышло. Кедия заявил:
— Я предпочитаю Сталина лицом к лицу, чем Власова за спиной.[178]
Власов оставил усилия в данном направлении, так как счел бессмысленным настаивать на сотрудничестве и принуждать к нему.[179]
Однако Гиммлер не сумел сдержать обещаний не только в том, что касалось национальных меньшинств. Стремление предоставить русским военнопленным тот же статус, что и попавшим в плен солдатам из других стран, тоже не было реализовано полностью. Восточное управление Министерства пропаганды не было передано под юрисдикцию КОНР, как это ожидалось, и последний получил право контролировать лишь русскую прессу, издававшуюся в Германии. После провозглашения декларации в Праге КОНР приступил к изданию в качестве главного печатного органа газеты «Воля народа».
В середине октября Власову пришлось попрощаться со Штрикфельдтом. Поскольку у СС появился штаб связи во главе с Крёгером, он стал ненужным как советник, поэтому Гелен поручил ему написание истории немецкой «восточной политики» и «власовской акции». Прощание стало непростым. Штрикфельдт работал с Власовым два года, и их официальные взаимоотношения переросли в дружеские. Теперь ему приходилось бросать Власова — бросать в тот момент, когда стало ясно, что их общие усилия закончились ничем, что цель в тандеме с немцами никогда уже не будет достигнута. Он посоветовал Власову высказать протест против очередной демонстрации немецкой двуличности, подав в отставку после провозглашения манифеста. Такой шаг — очевидный для всех — стал бы наглядной демонстрацией непринятия «восточной политики» нацистов. Все, что останется сделать потом, можно будет доверить Трухину. Власову понадобилось время на обдумывание, но на следующий день после обсуждения вопроса с русскими соратниками он отверг предложение Штрикфельдта. Власов не хотел покидать тех, кто более, чем когда-либо, возлагал на него надежды. К тому же он опасался вероятности того, что его резкий шаг плохо отразится на положении русских рабочих и на процессе создания освободительной армии.
14 ноября 1944 г. было выбрано датой провозглашения манифеста КОНР. Специальный поезд доставил Власова и наиболее видных деятелей КОНР, почетных гостей и представителей прессы в Прагу накануне вечером, и Власову с его сподвижниками пришлось провести ночь в спальном вагоне на запасном пути.
Затем началась церемония в духе тех, которыми обычно удостаивали высоких государственных гостей. «Недочеловеки» превратились вдруг в союзников. На вокзале Власова встречал командующий военным округом генерал Туссен, немецкий почетный караул взял на караул. Прием, данный рейхсминистром Франком в Чернинском дворце, и банкет, который он закатил для небольшого круга немецких и русских офицеров, — все очень впечатляло и проходило на высоком организационном уровне.
Торжественное чтение манифеста состоялось в 3 часа пополудни в знаменитом Испанском зале Пражского замка. Присутствовали высокопоставленные офицеры Вермахта и СС, делегаты властей рейха, представители государств-союзников Германии и нескольких нейтральных стран, а также представители протектората Богемия и Моравия и пресса. Многие из тех, кто еще несколько месяцев назад отвергал всякий контакт с «недочеловеками», почли за счастье принять участие в церемонии.
Когда Власов, сопровождаемый слева и справа Франком и официальным представителем рейха, обергруппенфюрером СС Лоренцем, вошел в зал, все присутствующие встали. Франк приветствовал Власова и членов освободительного комитета от имени города Праги и своего министерства. Затем выступил Лоренц, говоривший от имени рейха и называвший Власова «другом и союзником в борьбе против большевизма». Власов поблагодарил их и перешел к главной повестке дня — чтению манифеста. После преамбулы, в которой критиковался советский режим и перечислялись попытки завоевать свободу, Власов возвысил голос и провозгласил программу, за которую так упорно боролся:
«Исходя из этого, представители народов России в полном сознании своей ответственности перед своими народами, перед историей и потомством, с целью организации общей борьбы против большевизма создали Комитет Освобождения Народов России.
Своей целью Комитет Освобождения Народов России ставит:
а) Свержение сталинской тирании, освобождение народов России от большевистской системы и возвращение народам России прав, завоеванных ими в народной революции 1917 года.
б) Прекращение войны и заключение почетного мира с Германией.
в) Создание новой свободной народной государственности без большевиков и эксплуататоров.
В основу новой государственности народов России Комитет кладет следующие главные принципы:
1) Равенство всех народов России и действительное их право на национальное развитие, самоопределение и государственную самостоятельность.
2) Утверждение национально-трудового строя, при котором все интересы государства подчинены задачам поднятия благосостояния и развития нации.
3) Сохранение мира и установление дружественных отношений со всеми странами и всемерное развитие международного сотрудничества.
4) Широкие государственные мероприятия по укреплению семьи и брака. Действительное равноправие женщины.
5) Ликвидация принудительного труда и обеспечение трудящимся действительного права на свободный труд, созидающий их материальное благосостояние, установление для всех видов труда оплаты в размерах, обеспечивающих культурный уровень жизни.
6) Ликвидация колхозов, безвозмездная передача земли в частную собственность крестьян. Свобода форм трудового землепользования. Свободное пользование продуктами собственного труда, отмена принудительных поставок и уничтожение долговых обязательств перед советской властью.
7) Установление неприкосновенной частной трудовой собственности. Восстановление торговли, ремесел, кустарного промысла и предоставление частной инициативе права и возможности участвовать в хозяйственной жизни страны.
8) Предоставление интеллигенции возможности свободно творить на благо своего народа.
9) Обеспечение социальной справедливости и защиты трудящихся от всякой эксплуатации, независимо от их происхождения и прошлой деятельности.
10) Введение для всех без исключения действительного права на бесплатное образование, медицинскую помощь, на отдых, на обеспечение старости.
11) Уничтожение режима террора и насилия. Ликвидация насильственных переселений и массовых ссылок. Введение действительной свободы религии, совести, слова, собраний, печати. Гарантия неприкосновенности личности, имущества и жилища. Равенство всех перед законом, независимость и гласность суда.
12) Освобождение политических узников большевизма и возвращение на родину из тюрем и лагерей всех, подвергшихся репрессиям за борьбу против большевизма. Никакой мести и преследования тем, кто прекратит борьбу за Сталина и большевизм, независимо от того, вел ли он ее по убеждению или вынужденно.
13) Восстановление разрушенного в ходе войны народного достояния — городов, сел, фабрик и заводов за счет государства.
14) Государственное обеспечение инвалидов войны и их семей».
Заканчивался манифест призывом встать на борьбу с диктатурой Сталина.[180] Гитлер или национал-социализм не упоминались в документе ни единым словом. Поскольку манифест отображал убеждения людей, знакомых со сталинским режимом не понаслышке, вряд ли стоит удивляться его демократическому духу. Удивительно то, что все это было позволено написать и высказать. Вероятным объяснением может служить имевшееся в то время у части нацистских вождей желание столкнуть западные державы и Советский Союз.
Основная важность декларации заключается в том, что она дала освободительному движению легитимную базу, поскольку до этого момента Власов и его сторонники не имели права открыто провозглашать цели, мотивы и намерения движения, что позволяло любым несведущим лицам считать и называть их предателями. Теперь, благодаря манифесту, становилось известно о наличии у них политических целей, отличных от тех, которые имелись у «оборотней» из других стран, готовых принять нацизм.
После официальной части Франк закатил в Чернинском дворце банкет на пятьдесят персон. Русские находились в прекрасном настроении. Звучали тосты, звенели бокалы, а затем Власов стоя высказал благодарность своему другу и советчику Штрик-Штрикфельдту, который во время церемонии скромно сидел в заднем ряду. Позднее русские спели балладу о казачьем атамане Стеньке Разине, досыта хлебнувшем свободы и заплатившем за нее головой. В итоге в 2 часа ночи Власов и его коллеги по КОНР поехали на вокзал, где к ночному поезду на Берлин для них прицепили специальный вагон.
Декларация была опубликована в первом номере нового печатного органа КОНР — газеты «Воля народа», вышедшей большим тиражом 15 ноября. Одновременно на советской территории был произведен выброс листовок с текстом декларации.
18 ноября в зале берлинского «Ойропа Хаус» состоялся митинг, на котором присутствовало 1500 человек, в большинстве своем члены делегаций из трудовых лагерей и лагерей для военнопленных. В долгой речи Власов разъяснил им цели освободительного движения и закончил доклад чтением декларации. Из других выступавших собравшиеся особенно хорошо принимали священника Киселева, который подчеркнул демократические принципы, провозглашенные в манифесте, и лейтенанта Дмитриева, который в заключение воскликнул:
— Мы не являемся и не собираемся становиться немецкими наймитами. Мы воюем за свободную Россию — за Россию без большевиков и угнетателей.
Эти слова вызвали не смолкавшие несколько минут овации, многие из присутствовавших плакали. Митинг закончился пением гимна «Коль славен…».
19 ноября в русском соборе Берлина глава Русской православной церкви за рубежом митрополит Анастасий и митрополит Берлина и Германии Серафим отслужили торжественную службу за победу воинов-освободителей. Затем Власов посетил Анастасия в Далеме, где у них состоялась беседа, продлившаяся несколько часов. Приветствуя митрополита, Власов испросил церковного благословения — он признавал церковь и ее обряды, хотя верующим в строгом смысле этого слова не являлся. 20 ноября посланники РОА провели встречи с военнопленными и восточными рабочими с целью рассказать им о КОНР и ознакомить с текстом манифеста. В течение нескольких следующих дней от различных групп рабочих прибыло 470 коллективных телеграмм, а также тысячи личных писем, в которых содержались просьбы о вступлении в РОА добровольцами в общей сложности более тридцати тысяч человек. На организацию армии потекли пожертвования — деньги, украшения, даже обручальные кольца.[181]
Во времена, когда крушение Третьего рейха было уже не за горами, десятки тысяч людей высказывали свою поддержку освободительному движению. Оставляя за кадром бесчестность немецкого руководства, было бы совершенно неверно называть Пражскую декларацию и собрания и митинги в поддержку КОНР «фарсом» и отзываться о их участниках как о «пустых и злобных крикунах».[182] Русские выражали готовность пожертвовать очень многим, если не всем, ради освобождения от сталинского режима. Они очень боялись приближавшейся «красной косы» — сталинских войск, чувствуя острую потребность сплотить ряды как можно крепче. Теперь у них появился представительный орган — КОНР и инструмент осуществления власти — РОА, способная стать на их защиту от произвола немцев. Они рассчитывали, что западные демократии смогут понять политический характер их борьбы за свободу. Они считали альянс Запада со Сталиным просто временной выгодной сделкой и испытывали уверенность в том, что он рухнет немедленно после того, как падет гитлеровский рейх и снова станут очевидными притязания Сталина на осуществление мировой революции. Вера в западные державы сегодня может показаться наивной, но не менее наивной была и вера хорошо информированных людей на Западе в «доброго старого дядюшку Джо».
Тревоги, мучившие Власова в предшествующие провозглашению Пражской декларации недели, если не улетучились вовсе, то рассеялись. До самой последней минуты он боялся запрета. Как сказал он Мелитте Видеманн:
— Теперь это случилось, и никто уже ничего не изменит. Если Судьба обрекает нас на смерть — мы умрем. Но семя правды ляжет в землю, оно прорастет и даст всходы.[183]
Измотанный длительной борьбой со слепотой и самонадеянностью немецких руководителей, Власов ничего особенно хорошего для себя уже не ждал. Все, что осталось, — создать как можно большую армию, чтобы пресечь дальнейшие агрессивные поползновения немцев и показать всем действенность политического освободительного движения. Выживание зависело от выхода на арену борьбы политической силы, которую признают западные державы.
В плане применения РОА на заключительном этапе войны, окончание которой, по общему убеждению, ожидалось не ранее осени 1945 г., на обсуждении находились два возможных варианта: прорыв на Восточном фронте на соединение с Украинской повстанческой армией (УПА) или же объединение с казачьим корпусом, русским корпусом и войсками Михайловича в Югославии.
Усилиями Розенберга в конце сентября 1944 г. вышли на свободу два лидера украинских националистов — Бандера и Мельник. Власов вошел с ними в контакт и предложил сотрудничество с УПА. Бандера, однако, начал объяснять, что после долгого заключения не располагает полномочиями действовать самостоятельно и предпочел бы принимать такие решения только с одобрения Высшего Освободительного Совета, ставшего главной политической силой на контролируемой УПА территории. Репрессивная политика рейхскомиссара Коха толкнула УПА на путь борьбы с немцами, но теперь, когда Красная Армия снова отвоевала Украину, повстанцы повернули оружие против Советов. УПА усилили уцелевшие части галицийской дивизии СС, разгромленной под Бродами в июле 1944 г.
Теперь Вермахт начал снабжать УПА оружием. Капитан Витцель, возглавлявший разведку группы армий «А», вылетел через линию фронта в расположения УПА, чтобы оценить обстановку и присмотреться к тому, как можно задействовать эти довольно значительные силы.
Украинцы перебросили через линию фронта представителя Освободительного Совета, который в ходе переговоров с Бандерой и немецкими властями вел себя с большой уверенностью. Он заявил, что значительная часть Украины, за исключением крупных городов и главных линий коммуникаций, находится в руках УПА, которая ожидает поддержки Запада после крушения Германии. УПА, как он сказал, будет готова взаимодействовать с Власовым, если последний согласится признать Освободительный Совет представительным органом свободной и независимой Украины.[184]
Власов отверг подобную форму признания независимости и адресовал украинцев к соответствующим пунктам манифеста. Как бы там ни было, он заявил, что сразу после формирования трех первых дивизий РОА и объединения их с казачьим корпусом, корпусом Штейфона, 2-й украинской дивизией и военно-воздушной группой Мальцева, что даст в сумме около 100 тысяч человек, он сможет серьезно подумать о прорыве фронта, чтобы, соединившись с УПА, численность которой оценивалась в 50 тысяч бойцов, включиться в совместную революционную борьбу. В этом случае можно рассчитывать на переход на их сторону значительного количества солдат Красной Армии и, как он надеялся, на поддержку западных держав.
Для выяснения готовности НТС также принять участие в этом плане Власов отправил Меандрова на переговоры со взятыми Гестапо под стражу руководителями НТС в Берлине. Попытка Власова добиться их освобождения оказалась непродуктивной, однако разговоры об их расстреле прекратились, и Гестапо позволило Меандрову проводить переговоры без присутствия надзирателей. Руководители НТС считали успех плана сомнительным по причине его запоздалости, но выражали готовность присоединиться, поскольку иного варианта не видели.[185]
От плана пришлось, однако, отказаться, поскольку к середине января Красная Армия вышла на реку Одер. Тогда началось обсуждение возможности переброски всех имеющихся сил в Югославию. РОА во взаимодействии с казачьим корпусом, корпусом Штейфона и силами Дражи Михайловича[186] могла бы встать на пути у рвущихся к власти коммунистов Тито. Оставалась надежда, что после крушения Третьего рейха на данном театре военных действий будет оказана помощь со стороны западных союзников. Было просто невозможно представить, что Англия, где находился в изгнании король Петр, отдаст Югославию коммунистам. Однако быстрое развитие событий на заключительном этапе войны свело на нет и этот план.
После принятия Пражской декларации Дабендорф и Берлин охватила лихорадочная активность. Словно по волшебству в одночасье штаб-квартира Власова превратилась в политический центр, где шла деятельность и строились планы, совершенно независимые от политики Третьего рейха, а отчасти и оппозиционные ей. Туда слетались, как на огонек, немцы, русские, иностранцы — одни из любопытства, другие из солидарности или в предвкушении того, что вот-вот на политическом небосклоне появится что-то новое.
Генеральный директор Дрезденского банка предложил Власову кредит в миллион марок. Неофициальные представители болгар, сербов, словаков, венгров, а также стран Балтии отметили, что Пражский манифест содержит политическую программу, которую они готовы принять. Становилось очевидным, что борьба за небольшевистскую Россию вызвала громкий отклик у этих народов.
Чтобы подчеркнуть значение Власова как международной фигуры, Крёгер устроил Жиленкову поездку в словацкую столицу Братиславу, чтобы тот как представитель Власова и освободительного движения мог выступить там перед немецко-словацким обществом. Президент Словакии Тисо устроил Жиленкову официальный прием, министры осыпали его подарками и по-славянски обменялись с ним поцелуями.
Будучи официально независимым государством, Словакия после неудачного восстания в августе 1944 г. в действительности полностью контролировалась Германией. Потому особо примечательны вопросы, задававшиеся Жиленкову, и откровенность, с которой он отвечал на них. На приеме для иностранных корреспондентов в Братиславе последние хотели знать в том числе и следующее:
«В (вопрос). Каково отношение КОНР к западным державам?
О (ответ). РОА хочет сражаться лишь против советского режима. Мы не воюем с западными державами. Части, которые сражаются на Западном фронте, не находятся под командованием Власова.
В. Каково отношение КОНР к еврейскому вопросу?
О. В России нет какого-то особого еврейского вопроса, который бы нуждался в решении.
В. Какую плату КОНР пообещало немцам за их помощь?
О. Мы не обговаривали никакой платы. Кроме того, совершенно очевидно, что мы не примем никакого соглашения, могущего каким бы то ни было образом задеть честь России.
В. По каким причинам Жиленков, видный коммунист, перешел на сторону немцев?
О. Он никогда не переходил на сторону немцев, а совместно со многими другими, разделяющими его убеждения, вступил в борьбу с правительством, которое подавило свободу в России. Как крупный чиновник в прошлом, он больше многих других знает о злодеяниях сталинского режима».[187]
После этой поездки Гиммлер приказал Крёгеру оборвать все контакты Власова с внешним миром. В одобрении запланированного на февраль 1945 г. в Братиславе панславянского конгресса с Власовым в качестве председателя было отказано. Пока Власов пытался ускорить ввод в строй дивизий РОА и добиться передачи под его начало казачьего корпуса и других уже готовых к участию в боях частей, продолжалась борьба с немецкими официальными кругами. Розенберг настаивал на торпедировании программы Власова. Гестапо предупреждало об опасности перехода КОНР на сторону западных держав. Тауберт, глава Восточного управления в Министерстве пропаганды, так суммировал возражения противников КОНР: «Движение Власова — хорошо это или плохо для Германии — внутренне не привязано к ней. Оно имеет сильные англофильские симпатии и не чуждо идее возможной смены курса. Движение Власова не национал-социалистическое. Важно отметить, что оно не считает врагами евреев, что еврейский вопрос не признается им как таковой».[188]
Замечания эти были верными, но озвучивались они апологетами нацистской «восточной» программы, призывавшей к завоеванию и подавлению России. Немцы, поддерживавшие Власова скорее из оппортунизма, чем из убеждений, вторили им потому, что он не являлся ни предателем, ни наемником. В итоге сторонники Власова и великорусской линии победили в борьбе за новый «восточный подход». Розенберга обошли, переиграв на маневре и поставив перед свершившимся фактом. Однако последний в те немногие месяцы, которые остались до полного краха Германии, все так же носился со своими идеями. Он продолжал разоблачать «губительные намерения» Власова и его «подготовку к великорусской диктатуре с помощью никому не известных остолопов». Тогда как КОНР предполагал, что борьбу против Сталина нужно вести под объединенным руководством, «комитет Власова намеренно не замечал того факта, что такое объединение возможно только под немецким главным командованием»; по поводу формирования национального управления в КОНР Розенберг заявлял прямо, что это «целенаправленная провокация», и обрушивался с критикой на СС, которое сделало фатальные шаги, даже не проинформировав его. Он (Розенберг) более не имеет доступа к фюреру, и если кто-нибудь не скажет фюреру, что происходит, тогда через тридцать лет после немецкой победы и воцарения Власова великорусским правителем «централизованная власть может выступить против наших детей», и все это просто потому, что «некоторые руководители не понимают логики событий».[189] Когда чиновником, отвечавшим в Министерстве иностранных дел за связь с КОНР, назначили Густава Хильгера, Розенберг заподозрил его в «проболыпевистских симпатиях» и заявил, что Хильгер — друг одного из врагов немцев, Эмиля Людвиг-Кона, с которым будто бы тот встречался в Швейцарии. «Я уверен, — заключал он в итоге, — что Хильгер самый неподходящий из всех людей для того, чтобы заниматься восточными проблемами в национал-социалистическом государстве».[190]
До Власова лишь долетали слухи — да и то отрывочно — об этих трениях и столкновениях отдельных фракций. Он не желал иметь ничего общего с Розенбергом и с его «министерством колоний», как он его называл. Когда стало ясно, что не удастся достигнуть взаимопонимания с национальными группами, поддерживаемыми Розенбергом, КОНР создал свои собственные органы по связям с ними.
* * *
Произведенное за сравнительно короткое время формирование двух дивизий стало возможным только благодаря усилиям полковника Генерального штаба Хайнца Герре. Кёстринг добился перевода Герре из Италии, где тот командовал 232-й пехотной дивизией. Прибыв в Берлин 8 ноября, Герре отправился в Потсдам к Кёстрингу, которого застал постаревшим и в довольно пессимистическом настроении. Хотя его и снедало ощущение того, что уже «слишком поздно», Кёстринг все же хотел сделать максимум возможного для создания русской армии — хотя бы для того, чтобы попытаться, как он выразился, «спасти эти войска для будущего, которое наступит после нашего поражения».[191]
Герре собрал в Берлине небольшой штаб из офицеров, знакомых с русскими проблемами. На роль начальника оперативного отдела он выбрал майора Кайлинга, награжденного Железным крестом за свое командование 621-м русским артиллерийским дивизионом. Герре быстро уяснил, что сложностей куда больше, чем он себе представлял. Враждебность, недопонимание и чиновничий обструкционизм являлись правилом — несмотря на приказы Гиммлера, за каждую часть приходилось драться.[192] Первая и вторая дивизии, обозначенные как 600-я и 650-я (русские) пехотные дивизии, были отправлены для комплектования и обучения одна в Мюнзинген, а другая в Хойберг, в Швабские Альпы. Однако для формирования этих дивизий Вермахт выказал готовность пожертвовать только подразделениями из сбитых на скорую руку потрепанных частей, удержав при себе проверенные в боях, которые не считал возможным высвободить.
Две наиболее крупные группы, находившиеся до того под командованием войск СС, образовывали ядро первой дивизии: остатки белорусской дивизии СС Зиглинга,[193] разгромленной во Франции, и пять тысяч человек бригады Каминского. — С белорусским контингентом проблем не возникло, однако интеграция бригады Каминского породила большие сложности. Одно из первых формирований освободительной армии — РОНА — было создано в районе пос. Локоть из крестьян, либо вовсе не имевших военной подготовки, либо плохо подготовленных, а также из солдат и офицеров Красной Армии, которые после Брянского окружения, стоя перед альтернативой отправиться в лагерь для военнопленных или вступить в бригаду Каминского, выбрали последнее. Недостаток старших офицеров тогда восполнили за счет выдвижения и повышения из числа имевшихся в наличии; военного опыта тех вновь назначенных командиров было достаточно для борьбы с партизанами. Однако в новой ситуации было признано, что лишь немногие из них имеют подготовку, соответствующую занимаемым должностям. Даже преемник Каминского, «полковник» Белай, служил в Красной Армии всего лишь старшим лейтенантом. Потому только немногих офицеров признали годными для занимаемых постов. Легко понять, что личный состав бригады охватило недовольство. После расстрела Каминского его люди чувствовали себя преданными со всех сторон и стремились найти новый смысл существования в рядах РОА.
Военнослужащие бригады перенесли сильное разочарование и утратили веру во что-либо после того, как им пришлось отступать из Локотского автономного округа, где РОНА чувствовала себя практически независимой и существовала как бы сама по себе. Позднее, уже в Лепеле, они столкнулись лицом к лицу с реальным отношением немецкого руководства. Они испытали унизительное обращение со стороны немецких властей разного уровня и узнали правду о происходившем в трудовых лагерях и в лагерях для военнопленных. Следствием стал рост сомнений и упадок духа. Учитель из числа русских немцев, служивший в качестве переводчика, узнав, что все на самом деле было не так, как он думал, даже застрелился в знак протеста. Он заявил, что стыдится быть немцем. Один капитан тоже покончил с собой, когда увидел, что происходит с рабочими и военнопленными в лагерях в Германии.
Ситуация вокруг РОНА особенно осложнялась тем, что бойцы, происходившие из района Локтя, привезли с собой семьи, а это означало, что приходилось обеспечивать всем необходимым более 50 тысяч человек. В данном положении Каминскому пришлось принять предложение местного начальника полиции и СС Готтберга и перейти в распоряжение СС. Таким образом он надеялся добиться улучшения условий жизни для семей своих солдат и лучшего вооружения для них самих, поскольку они ходили в обветшавшем обмундировании и не имели адекватного снаряжения.
Гиммлер наградил Каминского Железным крестом 1-го класса и возвел в звание полковника СС.[194] Соединение переименовали в 29-ю (русскую) дивизию войск СС «РОНА». Однако лишь небольшая часть личного состава получила новую форму. (Те же, которым ее выдали, немедленно сняли немецкие знаки различия и заменили их нашивками РОНА.) Когда летом 1944 г. пришлось в свою очередь оставить и Лепель, многие семьи отказались идти дальше с немцами. Но даже при этом на запад отступало пятнадцать тысяч солдат и около двадцати тысяч гражданских лиц. План перевезти гражданских в Венгрию рухнул, и бригада осталась в Верхней Силезии.
Каминский получил приказ принять участие в подавлении немцами Варшавского восстания. Поначалу он отказался, объяснив, — как прежде Готтбергу, когда отказался воевать с польскими партизанами, — что борется с большевизмом, а не с поляками.[195] Готтберга ему удалось убедить, но на сей раз пришлось сдаться, когда Гиммлер прислал поразительно вежливую телеграмму: «Ожидаю Вашей помощи в этом деле». Чтобы не разлучать семьи, Каминский набрал холостяков, в основном молодых людей, и отправил на задание полк численностью 1700 человек под началом майора Фролова. Поскольку на них все еще была советская форма, всем выдали желтые нарукавные повязки. Личный состав получил особое право заниматься грабежом, так как по распоряжению Гитлера Варшаву предстояло стереть с лица земли.
Полк действовал в Варшаве с 5 по 26 августа 1944 г. Роскошь жилищ местных жителей фешенебельного района Охота поразила молодых солдат, в прошлом крестьян, которые с толком распорядились правом брать добычу. Сам Каминский провел в Варшаве десять дней и попытался наложить руку на часть «трофеев», главным образом ювелирных украшений, потребовав их для своих людей. Это его и погубило. Полк вывели из боевых действий, а Каминский после яростной перебранки с обергруппенфюрером СС Бах-Зелевским был арестован в Лодзи. Затем его судили судом трибунала СС, наскоро вынесли приговор и расстреляли.
Казнь проводилась как тайное государственное дело и была скрыта ото всех. Никто не посмел сообщить о ней в бригаде. Даже наоборот — сказали, что Каминского будто бы застрелили польские партизаны на обратном пути в Венгрию. Поскольку офицеров Каминского подобное объяснение не удовлетворило, они пожелали увидеть место нападения, тогда его машину загнали в кювет при дороге, изрешетили пулями и вымазали гусиной кровью. Требование офицеров Каминского о том, чтобы им позволили провести карательную акцию против населения с целью получить тело своего командира, немцы отвергли. Бах-Зелевский выразил офицерам свои соболезнования, а затем гражданские лица — члены семей личного состава — и большинство женатых бойцов были отправлены на работу на фермы Померании. Около пяти тысяч солдат бригады записались в 1-ю дивизию армии Власова.[196]
Штаб 1-й дивизии прибыл в Мюнзинген 12 ноября. По рекомендации Кёстринга, Власов произвел в генерал-майоры полковника Сергея Кузьмича Буняченко и назначил его командиром. Буняченко — сорока с небольшим лет крестьянский сын с Украины, член коммунистической партии с 1919 г. — быстро продвигался по службе в советской армии. В 1939 г. он стал командиром Дальневосточной дивизии во Владивостоке, а последняя должность его была в штабе Тимошенко. Он перебежал к немцам в начале войны и принял под командование добровольческую часть, которая действовала сначала на Восточном фронте, а потом во Франции.[197] Буняченко — человек огромной силы воли, прямой, вспыльчивый, иногда грубый, но весьма сведущий в своем ремесле — был непоколебимым врагом как сталинского режима, так и национал-социализма. Начальником штаба у него служил подполковник Николаев — в прошлом офицер Генерального штаба Красной Армии[198] — очень способный, умный и гибкий человек, который искал компромисса там, где Буняченко просто взрывался.
Большинство офицеров дивизии поступили в нее из Дабендорфа, в котором давно уже составлялись списки с именами подходящих командиров из всех русских частей. Подполковники Архипов, Артемьев, Александров и Жуковский приняли командование полками. Мнения в отношении назначения командира разведывательного дивизиона — майора Костенко, бывшего офицера Каминского — разошлись: Герре считал его недостаточно квалифицированным, но Буняченко настаивал на его кандидатуре. Герре как-то не привык к тому, что русские могут нести полную ответственность за РОА. Вынужденные в течение стольких лет ходить на поклон к немецким властям, русские теперь находили удовлетворение в том, чтобы игнорировать их возражения.
В последующие недели Буняченко показал себя стоящим командиром. Он ввел в своих наспех собранных частях строгую дисциплину, и личный состав ответил ему пониманием и готовностью следовать за ним. Буняченко осыпал Герре упреками, если вовремя не поступало снаряжение или вооружение, — он подозревал, что затяжки и проволочки не случайны, а намеренны, что немцы не доверяют ему и в действительности стремятся помешать формированию РОА.
Герре же работал до изнеможения, чтобы преодолеть все препятствия. Он не верил своим глазам, когда в начале февраля дивизия вдруг стала реальностью, более того, в соседнем Хойберге «поспевала» 2-я дивизия. Ее командиром был назначен полковник Г. А. Зверев, получивший повышение в звании до генерал-майора.
Зверев, сын рабочего, показал себя способным офицером и сумел во время финской войны дослужиться до командира дивизии.[199] В начале Восточной кампании его дивизия была разгромлена, а сам он ранен. Переодетый в гражданское, он сумел пробраться обратно в расположение частей Красной Армии, где и… был взят под стражу по подозрению в шпионаже. После нескольких месяцев допросов, разжалованного в майоры, его направили в Среднюю Азию. Только в 1942 г. он вновь вернулся на фронт командиром дивизии.
Немцы взяли его в плен в марте 1943 г. во время боев за Харьков. Вместе с почти тысячей других офицеров он первое время находился в лагере в Днепропетровске. Там очень скоро пошли разговоры об освободительном движении Власова, известие о котором распространилось через немецкие листовки еще в начале года. Семьсот восемьдесят офицеров подписали прошение о вступлении в освободительную армию, причем фамилия Зверева возглавляла список. Эту группу тут же отправили в Лимбург, где они по большей части и остались, в то время как восемь офицеров послали в Дабендорф.
По приказу Гиммлера, 24 января 1945 г. лично принявшего командование группой армий «Висла», к первым числам февраля надлежало представить готовое к бою русское легкое противотанковое подразделение — в качестве «наглядного примера» того, что русские готовы сражаться. Ни Власов, ни Буняченко не приходили в восторг от подобного задания, поскольку цель их состояла в том, чтобы быстрее сформировать и обучить максимально большую по численности армию в наиболее короткие сроки, и они меньше всего хотели преждевременно раскалывать ее. В итоге все же из добровольцев из 1-й дивизии и пропагандистской роты была сформирована часть в составе 150 человек с Сахаровым и графом Ламсдорфом во главе. Подразделение вступило в бой против советского плацдарма в Нойлевине, а затем в Померании, оно сражалось с высочайшей храбростью и захватило немало пленных. Достижения части упоминались в донесениях Вермахта, что произвело впечатление на Гиммлера, который прислал Сахарову золотые часы. Сахаров и Ламсдорф впоследствии соединились с переброшенным из Дании русским полком, с которым вместе взяли под контроль участок фронта. Легкая противотанковая часть возвратилась в Мюнзинген.[200]
Тем временем, несмотря на все трудности, дело у Власова и КОНР продвигалось. Положение русских рабочих в Германии улучшилось, почти в каждом лагере имелись делегаты КОНР, которые располагали возможностью помочь невольникам. В начале января Гиммлер издал приказ: отныне любой, избивший русского, рисковал угодить в концентрационный лагерь. (Данное правило по отношению к немецким рабочим было введено только 1 марта 1945 г.)
КОНР стремился выяснить точное количество военнопленных и восточных рабочих, с каковой целью связался с начальником отдела статистики ОКХ, полковником Пассовым. Он представил оценочные данные в 6–7 миллионов восточных рабочих и всего 1,2 миллиона военнопленных, хотя общее количество солдат, насильно или добровольно оказавшихся у немцев, должно было насчитывать до 6 миллионов человек. Пассов объяснил такую диспропорцию вот как: предположительные данные в 6 миллионов явно завышены, так как почти миллион вступил в немецкую армию в качестве помощников («хиви») и солдат-добровольцев, несколько сотен тысяч украинцев получили свободу, сотни тысяч сбежали из лагерей или по дороге в них, а остальные умерли в неволе, причем большинство уже в первую зиму.[201]
17 января Министерство иностранных дел Германии и КОНР подписали финансовое соглашение, по которому рейх предоставлял КОНР неограниченный и беспроцентный кредит. Средства предполагалось возвратить после освобождения России. Данное соглашение — первый письменный договор между рейхом и КОНР — означало по международным законам признание последнего в качестве законного представителя освободительного движения. С немецкой стороны в заключении пакта участвовали: от Министерства иностранных дел статс-секретарь фон Штеенграхт, а от Министерства финансов статс-секретарь Рейнхард; с русской — Власов, Малышкин, глава финансового управления КОНР профессор Андреев со своим заместителем Шлиппе, а также Жеребков, осуществлявший связь КОНР с Министерством иностранных дел.[202]
Когда все они сидели за ужином в ознаменование удачного завершения переговоров, Штеенграхту сообщили, что Красная Армия на Висле перешла в новое наступление. Продвижение русских в итоге остановилось на Одере, однако стало совершенно ясно, что крушения Германии стоит ожидать еще до осени. Власов со своими офицерами лихорадочно работали над созданием новых дивизий, которые представлялось возможным вооружить. 28 января РОА вышла из-под контроля германского главного командования и стала подотчетна КОНР, Власов был утвержден главнокомандующим. Несколько суток спустя Трухин и Боярский перенесли штаб-квартиру в Хойберг, где закончилось укомплектование личным составом 2-й дивизии, численность которой теперь достигла штатной — около пятнадцати тысяч человек; правда, часть личного состава еще не получила вооружение. Начальником штаба назначили полковника Нерянина.
2 февраля в Каринхалле по просьбе генерала Люфтваффе Ашенбреннера, в юрисдикции которого находилась русская авиационная часть под командованием Мальцева, Власова вместе с Мальцевым и Крёгером принял Герман Геринг. Ашенбреннер, бывший некогда атташе немецких военно-воздушных сил Германии в Москве, сделал все от него зависящее для подготовки части к боевым действиям. Теперь к Герингу обращались с просьбой передать ее в распоряжение Власова. Геринг признался, что не очень-то разбирается в том, что касается русских проблем, и с готовностью согласился на перевод. Он выразил согласие с тем, что в отношении восточных рабочих были допущены ошибки: он считал, что русские привычны к битью, однако заблуждался. Затем он пустился в обсуждение таких малозначимых частностей, как тема знаков различия в РОА, в том числе и эмблемы, которую он предложил носить не на рукаве, а на груди. Вдобавок ко всему он проявил интерес к орденам и медалям Красной Армии, к погонам и тому подобным вещам, он также пожелал узнать, почему Сталин называется генералиссимусом.[203] Власов ответил, что непомерно раздутое самомнение побудило Сталина поставить себя над всеми генералами. Рейхсмаршала объяснение удовлетворило, он, по всей видимости, не заметил параллелей.[204]
Крёгер в тот период времени встретился в Берлине с Паннвицем. Казачий корпус отличился не только в боях против партизан Тито, 26 декабря 1944 г. его бросили в бой против частей Красной Армии в районе Питомачи, где был уничтожен советский плацдарм и захвачено большое количество пленных. Крёгер стремился к включению казачьего корпуса в освободительное движение и переводу его под общее командование Власова. Что касается Паннвица, то он, по крайней мере первое время, мог бы оставаться командиром корпуса. Паннвиц согласился с тем, что казаки хотели бы присоединиться к движению Власова, а сам тоже, в принципе, не имел ничего против Власова как главнокомандующего. Однако передача корпуса в распоряжение РОА так и не состоялась из-за протестов Розенберга и Краснова, а также из-за бесконечных колебаний Гиммлера.[205]
Несмотря на всю занятость, Власов находил время для поддержания дружеских отношений с товарищами и соратниками. Деллингсгаузен вспоминает, как однажды после сильнейшей бомбардировки Берлина Власов вдруг появился у него дома рано утром — в 5 часов. Он пришел, чтобы убедиться, что у друга все в порядке, и узнать, не нужна ли какая-нибудь помощь. С удовлетворением узнал, что все хорошо, и сказал, что собирается проверить, как дела у некоторых других товарищей. Он прошел большой путь от Далема до Шарлоттенбурга пешком.[206]
Поскольку ситуация становилась все более опасной, 6 февраля КОНР перенес свою штаб-квартиру в Карлсбад. Однако прием здесь вовсе не был теплым. Конрад Генлейн, гауляйтер Судетской области, яростно протестовал, не желая видеть ни Власова, ни вообще никаких русских на подконтрольной ему территории. Он заявил Бухардту, что, если Власов не уберется из гостиницы «Ричмонд» в течение ближайших часов, «русским придется очень плохо», потому что он прикажет нацистским отрядам выбросить их вон из Судет.[207]
Конечно, КОНР эту угрозу всерьез не принял, проигнорировал возражения Генлейна и остался в Карлсбаде. Отношение гауляйтера мало чем отличалось от линии поведения большинства чиновников нацистского режима. Налицо был типичный признак антагонизма между СС и партией. Опасения Бормана, что Гиммлер и СС переиграют его в плане направления «восточной политики», привели в январе к разработке плана создания в партийной канцелярии должности эксперта по восточным вопросам, который бы вырабатывал руководящие принципы, обязательные для выполнения официальными лицами правительства и партии. На пост этот он прочил близкого соратника Эриха Коха, Даргеля, преданного сторонника политики порабощения славян и врага проекта Власова. Однако план приказал долго жить еще в зародыше из-за возражений Гиммлера, а также Риббентропа и даже Розенберга, побаивавшегося за существование своего министерства.[208]
К середине февраля Герре и Буняченко удалось то, что казалось почти невозможным: 1-я дивизия была полностью укомплектована, вооружена и обучена — словом, готова к тому, чтобы вступить в бой. 16 февраля генерал Кёстринг — в парадной обстановке, что должно было подчеркивать особую торжественность момента, — официально передал ее под командование Власова.[209] Власов был явно растроган, когда Буняченко отрапортовал ему как командир застывшей в парадном строю дивизии. Одна только дивизия — как мало по сравнению с тем, что могло бы быть, однако его дивизия, настоящее боевое соединение под его командованием — соединение, которое больше не рискует испытать на себе произвол немцев.
После парада русские командиры и их немецкие гости собрались в офицерском клубе. Власов произнес речь, в которой коснулся трудностей, осложнявших ему процесс формирования освободительной армии. Он также привел детали своего разговора с Гиммлером, которому сказал, что он (Власов) и его сторонники постараются забыть былое — оставить прошлое в прошлом, — однако впредь никакие оскорбления и притеснения уже не останутся без ответа. Власов закончил выступление так:
— Знамя свободы когда-нибудь взовьется и у нас на родине. Если не мы, то наши братья водрузят его там. Многие из нас не доживут до этого дня, но он придет.
В этих словах звучит неприкрытый пессимизм, владевший русскими в куда большей мере, чем немцами, которые не могли и помыслить о возможности того, что западные державы способны выдать Советам сотни тысяч врагов Сталина, как и того, что Румыния, Болгария, Венгрия, Чехословакия, Югославия и Польша будут принесены в жертву коммунизму. Но русские хорошо знали Сталина.
Затем Власов посетил все еще продолжавшую формирование 2-ю дивизию, в Хойберге, после чего вернулся в Карлсбад, где 27 февраля состоялась встреча КОНР, на которой Власов доложил об успешных действиях легкого противотанкового отряда и о переводе его в состав 1-й дивизии.
На данном этапе, однако, слово взял Форостивский, бывший во время оккупации бургомистром Киева. Он обратился к Крёгеру и другим немцам в довольно жестком тоне:
«— Мне терять нечего, я кандидат в покойники. Моя фамилия в списках тех, кого заочно приговорили к смерти Советы за сотрудничество с немцами. Потому я говорю открыто. Я сам лично отправил на работу в Германию 45 тысяч лучших молодых людей, 60 процентов из которых поехали по собственной воле, я сделал это потому, что считал — своим трудом здесь они послужат делу борьбы с большевизмом. И что же вы с ними сделали? Вы превратили их в рабов и даже теперь не хотите обращаться с ними, как положено с людьми. Мы приняли вас как освободителей, а вы обманули нас. Три года мы ждали, когда восторжествует голос разума. Теперь уже слишком поздно для вас и, пожалуй, для нас тоже».[210]
Крёгер промолчал. Его обвиняли в том, чему сам он всегда противился. Поздно — катастрофу, тучи которой уже грозно сгущались над головами, было не отвратить.
Вскоре Власов побывал в дислоцированной в Нойерне авиационной части Мальцева, тоже входившей теперь под его командование. Она выросла до четырех тысяч человек и состояла из эскадрильи истребителей, эскадрильи легких-бомбардировщиков, двух эскадрилий других самолетов, полка ПВО, парашютного батальона и учебного подразделения со школой подготовки летного состава в Эгере. Инициатором создания русской авиагруппы, а также латвийско-эстонского соединения выступал обер-лейтенант Терт Бушманн — эстонец, служивший адъютантом у генерала Ашенбреннера.[211]
* * *
Власов вернулся в Карлсбад, где его уже ждал боевой приказ Гиммлера для 1-й дивизии, и поспешил в Мюнзинген. Дивизия была полностью укомплектована и снабжена всем необходимым, личный состав ее верил, что более не станет игрушкой в руках немцев, что только Власов будет теперь отдавать приказы. Посему Буняченко был более чем просто огорчен, когда 2 марта Герре привез приказ о выступлении на соединение с группой армий «Висла», находившейся под личным командованием Гиммлера.
Данное распоряжение являлось нарушением договоренностей, согласно которым дивизия могла быть задействована только в составе крупного соединения (т. е. русской армии) и только с согласия Власова. Переброска ее на фронт теперь привела бы лишь к бессмысленному уничтожению части. Буняченко отказался подчиняться приказу. Он собрал старших офицеров дивизии и обсудил с ними различные варианты действий. Среди них был и такой — захватить оружие, довооружить вторую дивизию и вместе выступать к швейцарской границе с целью перейти на сторону западных держав. Для обороны штаб-квартиры был сформирован штабной батальон, вооруженный автоматическим и противотанковым оружием.
Герре расценивали как искреннего друга, но в то же время человека бессильного что-либо сделать перед лицом приказа Гиммлера. Между тем русские не знали, что не кто иной, как Герре, сделал максимум возможного, чтобы дивизия получила боевой приказ. Не посоветовавшись с Власовым или с Буняченко, он побуждал Кёстринга задействовать часть, поскольку верил, что, если она покажет себя, формирование других дивизий будет ускорено. Кёстринг посоветовал ему обратиться напрямую к Гиммлеру. Герре объяснил Гиммлеру, что он предполагает проведение ограниченной по масштабам успешной операции, которая бы не ставила под угрозу существование дивизии — скажем, уничтожение советского плацдарма. Гиммлер заметил, что надежность русских испытана — ее гарантией служат хорошие показатели легкого противотанкового отряда; затем он, однако, согласился. Таким образом, добрые намерения Герре послужили толчком к цепи драматических событий.
Власову в итоге удалось успокоить офицеров, указав среди прочего на то, что отказ может вылиться в карательные меры по отношению к восточным рабочим. Ему удалось добиться изменения приказа и переброски дивизии не в район Штеттина, а в район Котбуса. Кроме того, дивизия получила разрешение пройти маршем до Нюрнберга, поскольку железная дорога через Ульм находилась под ударами бомбардировщиков противника. В ходе такого продвижения становились неизбежными контакты с восточными рабочими и военнопленными, многие из которых записались в армию добровольцами, вследствие чего численность личного состава дивизии выросла на три тысячи человек. Новичкам выдали кое-какую форму и организовали в части резерва. (В конце концов, многих из них пришлось демобилизовать по причине сложностей с поддержанием дисциплины.) 19 марта дивизия сосредоточилась в отправном пункте под Нюрнбергом, а 26 марта последние части из ее состава прибыли в район Либерозе.
Когда немецкий офицер связи при Буняченко, майор Гельмут Швеннингер, установил контакт с группой армий «Висла», оказалось, что Гиммлер уже несколько суток назад снят с поста командующего. Его преемник, генерал-полковник Готтхард Хейнрици, ничего не знал о приказе Гиммлера и вообще был против экспериментов. Он не считал, что русские станут сражаться на данном этапе и в сложившейся ситуации, к тому же находился в полном неведении относительно политических аспектов Русского освободительного движения. Более всего Хейнрици беспокоило предстоящее советское наступление, которое грозило начаться со дня на день. Он согласился на развертывание русской дивизии только в том случае, если Гиммлер с полной определенностью возьмет на себя ответственность за это. Швеннингер поехал в Берлин, однако сумел встретиться только с Бергером, которому доложил обстановку и который отослал его к командующему 9-й армией, генералу Буссе.
Буссе не видел иного способа применить дивизию, как только бросить ее на ликвидацию советского плацдарма к югу от Франкфурта-на-Одере, — задача, которую тщетно пытался решить полк курсантов офицерской школы. Местность там простреливалась с противоположного высокого берега, поэтому для успешного осуществления операции требовалась мощная артиллерийская поддержка. Буняченко заподозрил, что его дивизии намеренно дают невыполнимое задание. Больше всего беспокоила его численность войск противника, он то и дело спрашивал, когда следует ожидать советской атаки. Его неотвязно преследовал кошмар — дивизию бросят в огонь, где она бессмысленно погибнет. Власов планировал прибыть в расположение дивизии незадолго до того, как она выступит на юг, и проследовать с ней в район назначения.
25 марта в Карлсбаде Власов встретился с Жеребковым, который доложил командующему о своих попытках войти в контакт с западными державами. После возвращения из Парижа Жеребков предоставил себя в распоряжение Власова и КОНР и получил назначение на должность начальника отдела по связям с правительственными структурами, который входил в Административное управление Малышкина. Наделенный лингвистическими способностями, Жеребков проявил себя как дипломат и служил представителем КОНР в делах с Русским отделом Министерства иностранных дел Германии, а также уполномоченным по установлению связей с западными державами с целью прояснить неизбежные послевоенные вопросы. До сей поры его действия оказывались успешными, как было это и в декабре 1944 г., когда через шведского военного атташе в Берлине, полковника фон Даненфельда, он установил связь с Густавом Нобелем, а через посла Марцана — с уроженкой России, женой американского посла в Мадриде Норман Армор. Целью контактов служило стремление разъяснить суть Русского освободительного движения западным союзникам и предотвратить выдачу его участников СССР. С теми же целями Жеребков через Министерство иностранных дел в письменном виде обратился к президенту Международного Красного Креста, доктору Бухардту,[212] попросив того о помощи в предоставлении ему швейцарской визы для установления личного контакта между ними. Кроме того, Жеребков намеревался наладить прямые связи с дипломатическими представителями западных союзников в Берне. Не получив ответа, он встретился с поверенным в делах Швейцарии в Берлине, который посоветовал ему забыть о визах, поскольку выдача виз антикоммунистам из русских может негативно сказаться на будущих взаимоотношениях Швейцарии с Советским Союзом. По сей причине также было отказано в разрешении на въезд великому князю Владимиру. Между тем поверенный в делах намекнул Жеребкову, что можно попробовать перейти швейцарскую границу нелегально, и снабдил его рекомендательным письмом, в котором значилось, что запрос на визу поступил, однако никаких мер в данном направлении пока не принято. После официального благословения со стороны Власова Жеребков возвратился в Берлин. Перед отъездом Крёгер уведомил его, что РСХА тоже более не возражает против контактов с Западом.
Последнее совещание КОНР прошло 28 марта в мрачной обстановке неизбежно приближавшегося краха Германии. Было принято решение сосредоточить все части РОА в районе Инсбрука, установить контакт с казачьим корпусом и — в зависимости от характера ситуации — либо сдаться западным союзникам, либо включиться в боевые действия на территории Югославии.
На следующий день Власов с Крёгером поехали в Берлин, чтобы добиться быстрого снятия 1-й дивизии с Одерского фронта. В Берлине оставался лишь небольшой вооруженный контингент КОНР под командованием полковника Кромиади и вновь назначенного начальника разведки подполковника Николая Тензорова. Они занимались эвакуацией семей русских в Вюртемберг. 31 марта Власов принял делегацию казачьего корпуса во главе с Кононовым и полковником Кулаковым, которым было поручено передать КОНР и германскому правительству декларацию съезда делегатов казачьих частей.[213] На этом сходе, состоявшемся 29 марта в Вировитице, генерал-лейтенант фон Паннвиц стал в истории казачества первым иностранцем, избранным в походные атаманы казачьих войск; полковника Кононова выбрали начальником штаба.
Единодушным голосованием было решено передать все казачьи формирования под начало Власова как главнокомандующего вооруженными силами КОНР и прекратить полномочия казачьего руководства, возглавляемого генералом Красновым, которое отказалось принимать верховенство Власова. Данное решение, однако, имело практическое значение только для казачьего корпуса Паннвица. В полном несоответствии со схемами Розенберга было установлено, что казачество является составной частью русского народа. Резолюции в пользу Власова ни в коем случае не являлись направленными против Паннвица, которого казаки боготворили. (Гиммлер одобрил передачу казачьих формирований Власову только 28 апреля.)
Власов дал согласие на то, чтобы Кононов принял командование казачьими частями после капитуляции немцев, и произвел его в генерал-майоры, согласно документу, скрепленному подписью Гудериана. Перед отъездом на фронт к Одеру Власов добился от Кальтенбруннера освобождения руководителей НТС. Повлиять на Кальтенбруннера удалось лишь одним аргументом — нельзя, чтобы убежденные антикоммунисты попали в руки Советов.[214] В случае, если бы не удалось добиться их освобождения прямым путем, Власов готовился перед подходом советских войск привести в действие план Тензорова по спасению арестованных — если придется, даже силой. 4 апреля русский вооруженный отряд сопроводил руководство НТС в Карлсбад. Несмотря на решение Кальтенбруннера, существовали оправданные опасения, что Гестапо может организовать похищение и убийство этих людей, как это произошло в случае с Зыковым.
8 апреля Власов вместе с Крёгером и Кононовым отправился на Одерский фронт, где у него состоялась продолжительная беседа с генерал-полковником Хейнрици. Когда Хейнрици поинтересовался у Власова, почему он все еще готов сражаться, тот ответил, что Гиммлер настоял на боевых операциях как на условии для создания большего числа частей. В любом случае, немецкие вожди обманывали его более чем непристойным образом.[215]
Затем Власов обсудил планы боев с генералом Буссе. Местность совершенно не благоприятствовала наступающим, особенно если учесть тот факт, что разлив реки сузил протяженность участка фронта потенциальной атаки всего до ста метров. Требовался сильный артиллерийский огонь, который смог бы подавить советские позиции на восточном берегу. Однако артиллерийских батарей, как и пикирующих бомбардировщиков, катастрофически не хватало. В сложившейся ситуации Власов считал операцию бесполезной и хотел дать приказ об отступлении на юг. Крёгер, боявшийся реакции Гиммлера, использовал всю силу убеждения, чтобы выторговать у Власова согласие на участие в операции.[216] Несмотря ни на что, Власов настаивал, что он должен оставить расположение дивизии до ее ввода в бой. Таким образом, он выражал свой протест и оказывался вне досягаемости в случае конфликта с немецким командующим в связи с провалом атаки и последующим отводом дивизии с фронта.
После продолжительного обсуждения положения с Буняченко Власов созвал командиров полков и сказал им, что операция необходима вне зависимости от того, будет она успешной или нет, напрасна она или нет. Отказ может поставить пол угрозу планы расширения РОА. О чем именно он говорил с Буняченко, неизвестно, однако можно предположить, что темой обсуждения служило отступление с фронта после провала атаки и марша в южном направлении. Буняченко мог бы тогда парировать немецкие приказы, ссылаясь на то, что дивизия не может вступать в бой без распоряжения Власова, что оговаривалось соглашением.[217]
11 апреля Власов поехал в Берлин с Бергером, который передавал Хейнрици письменные гарантии Гиммлера. 12-го числа Власов вернулся в Карлсбад и на следующий день женился на Аделаиде Биленберг. До того он, лишенный последних иллюзий, навещал ее между Рождеством и Новым годом.
— С какой охотой, — признался он ей, — я бы жил тут тихо и крестьянствовал. Заботы совсем одолели меня.
Теперь же надежда вновь вернулась к нему. Он еще верил, что сможет продолжить борьбу «на стороне союзника, который изберет более умную политику, чем немцы».[218] Вскоре после этого он попросил фрау Биленберг выйти за него замуж. Крёгер, поначалу противившийся женитьбе по политическим соображениям, получил одобрение от Бергера. Итак, перед лицом неумолимо надвигавшейся катастрофы Власов и Биленберг связали себя узами брака.[219]
14-го числа Власов встретился с освобожденными вожаками НТС. Было решено устроить все так, чтобы некоторые из членов НТС попали в руки к наступавшим с запада союзникам и вступили в контакт с ними. 16-го Власов поехал в Прагу. В число сопровождавших его лиц входил и Фрёлих, который наладил связи с чешским подпольем. Среди возможных вариантов развития событий предполагалась совместная с чешскими антикоммунистическими силами оборона так называемого Богемского бассейна против Советов до того момента, когда Богемию оккупируют американцы. План предполагал скорое возникновение конфликта между западными союзниками и СССР. Русские эмигранты помогли Фрёлиху встретиться с чешским генералом Клечандой, который во время Гражданской войны в Россиц сражался под знаменами Колчака. Он заявил, что чехи с радостью примут русских, поскольку с ними возвратится президент Бенеш. Их глаза откроются потом, но в данный момент ничего нельзя поделать. Сам он не может покинуть поста, потому что на нем лежит, командование подпольной армией Праги и прилегающих районов.
Клечанда не выражал оптимизма в отношении перспектив Власова. Он находился в Риме, когда немцы оккупировали Чехословакию, и умолял западных союзников спасти двадцать тысяч чешских офицеров, которые понадобились бы им позднее, однако никто не проявил никакой заинтересованности. Они не станут помогать и Власову. Так же как тогда они не поверили в реальность предстоящей войны с Гитлером, так и теперь не станут верить в возможное столкновение с Советами.[220]
17-го Власов принимал в пражской гостинице «Акрон» Кромиади и Тензорова. Они приехали с последней группой после того, как успешно эвакуировали из Берлина русские семьи, которым грозила опасность со стороны Советов. С ними прибыл и Жеребков, привезший письменное коммюнике доктора Бухардта. Там говорилось, что надежды на предотвращение передачи членов освободительного движения Сталину маловероятны, поскольку движение создавалось при участии Третьего рейха. Однако переговорная позиция будет более выгодной, если Власов обратится к Гиммлеру и убедит его прекратить убийства узников концентрационных лагерей накануне крушения Германии. Жеребков заверил представителя Красного Креста, что Власов сделает все от него зависящее для выполнения этого пожелания. Власов попросил находившегося при нем Крёгера выйти к Гиммлеру с предложением подобного рода.
В Вене Жеребков договорился с профессорами Айблем и Рашгофером, чтобы 25 апреля Власов выступил с обращением из Праги к представителям стран, собиравшимся в Сан-Франциско для учреждения Организации Объединенных Наций. Советская пропаганда, как можно было предполагать, преуспела в том, чтобы не позволить не только народам, но и союзническим лидерам узнать правду об освободительном движении и его истинном значении. Посему Власову следует изложить политическую программу КОНР и объяснить причины, толкнувшие его на сотрудничество с немцами. Он должен был выразить протест против принятия в ООН Советского Союза, а также по поводу дальнейшего существования сталинского режима.
Жеребков сделал запрос министру-президенту Франку относительно одобрения им подобного шага, однако последний не желал самостоятельно принимать решения столь большой политической важности. Не поколебало его и замечание Жеребкова, что Гитлер отрезан в Берлине и потому находится вне досягаемости. Франк, однако, охотно выдал Жеребкову документ, удостоверявший факт выполнения им важного государственного задания, что помогло бы облегчить ему достижение швейцарской границы. Он также передал ему новую машину — в качестве подарка Власову.[221]
Тем временем Власов уехал в свою штаб-квартиру, расположенную к югу от Ландсберга, поскольку 2-ю дивизию, преподавательский состав и учащихся офицерской школы и запасной бригады ОКХ мобилизовало и направило в район Линца, где им предстояло войти в группу армий Рендулича. Власов не имел возражений по поводу их передвижения в данном направлении, поскольку к тому времени уже знал, что 1-я дивизия тоже следует на юг.
На фоне всех этих событий, в соответствии с намеченным планом действий, в 5 утра 14 апреля началась атака 1-й дивизии против советского плацдарма.[222] Как и предполагал Власов, противник встретил атаку батальонов шквальным артиллерийским огнем и остановил их, точь-в-точь, как произошло ранее в случае с провалившейся попыткой немцев. В течение четырех часов части РОА пытались преодолеть препятствия, невзирая на фланговый огонь с противоположного берега. В итоге Буняченко, убедившись, что цель недостижима, испросил разрешения Буссе на прекращение наступления, какового, однако, не получил. Напротив, ему приказали удерживать позиции, поскольку дивизии предстояло принять от немцев ответственность за тот участок фронта, на котором она находилась.
Задремавшее было извечное недоверие Буняченко к немцам тут же подняло голову — они намереваются обескровить дивизию. Жуков вот-вот начнет генеральное наступление, и тогда дивизии конец. Приказ о передаче ей участка фронта являлся нарушением соглашения между КОНР и немецкой стороной. Посему Буняченко проигнорировал распоряжение Буссе и приказал дивизии приступить к отходу с исходных позиций. Вечером Буссе потребовал от Буняченко явиться к нему с объяснениями. Буняченко изыскал повод для отказа и на следующий день сообщил Буссе, что приказ из 9-й армии входит в противоречие с указаниями Власова и что в будущем он будет подчиняться только Власову, своему непосредственному начальнику, с которым должен будет связаться немедленно. Он потребовал от Швеннингера, чтобы тот получил от Буссе разрешение выступить на юг. Затем собрал старших офицеров на совещание, в ходе которого было принято решение отходить в южном направлении и, если потребуется, реквизировать необходимое продовольствие. Швеннингеру в итоге удалось получить в штабе 9-й армии разрешение отходить на Котбус. С часу на час приходилось ожидать наступления русских, и в штабе были даже рады избавиться от беспокойной дивизии. По возвращении Швеннингер сухо доложил Буняченко, что в армии, несомненно, поняли, что дивизия уже начала отступление.[223]
* * *
Возглавив дивизию во время марша на юг, Буняченко проявил высочайшее мужество, изобретательность и мастерство тактика. В том, что все в итоге закончилось для нее поражением, виноват не он, а политическая близорукость союзников. Находившаяся в состоянии полной боеготовности дивизия за первые двое суток марша покрыла около ста километров. В итоге она разместилась в районе Клеттвица, на территории группы армий Шёрнера. В тот момент Буняченко получил сообщение от немецкой 275-й пехотной дивизии, в котором говорилось, что 600-я (русская) пехотная дивизия переходит в ее распоряжение и должна занять позиции в тылу у немцев. Буняченко утратил самообладание и закричал на Швеннингера, что никогда не подчинится подобному приказу, что это просто наглость передавать его соединение в распоряжение дивизии. Швеннингер поехал в штаб 275-й, где узнал, что приказ о переподчинении отдал лично фельдмаршал Фердинанд Шёрнер, который один только и может изменить его.
Швеннингеру удалось поговорить с Шёрнером в штабе дивизии. Он был немало наслышан о грубости, безапелляционности и фанатичной преданности фюреру этого самого молодого из немецких фельдмаршалов. Единственное, что интересовало Шёрнера, были численность дивизии и ее вооружение, а не желание или нежелание сражаться. Когда Швеннингер попытался объяснить, что тут все не просто и существуют проблемы политического характера, ему не дали закончить.
— Ах так! Тогда мне не нужны эти русские! — оборвал Швеннингера Шёрнер. — Что, если я прикажу расстрелять Буняченко за неподчинение приказу?
На этом он прекратил обсуждение, заявив, что ему надо ехать в ставку фюрера и что у него нет времени на русских. По возвращении он научит их слушаться команд. Шёрнер аннулировал приказ о передачи русской дивизии в распоряжение 275-й пехотной.[224]
Когда Швеннингер возвратился, дивизия уже шла маршем к Пейцу. Буняченко выслушал рапорт и ответил, что наказания не боится — дескать, Сталин тоже хотел расстрелять его. Он попросил Швеннингера поехать в 5-й корпус, которому дивизия должна была быть придана, и сообщить, что он принимает приказы только от Власова и будет продолжать продвижение на юг. Когда Швеннингер добрался до штаб-квартиры 5-го корпуса, всех там, однако, занимали куда более серьезные проблемы — на рассвете 16 апреля началось советское наступление. Швеннингер тут же получил разрешение продолжить марш в район Хойерсверды, к которой дивизия вышла 17-го числа.
Здесь Шёрнер отдал Буняченко первую прямую команду — ввести дивизию в бой в районе Козеля. Буняченко же вместо этого повел своих людей в район к западу от Каменца. Там их догнал новый приказ: «Дивизии следовать в район Радеберга неподалеку от Дрездена для погрузки в эшелоны и участия в операции «Чешские земли». На сей раз Буняченко подчинился, просто потому, что сам собирался двигаться в том направлении. Дивизия достигла района Радеберга 19-го числа. Однако грузиться в эшелоны Буняченко отказался под предлогом того, что под Бауценом шли бои, что грозило дивизии уничтожением. Незадолго до этого с дивизией соединился полк Сахарова. Как удалось пробиться через линию фронта Сахарову, остается загадкой. Набранные им по дороге добровольцы привели к разбуханию личного состава полка до трех тысяч человек, таким образом, общая численность дивизии достигла почти двадцати тысяч.
Нет сомнения в том, что в обычных условиях Шёрнер повернул бы оружие против неподчинившейся дивизии. Однако в сложившейся обстановке он не хотел столкновения. Поскольку урезонить Буняченко как-то иначе не представлялось возможным, он отрядил офицера к генералу Ашенбреннеру с просьбой повлиять на командира дивизии через Власова. Власов, между тем, 20 апреля перенес штаб-квартиру КОНР в Фюссен. Ашенбреннер отправил самолет, чтобы тот сбросил Буняченко письмо, которое бы убедило его подчиниться приказу, однако Буняченко проигнорировал и этот призыв. Ашенбреннер отправился в Фюссен и прибыл туда как раз в тот момент, когда Власов, Трухин, Малышкин, Жиленков, Боярский и Крёгер собирались к Штрикфельдту, разместившемуся на расположенной неподалеку ферме. Теперь, когда катастрофа стала неотвратимой, Власов вновь хотел посоветоваться с другом.
Малышкин и Боярский встретились с офицерами казачьего корпуса и с югославским лидером Михайловичем, чтобы решить, как лучше поступить. Ашенбреннер и Штрикфельдт считали, что невозможно никакое решение без санкции западных союзников, и рекомендовали лишь одно — немедленно сдаться с одним условием, что никто не будет выдан Советам. В итоге пришли к выводу сосредоточить все части в районе Инсбрука, чтобы, если потребуется, через перевал Бреннер выдвинуться на соединение с казачьим корпусом. Одновременно предстояло направить эмиссаров с предложением мира к американцам и к англичанам. Ашенбреннер приказал доставить из Праги владевшего английским профессора Теодора Оберлендера, чтобы тот выступил в роли такого посланника. Кроме того, он предложил, чтобы Штрикфельдт и русский офицер попробовали найти возможность контакта с каким-нибудь влиятельным американцем. Штрикфельдт осознавал, с каким риском связана подобная попытка, однако был готов пойти на него ради того, чтобы оказать другу последнюю услугу. Главой делегации Власов назначил Малышкина. Крёгер придал проекту официальный статус, чтобы обезопасить делегатов от нацистского «Вервольфа» и тому подобных головорезов-фанатиков.[225]
На следующий день Власов, Крёгер и Бухардт поехали в Инсбрук, чтобы подготовить перенос ставки КОНР. Там они случайно встретились с генералом СС Вольфом, который навещал семью. Возник план завязать через него контакт с фельдмаршалом сэром Гарольдом Александером, командующим союзническими войсками в Италии. С этой целью несколько дней спустя представитель Крёгера, штурмбаннфюрер СС фон Зиверс, и русский офицер, капитан барон Людингхаузен-Вольф, были отправлены в Боцен с подписанным Власовым меморандумом. В 1921 г. Зиверс сражался в Прибалтике добровольцем в войсках под командованием Александера. Обоим делегатам, однако, встретиться с Александером не удалось — они общались с полковником Леманном, канадским офицером разведки в штабе британского командующего. Зиверс и Людингхаузен были впоследствии интернированы.[226]
Вольф согласился пропустить части РОА через перевал Бреннер в Южный Тироль. Данная возможность открывала шанс действовать совместно с казачьим корпусом, который пробивался к австрийской границе.[227] 24 апреля Власов возвратился в Фюссен. Трухин продиктовал последний приказ частям РОА, предписывавший им выдвигаться в район Инсбрука.
В качестве эмиссаров для мирных переговоров Малышкин выбрал нескольких офицеров, среди них полковника Кромиади и генерала Закутного. Их задача заключалась в том, чтобы установить контакт с западными союзниками и поставить их в известность, что по приказу Власова генерал Малышкин готов обсуждать капитуляцию РОА, но только с главнокомандующим.
Тем вечером Штрикфельдт вновь прибыл в Фюссен, чтобы попрощаться с Власовым, которого нашел охваченным безразличием и потерявшим последнюю надежду. Власов больше не верил в американцев, а также и в спасение. Он поблагодарил Штрикфельдта за все, что тот сделал, и сказал, что намерен пройти путь до конца.
— Если уцелеете, — попросил он в итоге, — расскажите правду о том, что я хотел сделать.
Эти слова Власова стали последними, с которыми он обратился к Штрикфельдту. Больше они не виделись.[228]
Тем временем 22 апреля в штабе 1-й дивизии появился офицер связи Шёрнера майор Нойнер, уполномоченный вести переговоры с Буняченко. Нойнер привез приказ занять тыловые позиции в районе Гайды. Шёрнер пожелал лично проинструктировать Буняченко и попросил последнего прибыть к нему к 5 вечера; Шёрнер считал все прошлые разногласия и недоразумения преданными забвению. Буняченко согласился приехать.
Как бы там ни было, в 5 вечера в штаб-квартире Шёрнера появился командир разведывательного дивизиона 1-й дивизии майор Костенко. Задача его заключалась в том, чтобы высказать сожаление генерала Буняченко, который пострадал в автокатастрофе и потому не может встретиться с командующим. Швеннингер, присутствовавший при разговоре, говорит, что Шёрнеру с большим трудом удавалось совладать с собой. После ухода Костенко он взорвался:
— Что за дерьмо! Была бы у меня хотя бы одна эскадрилья самолетов, я бы задал им трепку и заставил бы подчиниться.
Тем временем советские танки появились на расстоянии менее пятнадцати километров от лагеря дивизии. Поздно вечером Буняченко сообщил фельдмаршалу, что по причине обстановки на фронте он будет ожидать приказа продолжить движение на юг до 2 часов пополуночи. Несмотря на то что никакого распоряжения так и не поступило, Буняченко отдал готовым к бою солдатам приказ выступать. Теперь, когда фронт с такой скоростью приближался, ему надо было во что бы то ни стало переправиться через Эльбу. Если Шёрнер намеревался остановить дивизию, ему следовало сделать это там.
Для переправы избрали мост в Бад-Шандау. Однако оборону на нем держало немецкое инженерно-саперное подразделение, которое отказалось пропускать передовые части, поскольку мост был заминирован и по причине отсутствия у дивизии приказа на переход. Буняченко лично поехал поговорить с командиром саперов, но последний, сославшись на приказ, вежливо отказался. Тогда Буняченко велел подогнать тридцать санитарных машин с ранеными и испросил разрешения пропустить хотя бы их. Немцы согласились и отчистили от мин узкий проход, однако, как только на мост выехала последняя санитарная машина, Буняченко бросил следом танки и кавалерийский дивизион. Немцы, видя, что их перехитрили, связались с группой армий по телефону, а тем временем танки Буняченко занимали позиции для прикрытия переправы дивизии. Буняченко стоял на западном берегу, к которому текли и текли колонны. Тем временем подполковник Николаев блокировал — хотя и не без немалого труда — полковника из группы армий, который настаивал на том, чтобы переправившаяся на западный берег часть дивизии немедленно вернулась назад. Буняченко же попросту отказался говорить с полковником. Колонны продолжали следовать до глубокой ночи — маневр удался.
Закончив переправу, дивизия оказалась на стратегически удобной позипии. Прикрытая с севера и востока Эльбой, она контролировала мост. Однако ночью в ближайшие села выдвинулась потрепанная танковая дивизия СС, а на следующие сутки туда подтянулись и другие эсэсовские части. Пошел слух, что их прислали разоружить дивизию. Буняченко приказал продолжить марш в направлении района Шнееберга.
Вскоре после этого Шёрнер сообщил командованию дивизии по рации, что прибудет в часть на следующий день, 27 апреля. В действительности же, конечно, приехал не сам фельдмаршал, а его начальник штаба, генерал-лейтенант Ольдвиг фон Нацмер. Буняченко — с перевязанной рукой и головой — приготовил к встрече важного гостя почетный караул и военный оркестр.
Нацмер потребовал, чтобы дивизия вступила в боевые действия в районе Брно, и дал четко и ясно понять, что еще один отказ будет иметь очень серьезные последствия. Так как дивизия утратила подвижность вследствие нехватки горючего и продовольствия, Буняченко согласился, однако он по-прежнему сопротивлялся тому, чтобы его личный состав грузился в эшелоны, в каковом вопросе Нацмеру пришлось уступить. Было договорено, однако, что дивизия немедленно выступит на юг вдоль линии фронта.
Сложилось действительно серьезное положение. Попытка наладить связь с Власовым провалилась, судьба дивизии висела на волоске. Буняченко, считая, что не может принимать решения единолично, собрал полковых командиров. Он обрисовал им обстановку и заявил, что при сложившихся обстоятельствах он готов нарушить данное слово, если речь будет идти о спасении дивизии, однако не чувствует себя вправе сделать важный шаг, не посоветовавшись с ними.
За исключением подполковника Архипова, все офицеры сошлись на том, что участие в боевых действиях на фронте приведет к бессмысленному уничтожению дивизии. Посему не оставалось ничего другого, кроме как попытаться быстро выдвинуться на юг, если потребуется, пробиться к американцам силой. В тот же день дивизия тронулась в путь. Были изданы строжайшие приказы с запретом грабежа, воровства и каких бы то ни было враждебных действий по отношению к немецкому населению. Находясь на высочайшем пике физического и психологического напряжения, дивизия за двое суток покрыла расстояние в сто двадцать километров, сделав всего один пятичасовой привал.
Один вопрос более всего терзал души солдат: где же Власов? Чтобы подстегнуть боевой дух, на марше им было объявлено о приезде главнокомандующего. По колоннам пробежал радостный ветерок, настроение поднялось. Чешскую границу проследовали без происшествий. Вечером 28 апреля дивизия встала лагерем к югу от городка Лобозиц. В тот же вечер по рации неожиданно поступило сообщение от Шёрнера: завтра он сам прибудет в дивизию. Появившись, он вел себя так, словно ничего не произошло.
Буняченко явно выиграл в данной ситуации — заносчивый фельдмаршал сам приехал к нему, признав, таким образом, всю важность его соединения. Русский командир выразил свою признательность за визит, особенно зная, какая участь ожидала его еще совсем недавно. Когда Шёрнер с раздражением поинтересовался, что все это значит, Буняченко ответил:
— Так ведь господин фельдмаршал хотел, чтобы меня расстреляли!
Шёрнер сердито обратился к присутствовавшим немцам с вопросом, кто передал такую информацию. Когда Швеннингер сделал шаг вперед, он лишь хмыкнул:
— Очень умно, — а затем вновь обратился к Буняченко: конечно же, это все сущая чепуха, недопонимание, иначе бы разве он приехал сюда. Затем он поинтересовался, готова или не готова дивизия сражаться.
— Естественно, — отозвался Буняченко, однако где и на каких условиях — не уточнил. Тем не менее Шёрнер удовлетворился и таким ответом. Он явно был рад завершению разговора и заметил, что это, в конце концов, и есть то, что он хотел выяснить. Он согласился с тем, чтобы Буняченко сам выбрал направление движения к Брно.
Глава VI На пути к неизбежному
В тот же день у Буняченко состоялся продолжительный разговор с двумя посланцами чешских партизан. Население проявляло живой интерес к дивизии с тех пор, как она пересекла границу. Конфликты с немцами не отмечались, существовала надежда, что русские солдаты окажут помощь повстанцам. События на фронте подтолкнули чехов к переходу к открытой борьбе, однако они страдали от недостаточно хорошо налаженной организации. Более того, существовали разные группы партизан — патриоты-государственники и коммунисты, причем последние, хотя численно были и не велики, действовали слаженнее. Чешские партизаны сообщили Буняченко, что со дня на день в Праге начнется восстание, и попросили русских помочь, потому что своих сил у них не хватало. Они ожидали, что Прагу возьмут американцы. Когда те появятся, объяснили делегаты, в Праге уже будет распоряжаться национальное чешское правительство, американцы не позволят свергнуть его. Чехи выразили готовность предоставить дивизии убежище в демократической Чехословакии.
Буняченко осознавал то, какие настроения владеют личным составом, и знал, что предложение оказать помошь чехам будет воспринято с энтузиазмом. Психологическое напряжение последних нескольких лет, унижения и обман со стороны немцев, почти безнадежная ситуация, в которой русские оказались по вине все тех же немцев, — все эти факторы давали себя знать. Но Буняченко пока еще не был готов к какому-то одному решению. Он ожидал Власова, с которым, в конце концов, удалось связаться, продолжил марш в южном направлении и остановился поблизости от Бероуна, километрах в тридцати к юго-западу от Праги.
Тем временем Власов находился в частях 2-й дивизии, которая — вместе с офицерской школой и запасным полком — двигалась к Линцу. 27 апреля Власов встретился в Фернпассе с Жеребковым и предоставил тому все полномочия для ведения переговоров в Швейцарии. Власов, однако, был уже не в состоянии поверить в успех.
Жеребков предложил Власову вылететь в Испанию, пока не наступил полный коллапс, однако тот не пожелал оставить своих людей. Позднее он принял делегацию казаков из Северной Италии, возглавляемую полковником Бочаровым, которого и назначил офицером связи при генерале Краснове. Бочаров передал просьбу атамана Науменко, чтобы КОНР распространил свои полномочия на казаков в Северной Италии, большинство из которых, как становилось очевидно, не разделяли настроений Краснова. Однако, как и всюду, предпринимать что-либо на данном направлении тоже было слишком поздно. Ход событий сделал все подобные заботы просто неуместными. Власов отдал приказ сосредоточить силы КОНР в районе Инсбрука, а затем на двое суток удалился с женой в жилище, которое она нашла для них в Райт-им-Винкль, неподалеку от Райхенгаля. Ради нее он продолжал внешне демонстрировать оптимизм, однако она чувствовала охватившую его безнадежность.[229] 30 апреля Власов встретился в Бад-Райхенхале с Крёгером, который обсудил с Кёстрингом претензии к последнему Шёрнера. Было решено вести переговоры напрямую с Шёрнером.
Совершенно не отдавая себе отчета в том, что они передвигаются по занятой партизанами территории, Власов и Крёгер поехали в штаб-квартиру Шёрнера в Кенигграце. 1 мая у них там состоялся разговор с начальником штаба фельдмаршала Нацмером, от которого они узнали, что Шёрнер приказал разоружить 1-ю дивизию в следующие сутки. Соответствующий приказ уже получил командующий боевой группой «Оре Ранге» генерал-полковник Герман Гот.[230] Это, без сомнения, означало, что будет бой. Гот, ничего не знавший о нахождении Власова в штаб-квартире Шёрнера, обратился к Клейсту — офицеру, ответственному за безопасность в отделе пропаганды в Дабендорфе, — с просьбой поговорить с Буняченко и по возможности избежать столкновения.
Клейст с готовностью откликнулся, и, после оживленной телефонной беседы между Готом и Шёрнером, при которой Клейст присутствовал до самого окончания, Шёрнер в итоге согласился отложить акцию на несколько часов, несмотря на то что считал все переговоры бессмысленными — русские всегда были предателями и он исполнился решимости стереть их с лица земли.[231] Ближе к вечеру Шёрнер сказал Крёгеру, что собирается приступить к действиям и не видит оснований для беседы с Власовым. Крёгер объяснил политические аспекты, касающиеся РОА, и посоветовал не прибегать к силе, после чего Шёрнер изъявил желание побеседовать с русским генералом.
В ходе встречи Власов дал гарантии лояльности дивизии, которую та будет сохранять до тех пор, пока не подвергнется атаке. Он вновь указал на упущенные немцами возможности и выразил надежду, что еще удастся продолжить борьбу с помощью западных союзников. Импульсивный Шёрнер не смог устоять под подобными аргументами. Он был поражен, что человек в подобном положении может еще строить какие-то планы и иметь цели, тогда как немцы утратили всякие надежды. Он уяснил политическое значение Русского освободительного движения и согласился не только отозвать приказ о разоружении дивизии, но и обещал отдать распоряжение о выводе ее из-под своего командования.[232]
Сразу же после разговора Власов и Крёгер ночью выехали в Козоеды, куда перенес свой штаб командир 1-й дивизии. На рассвете следующего дня в Козоедах появился и Клейст с белым флагом. Он не знал об отмене приказа о разоружении и был очень удивлен тем, что встретил Власова с его окружением. Он поведал о своем разговоре с Готом, после чего Власов и Крёгер вместе с ним поехали в штаб-квартиру боевой группы Гота в Кригерн, чтобы объяснить там ситуацию. Однако Готу уже обо всем сообщили, и они вернулись в Козоеды.
Между тем, сохранив дивизию, русские почувствовали себя хозяевами положения. Они разоружали небольшие немецкие части и отсылали солдат домой. Не обходилось без стрельбы, поскольку русские нет-нет да и давали выход накопившемуся гневу. Жертвой враждебности чуть не пал сам Крёгер: ночью кто-то бросил гранату в комнату, где он должен был спать, однако он ночевал в другой. Для русских, не знавших его истинного отношения к ним, Крёгер олицетворял ненавистный нацистский режим и разделял ответственность за обструкционизм немецкого руководства. На следующее утро Крёгер поехал в Прагу, чтобы выяснить у Франка, как обстоят дела в целом. Вспыхнувшее всего несколько дней спустя восстание застало его врасплох, и он так больше и не увиделся с Власовым.[233]
Тем же утром Власов и Буняченко приняли делегацию чешских офицеров, от которых узнали, что восстание намечено на 5 мая. Они настаивали на поддержке — чешский народ никогда не забудет помощи, оказанной в такой час. Власов, однако, не дал никаких обещаний. Затем он и Буняченко обменялись взаимными упреками. Последний настаивал на том, чтобы вмешаться в пражские события — возможно, это последний шанс спасти дивизию, поскольку американцам тоже нельзя доверять. Власов не разделял такого мнения. Он не считал, что чехи — особенно если Прагу оккупируют американцы — смогут действовать без одобрения последних. Последнее слово все равно будет принадлежать американцам, а посему куда разумнее установить контакт с ними. Однако после того, как Николаев и другие старшие офицеры дивизии высказались в пользу участия в боях, Власов нехотя предоставил Буняченко свободу действий, не желая в такой безнадежной обстановке лишать командира хоть какой-то возможности.
На следующее утро, 4 мая, около Козоедов приземлился самолет с лейтенантом Бушманном и генералом Шаповаловым. Трухин отправил Шаповалова, которому по плану предстояло возглавить 3-ю дивизию, за получением указаний к Власову. Тот сказал, что сосредоточение РОА в районе Инсбрука стало бессмысленным, а потому все части следует стянуть в Богемию. В разговоре с Бушманном той ночью Власов выразил то, какое тягостное чувство владело им в связи с предстоящей операцией в Праге, поскольку не ждал от этого ничего хорошего. Кроме того, он не хотел воевать с немецкой армией. Если и могла еще существовать какая-то надежда, он связывал ее с западными союзниками. Власов рассказал о попытках выяснить-степень готовности последних принять капитуляцию РОА с условием не передавать затем ее бойцов Советам.
— Но, — подытожил он, — мне в любом случае придется сдаться, отдать себя на их милость, даже если никаких гарантий и не поступит. Может быть, если выдадут меня, можно будет спасти хотя бы личный состав. Я не знаю. Ничего не могу сделать, должен сидеть и ждать, а что может быть хуже для человека?
Бушманна потрясла безнадежность Власова.
На следующее утро он сообщил Власову, что Мальцев и другие офицеры считают необходимым для него искать убежища. Представлялась возможность вылететь в Испанию. Но Власов остался тверд.
— Командир, который бросает своих людей в критический момент, потом уже и вовсе никому не нужен, — сказал он. — У меня были все шансы на победу. Немцы или — если так кому-то больше нравится — судьба не захотели этого. А теперь я должен пройти свой путь до конца.[234] Вскоре после этого Бушманн и Шаповалов улетели обратно к Трухину.
На рассвете следующего дня Буняченко, сговорившись с представителями повстанцев, приказал дивизии выступать на Прагу. Несколько позднее Николаев обратился к майору Швеннингеру с просьбой сдать оружие. Он выразил свое сожаление — данная мера не была направлена против Швеннингера, напротив, целью ее служило обеспечение его безопасности. Николаев попросил Швеннингера понять причину принятого Буняченко решения. Марш на помощь чешским повстанцам был последним шансом спасти хоть что-то.[235] Вечером 6 мая, выдвигаясь с запада и юго-запада, дивизия вышла в предместья Праги и изготовилась к бою. На пути к столице население встречало солдат ликованием и забрасывало цветами и подарками.
В некоторых районах города восстание началось уже 4 мая, толчком к нему послужили новости о том, что самолеты с так необходимым чехам оружием вылетели из Бари в Италии. Когда же самолеты не прибыли, — Черчилль отменил вылет по просьбе Сталина, — бои временно приостановились — слишком значительным было превосходство немцев.
С началом восстания повстанцы открыли переговоры с Народной Радой, временным парламентом чешского правительства в изгнании, находившимся в Лондоне. Председателем Рады являлся профессор Альберт Пражак, а его заместителем и представителем находившейся в меньшинстве коммунистической фракции — Йозеф Сморковски. Правительство в изгнании назначило главным военным руководителем капитана Нехански, которого с парашютом забросили на территорию Чехословакии.
Раде приходилось решать, не реагировать на действия повстанцев или же принять на себя руководство борьбой. Она сделала выбор в пользу второго. После непростых переговоров — военные не доверяли Раде, поскольку в нее входило немало коммунистов, — политическое руководство Рады было признано. Та в свою очередь приняла генерала Кутльвасра в качестве военного главы восстания, хотя капитан Нечански номинально располагал равными с ним полномочиями.
Вступление в действие русской дивизии послужило решающим фактором для успеха восстания. Ко второй половине дня 7 мая, в результате ожесточенных боев, большая часть города находилась в руках повстанцев. На своем командном пункте в предместье Инонице Буняченко действовал в тесном взаимодействии со штабом восстания. Хотя сам Власов прямого участия в боях не принимал, его постоянно информировали о ходе и развитии событий.
Буняченко поручил адъютанту Власова, капитану Антонову, обеспечить связь с командующим. Утром 7 мая Антонов случайно встретился в холле здания Рады со Сморковски. Сморковски заявил, что Рада отвергает помощь предателей и немецких наймитов и не желает иметь с ними никакого дела. Скоро к городу выйдут советские войска под началом маршала Конева, которые и помогут повстанцам. Когда ошарашенный Антонов заметил, что повстанцы сами просили поддержки у Власова, Сморковски отозвался так:
— Но не Рада, а лишь она наделена политическими полномочиями. Вы же сами подтверждаете то, что воюете против коммунизма. Многие члены Рады — коммунисты. Посему вы являетесь нашими врагами.
Пока они таким образом беседовали, к ним подошел член Рады доктор Отокар Махотка, который и объяснил, в чем недоразумение: коммунисты находятся в Раде в меньшинстве, и потому она проголосовала за то, чтобы принять помощь Власова. Однако давления коммунистов оказалось достаточно, чтобы не допустить подписания официального соглашения.
Новость стала тяжелым ударом для Буняченко. Он потребовал письменного извинения и соглашения. Рада отказала под предлогом того, что не делала никаких оскорбительных заявлений. Когда Буняченко узнал, что американцы остановили продвижение к Праге около Пльзеня, он приказал своим солдатам выйти из боевого соприкосновения с противником, и в ту же ночь дивизия начала отход на исходные позиции.[236] Известие о капитуляции Германии достигло их 8 мая. На следующий день дивизия вновь вышла в район Бероуна, однако не остановилась, а продолжила марш на юг. Теперь и Буняченко понял, что последняя их надежда — американцы.[237]
Во время марша часть сил дивизии проходила через город, расположенный километрах в пятидесяти к юго-западу от Праги. В поисках бензина капитан Будерацкий из 3-го полка дивизии заехал во двор тюрьмы на окраине города. Вдруг из-за зарешеченного окна послышался крик о помощи — как выяснилось, кричал Ромашкин, адъютант Трухина. Будерацкий уехал и возвратился с крупным отрядом. В результате угрозы применить силу удалось освободить не только Ромашкина, но также и многих других адъютантов и шоферов.[238] Они и рассказали Буняченко о том, какая судьба постигла их генералов.
5 мая Трухин наладил связь с американцами и получил от них ультиматум о полной сдаче 2-й дивизии в течение тридцати шести часов. Когда Шаповалов доставил Трухину приказ Власова следовать в Чехословакию, он послал Боярского в Козоеды, чтобы убедить Власова привести прямо к американцам и 1-ю дивизию. Поскольку Боярский с задания не вернулся, Трухин поехал сам вместе с Шаповаловым. В Пршибраме их остановили чешские партизаны. Привычно не ожидая от чехов ничего плохого, генералы вошли в здание, где оказался капитан Красной Армии. Русских схватили и сказали, что Боярский уже повешен. Вскоре после этого Шаповалова расстреляли, а Трухина передали Красной Армии. Когда и Трухин не вернулся, его заместитель, Меандров, отправил к Власову генерала Благовещенского. Однако судьба настигла его там же, где и всех прочих, — в Пршибраме. Чехи сдали Благовещенского Советам.
Пока 1-я дивизия форсированным маршем шла на юг, Власов поехал вперед в Пльзень. С ним вместе следовал и генерал Кононов, который с большим трудом все-таки разыскал Власова. Кононов намеревался посоветовать ему соединиться с казачьим корпусом, который с боями пробивался в Австрию из Югославии. Однако поскольку Германия капитулировала быстрее, чем ожидалось, все планы заметно обесценились. Теперь все, что хотел Кононов, — побыстрее вернуться к своим казакам, чтобы встретить последние часы с ними. Он распрощался с Власовым перед самыми позициями американцев. Они обнялись, и Власов попросил Кононова, если тот уцелеет, поведать людям правду.[239]
Власов достиг передовых американских постов поздним вечером. Майор сопроводил их колонну в Пльзень, где Власова принял полковник, который, не имея понятия о существовании Русской освободительной армии, поначалу принял его за советского генерала. После того как ситуация прояснилась, было условлено о встрече Власова с командующим на следующий день. Войдя в здание, где размещались его спутники, — на виллу бывшего нацистского чиновника, — Власов обнаружил их всех в гражданской одежде. Тензоров сказал, что договориться вряд ли удастся и их выдадут Советам. Он не доверял американцам. Германская граница находилась совсем рядом, их не охраняли, все, кто был на вилле, переоделись в гражданское, приготовили костюм также и для Власова. Но Власов вновь отказался: он останется до тех пор, пока не решится судьба армии. В сложившейся ситуации он не собирается никого принуждать, каждый волен уйти… Антонов принялся стелить генералу постель. Остальные тем временем молча сняли гражданские костюмы.
В десять часов утра следующего дня Власова принял американский генерал, который сказал, что не может предоставить никаких гарантий в отношении невыдачи русских Советам, поскольку данный вопрос вне его компетенции. Он лишь рекомендовал безоговорочную сдачу, в этом случае он приложит максимум усилий к тому, чтобы личный состав дивизии был объявлен пленными американцев. После чего Власов вернулся туда, где его разместили. Ближе к 2 часам пополудни пришел американский офицер, который сообщил Власову о том, что его дивизия вышла к Шлюссельбургу и что генерал предоставил Власову право выехать туда, если он того хочет. Однако он свободен и может направляться туда, куда желает. Если надо, ему даже дадут бензина. Одним словом, Власову тактично намекали, что не будут возражать против его побега. Конечно, в данном случае находило отражение лишь личное отношение одного высокопоставленного офицера, однако этот жест стал первым проявлением человеческого сочувствия, с которым на данном этапе столкнулся Власов. Он велел передать, что поедет в дивизию.
Когда Власов садился в машину, прохожие узнавали его. Для чехов он по-прежнему оставался героем, освободившим Прагу. Машину окружила быстро растущая толпа. Раздавались восторженные крики, многие вскидывали руки, сжатые в коммунистическом салюте, какая-то женщина бросила в машину цветы. Власов, полностью отдавая себе отчет в трагикомическом характере ситуации, просто безучастно взирал на собравшихся. Поначалу американцы смотрели на происходившее в удивлении и в недоумении, но затем отогнали толпу и дали колонне возможность побыстрее тронуться в путь.
В Шлюссельбург она прибыла поздно вечером. Американцы вошли в напоминавшее замок строение на окраине города, а колонна с погашенными огнями осталась ждать на обочине дороги. В теплом вечере весны издалека доносились возгласы девушек, весело проводивших время с солдатами, а где-то вдалеке звучали русские песни. То и дело проходившие по дороге люди приближались к машинам, однако, завидев в них неподвижные фигуры, быстро проходили дальше. Так они ждали четыре часа. Все молчали. Словно бы это была пауза — последняя передышка перед последним и самым трудным этапом их путешествия. Никто не знал, удастся ли уцелеть. Наконец около полуночи русским сообщили, что они могут переночевать в замке. Их принял комендант города капитан Донахью.
Пока русским готовили комнаты, они ожидали в кабинете Донахью. Американский комендант спросил Власова, почему тот сражался против своей страны. Власов, погруженный в полную апатию, дал знак переводчику, что считает ответ бессмысленным. Американец подался вперед, его лицо выражало спокойствие и сочувствие — ни надменности, ни заносчивости. Он пояснил, что никого не осуждает. Он понимает, что Власов — враг Сталина и просто хочет узнать почему. Власов осознал, что интерес капитана искренний, и начал говорить — поначалу медленно и почти без выражения, но потом все с большей и большей страстью. В последний раз он рассказывал кому-то о планах, надеждах и разочарованиях своих соотечественников. Он как бы подводил черту, подытоживал то, за что сражались и из-за чего принимали страдания столь многие русские.
Он словно бы говорил даже не с американцем, а скорее исповедывался, охватывал взглядом прожитую жизнь и в последний раз негодовал на судьбу, которая привела его к столь печальному концу. Американец слушал очень внимательно, и в нем возникало что-то похожее на восхищение. Наконец он поднялся и пожал Власову руку:
— Спасибо, генерал. Я сделаю для вас все, что смогу.
На следующий день, 11 мая, Власов узнал, что дивизия сосредоточилась в семи километрах к северу от Шлюссельбурга и по приказу американцев сложила оружие. Дисциплина находилась на высочайшем уровне, личный состав считал себя интернированным американцами. Между тем Донахью сообщил Власову, что вечером следующего дня район будет передан Советам и что у него все еще нет разрешения на вход в американскую оккупационную зону для Власова и его солдат. Он предложил, чтобы Власов поехал в британскую зону с возвращавшимися к своим освобожденными британскими военнопленными, там он смог бы встретиться и поговорить с британскими официальными лицами. Но Власов отказался и отправился в лагерь дивизии, не в последнюю очередь потому, что в замке становилось все более небезопасно — там постоянно сновали туда-сюда чешские партизаны и советские офицеры. В лагере он узнал о судьбе Трухина и других генералов. Власов и Буняченко сошлись на том, что, если американцы не разрешат дивизии войти в свою зону, можно будет попробовать просочиться в нее маленькими группами.
Во второй половине дня Власов вернулся в замок. Капитан Донахью сказал ему, что командование армии интересовалось, не находится ли Власов в Шлюссельбурге.
— Вы здесь? — спросил он. Власов понимал, что этот храбрый офицер все еще не хочет закрывать ему дорогу к бегству. Однако вновь отказался.
— Я здесь, — сказал он и обменялся с американцем рукопожатием.
Ближе к вечеру Власову пришлось вести переговоры с генералом Райманном и капитаном фон Пастором, представлявшим германский 29-й корпус, разбивший лагерь по соседству с дивизией. Донахью распорядился, чтобы оба соединения получали пищевое довольствие совместно, и потребовал данные о их численности. Дискуссия оказалась бесплодной, поскольку ни немцы, ни Власов не видели смысла в том, чтобы подавать общие данные.[240]
Ближе к 7 вечера того же дня разведывательные дозоры донесли Буняченко о приближении советских танков, и он немедленно перенес штаб дивизии из села Хвоздян в ближайший лес. Буняченко послал за своими полковыми командирами, но они не смогли найти его. 162-я советская танковая бригада встала лагерем на ночь всего не более чем в трех километрах от американских позиций. Поскольку ему не удалось связаться с Власовым, Буняченко поехал прямо на американские противотанковые заграждения и потребовал, чтобы его немедленно отвели к американскому командующему. После долгих переговоров ему сказали, что встреча может состояться не ранее чем в десять часов следующего утра. Тогда и будет принято решение, сможет или нет дивизия проследовать на американскую сторону. Буняченко в любом случае надо было как-то выиграть время. Существовала опасность, что на рассвете Советы двинутся прямо к американским позициям и сомнут дивизию.
На помощь пришел случай. Подполковник Вячеслав Артемьев, командир 2-го полка, занятый поисками штаба дивизии, неожиданно столкнулся с советскими офицерами. Чтобы не попасть в плен, он придумал то, что само пришло в голову, — прикинулся эмиссаром по переговорам. Его тотчас же препроводили к командиру советской танковой бригады полковнику Мищенко. Мищенко повел себя хотя и доброжелательно, но в то же время и покровительственно. Он гарантировал жизнь и свободу тем, кто сдастся добровольно, и потребовал принятия быстрого решения. Он явно ничего не знал о том, что дивизия разоружается и что американцы отказались защищать ее.
Артемьев ответил, что должен обговорить все с Буняченко, и был тут же отпущен. Буняченко отправил Артемьева назад к Мищенко с заданием любой ценой оттянуть решение до 11 часов следующего дня. Для придачи его миссии пущей правдивости он поручил Артемьеву добиваться письменных гарантий и обозначить 11 утра как час сдачи дивизии советской стороне.
В 1 час ночи Артемьев вновь появился в Хвоздяне, где ему предложили ужин. Затем Мищенко написал на листке бумаги нечто вроде справки о предоставлении соответствующих гарантий, поставив условием, что дивизия сдастся со всем своим вооружением. После завершения официальной части Мищенко пустился в мечтательные разглагольствования о том, какая дивная жизнь будет теперь в Советском Союзе, где очень многое изменилось. В итоге, будучи уже совершенно пьяным, он предложил Артемьеву не дожидаться решения Буняченко, а уже сейчас привести к нему свой полк и сдаться. Если он поступит подобным образом, то это послужит для него смягчающим вину обстоятельством и он даже сможет вернуться в Красную Армию в своем прежнем звании. Наконец уже на рассвете Мищенко разрешил Артемьеву уехать. Время удалось выиграть — Советы согласились ничего не предпринимать до 11 утра.
Ночью Власов подготовил меморандум, в котором заявлял о готовности руководителей РОА предстать перед международным судом и о том, что было бы глубочайшей несправедливостью отдать их на расправу Советам, фактически осудив таким образом на смерть. Речь шла не о добровольцах, служивших немцам, но о политической организации, о верхушке оппозиционного движения, которая в любом случае не должна судиться по военным законам.
Донахью немедленно передал текст по рации. Вскоре после этого, однако, ему пришлось сообщить Власову, что верховное командование отказалось предоставить дивизии разрешение на проход в американскую зону и гарантировать личному составу статус военнопленных. Лично он советовал русским просачиваться в американскую зону малыми группами. Самого Власова предстояло направить на переговоры с главным командованием армии в 2 часа пополудни.
В 10 утра Буняченко приняли в замке, где Власов информировал его о решении американцев. Иного выхода, кроме расформирования, не оставалось. Буняченко вернулся в расположение дивизии и отдал последний приказ. После команды «Разойдись!» полностью боеспособная и дисциплинированная боевая часть за несколько минут перестала существовать как единое целое.
Брошенные перед лицом необходимости принятия самостоятельных решений люди поначалу пришли в замешательство. Не стоит ли продолжать продвигаться дальше на юг? Но что потом? Офицеры и солдаты срывали с формы знаки различия, старались раздобыть гражданское платье, жгли документы. В лесу звучали выстрелы — некоторые предпочли покончить с собой, чем продолжать жить в страхе и неопределенности. Иные не могли сдержать горечи, однако никто не упрекал офицеров, которые не были виноваты в катастрофе.
В ту ночь началась большая охота. Специальные команды Красной Армии бросились ловить личный состав РОА, а чехи, еще несколько дней назад приветствовавшие солдат Власова как освободителей, теперь забивали их насмерть или выдавали Советам. Около десяти тысяч человек были убиты или попали в руки Советов. Некоторым удалось на время спастись, достигнув американской зоны, однако более половины таких «счастливчиков» позднее были принудительно репатриированы в СССР.
Около двух часов пополудни из замка тронулась в путь колонна из восьми автомобилей, в качестве сопровождения в голове и в хвосте ее следовали по одной американской бронемашине. В первом автомобиле находились Буняченко и Николаев, которые сумели пробраться в замок с еще несколькими офицерами дивизии. В последнем находились Власов, Антонов, водитель Власова и старший лейтенант Виктор Ресслер, переводчик. Власов оставил Тензорова и некоторых других в замке под защитой Донахью с заданием помочь, чем удастся, личному составу распущенной дивизии. Донахью попрощался с Власовым и выразил свое сожаление, что генерал не последовал его совету, пока еще оставалась такая возможность.
Недалеко от замка колонну Власова остановила машина с находившимися в ней майором Якушевым, командиром мотострелкового батальона из состава 162-й танковой бригады,[241] и капитаном РОА по фамилии Кучинский. Стремясь спасти собственную шкуру, Кучинский обратил внимание Якушева на отъезд колонны. Якушев потребовал, чтобы Буняченко следовал за ним. С ним — освободителем Праги — ничего не случится. Буняченко категорически отказался — он военнопленный американцев и следует в штаб американской армии.
По знаку Кучинского Якушев подошел к машине Власова и резко распахнул дверь. Власов вышел и в сопровождении Ресслера направился вперед к американскому офицеру во главе колонны. Сопротивление было бессмысленным, поскольку все русские офицеры уже сдали оружие. Ресслер попросил американского офицера вмешаться — Власов являлся военнопленным, следующим в штаб-квартиру армии. Американец не понял (или не захотел понять) плохого английского Ресслера, он молча и неподвижно наблюдал за развитием событий.
Увидев, что американец не вмешивается, Якушев наставил на Власова автомат. Власов спокойно расстегнул китель и произнес:
— Стреляй!
В этот момент молоденькая медсестра бросилась наперерез и закрыла собой генерала.
— Нет! — воскликнула она. — Не стреляйте!
Власов осторожно отодвинул ее в сторонку. Якушев же злобно проговорил:
— Тебя буду судить не я, а товарищ Сталин!
Тем временем Ресслер заметил, что несколько машин повернули назад к Шлюссельбургу, тогда как другие остались стоять брошенными. В надежде, что кто-нибудь известит капитана Донахью, Ресслер попытался всеми силами выиграть время. Он вновь с мольбой обратился к американцам, но они оставались неподвижными, словно бы все происходившее никак их не касалось. Власов стоял один рядом с Якушевым. Словно бы влекомый какой-то силой, Ресслер подошел к нему, и вместе они сели в машину Якушева. Они объехали медсестру, которая, всхлипывая, бежала вдоль дороги, И покатили мимо замка, в котором не было видно никаких признаков тревоги, и мимо сел, в которых счастливо праздновали победу советские и американские солдаты.
Ресслер был этническим немцем из Советского Союза, который еще до войны уехал в Германию и работал там водителем такси. Простой человек, он повел себя героически. Благородство и сочувствие обошлись ему дорого — десятью годами, проведенными в неволе. В Германию он вернулся только в 1955 г.
Когда они добрались до штаба корпуса, победное празднование с американскими офицерами уже подходило к концу. Бутылки, бокалы шампанского и недоеденные блюда все еще стояли на длинных столах. Несколько высокопоставленных советских офицеров, явно все еще пребывавших в самом наилучшем расположении духа, при появлении Власова поднялись.
— Вы Власов? — спросил полковник. Власов кивнул. Офицер тотчас же потребовал, чтобы Власов подписал документ о капитуляции. Власов объяснил, что его армии больше не существует — она разоружена и расформирована. Советские офицеры продолжали настаивать на подписании, и Власов уступил. Данное обстоятельство более не казалось ему важным.
Антонов поспешил обратно в замок и сообщил о том, что Власов захвачен. Донахью выехал немедленно, но опоздал — он нашел только машины сопровождения. В ту же ночь он лично отправил еще остававшихся в замке русских за пятьдесят с лишним километров в американскую зону, обеспечил питание для них, а затем уехал. Среди них находились Тензоров, Антонов и водитель Власова, а также переводчица Ростовцева со своим мужем, майор Савельев и врач Донаров с женой. Буняченко и Николаев были позднее схвачены советскими солдатами, но как именно, неизвестно. Американцы их не передавали.[242]
Незадолго до того, как Власов попал в руки Советов, Штрикфельдт и Малышкин имели беседу с командующим 7-й армии США генералом Александром Пэтчем. Малышкин объяснил ему мотивы, двигавшие теми, кто поддерживал освободительное движение. Он обратился с просьбой о предоставлении защиты не себе, но противникам советской системы, которые просят политического убежища. Малышкин обращался к американскому народу, который всегда превыше всего ценил свободу.
Пэтча обращение явно тронуло, однако подобное решение находилось только в компетенции Вашингтона. Тем не менее он выразил готовность принять ответственность за русские части на тех же условиях, которые применялись к немецким. Малышкин и Штрикфельдт должны были сообщить об этом Власову. Однако дни шли, а их все не отпускали — то и дело находились какие-то предлоги, мешавшие освобождению. В день капитуляции Германии им объявили, что они больше не делегаты на переговорах о перемирии, а военнопленные.[243]
Профессору Оберлендеру повезло больше. Американцы отправили его в поместье принца Леопольда Баварского, где 23 апреля у него состоялись переговоры с командиром 2-го бронетанкового корпуса США генералом Кеннеди. Кеннеди сказал, что готов принять группу Мальцева и не станет выдавать их Советам. Он сделает это под свою собственную ответственность и не будет докладывать вышестоящему начальству. Однако он потребовал, чтобы генерал Ашенбреннер явился к нему лично. 24-го числа Оберлендер возвратился с Ашенбреннером, и 25-го оба имели беседу с Кеннеди, который подтвердил свое обещание. 27 апреля соединение военно-воздушных сил РОА под белыми флагами маршем вошло в Мюнзинген, где сложило оружие.[244]
Генерал Кеннеди не смог сдержать обещания. Большинство солдат и офицеров, включая самого Мальцева, были принудительно репатриированы в СССР. Штаб КОНР, возглавляемый Жиленковым, перебрался из Инсбрука в Циллерталь и там был интернирован американцами. Оставшиеся части РОА — 2-я дивизия, запасная бригада, офицерская школа и Генеральный штаб — тоже вошли на оккупированную американцами территорию. Меандров отдал приказ выступать 8 мая, после того как ему так и не удалось установить связь с Власовым.
Зверев, командир 2-й дивизии, приказал своим солдатам двигаться, но сам остался — его жена приняла яд и умирала. Ночью штаб-квартира дивизии подверглась атаке Советов и была захвачена после непродолжительной перестрелки, при этом убежать удалось лишь одному офицеру. Остальная часть личного состава дивизии, за исключением некоторого количества обозников, сумела пересечь линии американцев. Они сдали оружие около Крумау.
Запасная бригада под командованием подполковника Садовникова вышла в район Фридберга, где американский комендант, невзирая на полученные приказы, снабдил небольшие группы русских разрешениями на проезд в Мюнхен. Таким образом было спасено восемьсот нижних чинов и пятнадцать офицеров.
Все оставшиеся силы РОА в итоге сосредоточились в районе Ландау. Там Меандров попросил Герре, который не чувствовал себя вправе предоставить русских своей собственной участи, обратиться к Кёстрингу с просьбой походатайствовать за них перед американцами. Герре раздобыл гражданскую одежду и после одиннадцати суток долгого путешествия добрался до Кёстринга, который находился у себя дома, неподалеку от Марквартштайна, ожидая, когда американцы возьмут его в плен.
Кёстринг, однако, не считал, что его вмешательство хоть как-то поможет русским. Через несколько дней, когда его направили в лагерь для военнопленных 101-й воздушно-десантной дивизии США, появились признаки, подтверждавшие основательность его пессимизма. Допросы являлись чистой формальностью. Опыт Кёстринга и знание им того, что происходит на русских территориях, явно не интересовали допрашивавших его американцев, которые хотели узнать только, какими средствами пользовались немцы, чтобы принудить русских сражаться. Кёстринг убедился, что бессмысленно объяснять всю глубину проблемы. Тем не менее он сказал, что жадность и глупость немецкого руководства помешали ему с умом использовать огромный ресурс для борьбы с большевизмом. Теперь американцы собирались расточить эти богатства вторично, поскольку они разочаровывали тех, кто надеялся на их помощь после того, как немцы бросили их на произвол судьбы. Возможно, скоро у американцев появится причина пожалеть об этом.
— Возможно, — не стал спорить снимавший допрос офицер, но это был лишь вежливый и ничего не значивший ответ.[245]
Прочих эмиссаров по вопросам перемирия ожидало такое же непонимание. Жеребкова остановили на швейцарской границе после запроса в Берне относительно соответствующих распоряжений, когда же он попробовал перейти кордон нелегально, его арестовали и отправили назад. Доктор Поремский и полковник Милишкевич, которые попытались установить контакт с британскими военными властями в Гамбурге, также были арестованы, равно как и Быкадоров, и капитан Лапин. Вскоре после этого Милишкевича и Лапина передали Советам. Полковник фон Рентельн, которого генерал фон Паннвиц отправил к британскому фельдмаршалу Александеру, так никогда и не добрался до последнего. Он был выдан Советам[246] и умер в тюрьме.
Тем временем пока части РОА сдавались американцам, казачий корпус с боями шел к австрийской границе. Тогда как у бегущих немцев всюду царили хаос и неразбериха, казаки отступали в порядке и сохраняя дисциплину. Первое их соприкосновение с союзническими силами состоялось 9 мая, когда они оказались перед британской 11-й бронетанковой дивизией[247] в районе Лавамюнде.
Паннвиц поехал встретиться с британцами. Он и в мыслях не держал, что казачий корпус, никогда не воевавший с западными союзниками, может быть передан Советам. 10 мая подтянулась 1-я дивизия корпуса, и Паннвиц наблюдал за ее прибытием в компании нескольких британских офицеров.
Посреди всеобщего хаоса казаки служили достойным особого внимания явлением. Трубачи на белых конях выстроились стройными рядами позади своего командира. Затем они двинулись за ним эскадрон за эскадроном торжественным галопом мимо застывших в удивлении британцев.
Поначалу британцы вели себя безукоризненно. Личный состав корпуса получил возможность свободно перемещаться в районе Клагенфурта, о репатриации не было никаких разговоров. Однако 27 мая командиру 1-й дивизии полковнику Вагнеру приказали переместить своих людей в лагерь около Вайтенсфельда, и британский офицер дал ему понять, что это станет прелюдией к репатриации. Вагнер затем позволил всем делать то, что каждый считает правильным. Он с некоторыми другими немецкими офицерами сумел перейти через Альпы в Германию. Командование дивизией принял полковник Сукало с осознанием того, что каждый боец волен делать то, что считает нужным. На утренней заре собралась почти вся дивизия. Сукало тоже остался и возглавил марш личного состава в лагерь..
На пути туда нескольких человек спас британский майор, который спрашивал каждого солдата, где тот родился и не принадлежал ли к старой эмиграции. Те, кто ответили «да», были освобождены. Остальных через несколько суток передали Советам. Сам Паннвиц отказался спасаться, хотя его и не охраняли. Он объяснил это так:
— Мне пришлось разделить немало счастливых дней со своими казаками, и я останусь с ними в горькие времена.[248]
Вскоре его арестовали и передали Советам в Юденбурге. Остальных немецких офицеров корпуса под предлогом отправки в Германию собрали под Ноймарктом, после чего тоже под сильной охраной сопроводили к Советам в Юденбург.
Примерно в то же время, когда казачий корпус Паннвица пересекал австрийскую границу, группа Доманова подходила к Австрии с территории Северной Италии, завершая долгий и утомительный марш. Группа, насчитывавшая всего около 35 тысяч человек, включая женщин и детей, встала лагерем в широкой долине около Лиениа. Этим людям тоже поначалу предоставили свободу передвижения. Они полагались на клятву, данную британским офицером майором Дэвисом, что никто из них не будет репатриирован в Советский Союз.
28 мая офицерам приказали явиться на встречу с фельдмаршалом Александером, откуда они должны были возвратиться через несколько часов. Некоторых скептиков высмеивали представители старой эмиграции: королевский офицер не нарушит слова — такое просто немыслимо. И вот 2200 офицеров, в том числе и сам Доманов, поднялись на борт ожидавших их грузовиков. Похоже, только один 76-летний генерал П. Н. Краснов предчувствовал надвигавшуюся катастрофу. На прощание он сказал жене:
— Улыбнись еще разок. Мне всегда так нравилось, когда ты улыбаешься.
По дороге колонну окружили танки и всех отправили к Советам. Лишь горстка счастливчиков сумела спастись.
На следующий день майор Дэвис сообщил оставшимся, что их офицеры арестованы и не вернутся. Теперь все солдаты могут открыто высказать свое мнение, у каждого есть право на репатриацию. Поначалу люди были ошеломлены. Потом отправили делегатов к Дэвису с просьбой освободить офицеров. Они готовы следовать только за офицерами, ни один не хочет добровольно возвращаться в Советский Союз.
31 мая Дэвис избрал в качестве дня транспортировки казаков в пункт передачи. Поскольку на 31-е выпадал праздник тела Господня,[249] по просьбе католического духовенства Лиенца операцию отложили на следующий день. Над лагерем взвились черные знамена с надписью: «Лучше смерть, чем возвращение в Советский Союз». Когда Дэвис появился в лагере, ему заявили:
— Добровольно мы не поедем.
Дэвис объяснил, что он солдат и всего лишь подчиняется приказу.
Казаки начали голодовку. В казарме, переделанной в церковь, начались непрерывные молебны. Были отправлены послания римскому папе, Черчиллю, в Международный Красный Крест — все они закончили свой путь в корзинах для мусора в британской штаб-квартире.
В ночь 31 мая в лагере воцарилась мертвая тишина. То там, то тут мелькали в темноте человеческие фигуры. Группа в несколько сотен, пусть даже тысяч, человек еще могла бы скрыться, однако такое большое скопление людей — тридцать пять тысяч и среди них женщины и дети — было просто не в состоянии спастись бегством в покрытых снегом горах.
На рассвете дня принудительной репатриации началось богослужение перед бараками. В 8 часов появился майор Дэвис с колонной грузовиков. Вскоре после этого подтянулись бронемашины разведки и солдаты 8-го шотландского артиллерийского дивизиона. Через громкоговорители казакам было приказано начать погрузку в грузовики. Сопротивление бесполезно. Но никто не пошевелился. Люди принялись читать заупокойные молитвы — по себе самим. Священники подняли кресты, а молодежь окружила стариков, детей и женщин.
Британцы двинулись на толпу, палками и резиновыми дубинками отбили от нее часть людей и загнали в грузовики. Детей вырывали из рук матерей, избивали даже женщин и священников. Напуганная толпа отпрянула назад. В давке рухнул воздвигнутый для священнослужителей помост, погребая под собой множество собравшихся. Наконец окружавшая лагерь ограда из колючей проволоки не выдержала натиска, и охваченная паникой толпа хлынула прямо к мосту через реку Драва и в лес в горах за ней.
Хотя бронемашины успели перегородить дорогу, многим тем не менее удалось перейти мост. Женщины и дети падали в Драву и тонули, некоторые казаки убивали членов своих семей, а потом кончали с собой. Британские отряды принялись ловить беглецов по лесам — выстрелы гремели среди деревьев. Тех несчастных, кто остался в лагере, загнали в грузовики. Многие падали без сознания, поскольку провели без пищи по нескольку суток. Наконец в 3 часа дня через громкоговорители объявили о прекращении операции на текущий день — «солдаты устали».
Насчитали 134 погибших. На берегу Дравы появилось небольшое кладбище, за которым и по сей день ухаживают те из казаков, которым удалось остаться в Лиенце. На следующий день репатриация продолжилась вплоть до окончания операции. Тридцать семь генералов, большинство из которых принадлежали к старой эмиграции и никогда не являлись советскими гражданами, 2200 офицеров и около 30 тысяч казаков были выданы Советам.
Генерал Шкуро сорвал с груди британский орден и швырнул его на землю перед британским офицером. Он попросил дать ему пистолет, чтобы не попасть живым в руки Советов. Полковника Кулакова, легендарную фигуру времен Гражданской войны, человека с ампутированными нижними частями обеих ног, советские войска попытались захватить в санатории в Восточном Тироле. Он и горстка казаков сражались до последнего патрона и полегли все до единого человека. Несколько дней спустя Паннвиц и казачьи генералы самолетом из Бадена через Вену были отправлены в Москву. Фельдмаршала Шёрнера везли вместе с ними, но обращались с ним, в отличие от казачьих генералов, как подобает.[250]
* * *
17 января 1947 г. газета «Правда» опубликовала бюллетень Военной коллегии Верховного суда СССР, в котором сообщалось, что «атаман Краснов П. Н., генерал-лейтенант белой армии Шкуро А. Г., генерал-майор белой армии Султан-Гирей Клыч, генерал-майор белой армии Краснов С. Н., генерал-майop белой армии Доманов Т. И., а также генерал германской армии, эсэсовец фон Паннвиц Гельмут» признаны виновными в том, что «по заданию германской разведки» вели вооруженную борьбу против СССР «посредством сформированных ими белогвардейских отрядов» и проводили «активную шпионско-диверсионную деятельность» и что приговор к смертной казни через повешение приведен в исполнение.
Эпилог
Вскоре после репатриации казаков британцы передали советской стороне 162-ю тюркскую дивизию, сосредоточенную в лагере около Таренто. Там тоже имели место и самоубийства, и гибель людей в ходе отчаянных попыток спастись бегством. Русскому корпусу и 2-й украинской дивизии генерала Шандрука повезло больше, их не стали возвращать принудительно как целые части, поскольку они состояли преимущественно из представителей старой русской эмиграции.[251]
По подписанному в Ялте 11 февраля 1945 г. соглашению, Соединенные Штаты и Великобритания обязались (позднее к ним, подписав отдельный договор, присоединилась и Франция) производить репатриацию, если придется, то и насильственную, тех, кто являлся гражданами Советского Союза на 1 сентября 1939 г., а также и тех, кто, будучи 22 июня 1941 г. (и позднее) военнослужащими Красной Армии, были затем схвачены в немецкой военной форме или добровольно сотрудничали с врагом.
Однако на практике выдавали и большое количество людей, никак не подпадавших под эти условия. Множество казаков, женщин, детей и стариков, равно как и эмигрантов первой волны, никогда не являвшихся советскими гражданами, были в нарушение всех правил переданы СССР. Поначалу такие акты репатриации еще как-то объяснимы с точки зрения победной эйфории, ненависти к Германии и ко всем тем, кто, как это казалось, пособничал нацистам. Однако соглашением никак нельзя объяснить более поздние выдачи, которые продолжались вплоть до 1947 г. Тут уже налицо прямые нарушения международного права и Женевской конвенции в отношении военнопленных.
Голоса протеста были почти не слышны. Так, в «Ле Монд» от 12 июня 1947 г. некий юрист Галиняк указывал, что концепция «принудительной репатриации» не существует в международном праве — только добровольная. В Великобритании всего за день до этого член парламента от партии консерваторов, Гарольд Николсон, направил запрос палаты общин министру иностранных дел Эрнесту Бевину, желая узнать, не входит ли, по его мнению, принудительная репатриация в любую страну в противоречие с английской традицией. Бевин ответил: «Это также противоречит нашим взглядам. Но с другой стороны, я не могу позволить тем людям выиграть из-за этого… Я готов предоставить убежище, но я не выношу людей, которые будут использовать данное право, чтобы потом ездить на нашей шее до скончания века». Николсон спросил затем, не может ли правительство, по меньшей мере, как-то гарантировать от выдачи тех людей, которым вследствие репатриации явно угрожает смерть. Бевин заявил: «Я не считаю, что мы будем поступать подобным образом. Известны случаи, когда люди предпочитали покончить с собой, чем вернуться в свою страну, однако в свете Ялтинского соглашения мои обязанности не вызывают сомнений».[252]
Правительство США отдавало себе отчет в незаконности принудительных репатриаций, что подтверждается служебной запиской Государственного департамента, представленной в советское посольство в Вашингтоне 1 февраля 1945 г. В ней наличествует четкая ссылка на Женевскую конвенцию, которая разъясняет, что русские пленные в немецкой военной форме не должны подвергаться репатриации против их воли.[253] Отношение правительства США было также недвусмысленным применительно к требованиям северокорейских и китайских коммунистов, чтобы все представители этих национальностей были бы возвращены им: США отказались выдавать тех, кто не хотел ехать обратно. Государственный секретарь Дин Ашсон заявил Организации Объединенных Наций 24 октября 1952 г.: «Насколько мне известно, нет ни одного члена ООН, за исключением государств коммунистического блока, которые считали бы принудительную репатриацию военнопленных законно приемлемой и необходимой по международному праву».
Однако то, что правительство США считало само собой разумеющимся в 1952 г., не было ему столь же очевидно в 1945 г. Принудительные репатриации, проходившие с 1945 г. по 1947 г., являлись очевидными следствиями произвольного толкования Ялтинского соглашения Верховным командованием США и начальником штаба генералом Эйзенхауэром. 25 августа 1945 г. командующий 7-й армией, генерал Пэтч, запрашивал штаб Верховного главнокомандующего в отношении того, должен ли он распорядиться о принудительной репатриации советских солдат, которые не желали возвращаться в СССР. Штаб-квартира Верховного главнокомандующего отослала запрос в Вашингтон. Объединенному комитету начальников штабов потребовалось четыре месяца, чтобы дать ответ следующего содержания: «Все советские граждане, находившиеся на территории Советского Союза на 1 сентября 1939 г., должны быть репатриированы, невзирая на высказываемые ими пожелания и, если необходимо, с применением силы». Такой приказ шел даже дальше условий Ялтинского соглашения. Однако не одни военные власти США проводили подобного рода политику, но также и администрация Организации Объединенных Наций по оказанию помощи и реабилитации (восстановлению в правах), о чем свидетельствует совершенно секретный приказ № 199.[254]
Американский историк Джордж Фишер назвал принудительные репатриации «несмываемым пятном на чести Запада». Между тем до сего дня не названы имена ответственных лиц, как не прозвучало и всенародное признание факта нарушений законности. Усилия журналиста Юлиуса Эпштейна привели к тому, что сенат США принял в 1956 г. поправку Маккаррана-Уолтера, согласно которой сорока тысячам восточных беженцев, приехавших в США по подложным документам с целью избежать принудительной репатриации, депортация более не грозит. 11 сентября 1957 г. президент Эйзенхауэр придал поправке статус закона. Однако десятки тысяч русских, которые могли бы спастись, попали в руки Советов потому, что верили в гуманизм и политическое здравомыслие западных держав.
Меандров, будучи высокопоставленным офицером РОА, убеждал своих соратников не искать спасения в бегстве, так как верил в либеральные принципы западных союзников и в безупречность своей моральной позиции:
«…Меня постоянно спрашивают, почему я не бежал, хотя и имел шанс на это. Я отвечу на вопрос.
Еще до окончания войны наши части перешли на сторону американцев. Мы верили в то, что демократические государства предоставят нам политическое убежище. Мне можно поставить в упрек то, что прошло уже более восьми месяцев, а решения нашей судьбы так и нет. Хуже того, имели место случаи принудительной репатриации. Все верно, однако общего и окончательного решения не было и нет. Мы должны ждать его вынесения, поскольку я уверен, мы достигнем большего путем сохранения спокойствия, сдержанности и дисциплины, чем через попытки сбежать и незаконно жить на свободе.
Мы не предатели, не преступники, мы члены политического движения, цель которого — лучшее будущее для нашего народа. Это движение возникло и ширилось стихийно. Десятки тысяч, сотни тысяч людей сами по себе, подталкиваемые только осознанием того, что жили неправильно, поднялись на борьбу с властью, которую считали несправедливой и антинародной. Мы не преступники, поскольку существуют сотни тысяч тех, кто разделяет наши взгляды, потому что мы не ищем личной выгоды, но хотим процветания нашего народа и нашей страны. Из-под стражи бежит лишь тот, кто боится суда. Так что же, мы при всем этом побежим и станем прятаться как преступники? Нет!
Представьте себе, что будет, если все мы ударимся в бега. Рано или поздно большинство из нас поймают, а люди станут считать нас русскими преступниками. Если же сбегут только те, кто занимал видное положение в нашем движении, другие скажут: «Они бросили нас на произвол судьбы». Мы не можем продолжать борьбу, но мы обязаны закончить ее с честью. Наш уход должен отражать чистоту и искренность наших идеалов.
Тяжело сидеть за колючей проволокой. Мы все находимся между жизнью и смертью, и порой кажется, что сломаемся от такого напряжения. Но можно преодолеть психологическую слабость, можно быть готовым встретить смерть, если иначе нельзя. Однако умирать надлежит достойно, с честью и с истовой верой в то, что в итоге правда восторжествует, что наш русский народ однажды станет свободным…»[255]
Еще в ноябре 1945 г. Меандров сохранял надежду, он все еще верил, что решение может быть положительным.[256] Однако в январе 1946 г., когда из Дахау просочились сведения о том, что триста человек там ожидает репатриация, его охватило предчувствие худшего. Из них сорок покончили с собой, а еще сто либо намеренно нанесли себе увечья, либо были зверски избиты американцами.[257] Именно тогда Меандров написал свои «Записки смертельно отчаявшегося человека»:
«…Нас обвиняют в измене. Нас называют немецкими наймитами. Это предвзятое мнение, потому что в любом случае нет больше возможности вооружиться, кроме как во вражеском лагере. Между тем никто, кто знает подлинный дух большевизма, не будет с чистой душой поддерживать такое обвинение…
Однако если подобная поверхностная правовая точка зрения возобладает, с нами покончено. Однако наши замыслы нельзя разрушить. Они принадлежат нашему народу. В них отражен вековой путь русского народа к социальной справедливости и к свободе. Придет день, и те, кто теперь называют нас предателями и преступниками, подберут для нас более подходящее название. Печально думать, что сами мы, возможно, не доживем до этого дня…
Многие предпочтут смерть принудительной репатриации. Сколь же несправедливо это! Потому что не только мы отказываемся возвращаться в Советский Союз, кроме нас есть еще десятки тысяч «предателей народа». Ничего подобного никогда не происходило в истории ни одной другой страны. Неужели причины такого массового «предательства» не ясны миру? Или же мир просто не хочет ничего понимать? А где же принцип свободы политических убеждений?
Потоки крови прольются с одобрения и при поддержке демократических государств. Советский Союз постарается сохранить это в тайне, но кровь просочится, чтобы замарать демократические лозунги свободолюбивых народов. Однако мы сумеем умереть с достоинством».
Меандров и другие русские офицеры направляли письма правительствам западных союзников, римскому папе, в Международный Красный Крест. Они не получили ниоткуда ни единого ответа.
В августе 1945 г. в Кемптене группу русских неожиданно захватили в церкви во время службы и отправили в СССР. Некоторые получили ранения, а церковь была разгромлена.[258] 23 февраля 1946 г. две тысячи русских погрузили в грузовики для репатриации в Наттернбергском лагере около Платтлинга. Многие русские, не желая принимать судьбу пассивно, резали себе вены, закалывались ножами или вешались.
Сначала раненых попробовали отправлять в военный госпиталь на лечение, но их оказалось слишком много. Живых, раненых, умирающих и мертвых — всех тащили в грузовики. Машины прибывали на железнодорожный вокзал, где прямо у платформ ожидали длинные ряды зарешеченных вагонов. Прошло немного времени, как две тысячи русских солдат и офицеров уже держали путь в Советский Союз.[259]
Однако русских репатриировали не только из Германии. Осуществлялись выдачи их из Италии, Франции, Дании, Норвегии, даже из Швеции и из Соединенных Штатов.[260] Сколько же всего человек было депортировано, вряд ли удастся установить. Согласно полученным союзниками оценкам ОКВ, в конце войны на стороне немцев действовало около 700 тысяч добровольцев: 600 тыс. в сухопутных войсках, от 50 до 60 тыс. в военно-воздушных и 15 тыс. в военно-морских силах.[261] (В действительности же, однако, количество было даже большим, поскольку многие командиры частей не предоставляли данных по количеству своих «хиви».) Кроме того, существовали десятки тысяч беженцев — мужчин, женщин и детей, — которые отступали вместе с немцами на запад, поскольку боялись расправы сталинского режима. Надо принять в расчет также военнопленных и восточных рабочих, мобилизованных на работы в Германии.
В общем и целом репатриации подверглось от шести до семи миллионов человек. Нет никаких данных по количеству тех, кто поехал на родину добровольно, и тех, кто остался бы на Западе, имей на это шанс. Немногим тысячам удалось ускользнуть от репатриации, потому что офицеры западных армий, пренебрегая приказами, давали им возможность скрыться.
Последними были выданы генералы: в апреле 1946 г. — Меандров, Севастьянов и Ассберг; в мае — Мальцев; в июне — Малышкин и Жиленков. Все они пытались покончить с собой, однако ни в одном случае ранения не привели к смерти. Их вылечили, а затем репатриировали. 2 августа 1946 г. в советской правительственной газете «Известия» появился следующий материал: «Сообщение Военной коллегии Верховного Суда СССР»:
«Военная коллегия Верховного Суда СССР рассмотрела обвинения Власова А. А., Малышкина В. Ф., Жиленкова Г. Н., Трухина Ф. И., Закутного Д. Б., Благовещенского И. А., Меандрова М. А., Мальцева В. И., Буняченко С. К., Зверева Г. А., Корбукова В. Д. и Шатова Н. С.[262] в измене Родине и в том, что они, будучи агентами германской разведки, проводили активную шпионско-диверсионную и террористическую деятельность против Советского Союза — преступлениях, предусмотренных по ст. 58-1 «Б», 58-8, 58-9, 58–10 и 58–11 Уголовного кодекса РСФСР… В соответствии с пунктом 1 указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 г. Военная коллегия Верховного Суда СССР приговорила обвиняемых… к смерти через повешение. Приговор приведен в исполнение».
Так умер Власов.
По понятным причинам его самого и его сподвижников судили закрытым судом. Открытый процесс неизбежно напомнил бы о том, что миллионы людей на оккупированных Вермахтом русских территориях поначалу с радостью приветствовали захватчиков. Данный факт и поразительный размах «пособничества» немцам не были изобретены пропагандой Геббельса. Несмотря на утайку или искажение всех подробностей, их невозможно стереть из истории Германии и Советской России, а также западных держав, одержавших победу во Второй мировой войне.
Тот факт, что Власов, его русские соратники и бойцы русских добровольческих частей сотрудничали с представителями служб Третьего рейха и, принимая во внимание обстоятельства, были вынуждены делать это, не ставит их в один ряд с такими коллаборационистами, как Квислинг,[263] который являлся национал-социалистом и стремился к «обращению в национал-социализм» своего народа. Находясь в немецком плену, Власов и его соратники смогли создать проект политической программы, которая решительно не принимала нацистскую идеологию и имела целью подлинную демократизацию России. Им удалось это потому, что они находились под защитой определенных сил, делавших их неуязвимыми со стороны нацистской партии, — в той же среде немецкого офицерства начало оформляться активное сопротивление Гитлеру и его политике. То, что русские и немецкие противники диктатуры и деспотизма оказались как бы на одном поле, не является в данных обстоятельствах чем-то удивительным. Ибо случилось так, что — по меньшей мере отчасти — Красной Армии и Вермахту пришлось пройти через схожие, хотя внешне и различные, испытания во взаимоотношениях со своим политическим руководством. Организации, задача которых заключается в обеспечении безопасности своих стран и народов, реагируют схожим образом тогда, когда вынужденно оказываются в состоянии неопределенности. Данное утверждение верно в отношении Красной Армии, которая (на тот момент) еще не оправилась после «дела Тухачевского», верно оно и в случае с Вермахтом, который куда больше, чем казалось в то время, потрясло изгнание в 1938 г. генералов Бломберга и Фрича.
Возможно также, что сыграли свою роль и подсознательные исторические параллели. В 1917 г. германское кайзеровское правительство позволило русскому революционеру Ленину вернуться в Россию, чтобы посеять смуту в Российской империи. План превзошел все ожидания: царя свергли и был заключен сепаратный мир. Последующее непредвиденное развитие ситуации — крушение и гибель немецкой монархии, бегство кайзера — могло послужить шаблоном для развития других схожих событий, которые, принимая во внимание отличный контекст Второй мировой войны, были бы в общем и целом тоже желательны.
Обстановка в начале войны между Германией и СССР складывалась более благоприятно в сравнении с Первой мировой войной. Огромная часть советской территории, население которой составляло многие десятки миллионов человек, находилась вне досягаемости Сталина. Население это проявляло подлинную и никем не навязываемую готовность строить новое, свободное социальное общество в рамках национального русского государства. Для свержения существовавшего режима не требовался новый революционный вождь — лишь готовые к действию представительное руководство и соответствующая организация.
Власов высказал желание взять на себя эту задачу. Его друзья и соратники на немецкой стороне хотели помочь ему. Он четко и ясно сформулировал цели и намерения. Власов не рвался к власти ради одной только власти. Он стремился вернуть России отобранные у нее завоевания Октябрьской революции. Власов всегда подчеркивал то, что потом — после победы — править будет не он, а другие, более подготовленные для этого фигуры, свою же роль видел в подготовке пути для прихода таких личностей.
Необходимо заметить, что судьба его — принимая во внимание природу национал-социализма, чего Власов и его русские коллеги оказались не способны понять, — была предопределена. Они, как и немецкие друзья Власова, заблуждались, полагая, что можно повлиять на «восточную политику» Гитлера или радикально изменить ее под давлением реальности военной ситуации или же здравого смысла.
Итак, Власов не стал творцом истории, а история не пожелала сделать из него то, чем он мог бы стать. Однако трагедия этого человека состоит по-настоящему в том, что он по многим причинам чувствовал себя бессильным под гнетом тягостных и мучительных процессов, изматывавших его, обрекавших на медленную смерть его идеалы, его надежды, высасывавших его моральные силы и лишавших его правовой опоры.
Человек, попавший в руки Советам 12 мая 1945 г., представлял собой не более чем свою тень: он потерял интерес к жизни и способность действовать. Однако его краткая жизнь оказалась связана с одним из тех редких моментов истории, когда она словно бы делает передышку, если такой момент будет понят и использован, он может дать новый импульс, послужить началом нового — отличного по своему ритму — этапа мировой истории.
Эра Сталина ушла в прошлое. Сегодня русский народ уже не станет приветствовать захватчиков как освободителей. Молодое поколение России осуждает Сталина и его деспотизм так же, как немецкая молодежь — Гитлера и его преступления. Власов, Русское освободительное движение и Русская освободительная армия выросли на почве сталинского режима. Они являются частью «неподвластного сегодняшнему вчера» — прошлого, которое все еще мрачной тенью довлеет над Советским Союзом.
Хронология событий[264]
1 сентября 1901 г. — рождение Власова.
Март 1919 г. — вступление Власова в Красную Армию.
Ноябрь 1938 г. — начало работы Власова в Китае (до ноября 1939 г.).
5 июня 1940 г. — Власов произведен в генерал-майоры.
24 января 1942 г. — Власов произведен в генерал-лейтенанты.
6 марта 1942 г. — Власов назначен заместителем командующего Волховским фронтом.
12 июля 1942 г. — Власов попадает в плен после поражения в битве на Волхове.
12 января 1943 г. — Розенберг санкционирует «Смоленскую декларацию».
25 февраля 1943 г. — Власов отправляется в первую поездку по оккупированным районам.
1 марта 1943 г. — начинает действовать отдел пропаганды в Дабендорфе.
19 апреля 1943 г. — Власов отправляется во вторую поездку по оккупированным районам.
25 мая 1943 г. — проходит совещание в Мауэрвальде.
8 июня 1943 г. — Гитлер запрещает любую деятельность Власова и освободительного движения.
24 июля 1943 г. — Малышкин обращается к русской эмигрантской диаспоре в Париже.
19 сентября 1943 г. — по приказу Гитлера все добровольческие части перебрасываются на Западный фронт.
16 сентября 1944 г. — Власов встречается с Гиммлером.
14 ноября 1944 г. — провозглашается «Пражская декларация».
17 января 1945 г. — подписывается финансовое соглашение между германским рейхом и КОНР.
28 января 1945 г. — властные полномочия над РОА передаются КОНР, а Власов назначается главнокомандующим.
6 февраля 1945 г. — КОНР переезжает в Карлебад.
10 февраля 1945 г. — Власов получает в свое распоряжение 1-ю дивизию РОА.
28 марта 1945 г. — последнее совещание КОНР.
28 марта 1945 г. — казачий круг в Вировитице.
13—14 апреля 1945 г. — 1-я дивизия РОА участвует в боевых действиях на Одерском фронте.
6 мая 1945 г. — 1-я дивизия РОА оказывает поддержку чехам в ходе Пражского восстания против немцев.
12 мая 1945 г. — Власов попадает в плен к Советам; распускается 1-я дивизия.
1 июня 1945 г. — насильственная репатриация казаков в Лиенце.
2 августа 1946 г. — сообщение о казни Власова и его соратников.
17 января 1947 г. — сообщение о казни казачьих генералов.
Сокращения
IfZ — Institut fuer Zeitgeschichte (Институт современной истории в Мюнхене)
КОНР — Комитет освобождения народов России
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел
НТС — Народно-трудовой союз
ОКХ (OKH) — Главное командование сухопутных войск Германии
ОКВ (OKW) — Верховное командование вооруженных сил Германии (Вермахта)
ОД (OD — Ordnungsdienst) — Служба порядка (вооруженная милиция в оккупированных районах России)
РСХА (RSHA — Reichssicherheitshauptamt) — Главное управление имперской безопасности
ОДНР — Освободительное движение народов России
РОА — Русская освободительная армия
РОД — Русское освободительное движение
СД (SD — Sicherheitsdienst) — Служба безопасности СС
Иллюстрации
Генерал Андрей Власов
Власов в Китае с переводчиком Сунь Кюйчи
Власов и Мария Воронова после пленения
Василий Малышкин
Вильфрид Штрик-Штрикфельдт
Милетий Зыков и Георгий Жиленков
Бронислав Каминский
Жиленков, Кромиади и Боярский во Пскове, 1943 г.
Федор Трухин
Официальная церемония в Праге. Слева направо — генерал Туссен, генерал СС Лоренц и Власов
Сахаров, Буняченко и Власов в расположении 1-й дивизии РОА в Мюнзингене.
Примечания
1
К указанному времени Киевский особый военный округ был преобразован в Юго-Западный фронт. — Прим. ред.
(обратно)2
Подробное и точное описание событий боев в районе Киева содержится в книге: Haupt W. Kiev. Bad-Nauheim: Podzun-Verlag, 1965.
(обратно)3
Власов описывал свою карьеру сразу после пленения. В 1944 г. появилась краткая биография В. Арсеньева под псевдонимом Осокин, основанная на данных из жизни Власова (см.: Борьба, № 11–12, 1948 г.). Подробности биографии Власова для данной работы предоставили также Фрайгерр Эдуард фон Деллингсгаузен в своей неопубликованной рукописи, а кроме того, в интервью с автором — Константин Кромиади, Сергей Фрелих, Фрайгерр Гельмут фон Клейст, Вильфрид Штрик-Штрикфельдт и Вернер Борманн.
(обратно)4
По уточненным данным, 1 сентября 1901 г. — Прим. ред.
(обратно)5
Красная звезда. 1940. 21 ноября.
(обратно)6
Deutscher I. Stalin. Stuttgart: Verlag Kohlhammer, 1962. Ss. 404 ff.
(обратно)7
Вальтер Шелленберг в своих воспоминаниях (Memoirs. Koeln: Verlag fuer Politik und Wirtschaft, 1956. Ss. 48 ff.) говорит о том, что руководитель Гестапо Рейнхард Гейдрих получил сведения от белой русской эмиграции в Париже, а именно от генерала Скоблина, будто бы Тухачевский с ведома германского Генерального штаба планировал заговор с целью свержения Сталина. Между тем Гейдрих не исключал возможности того, что Сталин сам посеял данный слух, чтобы получить основания для устранения угрозы своей власти со стороны генералов. По соображениям внутриполитического характера, могло быть желательным, чтобы подобный повод подкинули из-за рубежа. Более того, когда Гейдрих преподнес Сталину через Эдуарда Бенеша сфабрикованные материалы, Сталин не только быстро «заглотал наживку», но и — к полному удивлению Гейдриха — предложил заплатить за сведения. В середине мая 1937 г. Сталин выплатил за информацию три миллиона золотых рублей, а 4 июня Тухачевский был арестован.
(обратно)8
Из обращения 15 января 1936 г. к Центральному Исполнительному Комитету СССР. Английский перевод в кн. Soviet Union, 1936 г. Collection of Statements by Stalin, Tukhachevsky, Molotov, and others. London, n.d.
(обратно)9
Генерал-майор доктор К. Шпальке в своем эссе «Der Fall Tuchatschewski» в «Die Gegenwart» от 25 января 1958 г. настаивает на том, что Тухачевский планировал совместные военные действия с Англией против Германии, тогда как Сталин стремился устраниться от участия в подобном конфликте. Основная причина проведения чисток в Красной Армии состояла в политических разногласиях — версию эту подтвердил Шпальке офицер советской разведки.
(обратно)10
См.: Levytsky В. Vom roten Terror zur sozialistischen Gesetzlichkeit. Muenchen, 1961; Епишев в «Военно-историческом журнале», 1963 г., стр. 4–5; Малиновский в газете «Красная звезда», 23 февраля 1963 г.; Reile О. Geheime Ostfront. Wels: Verlag Welsermuehl, 1963. Ss. 249 ff.; Die Moskauer Schauprozesse 1936–1938, dtv-Dokumente. Stuttgart, 1963.
(обратно)11
Власов описывал этот случай 19 апреля 1943 г. на допросе у зондерфюрера Клейна (из беседы Клейна с автором).
(обратно)12
О пребывании Власова в Китае Сунь Кюйчи рассказывал автору в личной беседе и в письмах. В настоящее время Сунь служит в законодательных органах Китайской Народной Республики. Он подтверждает оценки, данные Власову Борманном, Штрик-Штрикфельдтом, фон Деллингсгаузеном и Кромиади.
(обратно)13
Цитируется по: Vitov. Die Achillesferse der Sowjetarmee // Schweizer Rundschau. Febr. — Maerz 1958.
(обратно)14
Правда. 1940. 7 июня. Сообщение вышло с фотографией Власова.
(обратно)15
Красная звезда. 1940. 4 и 9 декабря.
(обратно)16
Новое в подготовке войск. Киев, 1940.
(обратно)17
Власов А. А. Новые методы боевой учебы. 1940.
(обратно)18
Власов неоднократно описывал подробности встречи со Сталиным. В ключевых деталях все источники информации сходятся.
(обратно)19
Правда. 1941. 13 и 15 декабря.
(обратно)20
Сuгiе Е. Journey Among Warriors // Doubleday, Doran, Garden City, 1943.
(обратно)21
Красная звезда. 1942. 13 марта. Эренбург вновь описывает встречу в пятом томе воспоминаний «Люди, годы, жизнь». Он называет Власова «интересной личностью, честолюбивым, но смелым человеком», пользовавшимся популярностью у своих солдат. Услышав о том, что Власову доверили командование ударной армией, Эренбург подумал: «Неплохой выбор». Между тем Эренбург объясняет последующий переход Власова в лагерь противников Сталина и его режима тем, что «убеждений у него не было — только честолюбие». Власов, по его мнению, рассчитывал стать не менее чем «главнокомандующим или военным министром обкорнанной России под покровительством победившего Гитлера». Он был «брошен и забыт всеми, даже своими наймитами, вовремя успевшими перебежать в американскую оккупационную зону».
(обратно)22
Известия. 1942. 3 января.
(обратно)23
Известия. 1942. 25 января.
(обратно)24
Процитировано по кн.: Dallin A. Deutsche Herrschaft in Russland 1941–1945. Duesseldorf: Droste Verlag, 1958. Ss. 78 fn. Речь, по-видимому, идет о печально знаменитом приказе Ставки ВГК № 270. — Прим. ред.
(обратно)25
Sherwood R. RooseveltundHopkins. Hamburg: WolfgangKrueger Verlag, 1950. Ss. 268 ff.
(обратно)26
Churchill W. Memoiren. Stuttgart: Parnass-Verlag, 1951; Sherwood R. Op. cit. S. 304.
(обратно)27
Вознесенский Н. Военная экономика СССР. М., 1948. С. 42.
(обратно)28
Битва за Ленинград. М.: Воениздат, 1964. С. 146.
(обратно)29
В котле после окончательного его закрытия немцами оказались 8 стрелковых дивизий и 6 бригад. До этого момента Власову удалось вывести 3 кавалерийские дивизии, 1 стрелковую дивизию и 2 бригады. — Прим. ред.
(обратно)30
После пленения Власов не однажды описывал события сражения на Волхове. Приведенная здесь версия основывается на сведениях, полученных из неопубликованной работы фон Деллингсгаузена и в ходе бесед с Борманном, Фрелихом, Кромиади и Штрик-Штрикфельдтом.
(обратно)31
Согласно послевоенным показаниям М. И. Вороновой, в числе последних в группе вместе с ней и Власовым оставались шофер Погибко и боец Котов (Военно-исторический журнал. 1993. № 5. С. 36). — Прим. ред.
(обратно)32
Так в тексте. — Прим. ред.
(обратно)33
Факты подтверждаются данными, полученными от фрау Марго фон Швердтнер и штабного врача Вернера Хеннинга в письме к автору.
(обратно)34
Oberkohimando des Heeres — Главное командование сухопутных войск, в противоположность Главному командованию Вермахта (Oberkommando der Wehrmacht), т. е. вооруженных сил в целом. — Прим. перев.
(обратно)35
Из рассказа Эрнста Штеена автору.
(обратно)36
Из беседы автора с Эгоном Петерсоном и из письма последнего.
(обратно)37
Dаllin A. Op. cit. S. 569, fn. 1.
(обратно)38
Сталин привел эти данные в разговоре с Черчиллем в мае 1942 г. См.: Churchill W. Op. cit.
(обратно)39
В 1934 г. ГПУ (точнее, ОГПУ — Объединенное государственное политическое управление) вошло в состав Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) СССР как Главное управление государственной безопасности (ГУГБ). — Прим. ред.
(обратно)40
American Federation of Labor. Slave Labor in Russia. Report to the United Nations, 1949.
(обратно)41
Thayer Сh. W. Guerrillas und Partisanen. Muenchen: Verlag Ruetten und Loening, 1965. S. 67.
(обратно)42
Из беседы с Дмитрием Космовичем.
(обратно)43
Цит. по: Сarell P. Unternehmen Barbarossa. Frankfurt — Berlin: Ullstein Verlag, 1963. S. 340.
(обратно)44
Hilfswillige (Hiwi), букв, «добровольные помощники». — Прим. пер.
(обратно)45
См.: Dallin A. Op. cit. S. 551 с цитируемыми источниками. К весне 1943 г. в рядах 134-й пехотной дивизии на штатных должностях служило 2300 «хиви». Кроме того, на подсобных работах использовалось около 5000 военнопленных. — Прим. ред.
(обратно)46
Ibid. Ss. 57 ff, 78 ff.
(обратно)47
Из дневника Хайнца Герре; из беседы с Штрик-Штрикфельдтом.
(обратно)48
Из беседы с Штрик-Штрикфельдтом, который присутствовал при данном разговоре как переводчик.
(обратно)49
Из беседы к IIIтрик-Штрикфельдтом.
(обратно)50
Казанцев А. Третья сила. Франкфурт, 1952. С. 154.
(обратно)51
Подробнее о НТС см.: Казанцев А. Указ. соч. Информация почерпнута автором также в беседах с Владимиром Поремским, Романом Редлихом и Александром Зайцевым.
(обратно)52
Согласно учетной карточке на М. А. Зыкова, хранящейся в Центральном архиве Министерства обороны РФ в Подольске, он родился в 1901 г. в Днепропетровске, был призван в Красную Армию из Москвы и пропал без вести в 1942 г. В газете «Известия» за 30-е годы можно найти публикации, подписанные Зыковым (см.: Известия. 1996. 3 апреля). — Прим. ред.
(обратно)53
Китаев М. Неопубликованная рукопись. С. 5.
(обратно)54
Dallin A. Op. cit. S. 570; беседа с Герре.
(обратно)55
Gоеrlitz W. Generalfeldmarschall Keitel — Verbrecher oder Offizier. Goettingen: Musterschmidt Verlag, 1961. S. 407.
(обратно)56
Из беседы с Штрик-Штрикфельдтом.
(обратно)57
После войны Лукин возвратился в Советский Союз, но в армию не вернулся. В 1965 г. он написал предвзятые и полные искажений воспоминания о своей жизни и деятельности в немецком плену (см.: Материалы и документы ОДНР в годы Второй мировой войны. Нью-Йорк: Всеславянское издательство, 1966. С. 97 и далее).
(обратно)58
Из дневника Герре и его письма к автору. Из беседы с Петерсоном.
(обратно)59
Из беседы с Штрик-Штрикфельдтом.
(обратно)60
В 1940–1941 гг. Г. Н. Жиленков был 2-м секретарем Ростокинского райкома ВКП(б) Москвы. В плен попал не под Смоленском, а под Вязьмой в октябре 1941 г. — Прим. ред.
(обратно)61
Информация о Жиленкове почерпнута у Казанцева (Указ. соч. С. 140 и далее) и у Даллина (Op. cit. Ss. 544 ff.) При создании данной работы автор пользовался данными, предоставленными ему в письмах Э: Петерсоном и Георгом фон дер Роппом, а также сведениями, полученными в ходе бесед с Зайцевым и Борманном.
(обратно)62
Абверкоманда — подразделение германской военной разведки (Абвера), действовавшее при штабе группы армий. Абверкомандам подчинялись абвергруппы, действовавшие при штабах армий. — Прим. ред.
(обратно)63
Название было дано в честь седовласого Иванова (Graukopf в переводе с немецкого означает «Седая голова»).
(обратно)64
Из беседы с Кромиади.
(обратно)65
Автор располагает текстом приказа.
(обратно)66
После отступления немцев многим из этих людей пришлось дорогой ценой заплатить за сотрудничество с ними. 27 декабря 1943 г. была упразднена Калмыцкая Автономная Советская Социалистическая Республика, а 11 февраля 1944 г. началась «ликвидация» мусульманских народов Северного Кавказа. Крымские татары, калмыки, чеченцы, ингуши и прочие в массовом порядке отправлялись в Сибирь, как и 1,5 млн. немцев Поволжья (см.: Dallin A. Op. cit. Ss. 263 ff.).
(обратно)67
От командующего тыловым районом группы армий (ген. Рок) генерал-квартирмейстера OKX, 14 сентября 1942 г. (Цит. по: Dаllin A. Op. cit. Ss. 558 f.).
(обратно)68
Отдел иностранных армий Востока (Гелен): «Dringende Fragen des Bandenkrieges und der Hilfswilligen-Erfassung» («Срочные вопросы борьбы с бандитизмом и мобилизации «добровольных помощников»), 25 ноября 1942 г.; Dаllin A. Op. cit. Ss. 559 f.
(обратно)69
Оперативный район группы армий «Центр»: «Erfahrungen in der Verwaltung des Landes und politische Zielsetzung» («Опыт управления на местах и выработка политических целей»), 25 декабря 1942 г. Цитируется у Даллина (Op. cit. Ss. 562 f.).
(обратно)70
Совещание проходило 18 декабря 1942 г. Протоколы датированы 4 января 1943 г. (Dаllin A. Op. cit. Ss. 163, 560).
(обратно)71
Цит. по: Dаllin A. Op. cit. S. 580.
(обратно)72
Из дневника автора.
(обратно)73
Китаев М. Указ. соч. С. 6.
(обратно)74
Информация относительно путешествия Власова получена в беседах с Петерсоном и Шубутом.
(обратно)75
Текст распоряжения № 20 от 1 декабря 1942 г./30 апреля 1943 г., по организации «службы порядка» (из архива автора).
(обратно)76
Из беседы с Д. Козьмовичем и Николаем Кандиным.
(обратно)77
В действительности на сторону немцев вместе с Кононовым перешел не весь полк, а только его часть. — Прим. ред.
(обратно)78
Изначально речь шла о формировании казачьего эскадрона. Затем на его основе был развернут дивизион, который неофициально именовался также полком. Причем эта часть имела номер не 120, как указано ниже, а 102. — Прим. ред.
(обратно)79
Переименование 102-го казачьего дивизиона (полка) в 600-й произошло еще осенью 1942 г. По состоянию на 2.12.42 он насчитывал 1069 человек (в т. ч. 18 немцев). — Прим. ред.
(обратно)80
См. главу V, с. 182–183. О Кононове см. также: Черкасов К. Генерал Кононов. Мельбурн: Изд. автора, 1963. Т. 1–2.
(обратно)81
В составе бригады РОНА имелся бронедивизион, насчитывавший от 10 до 15 танков разных типов и несколько бронемашин. — Прим. ред.
(обратно)82
Описываемые события происходили в конце августа 1943 г. — Прим. ред.
(обратно)83
Численность бригады Каминского в августе 1943 г. составляла около 12 тыс. человек. В данном случае, очевидно, учитываются и гражданские лица, эвакуировавшиеся вместе с бойцами РОНА. — Прим. ред.
(обратно)84
В период с января 1942-го по осень 1943 г. автор данной работы получил задание информировать штаб 2-й танковой армии, а позднее 9-й армии о том, что происходило в зонах их ответственности. На тот момент он ведал вопросами связей с автономными русскими органами управления. Записи его сохранились. Он нес ответственность за пункт сбора и отправки донесений в Локте, возглавляемый зондерфюрером Адамом Грюнбаумом. Очень немногое написано об эксперименте в Локте и о Каминском, который рассматривается как наймит и пособник фашистов. Он не был ни тем, ни другим. Он и его товарищи по оружию повернули штыки против сталинского режима из убеждений, но ни один из них не являлся сторонником национал-социализма. Немцам его самоуверенное поведение казалось следствием заносчивости. Приговор, который вынесли ему, стал следствием эксцессов, совершенных военнослужащими его бригады в период подавления восстания в Варшаве. Они, разумеется, не подлежат прощению, однако их можно объяснить той деморализацией, которая охватила часть в то время по причине отчаянного положения бригады, вызванного прежде всего глупостью немцев. Настроения населения в районе Орла — Брянска были в общем и целом теми же, какие преобладали на остальных оккупированных территориях России. Часто причины — когда намеренно, а когда по неведению — истолковываются неверно. Таким образом, необычное стремление населения переходить на сторону немцев против сталинского режима по большей части не замечено в книге Александра Верта «Россия в войне 1941–1945 гг.». А. Верт, в частности, говорит: «Общее впечатление таково, что в дни побед в 1941—42 гг. ряд русских авантюристов и приспешников немцев пытался выдвинуться на первые роли в онемечивании чисто русских территорий, как, например, в Орловском регионе». Тот же автор так пишет о русских добровольцах: «Немцы создали из русских военнопленных «добровольческую армию» под командованием Власова. Нет никакого сомнения в том, что значительное количество «добровольцев» откликнулись на призыв немцев потому, что единственной альтернативой сотрудничеству была голодная смерть». При этом обобщении из внимания как-то ускользает тот факт, что ни военнослужащие полка Кононова, ни бойцы бригады Каминского как члены местной милиции и многие добровольные помощники («хиви») не являлись до того военнопленными.
(обратно)85
См. главу III, с. 61–62.
(обратно)86
Автор смог раздобыть неопубликованный рассказ о приезде Власова в батальон «Волга», написанный его командиром, полковником А. Дашкевичем.
(обратно)87
Кеrsten F. Totenkopf und Treue. Hamburg: Moelich-Verlag, 1953. Ss. 247 ff.
(обратно)88
Цит. no: Dallin A. Op. cit. S. 581 — сноска.
(обратно)89
Автор располагает оригиналом данного меморандума, датированным 11 февраля 1943 г.
(обратно)90
Этот отчет, датированный 16 марта 1943 г., цитируется по Торвальду (Op. cit. S. 209).
(обратно)91
Цит. по: Dаllin A. Op. cit. S. 586.
(обратно)92
С дополнением «для особых заданий».
(обратно)93
Родзевич А. Н. О знаках различия РОА // Материалы и документы ОДНР в годы Второй мировой войны. С. 174.
(обратно)94
Информацию о Трухине автор почерпнул в неопубликованной работе Деллингсгаузена и у Казанцева (Указ. соч. С. 218 и далее); у Владимира Позднякова (Генерал-майор Федор Иванович Трухин // Борьба. 1949. № 9—10); в беседах с Зайцевым, Кромиади и Борманном; а также в письме Г. фон дер Роппа.
(обратно)95
Ф. И. Трухин был начальником оперативного отдела и заместителем начальника штаба Прибалтийского особого военного округа, с 22.06.41 — Северо-Западного фронта, и имел звание генерал-майора. — Прим. ред.
(обратно)96
Dаllin A. Op. cit. S. 586.
(обратно)97
Подробности его поездки позаимствованы из беседы с Э. фон Деллингсгаузеном и из его неопубликованной рукописи, из письма к автору Н. фон Гроте, а также из бесед с Р. Антоновым, Г. Клейном и В. Штрик-Штрикфельдтом.
(обратно)98
Новый путь. 1943. № 10.
(обратно)99
Автор располагает рассказом В. Вербина, очевидца выступления Власова.
(обратно)100
Из беседы с Г. Клейном.
(обратно)101
Цит. по: Thorwald J. Op. cit. S. 219.
(обратно)102
Утверждение Даллина (Op. cit. S. 588 — сноска) о том, что Вагнер не принимал участия в заседании, неверно, это подтверждено дневником Герре и его письмом к автору.
(обратно)103
Стенограмма совещания у Гельмута Хайбера в Lagebesprechungen im Fuehrerhauptquartier. Stuttgart: dtv-Dokumente, 1963. S. 109 ff.
(обратно)104
Утверждение Даллина о том, что «никто даже на минуту не задавался вопросом, возможно ли в принципе исправить ситуацию — повернуть все вспять» (Op. cit. S. 582) не точно. Русские, которые прекрасно осознавали положение, равно как и их сторонники из числа немцев, были полностью убеждены в том, что радикальная смена курса в тот момент все еще могла привести к свержению сталинского режима. Даллин, который имел возможность изучить вопрос, что называется, из первых рук, упускает из виду факт, что большинство меморандумов, на основании текстов которых он строит свои выводы, приходилось писать эзоповым языком, скрывая под ним действительные мысли и чувства авторов. Так, например, было бы просто немыслимо пытаться оправдать необходимость изменить «восточную политику» иначе как из-за соображений военного свойства. Любые ссылки на моральную сторону дела привели бы к обратному эффекту, что повредило бы делу и поставило под удар того, кто высказывал подобное предложение. Построение выводов о том, что авторами подобных рапортов и служебных записок двигали оппортунистические соображения, может легко привести к заблуждению. Для многих и многих, имевших отношение к политическим устремлениям Власова и сотен тысяч его соотечественников, все происходившее вокруг него представлялось куда большим, чем просто некий вопрос военного или политического характера. Несмотря ни на какой риск, они видели, что ситуация чревата последствиями куда более глубокого свойства — последствиями, которые повлияют на судьбы всей Европы, у которой не будет ничего общего с политически убогим национал-социализмом. Они предвидели, что вслед за свержением Сталина как логическое завершение освободительного процесса придет и конец Гитлера.
(обратно)105
Кадровый офицер германской военной разведки и профессор Кёнигсбергского университета Т. Оберлендер был командиром созданного под эгидой Абвера кавказского соединения особого назначения «Бергман», а до этого — офицером связи при украинском батальоне «Нахтигаль». — Прим. ред.
(обратно)106
Из беседы с Т. Оберлендером; из письма к автору Г. Рашгофера.
(обратно)107
Из письма к автору Мелитты Видеманн.
(обратно)108
Казанцев А. Указ. соч. С. 219; из беседы с А. Зайцевым и Г. фон дер Роппом.
(обратно)109
Автор располагает текстом этого доклада.
(обратно)110
Памфлет был издан по распоряжению Гиммлера отделом публикации Главного управления СС в 1943 г. Автором был гауптштурмфюрер СС Кениг.
(обратно)111
Из беседы с Ламсдорфом.
(обратно)112
Китаев М. Указ. соч. С. 6.
(обратно)113
Информация о лагере под Дабендорфом предоставлена автору в беседе с фон дер Роппом и в его письмах к автору; в беседах с Петерсоном, Борманном, Клейстом, Гроте и Зайцевым; из неопубликованной рукописи Деллингсгаузена; из работы Казанцева (Указ. соч. С. 219); статьи «Школа политических бойцов» (Заря. 1944. 5 ноября); из работы Р. Антонова «Вульхайде — Дабендорф», в издании «С народом — за народ» (1965, № 5).
(обратно)114
Китаев М. Указ. соч. С. 6.
(обратно)115
На совещании 8 июня 1943 г. генерал Цейтцлер докладывал, что количество «хиви» составляет 220 тыс. чел. (Lagebesprechungen im Fuehrerhauptquartier. S. 109), однако он, судя по всему, стремился максимально занизить данные перед Гитлером. Он тогда еще не располагал данными изысканий отдела иностранных армий Востока, согласно которым 47 тыс. «хиви» задействовались в зоне ответственности группы армий «Север» для охраны железных дорог (Ibid. S. 121). В соответствии с неполными данными Восточного министерства от 24 января 1945 г. (Ibid. S. 118 — сноска), в вооруженных формированиях служили 600 тыс. бойцов из представителей «восточных народов». Однако в это число не входят «хиви», казачьи части, а также русские, украинские и белорусские части СС. Таким образом, можно без боязни преувеличения говорить о примерно миллионе бойцов, принадлежавших к различным народам России и взявших в руки оружие для борьбы со сталинским режимом.
(обратно)116
Из беседы с Бальдуром фон Ширахом и из его письма к автору.
(обратно)117
Из беседы с Штрик-Штрикфельдтом.
(обратно)118
В. В. Гиль (такова была настоящая фамилия этого человека) в начале войны занимал должность начальника штаба 229-й стрелковой дивизии. В плену, по-видимому, уже будучи завербованным СД, он взял себе псевдоним «Родионов». — Прим. ред.
(обратно)119
См.: Stеin G. H. Geschichte der Waffen SS. Duesseldorf: Droste Verlag, 1967. Также см.: The Waffen SS. Ithaca: Cornell University Press, 1966; Haehne H. Der Orden unter dem Totenkopf. Guetersloh: Sigbert Mohn Verlag, 1967.
(обратно)120
Настоящее название этой организации — «Боевой союз русских националистов» (БСРН). — Прим. ред.
(обратно)121
Это утверждение автора вызывает недоумение, поскольку СД, стоявшая за формированием «Дружины», имела к СС самое непосредственное отношение. — Прим. ред.
(обратно)122
С народом — за народ. № 5. С. 15.
(обратно)123
Возникновение «Дружины» и ее судьба описаны у Н. Клименко в «Правда о Дружине» в газете «Суворовец» (Буэнос-Айрес), № 17 и 20–23 (1950); у Софьи Варшавской: «Относительно Дружины» — «С народом — за народ», № 5, 1965; в беседах с Кромиади и Ламсдорфом; в письме к автору О. Крауса. Для получения более объективной картины истории этого формирования рекомендуем ознакомиться также с советскими публикациями: Доморад К. Так ли должны писаться военные мемуары? // Военно-исторический журнал. 1966. № 11. С. 82–93; Калинин П. Участие советских воинов в партизанском движении Белоруссии // Военно-исторический журнал. 1962. № 10. С. 24–40. Что касается обстоятельств гибели Гиля, то версия, изложенная Штеенбергом, представляется одной из легенд. Согласно советским данным, В. В. Гиль умер 14 мая 1944 г. от тяжелых ранений, полученных при прорыве партизанами немецкого окружения в районе Ушачи. — Прим. ред.
(обратно)124
Правильная версия была напечатана в «Парижском вестнике», № 59, 31 июля 1943 г. В эмигрантской прессе (например, «С народом — за народ», № 3, ноябрь 1964 г) выражаются сомнения относительно того, что Малышкин вообще делал антисемитские заявления, которые есть в напечатанной версии Предполагается, что Жеребков вставил их позднее, чтобы потрафить немецким властям. Однако из письма самого Жеребкова к автору следует, что подобные предположения неверны Возможно, Малышкин действительно использовал антисемитские заявления как маскировку, однако нельзя исключать и того, что они выражали то, что он думал на самом деле Деллингсгаузен, Штрик-Штрикфельдт и Зайцев (в беседах), равно как и фон дер Ропп (в письме к автору), подтверждают, что все коллеги Власова, включая и Малышкина, были глубоко шокированы уничтожением фашистами евреев.
(обратно)125
Жеребков Ю. Русские дни в Париже (неопубликованная рукопись); из беседы с Гроте.
(обратно)126
Фрёлих С. Неопубликованный очерк. С. 2 (IfZ).
(обратно)127
Краузе Т. Из неопубликованного очерка. С. 1 (IfZ) и из письма к автору.
(обратно)128
Герре перевели из отдела иностранных армий Востока на пост начальника оперативного отдела в штабе Гельмиха.
(обратно)129
Из дневника Герре.
(обратно)130
Из беседы с Клейном, переводчиком VII отдела командования тылового района группы армий «Север».
(обратно)131
Помимо названных частей, в состав дивизии вошел казачий полк «Платов», действовавший в 1942—43 гг. на Северном Кавказе и Таманском плацдарме, а также ряд казачьих полков, сформированных после отступления немцев с Кавказа и Волги. Г. фон Паннвиц получил звание генерал-майора 1 июня 1943 г., а генерал-лейтенантом стал лишь в феврале 1945 г. — Прим. ред.
(обратно)132
Максимальная численность Русского охранного корпуса составляла не более 12 тыс. человек, а за все время войны через его ряды прошло 18 тысяч. Среди них были не только эмигранты, но и довольно большое число добровольцев с советских территорий, оккупированных Румынией. Под Первой мировой войной в данном случае подразумевается Гражданская война в России. — Прим. ред.
(обратно)133
Назначение А. Г. Шкуро начальником Казачьего резерва состоялось в сентябре 1944 г. — Прим. ред.
(обратно)134
Власов встречался с Красновым дважды в январе 1945 г. Достоверных данных об их встрече в сентябре 1943 г. не имеется. — Прим. ред.
(обратно)135
О настроениях казаков в ходе Восточной кампании и о корпусе Паннвица говорится у Г. фон Кальбена (Zur Geschichte des XV Kosaken-Kavallerie-Korps // Deutsches Soldaten-Jahrbuch, 1963—65), у Э. Керна (General von Pannwitz und seine Kosaken. Goettingen: Plesseverlag, 1964), у К. Черкассова (Указ. соч.), у Г. Штокля (Die Entstehung des Kosakentums // Historische Zeitschrift, 1953).
(обратно)136
Из письма Штрик-Штрикфельдта к автору.
(обратно)137
Thorwald J. Op. cit. S. 304.
(обратно)138
Автор располагает этой работой, которая называлась «Воин РОА, этика, облик, поведение». Пропагандистская печать РОА, 1944 г.
(обратно)139
Информативная, хотя и не лишенная излишнего субъективизма картина, дающая представление об использовании женщин на пропагандистской работе, показана Марией де Смет (Smeth М. Roter Kaviar, Hauptmann Maria. Wels: Verlag Welsermuehl, 1965).
(обратно)140
Из письма к автору М. Видеманн.
(обратно)141
Официально развертывание 1-й казачьей дивизии в корпус произошло в феврале 1945 г. — Прим. ред.
(обратно)142
Из беседы с Д. Космовичем.
(обратно)143
Подробности о положении добровольческих частей во Франции почерпнуты из дневниковых записей Вальтера Ханзена (IfZ) и в беседе с Фрёлихом.
(обратно)144
Из письма к автору Деллингсгаузена.
(обратно)145
Казанцев А. Указ. соч. С. 167 и далее.
(обратно)146
Kersten F. Totenkopf und Treue. Hamburg: Moelich-Verlag, 1953. Ss. 247.
(обратно)147
Buchardt F. Die Behandlung des russischen Problems durch das nationalsozialistische Regime. Неопубликованная рукопись. S. 231.
(обратно)148
Из беседы с Готтлобом Бергером.
(обратно)149
Buchardt F. Op. cit. S. 212.
(обратно)150
Прозвище нацистских партийных функционеров из-за их коричнево-желтой униформы.
(обратно)151
В 1941 г. Биттрих исполнял обязанности командира дивизии СС «Рейх». — Прим. ред.
(обратно)152
Из беседы с Гюнтером д’Алькеном.
(обратно)153
Ноеhnе. Op. cit. S. 475.
(обратно)154
Из бесед с Деллингсгаузеном, Кромиади и Фрёлихом.
(обратно)155
Речь идет о Львовско-Сандомирской операции, начавшейся 13 июля 1944 г. Группа армий «Юг» к тому времени именовалась «Северная Украина». — Прим. ред.
(обратно)156
Из письма к автору Роберта Креца.
(обратно)157
Из беседы с д’Алькеном.
(обратно)158
О роли д’Алькена см. у Даллина (Op. cit. S. 618), у Бухардта (Op. cit. S. 254 ff.), в беседах с д’Алькеном, Крецем и Штрик-Штрикфельдтом; в письме к автору Эрхарда Крёгера.
(обратно)159
Stahlhelm («Стальной шлем») — полувоенная организация немецких радикалов Гельмута фон Герлаха. — Прим. пер.
(обратно)160
Численность войск СС возросла со 100 тыс. человек в середине 1940 г. до примерно 900 тысяч в конце 1944 г. См.: Ноеhnе. Op. cit. S. 140.
(обратно)161
Из письма Крёгера к автору; из беседы с Бергером.
(обратно)162
Утверждения Даллина (Op. cit. S. 626) и Торвальда (Op. cit. S. 336 ff.) в том, что Крёгер действовал под началом доктора Арльта, начальника Восточного управления в Главном управлении СС, неверны. Как не соответствует действительности и то, что Крёгер встретился с Бергером по рекомендации Арльта — Арльт и Бергер даже не были до того знакомы. Хотя доктор Арльт, который принимал политическую программу Розенберга по отношению к восточным народам, пытался подчинить себе Крёгера. Из бесед с Бухардтом и Бергером; из письма Крёгера к автору.
(обратно)163
Buchardt F. Op. cit. S. 320.
(обратно)164
Из бесед с Аделаидой Биленберг, Деллингсгаузеном и Фрёлихом.
(обратно)165
Имеется в виду так называемый Фалезский котел, в которой попали отступавшие немецкие войска в августе 1944 г. вследствие прорыва с юго-запада 3-й армии генерала Дж. Паттона и британско-канадских войск Б. Монтгомери со стороны Кана. Из 60 тыс. запертых в котле немецких солдат 10 тыс. были уничтожены, остальные попали в плен. — Прим. перев.
(обратно)166
Обстоятельства союзнического вторжения применительно к добровольческим частям во Франции описываются у Ханзена (Op. cit.).
(обратно)167
Вопреки заявлениям Торвальда (Op. cit. S. 379) и Даллина (Ор. cit. S. 632), Бергер на встрече не присутствовал, согласно подтверждениям Крёгера (в беседе) и самого Бергера (в письме к автору).
(обратно)168
В 1947 г. д’Алькен написал отчет по поводу встречи Гиммлера с Власовым. Поскольку в то время (когда происходила встреча) д’Алькен верил, что дискуссия поможет изменить ход событий, есть основания предполагать, что в деталях он точен и память не подводит его. Написанное им действительно подтверждается письмами к автору Крёгера и Элиха. Д’Алькен, Крёгер и Элих все сходятся на том, что, скажем, об отступлении из Крыма не упоминалось. Бергер тоже не припоминает какого-то подобного заявления со стороны Гиммлера в тот раз. Посему неподписанная записка из документов Бергера, о которой говорится у Даллина, не могла быть составлена после дискуссии между Гиммлером и Власовым. По всей видимости, она представляла собой предварительный набросок, от которого позднее отказались.
(обратно)169
Из беседы с д’Алькеном.
(обратно)170
Из письма к автору Бухардта.
(обратно)171
Buchardt F. Op. cit. S. 245.
(обратно)172
Из письма к автору Крёгера.
(обратно)173
Из беседы с Герре.
(обратно)174
Lagebesprechungen im Fuehrerhauptquartier. S. 318.
(обратно)175
Buchardt F. Op. cit. S. 273.
(обратно)176
Из беседы с Бергером.
(обратно)177
М. Кедия являлся одним из лидеров Грузинского национального комитета и Кавказского национального совета. — Прим. ред.
(обратно)178
Из беседы с Крёгером.
(обратно)179
Национальному вопросу посвящено немало литературы. Источники приводятся у М. Шатова в «Библиографии освободительного движения народов России» (Нью-Йорк: Всеславянское издательство, 1961), у Даллина (Op. cit. Ss. 620 ff.), у Бухардта (Op. cit. Ss. 270 ff); у Дж. Фишера (Fisсhег G. Soviet Opposition to Stalin. Harvard University Press, 1952. P. 62 ff).
(обратно)180
Текст манифеста с подписями был опубликован в альманахе «С народом — за народ» (№ 4, декабрь 1964 г.). По Пражской декларации см.: Шатов М. Библиография ОДНР в годы Второй мировой войны. Нью-Йорк, 1961. В настоящем издании текст приводится в соответствии с оригиналом. — Прим. ред.
(обратно)181
Из беседы с Кромиади, Деллингсгаузеном, Тензоровым, Жеребковым и Антоновым. Трухин Ф. Вооруженные силы Освободительного движения // Воля народа. 1944. № 2. 18 ноября.
(обратно)182
Dallin A. Op. cit. S. 649.
(обратно)183
Из письма к автору М. Видеманн.
(обратно)184
Buchardt F. Op. cit. Ss. 273 ff.
(обратно)185
Из беседы с В. Поремским.
(обратно)186
Драголюб (Дража) Михайлович (1893–1946), полковник югославской армии, возглавлявший движение сербских партизан-монархистов, известных как четники. — Прим. перев.
(обратно)187
Buсhагdt F. Op. cit. Ss. 294 ff. Бухардт сопровождал Жиленкова.
(обратно)188
Taubert W. Taetigkeit im deutsch-sowietischen Krieg (цит. по: Dallin A. Op. cit. Ss. 665 ff.).
(обратно)189
Цит. по: Dallin A. Op. cit. Ss. 665 ff.
(обратно)190
Розенберг — Риббентропу, 20 января 1945 г. (Dallin A. Ор. cit. S. 667 — сноска).
(обратно)191
Из дневника Герре.
(обратно)192
Информация об организации дивизий почерпнута из военного дневника Герре и из работы командира 2-го полка 1-й дивизии В. Артемьева «Первая дивизия РОА».
(обратно)193
30-я гренадерская дивизия войск СС (русская № 2) состояла из нескольких русских, украинских и белорусских батальонов. После передачи ее контингента в состав РОА началось формирование другой дивизии с тем же номером, но уже чисто белорусской (белорусская № 1). — Прим. ред.
(обратно)194
Включение бригады РОНА в состав войск СС произошло летом 1944 г. Каминскому было присвоено звание бригадефюрера войск СС, что соответствует генерал-майору. — Прим. ред.
(обратно)195
Из беседы с Р. Редлихом. Сам Каминский был наполовину польского происхождения. — Прим. ред.
(обратно)196
О бригаде Каминского см. также в гл. IV, с. 78. Кроме того, у Бухардта (Op. cit. Ss. 113 ff.), Э. фон Крангальса (KrannhalsE. Der Warschauer Aufstand. Frankfurt: Verlag fuer Wehrwesen, 1962).
(обратно)197
Приведенные биографические данные по Буняченко не соответствуют действительности. Перед войной он действительно служил на Дальнем Востоке, но командиром дивизии (389-й стрелковой) был назначен только в марте 1942 г. В сентябре того же года за несвоевременный взрыв моста через р. Терек был осужден к расстрелу, замененному 10 годами исправительных работ с отбытием после окончания войны, с отправкой на фронт командиром действующей части. В декабре 1942 г., будучи командиром 59-й стрелковой бригады, попал в плен под Орджоникидзе. В мае 1943 г. вступил в РОА и преподавал в офицерской школе восточных войск. Осенью того же года был назначен офицером восточных войск при штабе 7-й армии во Франции. Во время боев в Нормандии командовал импровизированным соединением из двух восточных батальонов. — Прим. ред.
(обратно)198
Николаев в начале войны был офицером штаба 12-й армии Юго-Западного фронта. — Прим. ред.
(обратно)199
Достоверных данных об участии Зверева в финской войне нет. Перед войной он служил в Киевском военном округе; командиром дивизии был назначен в марте 1941 г. — Прим. ред.
(обратно)200
Из беседы с Ламсдорфом; Buchardt F. Op. cit. S. 315.
(обратно)201
См.: Борьба за права остарбайтеров // Борьба. № 14. С. 25. 1945.
(обратно)202
Жеребков Ю. Неопубликованный очерк.
(обратно)203
Звание генералиссимуса было присвоено Сталину после окончания войны с Германией. — Прим. ред.
(обратно)204
Из письма к автору Крёгера.
(обратно)205
Из письма к автору Крёгера.
(обратно)206
Из беседы с Деллингсгаузеном.
(обратно)207
Buchardt F. Op. cit. S. 304.
(обратно)208
Ibid. S. 303.
(обратно)209
Передача 1-й дивизии Власову состоялась 10 февраля 1945 г. — Прим. ред.
(обратно)210
Китаев М. Указ. соч. С. 11; из беседы с Крёгером.
(обратно)211
Из беседы с Гертом Бушманном.
(обратно)212
Текст упомянутого письма, датированного 26 февраля 1945 г., находится в архиве автора.
(обратно)213
Текст декларации был опубликован в «Казачьем Вестнике» 24 апреля 1945 г.
(обратно)214
Из письма к автору Бухардта.
(обратно)215
Из беседы с Готтхардом Хейнрици.
(обратно)216
Из письма к автору Крёгера.
(обратно)217
В письме к автору Гельмут Швеннингер выразил уверенность, что Буняченко в своих последующих действиях на самом деле руководствовался приказами Власова.
(обратно)218
Из беседы с Деллингсгаузеном.
(обратно)219
Из беседы с Биленберг.
(обратно)220
Из письма автору Фрёлиха.
(обратно)221
Из беседы с Жеребковым и его неопубликованной рукописи.
(обратно)222
Атака 1-й дивизии РОА против советского плацдарма «Эрленгоф», удерживавшегося войсками 33-й советской армии, началась утром 13 апреля 1945 г. — Прим. ред.
(обратно)223
Есть два заслуживающих доверия источника, касающихся отхода первой дивизии на юг: дневник Швеннингера и написанный в 1946 г. очерк командира 2-го полка дивизии, полковника В. Артемьева. В ключевых моментах они сходятся. Прочая необходимая информация была получена из беседы с Ф. Шёрнером и из письма к автору Крёгера.
(обратно)224
Шёрнер утверждает (в беседе и в письме к автору), что ввести дивизию в действие распорядилось ОКВ. Он не знал, что она находится под командованием Власова. В суматохе тех последних дней у него не было времени разбираться с политическими проблемами.
(обратно)225
Из беседы со Штрик-Штрикфельдтом.
(обратно)226
Из письма к автору Эриха фон Зиверса.
(обратно)227
Buchardt F. Op. cit. S. 341.
(обратно)228
Из беседы со Штрик-Штрикфельдтом.
(обратно)229
Из беседы с А. Биленберг.
(обратно)230
Из письма к автору О. фон Нацмера.
(обратно)231
Из письма к автору Клейста.
(обратно)232
Из беседы с Шёрнером.
(обратно)233
Из письма к автору Крёгера.
(обратно)234
Из беседы с Бушманном.
(обратно)235
Из письма к автору Швеннингера.
(обратно)236
Относительно Пражского восстания: беседа с Антоновым; Артемьев В. Указ. соч. С. 16; Prazke Povstani, 1945. Washington, 1965; из письма к автору князя Франтишека Шварценберга; из письма к автору О. Махотки. После захвата власти в Чехословакии коммунистами капитан Нечански был приговорен к смертной казни, генерал Кутльваср — к двадцати годам в лагере строгого режима. Сморковски, которого никак не упрекнешь в теплых отношениях или в сотрудничестве с войсками Власова, получил восемь лет в лагере строгого режима.
(обратно)237
Подробности, касающиеся последних дней перед пленением Власова, почерпнуты в беседах с Тензоровым и Антоновым; из письма к автору Ресслера; также Артемьев В. Указ. соч.; Поздняков В. Последние дни // Голос Народа. 1951. № 25 и далее; Фоминых Ю. Как был пойман Власов // Известия. 1962. 7 октября. Описание поимки Власова у Торвальда (Op. cit. S. 544) дается неточно.
(обратно)238
См. об этом статью Ю. Будерацкого (Голос Народа. 1949. № 33).
(обратно)239
Из письма к автору Кононова.
(обратно)240
Из писем к автору Герберта фон Пастора. Сохранился военный дневник Пастора, в котором упомянут и Донахью.
(обратно)241
Командир мотострелкового батальона 162-й танковой бригады М. И. Якушов (именно так правильно пишется и произносится его фамилия) был не майором, а капитаном. — Прим. ред.
(обратно)242
Все описания пленения Власова сходятся в самых главных аспектах. Источники: письмо к автору Ресслера; беседы с Тензоровым и Антоновым. Очерк генерал-лейтенанта Ю. Фоминых подтверждает основные детали, предоставленные офицерами Власова, однако рассказ о том, что Власов будто бы прятался на заднем сиденье машины в каком-то тряпье, прикрываясь двумя женщинами, а потом пытался убежать, — плод фантазии. Из очерка Фоминых ясно следует, что американцы не планировали таким образом выдать Власова советской стороне.
(обратно)243
Из беседы со Штрик-Штрикфельдтом.
(обратно)244
Из беседы с Оберлендером и из его дневника.
(обратно)245
Кёстринг Э. Неопубликованный очерк; Поздняков В. Последние дни // Голос Народа. 1951. № 25 и далее.
(обратно)246
Из письма к автору обер-лейтенанта Герхарда Петри, офицера штаба Паннвица; из письма к автору фельдмаршала Александера. Александер уверяет, что ни один из такого рода посланцев мира до него не добрался.
(обратно)247
Имеется в виду 6-я бронетанковая дивизия. — Прим. ред.
(обратно)248
Из письма к автору Петри.
(обратно)249
Праздник тела Господня, или причастия (Corpus Christi), — праздник, отмечаемый в католической Европе с середины XIII столетия обычно по четвергам (реже в воскресенье) сразу после Троицы. — Прим. перев.
(обратно)250
Из беседы с Шёрнером. Данные по принудительной репатриации казаков почерпнуты в беседе с Иваном Гордиенко; также см.: Краснов Н. Незабываемое 1945–1956 гг. Сан-Франциско: Русская Жизнь, 1967. (Николай Краснов, внучатый племянник генерала П. Краснова, бывший гражданином Швейцарии, освободился из плена в 1956 г.); Ротов М. Как проходила сдача казаков англичанам //Донской атаманский вестник. 1954. № 22; Унгерман З. Неопубликованный очерк (IfZ); Вагнер К. Неопубликованный очерк. (IfZ); Kern Е. Op. cit.; Петровский Н. Незабываемое предательство. Мюнхен: Казачье воинство, 1965; Науменко В. Великое предательство. Нью-Йорк: Всеславянское издательство, 1962; Кузнецов Б. В угоду Сталину. Нью-Йорк: Военный вестник, 1958 (часть II, с источниками по принудительной репатриации); Масянов. Гибель уральского казачьего войска. Бриджпорт, шт. Коннектикут: Славянский базар. Всеславянское издательство располагает обширными архивными материалами, касающимися трагедии принудительной репатриации.
(обратно)251
Речь идет о 1-й украинской дивизии — бывшей 14-й дивизии войск СС «Галичина». Возможно, автор имеет в виду то, что дивизия была восстановлена после разгрома в июле 1944 г. под Бродами, т. е. фактически сформирована заново. Ее личный состав был представлен в большей степени жителями восточноукраинских областей, входивших в состав СССР до 1939 г. В рядах Русского корпуса наряду с эмигрантами первой волны и их потомками служило много добровольцев с территорий, оккупированных в 1941 г. Румынией, — также в большинстве своем бывших советских граждан. — Прим. ред.
(обратно)252
Цит. по: Кузнецов Б. Указ. соч.
(обратно)253
Текст данного документа не появлялся в опубликованных до сей поры материалах Ялтинской конференции, как не было соответствующих ссылок на него. Впервые текст был представлен на немецком языке Юлиусом Эпштейном в нью-йоркской газете «Staatszeitung und Herold» 4 декабря 1955 г. Эпштейн заполучил текст от государственного секретаря Джона Фостера Даллеса.
(обратно)254
См.: Epstein J. Op. cit.
(обратно)255
Текст в «Посеве», № 46 (15 ноября 1959 г.).
(обратно)256
Письмо Меандрова полковнику Алдану, 25 ноября, 1945 г. // Материалы и документы ОДНР в годы Второй мировой войны. С. 41.
(обратно)257
Кузнецов предоставляет всеобъемлющую документацию в отношении принудительных репатриаций в Дахау (Указ. соч. С. 30 и далее).
(обратно)258
Кузнецов Б. Указ. соч. С. 6 и далее.
(обратно)259
Там же. С. 57 и далее.
(обратно)260
В список источников информации по принудительной репатриации в Дании входят: Rеbiкоv N. Tagebuecher eines.Offiziers des Ostbataillons 28, 1942–1945 (неопубликованная рукопись); Принудительная репатриация из Дании // Борьба. 1950. № 1–2. О принудительной репатриации в Швеции см.: «… ueberfiel uns das Grauen // Baltische Briefe, April, 1964.
(обратно)261
Документ организационного управления OKB за № 2085/45 от 20.5.1945 г.; см.: Dallin A. Op. cit. S. 674.
(обратно)262
Корбуков и Шатов служили в штабе Трухина.
(обратно)263
Видкун Квислинг (1887–1945) — норвежский военный и политический деятель, имя которого в связи с его сотрудничеством с немцами в период оккупации Норвегии стало синонимом слова «предатель». — Прим. перев.
(обратно)264
Даты уточнены в соответствии с позднейшими изысканиями.
(обратно)

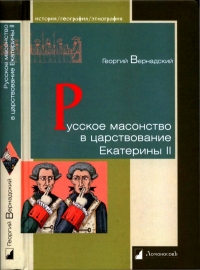
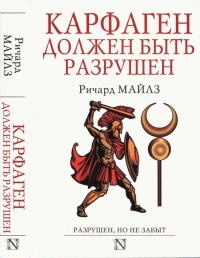
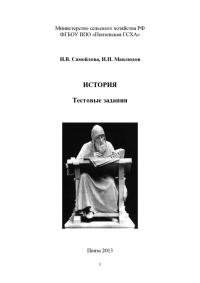
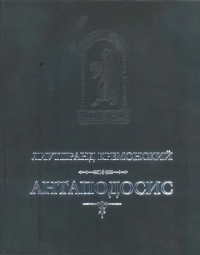

Комментарии к книге «Генерал Власов», Свен Стеенберг
Всего 0 комментариев