РЕНЕССАНС В ЯПОНИИ
К. КИРКВУД
АКАДЕМИЯ НАУК СССР ОТДЕЛЕНИЕ ИСТОРИИ
KУЛЬTУRA НАРОДОВ ВОСТОКА
Материалы и исследования
Издательство «Наука»
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ
К. КИРКВУД
РЕНЕССАНС В ЯПОНИИ
Культурный обзор семнадцатого столетия
Главная редакция восточной литературы Москва 1988
ББК. К 43
63.3(5Я)
RENAISSANCE IN JAPAN
A Cultural Survey of the Seventeenth Century
by Kenneth P. Kirkwood with a Foreword
by Arnold J. Toynbee.
Rutland (USA) and Tokyo, 1971
Редакционная коллегия
A. Н. Болдырев, И. С. Брагинский, А. Е. Глускина, О. К. Дрейер, И. М. Дьяконов,\А. Н. Кононов], А. Д. Литман,\В. Г. Луконин\, Ю. А. Петросян (председатель), Б. Б. Пиотровский, В. М. Солнцев, I О. Л. Фишман | (ответственный секретарь), Е. П. Челышев
Перевод с английского
A. М. Кабанова
Ответственный редактор, автор предисловия
B. Н. Горегляд
Кирквуд К. П.
К 43 Ренессанс в Японии. Культурный обзор семнадцатого столетия. М., Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1988.
303 с. («Культура народов Востока»).
Настоящая книга — обширный обзор японской культуры XVII в. (одного из самых интересных периодов японской истории), данный на широком фоне социально-экономических процессов. Рассказывая о подъеме японской «городской культуры», автор проводит многочисленные параллели с культурными процессами, происходившими в то же самое время в странах Западной Европы, что позволяет ему обнаружить немало общих моментов В центре повествования — фигуры трех выдающихся деятелей японской литературы той эпохи: поэт Мацуо Басе, прозаик-новеллист Ихара Сайкаку и драматург Тикамацу Мондзаэмон.
К
4402000000-011 013(02)-88
76-87
ББК- 63.3 (5Я)
© Перевод, примечания и предисловие:
Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1988.
СОДЕРЖАНИЕ
Страна за захлопнутой дверью ............... 5
Предисловие ко второму изданию.............. 21
Предисловие..................... 22
I. Киото....................... 26
Придворная культура................. 31
II. Классическое Возрождение и аристократическая традиция .... 36
Конфуцианское влияние................ 39
Классическая философия............... 42
Влияние отдельных личностей.............. 44
Обучение привилегированных сословий........... 47
Классическая литература ............... 48
Классическая живопись ................ 50
Классическая драма................. 56
Классическая поэзия ................. 60
Культура феодального двора .............. 62
III. Реакция на классицизм................ 68
Упадок буддизма .................. 69
Несостоятельность конфуцианства............ 71
Социальные ограничения ............... 74
Прекращение китайского влияния............ 77
Последствия политики изоляции ............. 78
IV. Народное движение................. 84
Народное образование ................ 85
Народное искусство . •................ 88
Национальная философия и литература.......... 96
Народная поэзия.................. 98
Театр Кабуки................... 100
Народная музыка .................. 109
Кукольный театр.................. 116
V. Воздействие экономики................. 123
Подъем торгового сословия............... 123
Роскошь..................... 125
Влияние на культуру................. 128
VI. Басё....................... 132
Поэт-странник................... 132
Басё — философ.................. 135
Басё — поэт.................... 138
«Старый пруд» .................. 145
Хайкай..................... 149
Басё — путешественник................ 152
Последние дни жизни Басё............... 154
Место Басё в литературе................ 156
VII. Ихара Сайкаку................... 160
Романист «позолоченного» века............. 160
Осака..................... 160
302
Окружение Сайкаку................ 162
Сайкаку — поэт................... 166
Сайкаку — театральный критик............. 170
Сайкаку— новеллист................. 172
Место Сайкаку в литературе.............. 174
VIII. Тикамацу Мондзаэмон................ 183
Первый период: ученичество и вассальная служба....... 183
Изучение классики.................. 185
Брат Тикамацу—врач................ 187
Поэзия и драматургия................ 189
IX. Тикамацу Мондзаэмон................ 193
Второй период: драматург театра Кабуки.......... 193
Сотрудничество с Саката Тодзюро............ 195
Бытовые драмы................... 198
«Последний Новый год для Югири»........... 201
Сотрудничество с Такэмото Гидаю............ 203
Драматург театра дзёрури............... 207
Окружение Тикамацу................. 208
«Тюсингура»................... 212
X. Тикамацу Мондзаэмон................. 216
Третий период: драматург кукольного театра......... 216
Сотрудничество с Гидаю и Такэда............ 219
«Календарь любви»................. 221
«Битвы Коксинга»................. 224
«Похождения Кодзёро из Хаката»............ 227
«Самоубийство влюбленных на острове Небесных сетей» .... 231
«Конь на привязи»................ 239
Последние дни................... 244
XI. Закат эпохи Киото.................. 246
Культурная миграция................. 246
Драматурги и театр................. 248
Культурный прогресс................. 250
XII. Семнадцатый век.................. 256
Япония и Европа.................. 257
Взаимоотношения.................. 264
Исследования и мореплавание.............. 266
Влияние через Сакаи (Осака).............. 267
Контакты с иностранцами в последующий период....... 269
Западные контакты через Китай............. 271
Непосредственный вклад европейцев в японскую культуру .... 272
Прекращение европейских влияний............ 276
Заключение...................... 280
Примечания..................... 283
Цитированная литература ............... 299
СТРАНА ЗА ЗАХЛОПНУТОЙ ДВЕРЬЮ
Прошлое в разные эпохи видится по-разному. Изменение принципов видения культуры — одно из проявлений самой культуры. Всегда есть смысл оглянуться: что интересовало нас в истории человечества некоторое время назад и что интересует теперь.
На протяжении лишь письменной ее истории несколько раз менялись сущностные характеристики японской культуры. Перемены определялись то введением буддизма — на раннем этапе развития государственности (VII—VIII вв.), то выходом на историческую арену самурайского сословия с его самобытными традициями — на рубеже раннего и развитого средневековья (XI—XII вв.), то переходом Японии на рельсы капиталистического развития и началом широких ее контактов с западными странами (вторая половина XIX в.)... Столетие, прошедшее от середины XVI в., также определяют как один из «поворотных этапов» в истории японской культуры '.
Возникновение чайной церемонии (тя-но ю), искусства икебана, борьбы сумо и дзюдо, театра Кабуки, поэзии хайку, «сухих садов» (декоративные сады из камней и песка) и многих других элементов, без которых сейчас трудно представить традиционную культуру Японии, датируется с большой точностью и относится к разным историческим эпохам. Время примирило, облагородило и поместило в общую копилку культурного наследия явления, родившиеся в разное время, в разной социальной среде. Новое рождается из старого и в полемике с ним. Во взаимопроникновении и преемственности составляющих — главная особенность культурно-исторического процесса: полемика здесь подразумевает одноплановость, ибо ведется на одном материале, в однотипных понятийных категориях.
Японская история убедительно подтверждает это. Она же показывает, как жадно усваивались японцами во все времена достижения культуры других народов — китайцев, индийцев, англичан, русских, — чтобы с течением времени, трансформировавшись под влиянием местной традиции, войти в нее неотъемлемой частью. Так, конфуцианские нормы вошли в идеологию японского военно-феодального эпоса гунки и послужили формированию определяющих аспектов самурайского этико-морального кодекса бусидо; буддийские представления о непостоянстве сущего и о единстве человека и природы легли в основу древнеяпонской эстетической концепции «печального очарования вещей» и средневековой традиции «сухих садов»; принципы передачи светотени, открытые европейскими художниками, использовались Кацусика Хокусаем (1760—1849), виднейшим представителем школы живописи укиё-э, школы глубоко национальной по форме и сюжетам. Есть множество примеров плодотворного влияния западной культуры на собственно японскую со второй половины XIX в. В наши дни в серьезных социологических исследованиях и на страницах популярных журналов нередко можно встретить утверждения японцев о том, что одной из преобладающих черт японского характера является слепое подражание, несамостоятельность в принятии решений2. На это можно возразить, однако, что японская культура как
1 Като Сюити. Нихон бунгаку си дзёсэцу (Введение в историю японской литературы). Т. 2. Токио, с. 5—46.
2 Мияги Отоя. Амэрикадзин-то нихондзин (Американцы и японцы). Токио, 1976, с. 201—202; Kiyoyuki Higuchi. Are the Japanese Blind Imitators? — PHP, Jan. 1976, vol. 7, № 1, c. 52—63.
5
целое не теряет своей индивидуальности, как не теряет ее японский язык, столь широко заимствующий иноязычную лексику.
Европейцы открыли для себя Японию в XVI в. В 1542 г. на один из ее южных островов в результате кораблекрушения попали португальские моряки, встретившие у местных жителей радушный прием. Вскоре туда прибыли католические миссионеры («апостол» ордена иезуитов Фр. Ксавье высадился в Кагосима в 1549 г.), открылась торговля с Испанией (1580 г.), Голландией (1609 г.) и Англией (1613 г.). Занятые междоусобными войнами японские феодалы получили от европейцев много огнестрельного оружия (войска объединителя Японии Ода Нобунага только в одной битве при Нагасино в 1575 г. располагали тремя тысячами ружей), японцы стали принимать христианство (в начале XVII в., при общей численности населения страны около 26 млн. человек, число крещеных японцев достигает 700 тыс.), страна развивает торговые связи с Тайванем, Филиппинами, Таиландом, Малайским полуостровом, о-вом Борнео и другими землями Юго-Восточной Азии.
С 1604 по 1635 г. насчитывалось 355 кораблей, имевших «красную печать», т. е. официальное разрешение на торговлю с заграницей. К концу этого периода количество японских поселенцев в странах Юго-Восточной Азии достигает 80—100 тыс. Европейские советники появляются в ставке феодальных диктаторов Японии — сегунов из дома Токугава и у глав сильных кланов на юга-западе страны.
Япония получает из-за границы шелковые ткани и шелк-сырец, сахар, кожи и сандаловое дерево. В японских портах на корабли грузят изделия из лака, фарфора и серебра, золото и медь. На японский язык переводят Библию и басни Эзопа, подборки из произведений античных авторов и трактаты отцов-миссионеров. Казалось бы, установился быстрый, многоплановый и прочный контакт Японии с Западом. . . Но насколько глубоким было проникновение западной техники, технологии, культуры и мировоззренческих систем в японский быт?
Рассмотрение материальной и духовной культуры Японии этого периода свидетельствует о том, что почти во всех областях это проникновение было не более чем поверхностным и не повсеместным. Подавляющая часть населения оказалась не знакомой с западной цивилизацией и верила самым фантастическим россказням о «южных варварах». Если бы энергия, с какой европейские торговцы и миссионеры принялись осваивать новую для себя страну, не встретила препятствия, положение могло бы измениться. Но внимание сёгунских властей привлек к себе иной аспект деятельности чужеземцев.
Торговые контакты с заграницей, появление огнестрельного оружия и многие посулы европейских торговцев и миссионеров оживили у крупных феодалов о-ва Кюсю стремление к отделению от центрального правительства. Началось сепаратистское движение. В начале XVII в. христианские лозунги берутся на вооружение крестьянским восстанием в районе Симабара. На его подавление правительству пришлось двинуть 200-тысячную армию.
Страна, прошедшая сквозь десятилетия кровавых феодальных распрей, огнем и мечом объединенная под эгидой сегунов Токугава, оказалась перед опасностью развала и превращения в колонию европейских держав. Тогда центральное правительство хлопнуло дверью, закрыв Японию для контактов с иноземцами. Под страхом смертной казни были запрещены въезд иностранцев в Японию, пропаганда и исповедование христианства, выезд японцев за границу и строительство судов для открытого моря. Скудная торговля сохранялась только с китайцами и голландцами через построенные фактории в г. Нагасаки. Здесь для чужеземцев был создан почти тюремный режим.
Отнюдь не «застарелая азиатская нелюдность», как полагала российская императрица Анна Иоановна3, и не «эгоистическое» желание «сосредото
3 См.: Файнберг Э. Я- Русско-японские отношения в 1697—1875 гг. М., 1960, с. 27.
6
читься на самой себе» (!), как изящно, хотя и нечетко, формулирует К- П. Кирк-вуд вслед за американскими и европейскими историками и политиками, заставили Японию предпринять этот шаг. К нему принудила угроза потери национальной независимости и разграбления страны колонизаторами. Слишком красноречивы были аналоги с Макао и Филиппинами, слишком очевиден был ажиотаж пришельцев вокруг самой Японии.
Когда в середине XIX в. Америка и Европа взломали запертые двери Японии (кстати, предлогом для этого и для «всеобщего» возмущения политикой Японии было нежелание японского правительства повернуться лицом к «благам европейской цивилизации», а ближайшим же результатом — заключение серии кабальных договоров с Америкой и странами Европы), в ней практически заново, как представлялось тогда, обнаружили некую однородную замкнутую цивилизацию, несколько декоративную и отличную от прочих восточных цивилизаций. А за те 230 лет, которые Япония пребывала почти в полной изоляции от остального мира, в Европе распространились о ней сведения нередко самого невероятного толка.
Книга Кеннета П. Кирквуда «Ренессанс в Японии» посвящена описанию японской культуры начального этапа эпохи «закрытых дверей», творчеству крупнейших представителей литературы тогдашней Японии — старших современников Джонатана Свифта, т. е. Японии той поры, когда ее посетил отважный мореплаватель Лемюэль Гулливер.
* * *
Одним из первых ученых, обнаруживших однотипность процессов, которые происходили в развивающихся независимо друг от друга феодальной Японии и средневековой Европе, был Карл Маркс, отметивший в «Капитале»: «Япония с ее чисто феодальной организацией землевладения и с ее широко развитым мелкокрестьянским хозяйством дает гораздо более верную картину европейского средневековья, чем все наши исторические книги, проникнутые по большей части буржуазными предрассудками» 4.
Сходство здесь, конечно, не ограничивается социально-экономическоп сферой. Если брать явления в их сути, не останавливаясь на мелочах, на специфических формах проявления их, обнаруживаются четкие соответствия между феодальной Японией и позднесредневековой Западной Европой в системе управления господствующих классов, в логике развития самосознания зарождающейся буржуазии и крестьянства, в культурно-историческом процессе. К. П. Кирквуд не был единственным исследователем, употребившим термин «Ренессанс» применительно к Японии. Ниже мы увидим, какие явления в двух противоположных концах Евразии, изолированных друг от друга в экономическом, политическом и культурном отношениях, навели его на мысль о возможности такого определения японской культуры.
Сёгунское правительство Токугава, пришедшие к власти в 1603 г., завершило начатый еще в XVI в. процесс разделения японского общества на четыре сословия: воинов, крестьян, ремесленников и торговцев (система си-но-ко-сё). Жизнь каждого из этих четырех сословий была тщательно регламентирована. Высшее сословие, включавшее феодалов-даыжё и их вассалов-самураев (в XVII в. они составляли около 7,5 % населения страны) 5, также делилось на несколько категорий, в зависимости от размеров годового дохода и лояльности по отношению к дому Токугава до его прихода к власти.
4 Маркс К. Капитал. — Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. Т. 23, с. 729.
5 См.: Дзусэцу нихон бунка си тайкэй (Серия «История японской культуры в иллюстрациях и объяснения»). [Т.] 9. Эдо дзидай (Эпоха Эдо). [Ч.] 1. Токио, 1968, с. 18.
\
7
Были установлены хитроумная система распределения наделов для преданных сёгунату феодалов вокруг владений «посторонних дайме» (тодзама-даймё) и система заложничества, согласно которой каждый из 250 феодалов обязан был выстроить в сёгунской столице Эдо (совр Токио) приличествующую его положению и доходам усадьбу и жить попеременно один год в ней, другой — в наследственном владении. При этом семьям феодалов запрещалось покидать Эдо, а переезды самого даймё обставлялись такими церемониями, что превращались в разорительное предприятие, не оставлявшее, по мысли властей, возможности для антиправительственных заговоров.
За всеми категориями населения осуществлялся тщательный полицейский надзор — и явный, и тайный. Крестьяне, также разделенные на несколько категорий, были организованы в «пятидворки» с круговой порукой и слежкой за поведением каждого члена такой «пятидворки». Староста деревни подлежал наказанию, если не первым доносил местным властям о нарушении законов и установленного порядка жителями деревни или пришельцами. Регламентировалась каждая мелочь: максимальный размер крестьянской хижины, характер одежды, состав пищи, поведение крестьянина в быту, на работе, в храме, на похоронах и свадьбе. Еще в XVI в. строго запрещалось ношение оружия всем, не принадлежащим к сословию «воинов» (буси). Закрепощение крестьян приняло самые жесткие формы, их эксплуатация достигла апогея (только в уплату продуктовой ренты уходило до 80 % урожая, а огромное число прочих поборов и повинностей не всегда поддается учету). Это не замедлило сказаться на росте числа и размахе народных восстаний
Мелочная регламентация определяла и жизнь ремесленников, которые в сословной иерархии занимали положение между крестьянами и купцами, а не деле были много бесправнее последних: купцы и ростовщики нередко предоставляли кредиты не только феодалам, но и правительству, скупали у власть имущих рис, ткани, бумагу, изделия художественных ремесел, брали на откуп сбор податей и заставляли считаться со своими интересами и простых людей, и законодателей.
Торговцы и ростовщики, формально стоявшие в социальной иерархии ниже прочих сословий, приобретали большое влияние на экономику страны, способствуя разорению крестьян и низших самураев и подрывая основы хозяйства феодальной Японии.
Вне этой системы четырех сословий стояло еще три группы населения — окружение императорского двора, остававшегося до 1868 г. в Киото, синтоистское и буддийское духовенство и парии — презираемые жители «особых поселков», которых больше всего было на побережье Внутреннего Японского моря и в прилегающих провинциях6. Придворная аристократия считалась стоящей «над сословиями», но тщательно ограждалась от всякого влияния на жизнь страны. Предметом особой заботы режима Токугава стала изоляция придворной аристократии от провинциальных феодалов во избежание возможной антисёгунской коалиции. Самому императору были оставлены в основном ритуальные функции; такая прозаическая проблема, как управление страной, целиком решалась сегунами (формально они считались верноподданными императоров) и их разветвленным бюрократическим аппаратом.
Собственно говоря, император почитался как прямой потомок богов и являлся объектом культа в синто -— исконной религии японцев. Но официальной религией токугавской Японии была не синто, а буддизм, делившийся к тому времени на множество течений, сект, школ. Дело в том, что после запрещения христианства, которое в сёгунском указе 1614 г. было объявлено «дьявольским и разрушительным» учением и «врагом государства», буддизм оказался в Японии единственным цельным и систематическим вероучением (с собст
6 См.: Ханин 3. Я- Социальные группы японских париев. М., 1973; Ханин 3. Я- Парии в японском обществе. М., 1980.
8
венной космологией, этическими нормами, каноном, устойчивой церковной и приходской системой), которое можно было по всем параметрам противопоставить христианству.
Чтобы в корне пресечь вражду между представителями разных направлений буддизма, сёгунское правительство постановило: все буддийские школы должны держаться в рамках тех сфер влияния, какие имеют на данный .момент. Гарантом сохранения статус-кво должно было стать создание буддийской приходской системы данка сэйдо, при которой каждой семье надлежало приписаться к определенному буддийскому храму, служители которого обязаны были осуществлять надзор за образом жизни и мыслей прихожан. Таким образом, духовенству предписывалось выполнение полицейских функций, а принадлежность к церкви стала для японцев простой формальностью.
На этом фоне идеологическая машина сёгуната завершила выработку так называемого кодекса чести самураев — бусидо («путь воина»). Основа кодекса — средневековая по сути, но окончательно сформировавшаяся в начале нового времени концепция вассальной преданности сюзерену. Сёгунат выдавал специальные разрешения самураям на совершение актов кровной мести за смерть господина, поощрял «самоубийства вслед», когда после смерти даймё многие его вассалы-самураи делали харакири, тем обеспечивая себе посмертную славу и благосклонность нового господина к своим родственникам.
Официальной же идеологией феодально-абсолютистского государства стало сунское неоконфуцианство, ввезенное в Японию из Китая дзэн-буддийскими монахами еще в XIV в. Токугавские интерпретаторы этого учения делали упор на идее реализации Пути Неба в социальной и личной жизни человека. Предполагалась санкция Неба на существование определенного общественного порядка. При этом в качестве добродетели вышестоящих пропагандировались щедрость и справедливость, а долгом подчиненных считались повиновение и соблюдение приличий. Выраженные в сжатой форме, этические нормы этого учения сводятся к двум категориям: Пяти отношениям (горин — отношения между слугой и господином, характеризуемые долгом; между сыном и отцом, определяемые родством; между женой и мужем, которые характеризуются взаимной почтительностью; между младшими братьями и сестрами и старшими, которые характеризуются верностью, и между друзьями, которые определяются искренностью) и Пяти постоянствам (годзё — человечность, справедливость, учтивость, мудрость и искренность). Именно этико-моральный аспект неоконфуцианства, служивший оправданием режима, обеспечил ему ведущие позиции в идеологических системах эпохи.
К- П. Кирквуд заметно идеализирует конфуцианство и его покровителей, когда рассуждает о морально-этических принципах учения Конфуция и о «великодушном, хотя и спартанском правлении токугавского сёгуната». Военно-полицейский режим, установленный в Японии сегунами Токугава, по своей жестокости имеет мало аналогий в истории. Достаточно сказать, что кодекс «Ста статей», содержащий основные установления сёгуната по обеспечению внутреннего порядка, включает такой пункт: «Простые люди, которые ведут себя недостойно по отношению к представителям военного класса и которые обнаруживают недостаточное уважение к непосредственным и косвенным вассалам [сегуна], могут быть зарублены на месте» 7. Заметим,
7 Норман Герберт. Возникновение современного государства в Японии. М., 1961, с. 169 (примеч. 15). Знаменательно и то, что после укрепления сёгуната его «великодушие» в управлении подданными красноречиво отразилось на изменении численности населения страны: с 1726 по 1804 г. оно уменьшилось с 26,5 млн. до 25,5 млн. человек (см.: Новая история стран зарубежного Востока. Т. 1. М., 1952, с. 292), и на размахе антифеодального движения — за все время существования сёгуната зарегистрировано 1163 крестьянских восстания (там же).
9
что это был не тюремный устав, а кодекс административного управления страной.
Что касается традиций изучения конфуцианской классики, то они в Японии (как и в Китае) не прерывались на протяжении всего средневековья. Току-гавским ученым не пришлось возрождать забытых культурных ценностей, заново открывать для непосвященных памятники человеческого духа. Иное дело — они превратили чжусианскую разновидность этого учения (сам Чжу Си жил в ИЗО—1200 гг.) в официальную идеологию, для чего, правда, основательно отредактировали ее.
Современные исследователи сравнивают чжусианство с философией Фомы Аквинского (1225—1274) как идеологию, утверждающую, что всякая общественная система является продуктом естественного или космического порядка8. Как и томизм в католических странах, чжусианство встретило не только поддержку правящей верхушки Китая и Японии, но и критическую реакцию противников.
Хотя параллель, которую К. П. Кирквуд проводит между усилением внимания в раннетокугавской Японии к изучению китайской и японской классики и возрождением в Европе интереса к античной культуре, небезупречна, бесспорно то, что сам факт покровительства неоконфуцианству со стороны сёгуната вызвал новое оживление интереса японской интеллектуальной элиты к китайской философии, культуре, литературе и языку. К XVII —XVIII вв. относится третий за японскую историю расцвет японской литературы на китайском языке.
Серединой XVII в. датируют начало первого этапа «японизации» неоконфуцианства, связанного с деятельностью Кумадзава Бандзан (1619—1691), Ямага Соко (1622—1685) и Ямадзаки Ансай (1628—1682) 9.
Кумадзава Бандзан, изучая книги конфуцианского канона и философские основы школы Чжу Си, пришел к выводу о срочной необходимости административных и хозяйственных реформ в Японии. Свои соображения ученый изложил в памятной записке сегуну, который и распорядился заключить вольнодумца в тюрьму. Ямага Соко был наставником самураев в воинском искусстве. После многолетнего штудирования чжусианских трактатов он пришел к убеждению о невозможности их применения в японских условиях и на основе положений конфуцианской этики и некоторых идей, изложенных в средневековых японских сочинениях, кодифицировал и начал проповедовать правила поведения самурая, подчиненные идее преданности феодальному его владетелю и превосходства «японского духа». В 1666 г. Ямага Соко был на десять лет заключен в тюрьму, что, однако, не помешало сёгунскому правительству в дальнейшем широко использовать его учение в официальной пропаганде.
Ямадзаки Ансай, начавший свою деятельность с изучения памятников древнеяпонской литературы, соединил положения сунского конфуцианства с представлениями о культе предков, почерпнутыми в японской религии синто, и на этой эклектической смеси основал синтоистскую секту Суйга. Его современник Ватараи (Дэгути) Нобуёси (1615—1690), жрец Внешнего святилища (Гэгу), главного синтоистского храмового комплекса Исэ, предпринял попытку подвести под синтоистские верования и обряды «теоретический фундамент», пользуясь формулами древнекитайской «Книги перемен» («И цзин»).
Среди японских мыслителей постепенно оформилось особое научное
8 Steenstrup Carl. Did Political Rationalism Develop along Parallel Lines in Premodern Japan and in the Premodern West? — Prolegomena to a Comparative Study. — The Journal of Inter-cultural Studies. 1976, № 3, с. 1.
9 Като Сюити. Нихон бунгаку си дзёсэцу (Введение в историю японской литературы). Т. 2, с. 51.
10
направление кангаку («китайские науки»), делившееся на несколько самостоятельных школ. В числе наиболее авторитетных неортодоксальных школ японского конфуцианства была когакуха («Школа древней науки»), представители которой настаивали на необходимости тщательного филологического анализа памятников конфуцианской классики. Основатель и глава когакуха Огю Сорай (1666—1728), автор работ по проблемам политики, экономики, истории, этики, филологии и многим другим проблемам, не только оспаривал истинность ортодоксального неоконфуцианства и на этой почве нашел последователей среди многочисленных представителей кангаку, но косвенным путем, благодаря методике исследования первоисточников и умению точно формулировать мысли, оказал влияние на идейных оппонентов «китаеведов» — представителей Школы отечественных наук (кокугаку).
Када Адзумамаро (1668—1736), ученики которого во втором и третьем поколении сформировали кокугаку как самостоятельное и сильное научное направление, основал в Киото школу по изучению древней истории и классической литературы Японии, чтобы противопоставить «исконные» ценности японской культуры заморским, к которым прежде всего относили конфуцианство и буддизм. Несмотря на воинственность националистических посылок представителей «отечественных наук», на постоянные заявления о необходимости «очистить» японскую культуру от позднейших иноземных наслоений, сами они понимали бесперспективность этой идеи. Крупнейший авторитет кокугаку, Мотоори Норинага (1730—1801) отмечал в сборнике своих ответов иа вопросы учеников («Томонроку», 1777—1779), что любой культурный элемент любого периода (даже буддизм и конфуцианство) является, «широко говоря, синто этого периода».
Идеологический парадокс эпохи заключался в том, что и конфуцианская Школа древней науки, и почвенническая Школа отечественных наук, поддерживая тезис официальной пропаганды о почитании вышестоящих, довели его впоследствии до призыва к передаче реальной политической власти из рук сегуна в руки его номинального сюзерена — императора и объективно содействовали переходу Японии на рельсы капиталистического развития после назавершенной буржуазной революции Мэйдзи (1867—1868).
Но социальную задачу в противостоянии официальной идеологии они ставили себе противоположную: не движение вперед, а возврат к древним образцам. Если гуманистические концепции европейского Возрождения строились на идее ценности человеческой личности, как можно более полного участия человека в радостях земной жизни, то раннетокугавские философы искали в древних памятниках руководство для жесткой регламентации личной и общественной жизни индивида. Официальным регламентациям они противостояли не по существу, а по форме. Сравнивая неортодоксальные учения токугавской Японии с идеологией европейского Ренессанса, мы встречаемся с тем случаем, когда внешнее подобие (интерес к старине) заслоняет собой несходные процессы, за каждым из которых стоит иная культурно-психологическая традиция, иная ценностная ориентация общества. Не напрасно мэйд-зийский зритель отказывался понимать Шекспира: он не мог психологически оправдать любовь Ромео и Джульетты, между которыми лежала вражда домов Монтекки и Капулетти, а следовательно, законы почитания предков (хотя проблема борьбы долга с чувством ставилась японскими писателями еще в XVII в.).
Тем не менее японский город XVII (и даже XVI) века свидетельствует и о некоторых глубинных процессах, общих с процессами, происходившими в позднесредневековом европейском городе.
Накопление денежных средств в руках купцов и ростовщиков, усиление их влияния на экономическую жизнь страны имело далеко идущие последствия. Ускорилось расслоение не только крестьянства, но и самурайского сословия, часть которого начинает переходить на службу к горожанам. В городах появляется все больше специализированных мастерских — по производству
11
одежды, инструментов, бумаги, украшений и т. д. Широко распространилось домашнее ремесленное производство, заказы для которого обеспечивали купцы-скупщики. В XVIII в. появляются ткацкие мастерские с наемными работницами, а затем ткацкие, прядильные красильные и гончарные мануфактуры. С накоплением богатства и возрастанием роли в хозяйственной жизни страны изменяется психология купцов и ремесленников. Это находит отражение в прикладном, изобразительном и театральном искусстве, в литературе и идеологии.
В XVIII в. на базе конфуцианства, синто и буддизма в среде горожан возникло популярное этическое учение сингаку («учение о сердце»). Его основателем явился приказчик одного из киотоских торговых домов Исида Байган (1685—1745), наставления которого были систематизированы последователями и стали распространяться сначала в Киото, а затем в Осака и Эдо.
Согласно этому учению, сердце есть отражение в человеческой личности небесного разума. Как зеркало правдиво и ясно отражает всякий предмет, так и сердце человека дает ему верное руководство в жизни, когда оно согласно с голосом сокровенной совести. Истинная и изначальная природа человека, учил Исида Байган, состоит в добродетельной жизни.
Идущие от буддизма идеи о сокровенной сущности человека, идентичной сущности абсолюта, конфуцианские этические установки (а они оказались гораздо более устойчивы, чем это представлялось К- П. Кирквуду) и синтоистский культ предков были положены в основу этой философии нарождающейся японской буржуазии. Она мыслилась как равноправная с учениями высших сословий и по аналогии с бусидо («путь самурая») была названа тёниндо («путь горожанина»). Главными заповедями ее были честность, трудолюбие и бережливость. Сторонники этой философии сохранились в Японии вплоть до начала XX в.
Но, прежде чем осознать и сформулировать свои сословные интересы на уровне этико-философского учения, купцы и ремесленники заявили о них в искусстве и литературе. Еще в XVI в. в Киото появились жанровые картины на многостворчатых ширмах, написанные в жанре ракутю ракугай дзу («изображения столицы и ее окрестностей»). Заказчиками этих картин были состоятельные горожане, стараниями и на средства которых город поднялся из пепла после разрушительных войн XV в. Часто на таких картинах изображалась улица, на которой расположен был дом или лавка заказчика. В XVII в. жанровая живопись переключила свое внимание на изображение актеров и куртизанок, а в сёгунской столице — Эдо — дала толчок развитию укиё-э («картин бренного мира») — жанра, достигшего расцвета в конце XVIII—начале XIX в. в виде многоцветных гравюр, для изготовления которых создавались мастерские, объединявшие художников, граверов и печатников.
Было бы неверно представлять дело так, будто с появлением жанровой живописи все японские художники увлеклись ею и оставили без внимания вкусы и запросы аристократии, а горожане не признавали иной живописи, кроме жанровой.
И в XVII и в XVIII в. в японском изобразительном искусстве одновременно развивалось, возникало и исчезало много школ. Еще в конце XV столетия появилась и заняла монопольное положение при сёгунском дворе школа живописи на раздвижных перегородках и складных ширмах, получившая, по фамилии художников, название Кано. Мастера школы Кано писали в жанрах «цветы и птицы», «горы и воды», создавали картины на буддийские сюжеты, изображали жанровые сцены. До наших дней сохранилась настенная живопись Кано в Нидзёдзе — сёгунской резиденции в Киото, построенной в 1626 г.
Художники школ Тоса, Сотацу—Корина, фукко ямато-э и многих других создавали пейзажи и другие картины на сюжеты памятников классической японской литературы и феодального эпоса, изображали цветы, зверей и птиц.
12
Интересно, что среди прочих сюжетов изображения зверей отличались наибольшей условностью, а цветов и птиц — реалистичностью, хотя и выполнялись в очень своеобразном с европейской точки зрения стиле. На общем фоне школа укиё-э выделялась новизной сюжетов и острой их трактовкой.
Одновременно с укиё-э среди горожан распространилось и достигло высокого уровня искусство миниатюрной скульптуры — окимоно и нэцкэ.
Расцвет искусства книжной иллюстрации, которой занимались главным образом мастера укие-э, сопровождал развитие ксилографического книгопечатания, которое, в свою очередь, определялось распространением грамотности и ростом интереса к художественной литературе среди городского населения.
В литературе XVII—XVIII вв. существовало большое разнообразие жанров и множество своеобразных и плодовитых писателей. Одной из главных причин этого явления было то, что литературное творчество перестало быть привилегией придворной знати и духовенства, каковой оно являлось в предыдущие эпохи. Им стали заниматься и обедневшие самураи, оказавшиеся с окончанием междоусобных войн не у дел, и горожане, принесшие в литературу свои сюжеты, свое видение мира, свою идеологию.
В начале XVII в. распространились популярные рассказы развлекательного, нравоучительного и познавательного характера, рассчитанные на читателя, не обладавшего высокой ученостью. Они назывались канадзоси («записки, написанные каной», т. е. японской слоговой азбукой, без употребления иероглифов). Издавались эти рассказы ксилографическим способом, отдельными книжками, с большим числом иллюстраций. Рассказы не отличались большими художественными достоинствами, но в конце века дали начало новому повествовательному жанру укиё-дзоси («записки о бренном мире») — рассказам, новеллам и повестям бытового, нередко откровенно эротического характера.
Герои и читатели «записок о бренном мире» — жители городов с их пристрастием к земным радостям, к чувственным удовольствиям, с их заботами и переживаниями. «Бережливые отцы семейства и искусные жрицы любви, чистые сердцем девушки и беспутные молодые гуляки, трудолюбивые ремесленники и сметливые приказчики — весь пестрый мир средневекового города теснился у порога литературы»10. Авторы «записок» — тоже горожане. «Отдавая себе отчет в том, что печатание укиё-дзоси — самая прибыльная статья, книготорговцы охотно издавали их в огромном количестве, стремясь одновременно разбогатеть и удовлетворить спрос читателей. . . Книги с новым сюжетом или особенно броскими иллюстрациями, как правило, расходились в большом количестве, даже если текст не имел высоких художественных достоинств» 11.
«Бренный мир», трактовавшийся средневековой литературой в соответствии с буддийскими представлениями как арена и источник страданий, теперь представляется источником наслаждений, ареной интересных событий бытового, любовного или героического характера. Крупнейший японский новеллист XVII в. Ихара Сайкаку (1642—1693) положил начало этому жанру, выпустив в 1683 г. «Историю любовных похождений одинокого мужчины» («Косёку итидай отоко»). Он же был зачинателем трех основных направлений в «записках о бренном мире»: косёкумоно (новеллы о чувственной любви и любовных похождениях), букэмоно (новеллы из жизни самураев) и тёнинмоно (новеллы из жизни горожан с проповедью бережливости и накопительства). В творчестве этого писателя сделаны первые в японской литературе попытки показать
10 Пинус Е. Предисловие. — Ихара Сайкаку. Избранное. М., 1974,
с. 6.
11 Кин Дональд. Японская литература XVII—XIX столетий. М., 1978, с. 149.
13
влияние среды на формирование личности, на судьбы героев 12. О его популярности среди современников говорит огромное число подражателей и плагиаторов, пытавшихся на волне славы Сайкаку приобрести себе литературное имя.
Ихара Сайкаку часто называют японским Боккаччо, основоположником нового видения мира в японской литературе. И то и другое справедливо. Его новеллы отличаются разноплановостью, попытками психологического анализа поведения героев, индивидуализацией их речи. Но своим появлением «записки о бренном мире» не вытеснили из японской прозы других жанров. В XVIII в., когда центр литературной жизни переместился в Эдо, правительство установило особый контроль за тематикой произведений литературы и искусства. Были запрещены целые литературные жанры и произведения отдельных писателей, среди которых оказался Ихара Сайкаку. В 80-х годах XVIII в. увидело свет последнее произведение в жанре «записок о бренном мире», написанное неким малоизвестным автором. Бытописательное направление в литературе на некоторое время уступило место фантастико-приключен-ческому и дидактическому. Японская проза начала XVIII в. оказалась много содержательнее, выше в художественном отношении, гуманистичиее прозы начала XIX в.
Драматургия XVII—XVIII вв. ориентировалась на два вида театрального искусства: дзёрури — театр кукол с одним чтецом, и кабуки, где роли исполнялись актерами. Оба театра сформировались в начале XVII в., оба ставили пьесы одного и того же характера, но до наступления годов Гэнроку (1688— 1704), как отмечает известный американский японовед Дональд Кин, имели между собой крайне мало общего. Драмы театра кукол находились «пока еще в процессе становления, и основное внимание в них уделялось не диалогу, а описаниям ситуации», драмы кабуки «строились на песнях и диалоге, причем спектакль в большей степени зависел от удачной актерской импровизации, чем от писаного текста» 13.
Тикамацу Мондзаэмона (1653—1724), создававшего пьесы для того и другого театра, К- П. Кирквуд справедливо называет крупнейшим драматургом эпохи. Тикамацу часто сравнивают с Шекспиром: по уровню драматургии театр того времени четко делился на театр до Тикамацу и после него.
Первыми произведениями великого японского драматурга были многоактные исторические драмы (дзидаймоно), сюжеты для которых заимствовались из произведений японской литературы предшествующих эпох (в первую очередь из военно-феодального эпоса), японской и китайской истории, старинных легенд и преданий, обрабатывались и изменялись, обильно оснащались фантастическими ситуациями и описаниями сверхчеловеческих подвигов героев. В исторических драмах явственно проводится идея верности вассальному долгу в духе кодекса бусидо. Таких пьес Тикамацу создал более ста. Самая знаменитая из них — «Битвы Коксинга» («Кокусэнъя касэн», 1715 г.) — подробно и всесторонне описана К. П. Кирквудом. Это описание живо характеризует не только драмы Тикамацу, но и условия, в которых они ставились, осакских актеров и публику.
В 1703 г. Тикамацу создал первую бытовую драму (сэвамоно) «Самоубийство влюбленных в Сонэдзаки» («Сонэдзаки синдзю»), трехактную пьесу из жизни горожан. Всего драматург написал 24 бытовые драмы — гораздо меньше, чем исторических. Но именно они столетия спустя принесли ему мировую известность. Сюжеты для них он брал либо из новелл укиё-дзоси, либо непосредственно из жизни, описывая действительные происшествия тех
12 В русском переводе сборники произведений Сайкаку издавались трижды (Ихара Сайкаку. Новеллы. М., 1959; Ихара Сайкаку. Избранное. М., 1974; Ихара Сайкаку. Новеллы. М., 1981).
13 Кин Дональд. Японская литература XVII—XIX столетий, с. 164.
14
дней в Осака или окрестных городах. В этой связи интересно вспомнить высказывания Тикамацу о сущности театрального искусства. «Искусство, — утверждал он, — находится на тонкой грани между правдой [тем, что есть] и вымыслом [тем, чего нет]. В самом деле, поскольку наш век требует, чтобы игра напоминала жизнь, то артист и старается верно скопировать на сцене жесты и речь настоящего вассала, но, спрашивается в таком случае, разве настоящий вассал князя мажет свое лицо румянами и белилами, как актер? И неужели публике понравилось бы, если бы актер отрастил себе бороду, обрил голову и в таком виде вышел на сцену, ссылаясь на то, что подлинный вассал не старается украсить свое лицо?. . Лишь здесь, на этой тонкой грани, и родится наслаждение искусством» |4.
Правда, постановка большей части пьес Тикамацу в театре кукол не позволяла ему в полной мере претворить в жизнь его собственные эстетические принципы.
Но здесь нужно иметь в виду и другой аспект его творчества. Подлинная трагедийность в произведениях Тикамацу Мондзаэмона определяется конфликтом между чувством и нравственным долгом. Как и новеллы Ихара Сайкаку, драмы Тикамацу обнаруживают заметное влияние буддийской и конфуцианской идеологии. Творчество обоих авторов как бы делится на два яруса — в одном безраздельно господствуют законы феодальной морали, в другом обнаруживается психология нового человека, страдающего от условностей конфуцианских предписаний, от казенной регламентации жизни, насаждаемой властями с помощью идеологии того же конфуцианства и буддизма.
В поэзии к началу XVII в. господствовал жанр хайку (хокку), семнадца-тисложных трехстиший с размером 5—7—5 слогов. Богатейшая поэтическая традиция и культура Японии создали условия, при которых на таком тесном стихотворном пространстве, какое предоставляет хайку (от 5 до 7 слов в одном стихотворении), стало возможным создавать поэтические шедевры с несколькими смысловыми рядами, намеками, ассоциациями, даже пародиями, с идейной нагрузкой, объяснение которой в прозаическом тексте занимает иногда несколько страниц и вызывает разнотолки и споры многих поколений знатоков. Интерпретациям одного только трехстишия Басе «Старый пруд» посвящены многие десятки статей, очерков, разделов в книгах. Приведенная К- П. Кирк-вудом интерпретация Нитобэ Инадзо — одна из них, и при этом далеко не самая убедительная.
В описанное в книге время существовало три школы хайку: Тэймон (основатель Мацунага Тэйтоку, 1571 —1653), Данрин (основатель Нисияма Соин, 1605—1686) и Сёфу (во главе с Мацуо Басе, 1644—1694). В наше время представление о поэзии хайку в первую очередь ассоциируется с именем Басе, который оставил богатое поэтическое наследие, разработал поэтику и эстетику жанра. Для усиления экспрессии он ввел цезуру после второго стиха, выдвинул три основных эстетических принципа поэтической миниатюры: изящная простота (саби), ассоциативное сознание гармонии прекрасного (сиори) и глубина проникновения (хосоми) 15. Увлечение мировоззрением дзэн-буддизма и традиционной эстетикой привело поэта к совершенствованию
14 Маркова В., Львова И. Тикамацу Мондзаэмон и его театр. — Мондза-эмон Тикамацу. Драмы. М., 1963, с. 21. Кроме этого сборника издательством «Искусство» выпущен еще один: Тикамацу Мондзаэмон. Драматические поэмы. М., 1968.
15 Подробно основные положения эстетики Мацуо Басе и средства художественной выразительности в его поэзии (ассоциативный подтекст, система образов, поэтические приемы и др.) проанализированы в книге Т. И. Бреславец «Поэзия Мацуо Басе» (М., 1981). Его стихи в русском переводе см. в сборнике: Басе. Лирика (М., 1964).
\
15
в хайку принципа недосказанности: автор минимальными языковыми средствами выделяет характерную черту, давая направленный импульс воображению читателя, предоставляя ему возможность наслаждаться и музыкой стиха, и неожиданным сочетанием образов, и самостоятельностью мгновенного проникновения в суть предмета (сатори).
В мировой поэзии Мацуо Басе обычно не сравнивают ни с одним из поэтов. Дело здесь заключается и в своеобразии жанра, и в роли поэзии в культуре и быту японцев, и в специфике творчества самого Басё. Аналогии с европейскими поэтами-символистами касаются обычно одной черты его творчества — умения обобщить образ, сопоставляя несопоставимое. Факт у Басё превращается в символ, но в символике поэт демонстрирует высочайший реализм. В своем поэтическом воображении он умел как бы войти в предмет, стать им, а потом выразить это в стихе с гениальным лаконизмом. «Поэт, — говорил он, — должен стать сосной, в которую входит человеческое сердце». Приведя это высказывание, португальский литературовед Армандо М. Жанейра заключает: «Этот процесс если не противоположен, то отличается от того, который описан западными поэтами. Поэзия для Басё приходит от духовного озарения» 16.
В последнее время на Западе все больше стали писать о вкладе японцев в развитие мировой культуры и о влиянии японской культуры на западную. При этом упоминается влияние японской цветной гравюры на творческое воображение импрессионистов (и не только в области цвета, но и в принципах композиции, как у Эдгара Дега), распространение в мире японского эстетического восприятия интерьера, увлечение в Европе и Америке эстетикой икебана, комплексное восприятие культуры японских национальных видов спорта (включая ритуал в дзюдо и каратэ) и т. д. В этом теперь уже немалом ряду одно из первых мест занимает поэзия хайку, представление о которой у мирового и японского читателя неразрывно с именем Мацуо Басё.
В XVIII в. последователи Басё разделились на несколько школ, из которых наибольшей популярностью пользовалась Тэммэй хайкай во главе с Еса Бусоном (1716—1783). Все школы ревниво хранили заветы учителя, сберегая не только его стихи и путевые дневники, но и записи высказываний Басё, сделанные его учениками.
Автор книги «Ренессанс в Японии» Кеннет П. Кирквуд был по профессии дипломатом. До второй мировой войны ему довелось 10 лет работать в Японии, своеобразная и богатая культура которой навела его на мысль написать эту книгу. Западное японоведение в 30-е годы нашего столетия еще только набирало силы. Не все факты и процессы были достаточно изучены, в некоторых оценках европейские и американские ученые излишне доверялись работам японских авторов, издававшимся на европейских языках (а в них не всегда главной целью было открытие истины), в других — слишком категорически распространяли выводы, полученные при изучении европейского материала, на явления японской культуры, дающие к этому внешние поводы. Основу для исследования литературного и культурно-исторического процесса в Японии составляли труды У. Дж. Астона и Б. X. Чемберлена (Англия) и К- Флоренца (Германия). В то время мало было переводов памятников токугавской литературы на европейские языки.
В советском японоведении тех лет литература позднего средневековья оставалась почти не изученной. Лекции Н. И. Конрада, два-три перевода, выполненные его учениками, — вот все, чем мог располагать русский читатель довоенной поры. Время знакомства его с произведениями классиков японской литературы XVII—XVIII вв. наступило через 30—40 лет, когда стали появляться
16 Janeira А. М. Japanese and Western Literature. A Comparative Study. Rutland, 1970, c. 45.
16
не только сборники переводов отдельных авторов, но и монографические исследования, посвященные их творчеству. Несколько монографий Я- Б. Ра-дуля-Затуловского представили читателям конфуцианскую и материалистическую философию Японии XVII—XIX вв. И. Л. Иоффе и Е. М. Пинус опубликовали общие очерки классической японсщй литературы в учебниках Московского и Ленинградского государственных университетов, Т. П. Григорьева такой очерк дала в популярной книге «Японская литература». В 1978 г. в русском переводе увидела свет обстоятельная монография американского японоведа Дональда Кина «Японская литература XVII—XIX столетий». Почти половина монографии посвящена литературной жизни Японии XVII века. За последние 20 лет отдельными книгами вышли переводы произведений Ихара Сайкаку, Тикамацу Мондзаэмона и Мацуо Басё; в статьях и монографиях освещены многие смежные проблемы. Тем не менее работа К- П. Кирквуда представляет для нас большой интерес. В ней содержится попытка установить закономерности культурно-исторического процесса в мире с использованием материала развивавшихся независимо друг от друга западноевропейской и японской цивилизаций. Сама концепция об однотипном влиянии социально-экономических процессов на культурные, возникшая у автора-немарксиста, — красноречивое свидетельство в пользу марксистской теории общественного развития. Но не в том главное достоинство публикуемой книги. Она с одинаковым блеском повествует и о японской, и об античной культуре, и о культуре европейского Возрождения, она насыщена фактами, нестандартными сопоставлениями и выводами, будит мысль, заставляет соглашаться или спорить с автором, пробуждает интерес к нашему культурному прошлому, к путям развития человеческой цивилизации.
Естественно, книга К- П. Кирквуда не свободна от недостатков. Не буду останавливаться на некоторых частных деталях — не они составляют суть книги. Остановлюсь на некоторых общих положениях.
При характеристике общественных процессов К. П. Кирквуд не всегда четко определяет направленность причинно-следственных связей. Это выразилось в явной переоценке роли учения школы национальных наук (кокугаку или вагаку) в свержении сёгуната и капитализации («модернизации») Японии. Дело представлено так, будто засилье китайской (конфуцианской) идеологии в эпоху Токугава (1603—1868) пробудило в японской интеллигенции чувство протеста, что привело к созданию научного и идейного направления, основанного на национальных культурных и религиозных ценностях, разбудило национальное самосознание. «В конце концов этот неосинтоизм, подчеркивающий наследственную и духовную власть императора, — пишет К- П. Кирквуд, — посеял семена, которые дали всходы, фактически свергли сёгунат и модернизировали Японию».
В действительности неоконфуцианская идеология не потому пробудила общественное недовольство в Японии, что была иностранной по происхождению, но потому, что отражала потребности абсолютистского феодального государства, тормозила развитие общественных отношений в стране. Фактическое крушение токугавского режима подготовили массовые движения трудящихся Японии 17. Школа вагаку не была и не могла быть организатором и вдохновителем этих движений. Она не превратилась и в идеологическую систему буржуазного государства после революции 1868 года, так как не готовила себя к этой роли, не отражала коренных интересов социальных слоев, совершивших эту революцию. Ее учение способствовало разложению старой идеологии, но не созданию новой.
Ограниченность в понимании исторического процесса сказывается у автора книги и в умилении по поводу августейших покровителей искусства в средневековой Италии, Испании и Франции, и в идиллическом описании методов
17 См.: Тояма Сигэки. Мэйдзи исин (Крушение феодализма в Японии). М., 1959.
2 Заказ 1438 17
управления страной сегунами Токугава. Верно отмечая, что в Западной Европе географические открытия и развитие мореплавания предшествовали Возрождению, К. П. Кирквуд ие видит, что и то и другое — следствие общей причины — следствие изменений в социально-экономическом базисе феодальной Европы. И влияние здесь обоюдонаправленное.
Личными вкусами и характером воспитания феодальных диктаторов Японии — сегунов Асикага, Тоётоми Хидэёси, Токугава Иэясу — он объясняет направление, в котором изменялась средневековая японская культура. Не всегда автор книги может разобраться и в подтексте аргументов, которыми пользуются те или другие авторы, защищающие некоторые общие положения. Желая шире представить позиции ученых, осуждающих изоляцию токугавской Японии от внешнего мира, он приводит и доводы, изобретенные японской официальной пропагандой времен военной экспансии 30-х годов, о том, что в результате политики «закрытых дверей» Япония-де «лишилась возможности присоединить острова Южных морей, которые уже по географическим причинам естественно должны были попасть ей в руки». К «островам Южных морей» относятся Филиппины и Зондские острова.
Позднее средневековье в японской историографии принято называть «ближней эпохой» (кинсэй), эпохой Токугава или эпохой Эдо. К- П. Кирквуд выделяет в нем два этапа: XVII век, который называет он эпохой Киото, и XVIII—первую половину XIX в., время, которое он называет собственно эпохой Эдо, имея в виду перемещение центра культурной жизни страны из района Киото—Осака в сёгунскую столицу (начало XVIII в.). В современной науке такое противопоставление не принято. В Японии на протяжении позднего средневековья процесс культурного развития был единым, сместились лишь географические точки, в которых формировались явления, определявшие его характер, и условия, в которых оно происходило. Не было и четкой временной границы между этими двумя этапами.
Можно заметить, что, обещая рассмотреть японскую культуру XVII в. и не затрагивать «„культуру [района] Эдо", особенно в период Гэнроку, с 1688 по 1704 г.», автор дважды отходит от этого обещания — в рассказах о творчестве Мацуо Басё и Тикамацу Мондзаэмона: первый из них в большей мере принадлежал Эдо, чем Киото, второй наибольшую творческую активность проявил как раз в XVIII в. (Тикамацу умер в 1725 г., а свои самые знаменитые пьесы — «Самоубийство влюбленных в Сонэдзаки», «Битвы Коксинга» и «Самоубийство влюбленных на Острове Небесных Сетей» — написал соответственно в 1703, 1715 и 1721 гг.).
Эти отступления не случайны. Во-первых, какой бы концепции общекультурного порядка ни придерживался автор, он не сможет дать адекватного представления об эпохе, если исключит из рассмотрения любого из трех гигантов японской литературы периода Гэнроку — Ихара Сайкаку в прозе, Мацуо Басё в поэзии, Тикамацу Мондзаэмона в драматургии. Во-вторых, перемещение культурного центра в район Эдо не было мгновенным актом: оно началось еще в XVII в. и продолжалось по меньшей мере до второй четверти XVIII в.
Обращает на себя внимание и то, что К. П. Кирквуд в понятие «культура» вкладывает более узкий смысл, чем это принято в нашей литературе. При множестве определений культуры, встречающихся в работах советских исследователей, в них четко выделяются два положения: в широком смысле культура народа понимается как исторически определенный уровень его развития, реализованный в материальных и духовных ценностях и в способе организации жизни людей, в узком смысле — как духовная жизнь народа во всех ее проявлениях.
Кирквуд в понятие культуры включает только высшие ее достижения, выраженные в письменных памятниках, произведениях живописи, музыки и других культурных ценностях, созданных господствующим классом. В результате такого подхода объективно существующая классовость культуры трактуется им
18
как монополизация культуры одним классом и отстранение от культурной жизни другого класса.
Между тем с дописьменных времен в той же Японии не прерывалась традиция самобытной народной культуры в поэзии, музыке, прикладном искусстве и многих других сферах. Именно она сообщала исторически устойчивый характер общеяпонскому культурному комплексу.
Вызывает возражение и представление автора книги о том, что изначально поэзия проникала в Японию из Китая (в древнейшей поэтической антологии японцев «Манъёсю» зафиксированы тысячи стихотворений, созданных еще до эпохи китайских литературных влияний). Нельзя согласиться и с преувеличением роли «морской темы» в древнеяпонской поэзии или с отсылками в этой поэзии к мифическим «традициям первых императоров», с идеей зависимости «голландской школы» в науке от живописи укиё-э, с отнесением этой последней к «непосредственным европейским заимствованиям» и некоторыми другими положениями К. П. Кирквуда.
И наконец, особая проблема — правомерность определения японской культуры XVII в. как ренессансной. Аналогичные определения давали и другие исследователи, характеризуя японскую культуру XVII в., а иногда — более раннего времени. В качестве общего аргумента они выдвигают сходство процессов, происходивших в той или другой сфере культуры Японии и ренессансной Европы.
Академик Н. И. Конрад определял японский Ренессанс как «отраженный» по отношению к китайскому и связывал его с учением дзэн-буддизма 18 (активно распространялось в XII—XIII вв.), драмой Но (XIV—XV вв.) 19 и творчеством Тикамацу. «Высшее достижение ренессансной драматургии в этой части мира, — писал он в статье „Шекспир и его эпоха", — японская драматургия XVII—XVIII вв. . . .В истории драматургии мирового Ренессанса на двух концах мира стоят два имени: Вильям Шекспир и Тикамацу Мондза-
20
эмон» .
Это определение укладывается в рамки концепции К. П. Кирквуда, который фактически соотносит японский Ренессанс по времени с творчеством Ихара Сайкаку, Мацуо Басё и Тикамацу Мондзаэмона — иными словами, с общим подъемом японской культуры в период Гэнроку. Совпадение мнений Н. И. Конрада и автора настоящей книги, несомненно, имеет под собой реальное основание, но это — не полное совпадение. В работах советского ученого говорится главным образом о ренессансных чертах в культуре Японии, проявлявшихся в разное время, а К- П. Кирквуд определяет всю японскую культуру XVII— начала XVIII в. как ренессансную. При этом он шаг за шагом настойчиво подчеркивает японо-европейские соответствия в самых разных областях культуры и общественной жизни. Временами такая тенденциозность обескураживает, потому что допускает возможность уравнять в правах типологически общие черты, случайные совпадения и не вполне корректные толкования малоизвестных фактов.
В связи с этим уместно вспомнить заключение Л. М. Баткина о том, что «сходные признаки в разных культурных системах приобретают разный смысл. . . только по отношению ко всем прочим „признакам", с которыми они связаны генетически и синхронно, по отношению к своей социальной и духовной общности» 21. То же, естественно, относится и к одинаковому смыслу сходных признаков. Этим объясняется существование другого направления в науке; представители его трактуют эти признаки иначе, чем автор книги «Ренессанс в Японии». «Несмотря на ряд общих закономерностей, — пишет,
18 Конрад Н. И. Запад и Восток. М., 1966, с. 267.
19 Там же, с. 290.
20 Там же, с. 289.
21 Баткин Л. М. Тип культуры как историческая целостность. — Вопросы философии. 1969, № 9, с. 105.
2* 19
Ч
в частности, Т. П. Григорьева, — различие эпох Гэнроку и Возрождения настолько велико, что, на наш взгляд, неправомерно называть Гэнроку японским Ренессансом Объективные условия привели Японию к возможности Ренессанса, но эта возможность не стала реальностью, ибо были предпосылки, но не было условий для их развития» 22.
Почему книга К. П. Кирквуда выпущена на Западе вторым изданием почти через сорок лет после того, как она впервые увидела свет? Ведь появились солидные исследования, полнее учитывающие фактический материал, наука накопила новые данные, обогатилась концепциями, освоила новые методики. Армия специалистов в области японской культуры во всех странах увеличилась многократно.
Дело не только в том, что книга «Ренессанс в Японии» отражает большой и очень важный этап в процессе понимания японской культуры и литературы за рубежом (в Европе и Америке), хотя и это весьма существенно как характеристика обеих сторон — воспринимаемой и воспринимающей. Это одна из первых ярких работ о единстве культуры человечества, созданных в пору господства киплинговского «Восток есть Восток и Запад есть Запад». Дело еще и в том, что К. П. Кирквуд, будучи великолепно образован, находил параллели с японским материалом не на библиотечных полках, а в собственном культурном багаже. Это всегда обещает множественность и живость ассоциаций, интересные наблюдения, заинтересованность в восприятии исторического факта. Специалисты и в области культуры ренессансной Европы, и в области позднесредневековой японской культуры неизменно читают эту книгу с большой для себя пользой, тем более что отдельные неточности в ней уже не могут дезориентировать читателя: наука знает достаточно, чтобы уберечь читателя от ошибки.
Необходимые уточнения приведены нами в постраничных примечаниях. Текст издается с незначительными (в общей сложности не более двух страниц) сокращениями, главным образом за счет некоторых повторений.
Книга К- П. Кирквуда очень живо написана и будет с интересом читаться всяким любознательным человеком.
В. Н. Горегляд
Григорьева Т., Логунова В. Японская литература. М., 1964, с. 75.
ПРЕДИСЛОВИЕ
КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ
Второе издание книги Кеннета Кирквуда «Ренессанс в Японии» с одобрением встретят исследователи-гуманитарии. Книга представляет интерес для широкого читателя: для специалистов по истории Японии, для тех, кто изучает взаимоотношения современных западных и незападных цивилизаций, кто исследует общие особенности человеческого общества.
В XVI в. Япония, а вместе с ней и некоторые другие страны познакомились с западной цивилизацией, которая в это время по морским дорогам распространялась по всему земному шару. В XVII в. Япония по-своему ответила на этот натиск Запада. Она сознательно прекратила почти все контакты с Западом, равно как и с Китаем. В то же время она попыталась заморозить все области своей внутренней жизни: политическую, экономическую и культурную. Книга Кеннета Кирквуда представляет собой исследование внутренних аспектов политики Японии в XVII в. Это была одна из наиболее удачных попыток самоизоляции, какую до сих пор предпринимала какая-либо страна. Рассказ Кирквуда о том, что происходило в Японии XVII в., позволяет отчасти понять, почему в XIX в. японцы возобновили контакты с Западом столь же сознательно, как за два с лишним столетия до того порвали их.
Кеннет Кирквуд был превосходным дипломатом, потому что он являлся также ученым и писателем. За тридцать лет своей дипломатической карьеры он объездил весь мир. Он служил в странах с самыми разными культурными и социальными характеристиками. И где бы ему ни приходилось служить, он никогда не довольствовался только поверхностным знакомством с любой из этих стран. Он стремился изучать жизнь народа во всех ее аспектах и изучал ее в историческом плане. Его служба в Японии продолжалась десять лет — необычайно долго для дипломата. Кирквуду требовалось время, потому что западному человеку нелегко понять до конца японский образ жизни. Эта книга является результатом десятилетнего исследования, а Кирквуд обладал проницательностью, что позволило ему сосредоточить внимание на особенно важном периоде долгой и пестрой истории Японии. Каждый, желающий понять современную Японию, найдет книгу Кирквуда о Японии XVII столетия отвечающей этой цели и многое объясняющей.
Арнольд Дж. Тойнби
ПРЕДИСЛОВИЕ
Долгая эпоха Токугава (1603—1867) во многих отношениях является самым значительным и интересным периодом японской истории. Иногда ее расплывчато и неверно называют «периодом Эдо», из-за того что столица сёгуната находилась в Эдо (ныне Токио), но, в сущности, она распадается на два этапа. Первый, приходящийся на XVII в., можно назвать «эпохой Киото», ибо в это время, примерно с 1600 по 1700 г., японская культура достигла наивысшего расцвета в Киото, Осака и близлежащих районах. Этот период и послужит темой нашего обзора. Второй этап, охватывающий в основном XVIII и начало XIX в., с большим правом может быть назван «периодом Эдо», ибо он включает в себя «эпоху Гэнроку» с ее особой культурой, характерной только для Эдо. Однако этот период заслуживает отдельного исследования. Мы же главным образом ограничимся только XVII в. — «эпохой Киото».
Читатель обнаружит, что задача нашего исследования определяется несколькими основными положениями. Вероятно, уместно отметить некоторые из них.
На широком полотне раннетокугавской истории прежде всего будет изображен социальный фон со всеми присущими ему очаровательными красками и впечатляющими особенностями. Кратко будут рассмотрены и экономические отношения, хотя для более подробного знакомства с этим вопросом лучше обратиться к классическому труду Джеймса Мёрдока «История Японии» и великолепной работе Такэкоси Есабуро «Экономические аспекты истории японской цивилизации». В этот период культура аристократии столкнулась с новой, простонародной культурой, оба этих элемента в гармоническом соперничестве и составили общую картину, нарисованную ниже.
На таком социальном фоне будет изображено несколько выдающихся представителей литературы этого периода: в первую очередь поэт Басё, новеллист Сайкаку и драматург Тикамацу, а также некоторые из их менее значительных современников. За пределами Японии в истории литературы им отводится слишком мало места, поскольку не существует полного перевода всех их произведений. Придерживаясь принципов, провозглашенных Тэном в его знаменитой «Истории английской литературы» \ мы попытались понять дух эпохи через изучение ее крупнейших представителей: «Устанавливая преемственность догм или клас
22
сификации стихотворений, становление конституций или видоизменение идиом, мы только расчищаем почву. Подлинная же история появляется только тогда, когда исследователь начинает отчетливо и всеобъемлюще демонстрировать нам в потоке времени живого человека, уставшего от трудов, беспристрастного, приверженного обычаям, с присущими ему голосом и чертами лица, жестами и одеждой, похожего на того, который только что повстречался нам на улице».
Затем мы попытаемся проследить преемственность в развитии новых культурных традиций. Культура движется вперед, но каждый ее значительный представитель связан со своими предшественниками и последователями. В потоке истории одно событие сменяется другим, и, как сказал Теннисон2, «личность увядает, а мир все крепнет и крепнет». Точно так же единство и взаимосвязь наблюдаются в различных, не связанных между собой областях: в религии, живописи, поэзии, музыке, драме, прикладном искусстве. Каждый вид искусства воздействует на другой, и каждый вносит свой вклад в единый поток культуры.
В XVII в. этот поток японской культуры вступил в важный переходный период, когда на смену традиционной аристократической культуре, скованной условностями, но все еще впечатляющей своей возвышенной красотой, пришла культура простого народа, более свободная, более динамичная, более грубая по характеру и по качеству. Pax Tokugawa привел к установлению порядка и объединению страны. Подъем торговых центров и торгового сословия повлек за собой рост благосостояния. Все это в целом и обусловило зарождение гуманистического движения и народных видов искусства и литературы. Это всеобщее пробуждение явилось подлинным ренессансом в японской истории культуры и, в сущности, заложило основы, на которых постепенно выросла современная японская цивилизация.
Наконец, мы покажем, что процессы, происходившие в Японии XVII в., во многих конкретных проявлениях совпадали со сходными процессами в Европе XVI и XVII вв., так что сравнительный анализ аналогичных явлений оказался неизбежен. Рассматривая параллели между событиями на Востоке и на Западе, можно было бы уподобить происходившие процессы тому, как две картины сливаются в едином фокусе, когда смотришь на них через бинокль или стереоскоп. Прибегая к совершенно иному сравнению, можно обнаружить, что обычный, или всеобщий, процесс проявляется в виде двух отдельных линий, в виде аналогий между Западом и Востоком, словно бы мы смотрели сквозь минерал, известный как исландский шпат, который обладает свойством представлять единый предмет в раздвоенном и синхронно смещенном виде.
Какими бы ни были достоинства или недостатки этого пред-
23
варительного обзора, оставляющего вне поля зрения многие примечательные детали раннетокугавского пейзажа, по-видимому, изображение этих синхронных наблюдений представляет некоторую ценность. Метод сравнительного подхода в изучении национальных культур еще не достиг того уровня, как в сравнительном религиоведении или этнологии. Дальнейшее развитие этого интересного направления может содействовать более тесному культурному сближению народов — ut omnes unum sint3 — и явиться мостом через то широкое пространство, которое до сих пор, подобно зияющей пропасти, лежит между западными и восточными цивилизациями, ибо слишком часто считалось, что «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись». Было бы естественным проследить взаимодействие двух культур, обладающих столь многими общими признаками, что мы кратко, хотя и не убедительно, попытались сделать в последней главе. То, что сейчас временно рассматривается как некий необъяснимый Zeitgeist4, проявляющийся почти одновременно на Востоке и на Западе, можно свести к факторам, имеющим общий источник и определяющим направление культурных потоков обеих цивилизаций. Наведение мостов через исторический океан, который скорее разделял, чем связывал две внешне непохожие цивилизации, должно способствовать большему культурному взаимопониманию стран и народов.
Естественно, все концепции и оценки принадлежат только мне: за все ошибки в фактах и интерпретациях ответственность несу один я. Тем не менее мне хотелось бы выразить искреннюю благодарность тем, кто любезно мне помогал и давал советы. Господин С. Кимура из канадского представительства в Токио, профессор Исии Сёси и госпожа С. Кимура из Высшего женского педагогического училища, Сайсё Фумико, бывшая сотрудница канадского представительства, а теперь — Японской радиовещательной корпорации, оказали мне ценную помощь материалами, переводами и критическими замечаниями. Г. Вир Редман, в прошлом — преподаватель Токийского коммерческого университета, а ныне — корреспондент в Японии нескольких ведущих английских и американских газет, сделал наиболее ценные критические замечания, равно как и вдохновил меня на публикацию этого исследования. Мне остается надеяться, что будущие критики, если эта работа вообще того заслуживает, выскажут столь же дружелюбные и конструктивные замечания, неизбежно обнаружив ошибки или неверные суждения. И наконец, мне хотелось бы выразить признательность издательству «Мэйдзи пресс» за квалифицированное сотрудничество в деле подготовки этой книги к печати.
К- П. К.
Токио, 1 августа 1938 г.
«По мере накопления наших знаний, дополнительных фактов и подтверждений тех взглядов на мир и человека, которые сформулировались в XV столетии в результате нового направления исследований, мы все больше и больше убеждаемся, что как не существует прерывистости в естественных природных процессах, так и история цивилизации является сплошной и неделимой В последовательности событий, в становлении человеческой личности нельзя выделить никаких капризов, никаких случайных погрешностей. Одна эпоха сменяется другой, возвышаются и гибнут страны, время от времени в общий поток вливаются новые элементы, состав актеров, принимающих участие в драме, меняется. Однако, несмотря на все перемены и неспособность точно сформулировать закон эволюции, мы абсолютно убеждены, что развитие человеческой энергии и интеллектуального сознания происходит непрерывно, с древнейших времен до настоящего момента, и непрерывность прогресса на протяжении предыдущих столетий была предопределена. Если придерживаться такой теории, то история сразу перестает быть простым перечислением событий, отдельных фактов или блестящих эпизодов в эпопее о человечестве. Мы научились рассматривать ее как биографию человека».
Джон Эддингтон Саймондс.
«Ренессанс в Италии»
I. КИОТО
В середине XVII в. Киото был самым блистательным городом Японии. Двумя веками ранее он соперничал с самим Ханчжоу, который Марко Поло назвал лучшим городом в мире; даже последующие перемены, несколько ослабившие былое великолепие этой изобилующей дворцами императорской столицы, так и не смогли полностью лишить ее величия. Были там и глухие улицы, немощеные и покрытые коркой грязи, и многие тысячи неприглядных деревянных домов, и угнетенный класс, забитый и нищий. Но рядом с этими, присущими любому обществу явлениями была красота просторных парков и изысканных садов, великолепные особняки и дворцы, пестро одетые дамы и господа, важно выступающие воины, одетые в форменные наряды своих хозяев-даймё и снаряженные, как подобает представителям рыцарского сословия — с двумя мечами у пояса. Уже само расположение Киото в долине среди прекрасных зеленых холмов придавало ему очарование и резко отличало от всех столиц того времени. Как почти десятью веками раньше, город оставался блистательным центром богатства, культуры и императорского престижа.
Окруженный холмами город и ныне навевает мечты и сохраняет свое особое обаяние. Много древних обычаев выдержало испытание временем. Как и в токугавскую эпоху, в праздник любования вишнями весной в парке Маруяма собираются толпы народа, чтобы в ночи при свете «огненных корзин» и бесчисленных факелов зачарованно взирать на огромное четырехсотлетнее вишневое дерево. Сад при Самбоине, одном из храмов комплекса Дайгодзи, по-прежнему привлекает людей всех сословий, как и в те времена, когда Хидэёси велел разбить его, чтобы, принимая там вассальных даймё, поражать их воображение и в качестве ответных подарков вымогать у них значительные богатства Даже некоторые цветущие сегодня вишневые и прочие деревья цвели и для аристократов, приходивших туда много веков назад. Толпа на ступенях храма Киёмидзу, возвышающегося у подножия Хигасияма, столь же многочисленна сейчас, как и во времена Тикамацу; оглушительный звон большого колокола в храме Хигаси-Хонгандзи или в Зале Дай-буцу раздается все так же громко, как и в семнадцатом столетии, когда осенью в сумерках или весной на рассвете его слушали мудрецы и ученые в окрестностях дворцов Госё и Нидзё.
26
Как и раньше, сейчас в праздники Аои, Дзидай и Гион люди, одетые в старинные костюмы, блюдут древние обычаи, чтобы о них знало и ими восхищалось нынешнее поколение, по немо-щенным уличам Мияко верхом на несравненных конях тянутся процессии красочно разодетых даймё и их вассалов — самураев.
Сегодня древняя императорская столица Киото, несмотря на обезличивающее влияние современности, еще продолжает хранить традиции, не многим отличающиеся от тех, какие были, скажем, в 1650 г. в Киото, или, как его называли, Мияко, т. е. «Столица». И он действительно принадлежит — даже если не учитывать обычного наследия в виде прочных памятников и глиптических остатков — к городам вневременным и неуничтожаемым; к городам, которые Дж. Рамсей Макдональд назвал «осмысляющими свое прошлое и оглядывающимися на окружающее их поколение с отрешенностью человека, чьи мысли сосредоточены на чем-то постороннем или испытывающего сострадание среди волнующегося, суетного и преходящего мира. Они слишком величественны, чтобы говорить; они лишь задумчиво смотрят и помнят» [49, с. 153]. Даже и в двадцатом веке Киото освящен стариной, висящей над ним, как осенний туман.
Тысячу сто лет в Киото существовали дворцы семидесяти семи императоров. В 794 г., завершив блестящий «Период Нара» и начав период «Хэйан» — «мира», двор переехал сюда из Нара, а в 1868 г., после реставрации императорской власти 2, двор переместился в Токио, сменив рухнувший административный аппарат сегуна. Все это время Киото был сердцем Японской империи, сосредоточив в себе политическое, интеллектуальное, художественное и религиозное наследие великой цивилизации 3. Во многих других отношениях он и сегодня не слишком изменился. Он был и останется почитаемым местом до тех пор, пока каждый японский император возвращается сюда для торжественного вступления на трон. Пребывание в нем императора превратило Киото в город аристократии, двора и придворных — кугэ. Центральную часть его занимали дворцы; украшением дворцовых окрестностей служили особняки даймё и кугэ. В течение тысячелетия Киото был окружен рвом с водой и частоколом 4; на две равные части его разделял прямоугольный проход шириной в двести семьдесят футов. В северной части города находился большой, обнесенный стеной дворец и жилища придворной знати. Девять широких пронумерованных улиц — первая, вторая, третья (Итидзё, Нидзё, Сендзё) — пересекались еще более широкой Тэрамати, начинающейся прямо от дворцовых ворот 5. Ширина города была три мили, а длина немного больше. На окраинах улицы заканчивались
27
мостами и затворами шлюзов. В общих чертах он был копией китайского города Чанъань (Сиань) в провинции Шэньси.
Город живописно расположился на прекрасной маленькой равнине, по которой протекала Камогава, в окружении холмов, покрытых лесами. С массивных холмов, возвышающихся к северу, востоку и западу от города, открывается величественный вид на равнину и отдаленные горы, а также и на окруженные древними парками и великолепными деревьями прекрасные старинные монастыри, которые уютно укрылись в складках долин, рассекающих склоны гор. Один путешественник так описывает их: «Дремлющие среди просторных, солнечных, усыпанных цветами садов, они напоминают прекрасные монастырские владения в Южной Испании, где ведут спокойную монашескую жизнь толпы веселых, сытых братьев с тонзурами» [78, с. 405]. Другой путешественник, рассматривая окруженную холмами столицу, сказал: «Точно так расположена Флоренция среди Тосканских холмов. Но этим сравнение и ограничивается, ибо с вершины Яами или Маруяма не увидишь ни Дуомо, ни Палаццо Веккио, а лишь море пологих крыш с черной черепицей да тут и там рощицу или высокий красный храм, „растолкавший" низенькие дома» [29, т. 2, с. 155].
Расположение, история и культура этого старинного города вызывают в памяти всевозможные сравнения с другими городами древности. Те, кто задумываются над продолжительностью славы императорского правления, говорят о нем как о японском Риме, являвшемся в великую эпоху источником национальной славы и военной мощи в то время, когда сегуны учреждали в нем свою ставку 6. Те, кто восхищается его религиозным прошлым, уподобляют этот город, изобилующий храмами, монастырями и святилищами, иным древним религиозным центрам. Те, кого привлекает пышная, хотя и искусственная придворная жизнь, сравнивают его, как, например, граф Кейзерлинг, с Версалем. Те, кто смотрят на него с позиций искусства и культуры, ставят его рядом с Афинами или Византией, а возможно и с Флоренцией, помня, что именно здесь начался японский Ренессанс XVII в. Может быть, эти сравнения и несколько преувеличены, но все же придется признать, что Киото в феодальную эпоху, по меньшей мере для Японии, был первым среди самых великолепных городов.
В XV в., в правление Асикага, пока многолетние войны не превратили столицу империи в руины, Киото — хотя о нем мало что было известно на Западе — был одним из удивительнейших городов мира. Один из японцев-современников так описывал его: «Конечно, прекраснее всего были здания императорского дворца. Казалось, что их крыши пронзают небо, а переходные галереи касаются облаков. На каждом шагу взору представало
28
величественное сооружение. Ни один поэт или писатель не мог безучастно взирать на эти красоты. Чтобы подчеркнуть очарование искусственных холмов, в парке были искусно посажены плакучие ивы, сливовые и персиковые деревья, сосны. Вокруг озера, на чистой глади которого любовались своими отражениями утки-неразлучницы, были установлены камни в форме китов, спящих тигров, драконов или фениксов. Прекрасные женщины в благоухающих разноцветных одеяниях исполняли неземные мелодии. Строительство сёгунского Цветочного Дворца обошлось в шестьсот тысяч золотых монет. Черепица на его крыше напоминала драгоценные камни или металлы. Описать его невозможно. Во дворце Такакура проживали мать и жена сегуна. Стоимость только одной двери составляла 20 000 золотых монет. В восточной части города находился дворец Карасумару, который в дни своей молодости построил Есимасу. Выглядел он не менее величественно. Далее, на улице Сандзё, находился дворец Фудзивара, в котором родилась мать покойного сегуна. Для его украшения были использованы все возможности человеческого разума. В Хино и Хирохаси находились особняки, в которых проживала мать здравствующего сегуна. Как и многие другие из двадцати семи дворцов, принадлежащих знатным семействам, они изобиловали драгоценными камнями и диковинными предметами. Величественные резиденции были даже у тех, кто избрал своей профессией магию и предсказание судьбы, и у мелких чиновников, вроде письмоводителей. Насчитывалось около двух сотен подобных зданий, целиком построенных из белой сосны и имеющих с четырех сторон ворота с колоннами, причем для лиц низшего ранга в воротах сооружались боковые входы. Кроме того, у сотни крупных и мелких провинциальных феодалов имелись собственные величественные резиденции, так что всего в столице было от шести до семи тысяч прекрасных строений. В самой столице и ее окрестностях находилось множество крупных храмов. Есимицу потребовалось для постройки храма Сёкакудзи в сто раз больше средств, чем на сооружение тринадцати пагод столетием раньше. Увы! Город цветов, который, казалось, выстоит десять тысяч лет, пришел в запустение, стал прибежищем лис и волков. Миром сменяются войны, во все века расцвет следует за расцветом, но трагедия годов Онин (1467 г.) разом уничтожила пути императора и Будды 7. Навсегда была разрушена имперская слава и величие храмов. Верно писал поэт: „Столица подобна вечернему жаворонку. Он взлетает с песней, а опускается со слезами"» [79, с. 412].
В XVI в. Киото отчасти восстановил свое былое величие. Когда Франциск Ксавье посетил Киото в 1551 г., он застал его в состоянии крайнего упадка и, вспоминая о прославленных
29
золотых дворцах, воспетых Марко Поло, покидал его с чувством грустного разочарования. Но при энергичном правлении Нобу-нага 8 порядок и процветание были восстановлены, и к 1585 г. Киото снова превратился в величественный город дворцов, богатства и придворной знати. Когда Тоётоми Хидэёси захватил власть над страной, он перестроил императорский дворец, восстановил храмы, заново проложил улицы и, воздвигнув свой величественный замок Фусими, вновь превратил Киото в подлинную столицу Японии. Снова, как и в правление императора Камму, город процветал и был столь же блистательным, как и в период сёгуната Асикага (1335—1573). Но крупное землетрясение 1596 г. сровняло его с землей, разрушило Большого Будду — Дайбуцу и ослепительный дворец в Фусими и практически уничтожило город. И все же к 1612 г., при сёгунате Токугава, Дайбуцу был восстановлен, столица еще раз возродилась, и, когда немецкий путешественник Энгельберт Кемпфер 9 посетил ее в 1690 г., это был крупнейший культурный центр, в котором сосредоточились самые прекрасные произведения искусства со всей империи.
Вскоре политический центр переместился в Эдо, новую восточную столицу сёгуната, однако на протяжении большей части XVII в. Киото продолжал сохранять исключительное положение в сфере литературы и искусства, ремесел и развлечений. В течение последующих двух с половиной мирных столетий он оставался образцовой столицей и вторым городом империи.
В 1690 г. Кемпфер описывал Мияко следующим образом: «Он находится в очаровательном окружении зеленых гор и холмов, откуда берет начало множество маленьких рек и милых сердцу родников. Восточная часть города вплотную подходит к горам, крутые склоны которых изобилуют храмами, часовнями и прочими религиозными сооружениями. . . По этой части города протекают три мелкие речушки, самая главная и самая большая из них вытекает из озера Оицу 10; две другие стекают с близлежащих гор, и примерно в центре города, там, где все они сливаются в одну реку, имеется большой мост длиною в 200 шагов, который называется Сэнсёнофас ". Оттуда единый поток устремляется на запад...
Дайри со своим августейшим семейством и двором проживает в северной части города, в специальном районе или квартале, занимающем двенадцать-тринадцать улиц и отделенном от города стенами и рвами с водой. В западной части города находится укрепленный замок, возведенный из мягкого песчаника. Он был построен одним из императоров, чтобы обеспечить себе личную безопасность во время гражданских войн; ныне же в нем располагается светский монарх (сёгун), когда прибывает с визитом к Дайри. Максимальная длина его 150 кинов, или морских
30
саженей. Он окружен глубоким рвом, заполненным водой и обнесенным стеной; а за этим рвом находится широкое пустое пространство или сухой ров. В центре замка возвышается многоэтажная башня, как обычно квадратной формы. Ров используется для разведения редкой породы карпов, которых сегодня вечером подарили нашему переводчику. Замок охраняется небольшим сторожевым отрядом под командованием капитана. Улицы узкие, но прямые, одни тянутся на юг, а другие — на восток. Когда стоишь на одном конце главной улицы, узреть другой конец невозможно из-за необычайной ее длины, пыли и множества людей, целый день ее заполняющих. Дома там, вообще говоря, маленькие, не выше двух этажей, построены из дерева, известняка и глины, как принято в этой стране, а крыши покрыты щепой. На крышах домов всегда лежат наготове деревянные корыта с водой и необходимые для тушения пожаров инструменты». В это время, согласно приводимой Кемпфером официальной переписи населения 12, в Киото было 137 дворцов и домов, принадлежащих императорской семье и крупным феодалам, 138 979 жилых домов, 3893 буддийских храма и 2127 синтоистских храмов или святилищ; в столице проживало 52 169 духовных лиц и 477 577 мирян, «не считая бесчисленных визитеров, прибывающих сюда изо всех концов империи» и «всего двора Дайри, то есть Духовного наследственного императора, о котором нельзя получить никаких сведений» [39, с. 485—487].
Придворная культура
Свое наиболее яркое воплощение японская культура получила в Киото, подобно тому как культурная эпоха Людовика XIV — в Версале и Париже. «Между ними много общего, — заявил в 1911 г. лорд Редесдейл. — Мне кажется возможным предположить, что в атмосфере того периода было что-то таинственное, неуловимое, как аромат духов, который ощущаешь, но не можешь передать словами; поэтому вполне возможно представить Людовика Святого на месте в обстановке целомудренно-аскетической простоты императорского двора в Киото, а какого-нибудь древнего микадо, окруженного придворными аристократами — кугэ, принимающим с королевским величием мантию европейского монарха. Нигде божественность монарха не была столь общепризнанной, как в Японии. Император там был не просто царственной особой — он был божеством» [61, с. 201]. Великолепие эпохи Людовика XIV можно передать такой пышной картиной: в центре сам Людовик, король-солнце, а вокруг вращаются сверкающие созвездия
31
в виде рыцарей, государственных деятелей и поэтов, прославляющих его правление. В описываемый нами период подобная картина наблюдалась и в Японии, однако, существовало одно важное отличие. Культура Японии в этот период в некоторой мере рассредоточилась по трем городам: Киото, Осака и Эдо, ее развитию способствовала аристократия как из императорского дворца, так и из ставки сегуна, в то время как во Франции Версаль являлся почти единственным и главным источником французской культуры, а Людовик XIV оказывал гораздо большее непосредственное влияние на ее развитие, чем какой-либо японский император 13.
Но тем не менее следует подчеркнуть роль императорского двора, который тоже отчасти являлся вдохновителем искусства и культуры, процветавших во времена феодализма. Двор был меценатом, придворные аристократы — благородными покровителями. Художники, поэты, архитекторы, ремесленники стекались ко дверцам, чтобы, демонстрируя свои таланты и мастерство, засвидетельствовать свое почтение. Они преумножали роскошь придворной жизни. У каждого был свой меценат. Расточительность и выставленная напоказ изысканность, столь совершенно изображенные в «Гэндзи-моногатари» 14 и дневниках придворных дам X в., пережили столетия и в XVII в. по-прежнему были типичным явлением. Художники соперничали друг с другом за право на признание, желая угодить обоим дворам, а с 1615 г., когда сёгунский двор отряхнул со стоп своих золотую пыль Киото, — одному императорскому двору 15.
Кемпфер писал: «Все придворные дайри, [или „истинного" императора], принадлежат к семейству Тэндзё Дайдзина, и, будучи столь знатными и известными от рождения, они считают себя более достойными уважения и почтения, чем того могут требовать к себе обычные люди. Хотя все они и происходят из одного рода и в настоящее время их насчитывается несколько тысяч и подразделяют их на несколько категорий по рангам. Часть из них становится настоятелями и первосвященниками богатых монастырей, разбросанных по всей империи. Большинство же остается при дворе и безмерно предано самому священному лицу — дайри, поддержкой и защитой которого они пользуются в зависимости от положения или ранга, которым они облечены. . . Но все же они сохраняют свое былое величие и достоинство, и об этом дворе вернее всего будет сказать, что при всей своей скромности он очарователен. . . Хотя доход Микадо и невелик по сравнению с прежними временами, пока он еще им распоряжается, то наверняка в первую очередь заботится о самом себе и делает все для того, чтобы сохранить былое великолепие и наслаждаться богатством и роскошью. . .
Основными развлечениями Священного двора являются
32
интеллектуальные занятия. Не только придворные-/о/гэ, но и многие представительницы прекрасного пола снискали известность своими поэтическими, историческими и прочими сочинениями. Прежде все календари составлялись при дворе, но теперь в Мияко есть образованный горожанин, который этим занимается. Однако их необходимо представлять двору для проверки и одобрения специальными людьми, которые потом обеспечивают их отправку в святилище в Исэ для печатания. Они большие поклонники музыки, с особым мастерством на всевозможных музыкальных инструментах играют женщины. Молодые придворные развлекаются, демонстрируя свои способности в верховой езде, беге наперегонки, танцах, борьбе, игре в мяч и прочих упражнениях. Я не спрашивал, разыгрываются лй; при дворе драматические представления, но так как все японцы любят театр и тратят на него солидные суммы, я склонен думать, что и священные особы, несмотря на их важность и святость, должно быть, не пренебрегают столь приятным, увлекательным и притом невинным развлечением» [39, с. 151 — 154].
Наряду с влиянием императорского двора сильным было духовное влияние аристократического буддизма, который в этот период процветал бок о бок с национальной религией — синто. Синтоистские и буддийские священники часто отправляли службу в одном и том же храме. Всего действовало около 3 тыс. буддийских храмов и синтоистских святилищ. Теперь их осталось только 1400 16. Это было странное сочетание: аскетизм, строгость и простота синтоизма и восточная экзотическая красота буддизма. Под внешне утонченной и безупречной японской оболочкой были глубоко скрыты подлинный вкус и стремление к почти чувственной культуре. «В сущности, буддийский храм является прекрасной иллюстрацией замаскированной чувственности, таящейся в японцах, при почти аскетической синтоистской оболочке и экстерьере, но с восхитительным, роскошным интерьером, чудесами цвета и формы, изобилием украшений: алтари, смущающие обилием золота и бронзы, шелковые ширмы, разукрашенные вышитыми иероглифами, бронзовые светильники, золоченые колокола, покрытые великолепным лаком и золотом деревянные изделия, курильницы для благовоний, высокие золотые цветы лотоса, вазы с перегородчатой эмалью на подставках рубинового цвета». Точно так же средневековая церковь в Европе скрывала великолепие роскошных украшений и убранств под личиной внешней благочестивости и аскетизма монашеской жизни.
Буддизм, как и двор, содействовал развитию драмы, поэтических состязаний, художественной литературы, философии, а позднее и исторической науки. Почти на всех художествен-
3 Заказ 1438
33
ных творениях ремесленников лежит отпечаток буддизма; он породил уникальное искусство художественной разбивки садов; отливались колокола, не имевшие себе равных по размеру, чистоте звучания и форме; появились музыкальные инструменты и нотная грамота. В Киото возникли и по сей день процветают искусство аранжировки цветов и чайная церемония. Танцы Но и театр Но и ныне сохраняют свое былое великолепие, хотя большинству они уже непонятны 17.
«Культурное влияние [всего этого] не поддается оценке. Несомненно, оно в некоторой степени смягчило жестокие и почти варварские системы синто и бусидо, и ему японцы обязаны теми национальными чертами, которые теперь вызывают у нас восхищение» [60, с. 222].
В 1603 г. закончился долгий период политической борьбы между соперничающими группировками. Во главе сёгуната, облачившись в тогу верховного главнокомандующего или «вождя», встал Токугава Иэясу. Его вступление после длительной борьбы на этот пост положило начало эпохе династийного правления дома Токугава, которой было суждено растянуться на двести шестьдесят пять лет. Следуя совету, который двадцатью пятью годами раньше дал ему Хидэёси, он решил перенести военную ставку своего правительства — бакуфу в новую столицу, Эдо, ныне Токио, оставив праздного императора духовным главой государства в его киотоских дворцах. В Эдо Иэясу построил укрепленный и великолепный замок, который позднее послужил основой для современного императорского дворца. Туда приезжали его вассалы; там находилось его военное правительство; туда прибывали лояльные даймё со своими самураями, чтобы выразить почтение и повиновение, а возвращаясь в свои владения, оставляли в Эдо семьи в качестве заложников. Там, вскоре после 1600 г., английский лоцман Уильям Адаме «выполнил свой долг» перед Иэясу 18, за что был удостоен самурайских почестей и привилегий и стал частным советником сегуна. Туда приезжали с визитами миссионеры-иезуиты и излагали свои просьбы. Там в 1616 г. побывал английский фактор Кокс, а в 1690-м нанес визит немецкий посланник Кемпфер. И там в середине XIX в. коммодор Перри постучал в ворота сёгунской столицы (которая вскоре будет переименована в Токио), требуя от Японии начать торговлю с западными странами, и окончательно прорвал двухвековую изоляцию островной империи.
Но после перемещения столицы в Эдо в отличие от прежних столиц империи Киото не пришел в упадок. Он оставался городом трона, равно как и центром культуры. Все искренне верили, что правящий дом облечен властью с незапамятных времен и происходит прямо от бога. И в эпоху феодализма,
34
когда претенденты на пост сегуна вели междоусобные войны друг с другом, и в последующий период Киото всегда был источником пылкого патриотизма. Сегуны, особенно из дома Токугава, подчеркивали святость императора, тем самым повышая его роль в представлении народа, а позднее стимулируя возродившийся в XIX в. патриотизм. Поддерживалась мысль, что император должен царствовать, но не править, ибо сегуны, премьер-министры Фудзивара 19 и регент Хидэёси в течение более тысячи лет правили от имени императора. Гражданские же войны велись ради «охраны государя». Но и в праздности он оставался императором, священным и божественным; а Киото, место его пребывания, не мог забыть о его славе и том верховном положении, которое он занимал как потомок Дзимму-тэнно, основателя Японской империи.
В Киото императора окружали верноподданные, придворные, значительная часть кугэ и прочие консервативные представители старого режима. Там все еще сохранялась преторианская гвардия; а также классические ученые, мудрецы и философы, поэты и художники, черпающие свое вдохновение у старых китайских мастеров. Киото оставался по-прежнему Афинами японской культуры.
В данном исследовании мы в основном будем говорить о Киото, каким он был в XVII в. Но между уходящим классицизмом, пустившим глубокие корни на древней почве Киото, и расцветом эпохи Гэнроку, а также более поздней культурой Эдо XVIII в. существовал переходный период. В культурном отношении это был переход от более старых стилей к новым. То был период постепенного перемещения литературы и искусства из Западной столицы империи в Восточную столицу сёгуната — Эдо. В основном это обусловливалось экономическими факторами, и роль посредника сыграл новый торговый центр — Осака. В XVII в. в жилах Киото забурлили новые соки, появились новые побеги и распустилась новая листва. Плоды культуры завязались в Киото и Осака, а окончательно созрели в период Эдо, в XVIII в.
II. КЛАССИЧЕСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ И АРИСТОКРАТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
Одной из характерных черт европейского Раннего Ренессанса принято считать возрождение учености. Но произошло не только возрождение наук; начались поиски утраченного времени, изучение сокровищ прошлого. Классическую литературу никогда не забывали полностью даже в самые мрачные времена. В монастырях поддерживался слабо мерцающий огонь знания древних языков и наук. Но по ряду причин впоследствии этот огонек разгорелся ярким пламенем, которому суждено было осветить весь континент. Светская знать восприняла схоластику, вышедшую за стены монастырей и церковных школ. Увеличивалось число школ; было изобретено книгопечатание; рост торговли повсюду стимулировал жажду знаний. Знатные покровители помогали ученым, поощряли научные изыскания, создавали библиотеки. Следом за возвращающимися крестоносцами из Константинополя в Западную Европу прибывали греческие ученые. Они преподавали в Италии и зажгли новые факелы, пробудившие интерес к науке. Данте ввел в литературное обращение разговорный язык; Петрарка способствовал его распространению; Валла начал использовать только что изобретенный печатный станок; Лютер и Эразм Роттердамский подвергли пересмотру ряд древних теологических учений; Декарт, Лейбниц, Локк и Ньютон приступили к изучению древних теорий и обновили их в области философии, политики и науки. У северных народов Ренессанс не только пробудил интерес к прошлому и страстное желание применять во всех сферах новые научные методы, но они восприняли его серьезнее и с большей практичностью, чем это было в Италии. Исследования и наука не являлись для них самоцелью или средством для достижения личной славы, а были поставлены на службу насущным практическим нуждам и отвечали запросам народа. Самым ярким представителем этой тенденции и крупнейшим ученым эпохи Возрождения был Эразм (1446—1563) '.
Давайте теперь обратимся к Японии и посмотрим, что там происходило в это время. В период Муромати, на протяжении более столетия, в Японию вновь начали проникать или просачиваться китайская наука, искусство, культура и обычаи. Подобно греческим ученым в Европе, китайские ученые прибывали
36
в Японию, а японские ученые, возвращаясь из поездки в Китай, знакомили Киото с сунской или минской культурой. Затем, в период недолгого правления Хидэёси, наступило культурное междуцарствие. Во многом Хидэёси поощрял культурную традицию: любование цветами, чайные церемонии и подобные виды искусства, но еще сильнее он потворствовал тому, что можно назвать варварским разгулом крикливого, необузданного и яркого украшательства. К этому страна еще не была готова, и поэтому после его смерти первый сёгун дома Токугава поторопился восстановить безмятежное спокойствие, спартанскую строгость эпохи Асикага (или Муромати). Но, несмотря на то что в некоторых вопросах Иэясу был великим созидателем-новатором, в целом он оставался консерватором и реакционером.
Обращение к прошлому проявилось прежде всего в области религии и этики; несколько позже в деятельности выдающихся представителей науки и литературы; в области образования; затем в живописи и искусстве, и наконец — на театральной сцене.
Когда в 794 г. император Камму перенес столицу в Киото (а тогда это была ничем не примечательная деревушка Уда) и заложил новый город, он построил его, как уже говорилось выше, по плану китайского города Сиань (или Чанъань, т. е. «Длительный мир») в провинции Шэньси. . .
Подражание китайскому образцу оказалось символичным. В течение последующего тысячелетия японцы в жизни и в культуре черпали вдохновение из китайских источников и подражали им.
Правда, в 894 г. контакты с Китаем были прерваны. Прекращение контактов способствовало развитию национального духа, и в период Хэйан, с 894 по 1185 г., Япония начала ассимилировать континентальную культуру, ввезенную за три предыдущих столетия. В последующий период Камакура, с 1186 по 1333 г., Япония возобновила торговлю с сунским Китаем и продолжала оттуда черпать вдохновение. В Камакура находилась ставка военного правителя; чтобы противостоять феодальной грубости, в Японию была завезена буддийская секта дзэн 2. Искусство эпохи Камакура нашло вдохновение в новом религиозном движении, совмещая его с реализмом воинского духа.
Длительный последующий период Муромати, продолжавшийся до 1573 г., ознаменовался правлением новых сегунов Асикага. Сёгунское правительство разместилось в Киото, бок о бок с императорским дворцом. Под влиянием китайских традиций произошел новый подъем японской культуры, и Киото снова превратился в культурный центр страны. Это было время расцвета Раннего Ренессанса в Италии; впервые европейские веяния достигли и Японии. Да отчасти и для самих японцев насту
37
пила короткая эпоха мореплавания и контактов с чужими странами. Но вскоре японцы отгородились от мира. Монголы захватили Китай (1260 г.), но их вклад в культуру был невелик, ибо созданная ими примитивная цивилизация Золотой Орды была цивилизацией тундры и степей. В 1368 г. монголов изгнали и на трон вступил первый император династии Мин. Первая половина правления минской династии в культурном отношении мало чем отличалась от сунской династии, а в конце XV в. и она пришла в упадок. Третий сёгун дома Асикага был современником первого минского императора, и при нем поддерживались тесные связи с континентальным Китаем. Но не у династии Мин и не у классического искусства и культуры династии Сун черпала эпоха Асикага все свое вдохновение. Учение секты дзэн, оказавшее влияние на все сферы жизни камакурских воинов, вызрело в философию, как отмечает Биньон, в монастырях во время уединенных размышлений и теперь заново расцвело в виде эстетических теорий. Так, почти все художники периода Асикага были монахами или священниками. Это время можно было бы назвать ранним китайским Ренессансом в Японии, который по времени совпадает с греческим Ренессансом в Италии.
За ним последовал короткий, но важный период Момояма (1574—1614) — время междуцарствия. Он ознаменовался войнами и разрухой. «По мере того как слабела власть дома Асикага, росла мощь феодальных князей. Сосед воевал с соседом; войны не прекращались, страна была опустошена, никто не чувствовал себя в безопасности. Некогда величественный город Киото лежал наполовину в развалинах. Улицы поросли травой. В окрестностях дворца простолюдины готовили чай, а для придворных дам наступили безрадостные, тусклые дни. Сам император с трудом сводил концы с концами, торгуя своими автографами» [4, с. 192]. Вначале место семейства Асикага занял Ода Нобунага, но вскоре его сменил «японский Наполеон» — мужественный воин Тоётоми Хидэёси. После вторжения Хидэёси в 1592 и 1598 гг. в Корею контакты с континентом оживились и суровая простота вкусов Асикага сменилась модой на китайский стиль эпохи Мин, красочный, декоративный, яркий, преисполненный внушительного величия. Хидэёси не знал ни дзэн, ни утонченных классических форм. Он был крестьянином и парвеню, любил все пышное, цветистое и величественное. Его так привлекали помпезность и роскошь, что однажды, давая банкет на открытом воздухе, он приказал установить на многие мили вдоль всей дороги красочные ширмы. Подражая ему, и даймё жаждали эффектного великолепия, яркости красок. Некоторые отличались такой безудержностью и расточительностью, что приказывали в один день построить дворец и укра-
38
сить его. Это был короткий период кичливости и претенциозной экзотики, богатых украшений и показного величия, впрочем, не лишенный всеобъемлющей и впечатляющей красоты. В некоторых отношениях период Момояма (т. е. «Персикового Холма»), который получил такое название из-за местонахождения одного из изящных дворцов Хидэёси близ Киото, и по времени, и по духу полностью соответствовал эпохе барокко, которая началась во всей Европе в XVI в.
Но с падением в 1615 г. дома Тоётоми Хидэёси и переходом реальной административной власти к Иэясу3 правительство Токугава попыталось восстановить простое изящество периода Асикага. Сам Иэясу был человеком простых нравов и трезвых взглядов и стремился личным примером и предписаниями изменить вкусы своего времени. Поэтому в XVII в. сёгунат дал новый толчок развитию китайской науки, и как Европа в эпоху Ренессанса обратилась к эллинским корням европейской культуры, так и Япония в это время снова начала черпать вдохновение из более ранних и более чистых китайских художественных источников.
КОНФУЦИАНСКОЕ ВЛИЯНИЕ
Из Индии буддизм проник в Китай, из Китая — в Корею и либо прямо из Китая, либо через Корею в VI—VIII вв. достиг Японии. Великолепным центром раннебуддийского искусства стал город Нара. Более формализованный этический кодекс конфуцианства также проникал в Японию из разных источников и разными путями, в значительной мере благодаря японским послам и монахам, которые постоянно наносили визиты в Поднебесную империю.
После установления токугавского сёгуната (первые годы — в Киото, а позднее — в Эдо) конфуцианское учение, по-видимому, было крайне удобным для управления страной, еще не оправившейся от гражданских войн, и для поддержания порядка и дисциплины, гарантирующих сёгунату безопасность. Учение Конфуция устраивало и светских правителей, и практичных подданных. Оно было учением абсолютно гуманным, исключительно интеллектуальным и приспособленным для общественных нужд. В нем не было ни метафизики, ни мистицизма, которые с трудом укладывались в сознании реалистичных японцев. И в то же время в нем было больше благородства, чем в обычном практическом моральном кодексе. Это было учение «о здравом смысле применительно к жизни, признающее разум единственным проводником как в духовных, так и в интеллектуальных вопросах, не позволяющим нам сбиться с пути. В этом отношении Конфуций стоит в одном ряду с Сократом,
39
Аристотелем, Эпикуром и Сенекой. По дороге к Монтеню к нему присоединяется Декарт, а на пути к Локку, Монтескье и Вольтеру— Гёте и Огюст Конт» [33, с. 119].
Конфуцию не хватало проницательности, необходимой для прогресса или духовного возрождения общества: «Все звезды в небе светили у него за спиной, а впереди не было ни одной, ярко его манящей». Но в основе его учения лежали правильные принципы и правильное поведение. Апеллируя к прошлому, оно в то же время было применимо и к настоящему: если весь свет, вся мудрость исходят от предков, то унаследованным от них определяется поведение ныне живущих. Богатства покойников, оставленные ими человечеству, становятся достоянием живых. Основой общества считалась сыновняя почтительность, поэтому предписывалось свято сохранять местные культы и обряды. «Существовала священная связь между уважением и взаимозависимостью, объединяющая всех людей, как живых, так и мертвых. Мертвые заслуживают почитания и благоговения, живые — достойного обхождения и учтивости. Вежливость — это не бессодержательный внешний этикет, а долг уважения к нашим согражданам и в то же время — инстинктивный порыв ума, сознающего свою человечность. Совершенное поведение человека проявляется через эту учтивость, совершенное владение телом выражается в постоянной почтительности и улыбке на лице, в неизменно любезных и обдуманных словах. Это постоянное совершенствование поведения требует столько же самоконтроля и мужества, сколько любезности и обаяния оно привносит в человеческие взаимоотношения» [33, с. 119; 62, с. 143—149].
Конфуцианство было учением светским и практическим. Ему были чужды погоня за духовными ценностями, мистицизм. «Если ты не можешь служить людям, — однажды, отвечая на вопрос Цзе-лу, сказал Конфуций, — как же ты сможешь служить духам?» Его «многозначительное молчание» в ответ на вопрос о том, продолжают ли существовать умершие, считали выражением и скептицизма и безразличия. «Если ты не знаешь жизни, — сказал он тому же ученику, — что ты можешь знать о смерти?» Известный ученый Джеймс Легг говорил о нем: «Он верил в человека, человека, предназначенного для общества, но его не волновало, чем тот занимается вне общества, и он не предписывал, как ему следует себя вести в расчете на будущее. За добро и зло человеку рано или поздно воздается, если не ему самому, то его потомкам».
Такая теория идеально подходила для великодушного, хотя и спартанского правления токугавского сёгуната. По обе стороны от нее, подобно двум контрфорсам, высились еще две системы. С одной стороны (в первую очередь для военного
40
сословия) находились более практические законы и ритуалы культа предков: синтоизм и кодекс бусидо. С другой стороны (особенно для профессиональных священнослужителей) стояла буддийская теология и культ, вылившиеся в форму почтительного и созерцательного учения секты дзэн. В своих лучших проявлениях эти два кодекса обеспечивали государственных деятелей особенно удобной квазирелигией, как для высших, так и для низших сословий. В теории, а возможно и на практике, такая система была для феодальной эпохи идеальной.
При рассмотрении раннетокугавского периода всегда следует учитывать квазирелигиозный характер административной власти, потому что именно здесь началась первая фаза культурного возрождения. Поиски в Китае ключей к мудрому решению политических проблем и инструкций к действию — у китайского мудреца, который жил за пять веков до Христа, был современником персидского царя Дария, пророков Захарии и Аггея и римского консула Брута, — послужили для Японии, как уже говорилось, толчком к возрождению классических идеалов, толчком столь же значительным, как возврат в итальянских республиках к древнегреческим идеалам. Мы увидим, как на этом новом фундаменте в правление дома Токугава началось возрождение классической культуры и как, в свою очередь, это возрождение, изжив себя, уступило место зарождающимся новым и более сильным культурным движениям.
В то же время, когда первые токугавские сегуны навязывали нации строгие конфуцианские принципы, аналогичные процессы в религиозной и политической сферах происходили и в Англии. Иэясу верил в благотворное и сдерживающее влияние довольно аскетической веры, проповедующей самоконтроль и правильное поведение. Точно так и Кромвель поощрял пуританство, рассчитывая на его строгость. Оба учения совмещали в себе религиозную доктрину, кодекс поведения и политическую систему. В обоих учениях акцент делался на поведение. Если отбросить различия, то мы обнаружим интересную параллель. «По пуританской теории, — сообщает нам английский историк Джон Ричард Грин, — англичане считались „господним народом", народом, давшим торжественный обет посвятить себя служению богу, и целью всей нации было осуществление божественной воли. Для достижения такой цели было необходимо, чтобы как правители, так и народ были „благочестивыми людьми". Благочестие стало главным обязательным признаком служения обществу. При новой перестройке армии ее ряды пополнялись „святыми". Парламент решил принимать в свои члены только тех, „чье подлинное благочестие будет несомненным". . . На столе в Палате Общин лежала Библия, и содержащиеся в ней запреты на богохульство, пьянство
41
и прелюбодеяние стали законом для страны. Чтобы объявить прелюбодеяние уголовным преступлением, не потребовалось даже прибегать к помощи церкви. Картины, сюжеты которых противоречили новым принципам благопристойности, было приказано сжечь, а статуи были безжалостно разбиты во имя приличия. Свой гнев пуританство перенесло из сферы общественной жизни в частную. Обет связывал не только всю нацию, но и каждого отдельного члена нации с „ревнивым богом". . . Лишенное поэзии и фантазии, пуританство объявило суевериями половину английских народных обычаев. Праздновать Рождество или покрывать дом падубом и плющом считалось суеверием. Суеверием считалось танцевать в деревне вокруг „майского дерева". Явным признаком папизма считалось есть сладкие пирожки. Спортивные состязания, радости и забавы „веселой Англии" оказались вне закона в стране, гордо так себя величавшей. Травля собаками быков и медведей, конные бега, петушиные бои, деревенские развлечения, танцы на деревенском лугу были упразднены с той же неразборчивой суровостью. Длительная борьба между пуританами и драматургами закончилась закрытием всех театров» [27, т. 2, с. 568].
Хотя первые пять токугавских сегунов делали меньший упор на доисторический и религиозный аспект доктрины, анналы свидетельствуют, что они также стремились ввести строгий моральный кодекс и ограничить разгул страстей или народные развлечения низменного характера. Издаваемыми время от времени в Эдо указами запрещались некоторые слишком вольные развлечения, ослабляющие национальный и верноподданнический дух, и были они столь же суровыми, как и в Англии. Место Библии занимало Пятикнижие и Учение Мудрецов с его моральными и этическими предписаниями. В официальных учреждениях для назначения на административные посты бакуфу, равно как и в частной жизни, требовалось обязательное и беспрекословное следование конфуцианскому учению.
КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
Конфуцианскому учению, первоначально ввезенному из Китая, было суждено оказать сильное влияние как на культурную, так и на политическую и общественную жизнь высших сословий токугавской эпохи. Возврат к конфуцианству и его видоизменение неизбежно сопровождались пересмотром древних философских систем с целью выявления их практической полезности и возможностей их применения. Это обращение к древности совпало с религиозной переориентацией и было от нее неотделимо. Мы увидим, как по-разному проявлялась тенденция
42
оглядываться в прошлое и извлекать оттуда все, что могло отвечать современным задачам и нуждам правительства и общества.
Одной из отличительных черт классического Возрождения было восстановление древних памятников и содержащихся в них коллекций, их критическое изучение и копирование. Накопление в библиотеках знати редких рукописей было, как отмечал Саймондс, одним из трех признаков итальянского Ренессанса. Равно и в Японии не только священники ездили в Китай и привозили с собой редкие сочинения китайских классиков, книги по философии, буддийской и конфуцианской, которые позднее критически изучали японские синологи, делали к ним комментарии и горячо их обсуждали, но также были воскрешены и древние японские классические сочинения. Архаические «Записи о делах древности» («Кодзики»), составленные в 712 г., и написанные всего через восемь лет после этого «Анналы Японии» («Нихонги») излагали древнюю японскую мифологию, подобно тому как греческие классические авторы пересказывали легенды и мифы Средиземноморья. На эти древние сочинения почти тысячу лет не обращали внимания, и только в XVII в. они были напечатаны набором (1644 г.), изучены и прокомментированы новой школой литературных критиков и историков 4. Наряду с другими учеными Камо Мабути и Мотоори Норинага5 попытались оживить национальный культ синто, изучению которого были посвящены их труды Написанный Мотоори «Кодзики-дэн» («Комментарий к Кодзики») состоял из 44 томов, в которых более современным языком и применительно к новым временам разъяснялась философия и мифология этих древних произведений.
Сам Иэясу, подобно флорентийским Медичи, последние годы своей жизни посвятил собиранию древних рукописей и поощрял их изучение. В своем имении в Сидзуока он создал одну из самых богатых библиотек, когда-либо существовавших в Японии. По его завещанию японскую часть этой библиотеки унаследовал его восьмой сын, феодальный князь провинции Овари, а китайскую — его девятый сын, принц Кисю. Под покровительством первого его вассалами было создано два обладающих значительными достоинствами сочинения, в которых рассказывалось о древних церемониях и дополнялась «Нихонги». Но еще более достойна внимания библиотека, основанная внуком Иэясу, феодальным князем провинции Мито (1662—1700), который не только собрал огромное количество книг, ранее рассеянных по синтоистским и буддийским храмам и частным коллекциям, но также привлек ряд ученых к составлению не имеющей себе равных истории — «Дай Нихон-си» в 240 томах.
43
ВЛИЯНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЛИЧНОСТЕЙ
Важным фактором, способствовавшим усвоению и поощрению конфуцианских исследований и классической традиции, было влияние отдельных правителей.
В конце XVI в. императором был Гоёдзэй-тэнно (1586— 1611) 6 — большой покровитель науки и книголюб. В 1588 г. на только что привезенных из Кореи печатных станках с подвижным деревянным шрифтом было напечатано сочинение, называющееся «Кинсю-дан» 7. Вскоре после этого он приказал издать еще два тома исторического исследования «Дзиндай-маки», к которому сам написал предисловие, где утверждал, что синто — основа всякой морали, конфуцианство — ветви и листья, а буддизм — ее плод. По его указанию было напечатано много и других книг по конфуцианской философии, включая труды основателя этого учения: «Великое учение» («Да сюе»), «Всеобщие принципы этики» («Чжун-юн»), «Беседы и суждения» («Лунь-юй»), «Мэн-цзы», а позднее — «Тёгонка» и «Лютня» Бо Цзюйи 8. Его познания в китайской литературе были обширными, необычайно сведущим был он и в буддизме. Когда в 1606 г. во дворец прибыл знаменитый монах Нангэ-дзэндзи и услышал рассуждения его величества о дзэнской философии, он присвоил императору титул кощеи (учитель страны) — высочайший, какого только может достичь буддийский священник. При дворе император часто толковал японские классические книги и наставлял князей и аристократов, изучающих эти книги и комментарии к ним. О нем также рассказывается, что «он был библиофилом, но при этом — более достойным, чем подчас бывают такие люди. Известно, что когда он взял у Мётиин-осё очень редкую рукопись „Сёряку-ин", написанную Тисё-дайси, то вернул ее по прошествии месяца, добавив в качестве подарка три слитка серебра» [63, с. 312].
Если император оказывал благоприятное влияние на придворные круги, то еще более сильным было влияние здравомыслящего сегуна Иэясу, хотя он и признавался Хонда Масанобу 9: «Когда я был молод, то слишком много занимался военным делом, на учебу же времени не оставалось, и вот поэтому на старости лет я довольно невежествен». Будучи человеком неэмоциональным, Иэясу не особенно интересовался поэзией, и, когда ему приходилось присутствовать на поэтическом состязании, стихи за него обычно писал какой-нибудь ученый. Но он страстно интересовался историей и литературой практического или информативного характера. Эту страсть унаследовали его сыновья Еринобу и Есинао, его внуки Мицукуни, ставший крупным ученым, и Масаюки Хосина, сын Хидэтада. За год до битвы при Сэкигахара (1600 г.) он передал ученому Гэнтэцу
44
Санъё, стоявшему во главе университета Асикага, несколько десятков тысяч китайских наборных литер, ив 1601 г. тот напечатал классическое китайское сочинение по военной стратегии, а в 1606 г. — «Адзума кагами», японское историческое сочинение периода Камакура. В 1613 г. Иэясу приказал крупнейшему конфуцианскому ученому Хаяси Радзан сделать сокращенный вариант этого произведения и внимательно его читал в свободные минуты в перерывах между боевыми действиями.
Примерно в это время начались разногласия между представителями различных школ: между завезенной из Китая школой Тэйсю — связанной с именами сунских философов XI— XII вв. Чжу Си и братьев Чэн — и аскетическими идеалами буддизма 10. Иэясу внимательно следил за их диспутами и, отказываясь принять чью-либо сторону, по возможности стремился использовать обе школы. Он обожал литературные дискуссии, равно как и споры о буддийской философии, и рассказывают, что одним из его излюбленных развлечений было собирать вместе несколько образованных священников и устраивать между ними споры. Эти дискуссии затягивались надолго, ибо об одной из них сообщается, что она продолжалась с восьми часов вечера до двух часов ночи. Для самих участников они были довольно выгодны: в одном случае мы узнаем о подарках в 100 коку риса, а в другом — в 100 серебряных монет, не говоря уже о платьях, которыми одаривали их после окончания споров. Об одном таком мероприятии в дневнике того времени записано: «В 8-й день 5-го месяца 1613 года собрались Хино Юйсин, Минасэ, Иссай, Асукай Масацунэ, Рэйдзэй Самми Тамэмицу, Цутимикадо Саманосукэ Хисанобу и Фунабаси-си-кибу-сёю Хидэката, беседовали о китайской философии и буддизме и при этом лакомились журавлиным супом» [63, с. 308]. В такой компании ученых, принадлежавших к придворной аристократии, сёгун привык беспристрастно выслушивать представителей соперничающих школ и заимствовать у них все, что могло пригодиться для управления страной. Позднее он санкционировал издание канонических буддийских сочинений для раздачи их храмам. Но в конце концов он отдал предпочтение конфуцианской школе Тэйсю, суть которой выражалась фразой: Тю ко дзин га рэй та сан («Лояльность, сыновняя почтительность, человечность, справедливость, учтивость, знание, искренность»), и это учение превратилось в официальную идеологию токугавского сёгуната.
В числе профессиональных советников Иэясу был крупнейший ученый Хаяси Нобуацу (Досюн) (1583—1656), или Радзан. Сэдлер пишет о Хаяси: «Это был одаренный юноша, который в возрасте тринадцати лет мог читать танских и сунских поэтов. Его считали воплощением бога мудрости Маньджушри
45
(Мондзю-но кэсин). Когда ему исполнился двадцать один год, он начал читать лекции о Конфуции, через год стал учеником Фудзивара Сэйка, а еще через год его пригласили в замок Нидзё для беседы с Иэясу. При беседе присутствовали два буддийских священника, Сёдай и Санъё, а также Киёхара Хидэката, который выразил недовольство лекциями Хаяси и жаловался Иэясу, что учение Хаяси неортодоксальное, поэтому следует вообще запретить ему чтение лекций, ибо он лицо частное и не занимает государственной должности. Иэясу устроил им экзамен по китайской истории viva voce, и Хаяси оказался единственным, кто смог ответить на все вопросы, и впоследствии стал считаться „ходячей энциклопедией" сёгуната. Несомненно, что при его участии было составлено большинство, если не все законодательства. За год до своей смерти, после взятия Осак-ского замка, 75-летний Иэясу торжественно направлялся в Сид-зуока и из-за проливных дождей был вынужден на три дня задержаться в Минакути. Тогда он приказал Хаяси Радзану комментировать „Беседы и суждения" Конфуция и проводил время, беседуя с ним о достоинствах сыновней почтительности и верноподданничества. . . Хаяси прожил до семидесяти пяти лет, и никто никогда его не видел без книги в руках. Его потомки стали наследственными исследователями классики при сёгу-нате» [63, с. 311]. Присущая Иэясу и его потомкам страсть к знаниям неизбежно должна была захватить и всех окружающих его представителей правящего класса. Будучи создателем множества библиотек, покровителем историков и литераторов, организатором книгопечатания, он всемерно поощрял интеллектуальную жизнь высших сословий. «Правителю империи следует знать конфуцианское Четверокнижие, — любил он повторять, — а если он не может изучить его полностью, то уж, во всяком случае, должен знать „Мэн-цзы". Как может не знающий пути учености управлять империей? А единственный путь к этому знанию лежит через книги. Поэтому первейшей задачей хорошего управления является издание книг».
Однако во времена Иэясу распространение знаний тормозилось ограничением, которое первоначально было наложено императорским двором в Киото и согласно которому заниматься преподаванием могли только буддийские священники. Честь отмены этого запрета принадлежит его потомку — пятому сегуну Цунаёси (1680—1709). Несмотря на свои недостатки, Цунаёси был искренним поклонником литературы. По его указу было подготовлено карманное издание китайских классиков, а сам он подавал пример феодалам и их вассалам, читая и разъясняя им редкие книги, вызывая тем самым у них стремление к эрудиции. Феодальные князья нанимали учителей и создавали школы, соперничая друг с другом.
46
ОБУЧЕНИЕ
ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ СОСЛОВИЙ
Отчасти благодаря личной инициативе отдельных правителей формирование конфуцианской системы стимулировалось ростом образования. Однако оно почти не затрагивало широких народных масс. В XIII в. в Японии, как и в средневековой Европе, и для привилегированных сословий, и для простого народа факел знаний горел только в храмах и монастырях. Впервые простым людям предоставилась возможность получить некоторое образование. Но в действительности монастыри были слишком ограниченными и недоступными для широких масс. В эпоху правления военного сословия храмы были религиозными учреждениями, предназначенными для военных, точно так как в предыдущий период Отё 11 они предназначались для аристократов. Вплоть до начала междоусобиц первостепенной задачей монастырей и храмов было обучение детей из самурайского сословия. Однако благодаря усилиям таких буддийских реформаторов и святых, как Нитирэн (1222—-1285) и Синран (1173—1262), возросла роль храмов, а их учения проникли как в низшие, так и в привилегированные слои общества. Росло число монастырских школ — тэракоя, хотя их влияние было довольно поверхностным.
Японский ученый Хасэгава Нёдзэкан отмечает по этому поводу: «Хотя токугавское правительство усиленно содействовало созданию ортодоксальной правительственной школьной системы и для распространения знаний, завезенных монахами в Японию из сунского Китая, мобилизовало армию ученых, к обучению простого народа оно относилось с полным безразличием. Единственной его заслугой было издание в середине периода Токугава указа, по которому тэракоя предписывалось внушать простым людям знание законов. Лучшие преподаватели из тэракоя поощрялись наградами. Целью же указа было привести школы тэракоя в соответствие с нормами токугавского режима, и правительство никогда не заботилось о создании школ для народа. Правительственные школы, подобные существовавшим в период Отё, были предназначены для обучения представителей правящего класса, но вместо детей аристократов в них учились сыновья самураев. Интересно отметить, что реконструированное здание в китайском стиле, называющееся Сэйдо, которое все еще стоит в центре Токио, в токугавский период входило в комплекс университетских зданий. Центральное здание этого комплекса — Сэйдо — было посвящено Конфуцию» [30, с. 591].
Таким образом, мы видим, что в этот период распростране
47
ние китайской или конфуцианской системы образования в основном все еще ограничивалось представителями правящего класса: аристократами, самураями и слугами, хотя и всячески поощрялось как полезное административное мероприятие.
В своей «Истории японского образования» Хью Л. Кинлэй-сайд отмечает: «Иэясу еще не успел укрепиться на своем посту, как уже начал раздувать хотя и скрытые, но еще тлеющие угли образования, пережившие шесть веков междоусобиц. Священникам поручалось переписывать китайские и японские книги, образованным людям оказывались привилегии, создавались школы. Существование храмовых школ не только допускалось, но даже поощрялось, а даймё всех крупных княжеств, подражая своему великому предшественнику, основывали школы, в которых обучались их собственные дети и сыновья других самураев. Началось активное и плодотворное состязание между различными школами, и способные ученики за успехи в учебе получали награды, которые прежде давались за военную доблесть. Через несколько лет, после окончательной победы в битве при Сэкигахара в 1600 г., Иэясу по совету знаменитого конфуцианского ученого Хаяси Радзана основал школу в Киото, над которой лично осуществлял контроль, и поставил во главе ее Фудзи-вара Сэйка. Начиная с этого времени конфуцианское учение чжусианского толка, которое пропагандировал и распространял Фудзивара Сэйка, было принято в качестве официальной идеологии, и киотоская школа, особенно под руководством Хаяси Радзана, сменившего Сэйка, оказала сильное влияние на развитие японской философии» [41, с. 47—48].
КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Такое же социальное расслоение наблюдалось и в литературе, которая расцвела после того, как образование пустило корни. Под покровительством провинциальных аристократов, поощрявших изучение китайских классиков, религии и культуры, находились различные школы. Вскоре, как и в средневековой Европе, они наладили выпуск литературной продукции, что свидетельствовало о наступлении эпохи схоластики. Как мы уже видели, по прошествии короткого времени соперничающие философские школы вступили в конфликт друг с другом. Политическая изоляция Японии благоприятствовала развитию самоанализа. И довольно странно для нации, столь безразличной к метафизике, что произошло возобновление споров о враждующих китайских философских учениях и их толкованиях. Дебаты между приверженцами учений Чжу Си и Ван Янмина 12 были столь же бурными, как и между номиналистами и реалистами
48
в средневековой Европе. Но взятые в целом приверженцы китайских наук, или кангакуся, несмотря на разногласия по частным вопросам, влияли на изучение классической литературы и философии ничуть не меньше, чем европейские эллинисты. И в этом они находили моральную и материальную поддержку у токугавского правительства — бакуфу, ибо, стремясь построить социальный и политический механизм на основе конфуцианской философии и этики, сёгун окружил себя плеядой ученых.
Мы не будем подробно останавливаться на литературных трудах ученых-ка«гшо/ся. Упомянем только самого выдающегося из них — Кайбара Экикэн. Он родился в 1630 г., почти всю жизнь провел в Киото, где был врачом (несомненно, он был знаком с голландской наукой, просачивавшейся в страну через узкие ворота Нагасаки), а потом окончательно обосновался в императорской столице, где писал книги и читал лекции. Ему принадлежит более ста трудов по китайским классикам, а также значительное число стихотворений в классическом стиле. Умер он в 1714 г. Он был типичным и наиболее выдающимся представителем вышеупомянутой большой плеяды приверженцев китайских наук. Если советник сегуна Хаяси Радзан был основателем целой династии официальных кангакуся, или ученых-синофи-лов, то роль, которую сыграл Экикэн, была не менее важной. «Единственной целью его сочинений было принести пользу своим согражданам. Его энергичный и мужественный стиль совершенно лишен риторических украшений и тех языковых вольностей, к которым так тяготели современные ему драматурги и новеллисты. Чтобы сделать свои теории понятными даже детям и необразованным людям, он стремился по мере возможности пользоваться национальным фонетическим письмом — каной. Хотя он, возможно, и являлся самым выдающимся ученым своего времени, в нем не ощущалось даже намека на педантизм. Произведения Экикэна пронизаны моралью, основанной на простом здравом смысле. Едва ли возможно переоценить их значение и ту пользу, которую он принес стране своими сочинениями» [2, с. 237] .
Некоторые иностранные критики, и в первую очередь У. Дж. Астон, склонны пренебрежительно указывать на ограниченность классической традиции, хотя при этом они отмечают значение ее возрождения для очищения языка и литературы этого периода. Но сколь бы ограниченной ни была эта традиция, нельзя отрицать, что, избавившись от педантизма и нелепых споров, она внесла большой вклад в национальную культуру. И поскольку ничто не проходит бесследно, даже труд представителей китайских наук сыграл свою роль в развитии новых движений в народной литературе. Астон справедливо отмечает,
4 Заказ 1438
49
что в XVII в. интерпретаторы китайской философии словно бы с презрением отвернулись от буддийского мистицизма. «Жизненный идеал кангакуся был абсолютно иным. Для буддиста превыше всего духовная сфера жизни. Ради нее люди должны отвернуться от всего мирского, порвать семейные узы и скрыться в монастыре или обители, чтобы вести там чистую и праведную жизнь, соблюдая религиозные обряды и занимаясь благочестивой медитацией. Китайская же философия, напротив, преследует исключительно практические цели. Ее сущность можно выразить одним словом — долг. Все аспекты человеческих отношений были предписаны Небом, и задача человека не в том, чтобы уклоняться от возложенных на него обязанностей, как того требует буддизм, а любыми средствами выполнять их. Япония многим обязана кангакуся той эпохи. Для своей страны и для своего времени они воистину были солью земли, а их сочинения, должно быть, помогли преодолеть пагубное влияние совсем иного рода литературы, которая тогда начала наводнять страну. . . Современный литературный японский язык многим обязан кангакуся, особенно жившим в XVII и в начале XVIII в. Более ранний японский язык, например, таких сочинений, как „Тайхэйки" 14, совершенно не подходил для выражения новых идей, порожденных оживлением научной деятельности и государственными преобразованиями. Социальные перемены и заметный прогресс на пути цивилизации и искусства, сопровождавшие этот процесс, требовали новой лексики. Подобно тому как мы использовали для той же цели латынь и греческий, так и кангакуся обогатили свой язык, включив в него множество китайских слов. В последующие времена этот процесс был доведен до крайности. Но такие ученые, как Араи Хакусэки или Муро Кюсо 15, не были педантами. Они были практичными людьми, которые привыкли использовать свои кисти для практических целей, и писали не для того, чтобы продемонстрировать свой ум и знания, а чтобы быть понятыми. Благодаря их усилиям не только значительно обогатилась лексика японского языка, но он приобрел ясность и точность, что было недостижимо при более тяжеловесной форме старого языка» [2, с. 265—266] .
КЛАССИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ
По-видимому, отражением этой эпохи является также область живописи и изящных искусств, что было почти исключительной привилегией сословия, тесно связанного — из-за необходимости иметь покровителей — с двором, знатью и влиятельной военной аристократией. И здесь следует отметить прежде всего религиозное и классическое влияние, хотя имеются отдель-
50
ные, но при этом внушительные образцы роскошных и нарочитых творений и украшений, сильно отступивших от традиционной аскетической сдержанности.
В период Муромати, с 1334 по 1573 г., в сфере культуры преобладали религиозные деятели, которые, как уже отмечалось, были хранителями классических традиций. «Почти все сегуны периода Муромати, — указывает Цуда Норитакэ, — были тесно связаны с дзэнскими священниками, и дзэн наложил отпечаток на всю их жизнь. Ни одна из существовавших тогда сект так не процветала и не оказала такого влияния на искусство, как дзэн. Это в первую очередь объяснялось соответствием этого учения умонастроениям времени. Дзэн, практикующий медитацию в состоянии абсолютной неподвижности, был принесен в Китай из Индии в 520 г. Бодхидхармой, в Китае слился с даосским квиетизмом, проповедующим спокойствие духа, и впитал в себя поэтический талант китайцев. . . Лучшие художники этой эпохи были в основном приверженцами учения дзэн и поэтому стремились создавать произведения, проникнутые духом воздержанности и полной отстраненности. Такое же стремление к упрощению наблюдается и в архитектурном искусстве, которое следовало за живописью — ведущим видом искусства этого периода. Но, с другой стороны, следует помнить, что существовали также пышные архитектурные строения, такие, как, например, Золотой Павильон» 17 [81, с. 144].
Последующий период Момояма («Персикового Холма») длился недолго, всего около сорока лет, с 1574 по 1614 г., что соответствует по времени позднему Высокому Ренессансу в Европе. Однако это был важный период истории японской культуры и искусства. Когда политическая власть находилась в руках Хидэёси — величайшего японского военачальника, а также любителя величественных, излишне экстравагантных форм, — в искусстве и архитектуре преобладал торжественный, вычурный и внушительный стиль, но параллельно не прекращалось развитие и более простого классического стиля. Этот строгий стиль, например, проявился в чайных церемониях, которые тогда были особенно популярны среди военного сословия. Для величественной, сдержанной и строго регламентированной чайной церемонии выстраивалось небольшое скромное помещение, называвшееся сукия или тясицу. Его архитектура отличалась простотой и нарочитой безыскусственностью. Архаической простотой отличались даже чайные принадлежности, что свидетельствовало о возврате к примитивной, но в то же время чистой и изящной умеренности. Она поразительным образом контрастировала с тяжеловесной и вычурной формой и цветом дворцов.
В ранний период существования токугавского сёгуната,
4-
51
с 1603 и примерно по 1688 г., несмотря на усиливающийся радикализм народной культуры эпохи Гэнроку, о чем пойдет речь ниже, сегуны все еще продолжали хранить консервативные традиции военного сословия. Несомненно, их усилия в этом направлении объяснялись сознательным стремлением противодействовать новой и значительно более тлетворной культуре, которая начала просачиваться из низших сословий. В этот период многие художники пользовались полным покровительством при дворе сегуна в Эдо, но многие оставались в Киото, подлинном музее изящных искусств, и находили поддержку как оставшихся там самураев, так и императорского двора, который, как сообщал Кемпфер, был «замечателен своей блистательной бедностью», но где император «наверняка получает все, что ему необходимо для поддержания своего былого великолепия и удовлетворения жажды роскоши и расточительности».
Промежуточным периодом было правление Хидэёси, когда искусство отличалось яркостью, цветистостью и претенциозностью. Но сменивший его Иэясу начал прилагать усилия к тому, чтобы вернуться к более спартанским и строгим принципам предшествующего периода Асикага. К этой более классической форме тяготел гений этого периода — Танъю, принадлежавший к знаменитой школе Кано. «Он был, — пишет Эрнест Феноллоза, — столь же плодовит, как Сэссю и Мотонобу, чей импрессионизм напоминал утонченность эпохи Асикага, хотя и не нес на себе отпечатка учености и искренней религиозности. Он как бы являлся противоядием против вульгарности Эйтоку, сторонника удивительного идеализма, стремившегося исключительно к эстетическому очарованию. Одним из достоинств Танъю было то, что вслед за Сэссю он обратился непосредственно к самим китайцам, начал изучать сокровища, хранившиеся в ясики 18, и после того, как пожар в Киото уничтожил все существовавшие ранее копии, вместе с братом приступил к изготовлению копий с древних китайских и японских шедевров. Таким образом, эта выдающаяся эклектическая школа представляла собой своего рода малый ренессанс, но все переводила на современный язык. Танъю также решил перенести свою мастерскую, которую семья Кано с давних времен имела в Киото, в новую столицу — Эдо и стать „придворным художником" бурной эпохи. В связи с тем что власть токугавского правительства распространялась все шире и ей подчинялся весь класс даймё и самураев, манера придворного живописца обычно становилась модной и среди провинциальных аристократов. Таким образом, вскоре новое окружение школы Кано в Эдо заняло огромные дворцы, где проживали сотни учеников и слуг. Это была академия, в которой обучение мальчиков начиналось
52
с раннего возраста. Существовала большая группа опытных мастеров, готовых в мгновение ока расписать любой новый дворец. Из этого гнезда выпорхнула целая стая художников для провинциальных даймё» [24, с. 117—118].
Японский ученый Цуда Норитакэ делает краткий обзор этого периода как для Киото, так и для Эдо. «На протяжении всего периода Эдо центральное место в мире живописи занимали художники школы Кано, хотя все они были художниками-чиновниками и строго следовали традиционной манере. Крупнейшим среди них был Танъю. За ним следовали такие мастера, как Наонобу, Ясунобу, Морикагэ и Цунэнобу. Школы Тоса и Су-миёси были хранителями освященных временем традиций классического стиля в живописи. Лучшие представители обеих школ были придворными живописцами в Киото 19. Однако позднее художники школы Сумиёси прибыли в Эдо и вместе с художниками школы Кано работали для сёгунского правительства. В середине периода Эдо И Фуцзю и другие китайские художники через Нагасаки, торговый порт на Кюсю, завезли китайскую живопись „Южной Школы" — Нанга. Японская почва оказалась благоприятной для этого стиля, сформировавшегося в Китае и пользовавшегося там любовью образованных людей, и он получил необычайное распространение среди японских ученых, ибо сёгунское правительство всячески поощряло изучение китайских классиков. Крупнейшими мастерами этой школы были Тайга, Бусон и Кадзан. . . Особым покровительством сегунов пользовались представители школы Кано. Художники этой школы черпали вдохновение в конфуцианстве, учении, ставшем главной официальной идеологией сёгунского правительства. В период Эдо общество отчетливо делилось на сословия по профессиональному признаку. От наиболее уважаемого военного сословия требовалось знание китайских классиков. Естественно, что и работавшие на него художники искали вдохновение у этих классиков.
Для удовлетворения нужд и запросов военного сословия представители школы Кано обычно рисовали картины на китайские сюжеты. Их излюбленными темами были: портрет Конфуция, Семь Мудрецов Бамбуковой Рощи или четыре эстетических занятия (каллиграфия, живопись, музыка и шахматы). Изображая животных, они часто рисовали таких священных существ, как драконы, тигры, львы и цилинь. Считавшийся одним из священных животных, дракон изображался в виде четвероногой рептилии. Считалось, что весной он спускается с небес, а осенью скрывается в водных глубинах. Обычно его изображали среди облаков. Тигру приписывали многие сказочные качества. Он считался самым великим среди четвероногих и олицетворял собой мужское начало в природе. Обычно его
53
изображали на фоне бамбука. Льва почитали за его величественность и обычно рисовали рядом с пионами. Цилинь — это пара сказочных китайских существ, появление которых считалось счастливым предзнаменованием о рождении достойного правителя. Из птиц самыми излюбленными были журавль и феникс. Считалось, что журавль живет более тысячи лет, что белизна его оперения объясняется любовью к чистоте, а крик его достигает небес. Благодаря своим могучим крыльям он летает выше облаков. Это царь птиц и друг святых отшельников. О сказочной птице — фениксе в древних легендах рассказывается, что она предвещает появление благородного правителя. На картинах феникс обычно изображался как нечто среднее между павлином и фазаном, но только с более яркой окраской перьев. Обычно его рисуют на павлонии, потому что на другие деревья он никогда не садится. Из деревьев представители школы Кано более всего любили рисовать сосну, сливу и бамбук. Традиционно эти три дерева воспринимались как триединые друзья, и считалось, что в Новый год они символизируют счастье и благополучие. Излюбленными пейзажными сюжетами были восемь знаменитых китайских видов в Сяо и Сян (Сесё-хаккэй). Более бюрократические сюжеты, с изображением достойных китайских царей и их верных подданных, выбирались из знаменитой китайской иллюстрированной книги для императоров (Тэйкан-дзудзэцу)» [81, с. 220—222].
Возможно, что эта слишком подробная цитата достаточно характеризует культурную атмосферу данного периода. В ней нашел отражение лишь один аспект влияния классических и конфуцианских идеалов на живопись и искусство. Официальные круги все еще одобряли заимствованные у китайских мастеров и прижившиеся условные формы. Возрождение эллинизма в европейском Ренессансе было не менее значительным, чем китайское возрождение в Японии в конце XVI в. и в начале XVII в. Тогда появилась и продолжает сохраняться по сей день утонченная красота, сама ограниченность которой стала гнетущей. Эта классическая условность сдержанности и строгости, красота символов, к счастью, никогда не исчезала полностью и сохранилась до XX в. в изысканном, идеальном художественном стиле, характерном для Китая и Японии, на зависть и восхищение Западу.
Чтобы проиллюстрировать то высокое уважение, которым пользовалось искусство в высших слоях Киото, можно упомянуть знаменитого Хонъами Коэцу. Этот прославленный художник родился в 1558 г. в семье непревзойденных мастеров по изготовлению мечей. Он вырос в этой среде и среди многих прочих достоинств сам был признанным знатоком мечей и мастером по их шлифованию. Его отец служил у князя Маэда из Kara,
54
и Коэцу унаследовал родительский рисовый паек в 200 коку риса, что обеспечивало ему безбедное существование. Он считался, пишет Сэдлер, «наряду с каллиграфами Сёдзё и кампаку Коноэ Одзан Нобухиро (или его отцом Самбоин Нобутада) одной из „Трех Кистей", т. е. лучших каллиграфов своего времени 20. В то же время он был не менее искусен в живописи, изготовлении лакированных изделий, гончарном деле, художественной разбивке садов, чайной церемонии, литье из бронзы, скульптуре, японской поэзии и литературе в целом. Он также славился своими картинами на песке и масками для театра Но. Возможно, что он был самым разносторонним художником за всю японскую историю. Он также издавал книги на бумаге, изготовленной в собственных художественных мастерских, и делал для них иллюстрации и переплеты21. Естественно, на него обратил внимание Иэясу и стал одним из его покровителей. Он был также близок со всеми влиятельными людьми своего времени и получал от них поддержку. Он состоял в дружбе со всеми художниками и литераторами своего времени. Его называют японским Уильямом Моррисом, хотя правильнее было бы назвать Морриса английским Коэцу. . . На Коэцу оказала влияние окружавшая его красота, как естественная, так и созданная руками человека, древние художественные традиции работавших для него ремесленников и зрелые оценки современных ему эстетов» [63, с. 294]. Коэцу был другом такого художника, как Кано Санраку. Он был знаком с конфуцианским ученым Хаяси Радзан, а также со многими даймё и состоятельными торговцами. При этом он вел скромный образ жизни, и, когда Иэясу пожелал увеличить ему рисовый паек, он отказался, заявив, что вполне обеспечен. Но в 1615 г., когда Коэцу было пятьдесят восемь лет и он почувствовал усталость от столичной жизни, Иэясу узнал об этом и подарил ему имение в Тагаминэ, примерно в миле к западу от Киото, с великолепным видом на императорский город. Коэцу умер в 1638 г. в возрасте восьмидесяти лет и был похоронен в одном из четырех буддийских храмов, которые он велел построить вблизи своего имения.
В некоторых отношениях Коэцу был выдающейся фигурой в истории японского искусства этого периода. Эрнест Фенол-лоза несколько преувеличивает его роль, считая Коэцу связующим звеном между классическим и новым, народным стилем. Коэцу в основном оставался в рамках аристократического сословия, творя для императорского двора и знати Киото. И все же он был одним из самых ранних представителей чисто японского искусства. Эту линию продолжил его самый великолепный и разносторонний ученик — Огата Корин. «Школа рисунка Коэцу—Корин, — замечает Феноллоза, — живописи и ремесла — это прежде всего первый признак того естественного
55
возврата к японской тематике после разгула идеализма эпохи Асикага, который Танью почти задавил своим китайским возрождением. С неохотой уступала школа Кано растущим потребностям в японских пейзажах. Постепенно и ученики Тоса и Су-миёси путем педантичного подражания возродили стиль маки-моно22, характерный для эпохи Камакура. Рассматривая их произведения в целом, мы едва ли вправе считать, что они вернулись к национальным традициям искусства ясаки. Особенностью же школы Коэцу—Корин было изучение японских форм искусства, прежде всего изучение всех выдающихся работ мастеров древних школ Тоса и Фудзивара, затем, трансформируя их через свой индивидуальный талант, они добились полного приспособления их к новым условиям. Работы представителей этой школы ближе по духу произведениям художников XII в., чем у имитаторов стиля Тоса, так как они ставили перед собой не формалистические, а творческие задачи» [24, с. 127].
Поскольку данное исследование не посвящено исключительно развитию живописи, на этом мы прервем описание Фе-ноллозы важной роли Коэцу для этого переходного периода. Достаточно отметить, что Коэцу, подобно художникам итальянского Ренессанса, обратился к древним источникам и черпал в них новые силы, чем положил начало Возрождению, но он не остановился на этом и силой своего подлинного творческого гения смог направить японскую живопись на новый путь, ведущий к чисто национальному искусству, в рамках которого и зародились новые движения. В сфере живописи он совершил то же самое, что национальным философам и писателям-вагакуся вскоре предстояло совершить в литературе.
КЛАССИЧЕСКАЯ ДРАМА
В области драмы, не меньше чем в области философии, религии, образования, литературы или живописи, господствовали традиционные условности, пока Тикамацу и его современники или последователи не разрушили их своими блестящими творениями. Кемпфер напоминает нам на основе своих личных наблюдений, что театральные зрелища были необычайно популярны у японского народа, и делает предположение, что представления давались и в придворных кругах. Но это было в 1690 г., после того как Тикамацу и другие драматурги сделали для театра то же, что Шекспир для английской сцены. Столетием раньше мы обнаруживаем, что и в Европе, и в Японии основа драмы была скорее религиозной, чем светской и при этом скованной условностями и традициями, а не оригинальной и свободной.
56
В старой Японии существовали ритуальные танцы, пантомима и сакральные пьесы. Но потом начались междоусобицы; «Войны Хризантем» в эпоху Хэйан, гражданские войны XV и XVI вв. Естественно, эти века сражений породили ряд крупных личностей, особенно воинов, чье мужество и искусное владение оружием стимулировали драматический импульс нации. Поэтому старые религиозные пьесы начали прибегать к более светским формам и сюжетам, и подобно тому как английские миракли развились в пьесы «моралите» и по той же самой причине они изменились и превратились в лирическую драму, известную как театр Но, расширенную форму более примитивных танцев Но. «Пьесы Но, как правило, не датированы, но впервые они появились в XIV в. и, вероятно, были созданы священниками, которые использовали их, чтобы заинтересовать безразличных к религии и морали, подобно тому как наша церковь использовала пьесы „моралите". В Японии, как в древней Греции и в Англии, драма с самого начала была тесно связана с религией. Она развилась из кагура, танца-пантомимы, исполняемого под звуки флейты и барабана в синтоистские праздники для услаждения божества. Когда к музыкальным танцам кагура добавили диалог, родилась драма Но. Скоро на новую драму обратили внимание в официальных кругах и она получила одобрение сегуна и даймё. . .
Начиная с XVI в. интерес к религиозным пьесам упал, и новые драмы Но перестали сочинять. Подобно мистериям и пьесам „моралите" в Англии, пьесы Но уступили место пьесам в полном смысле этого слова, не из религиозной сферы, а из реальной жизни. Театр Но процветал главным образом в столице сегуна, которой в эпоху его наивысшей популярности был Киото, императорская столица Японии. Именно поэтому языком драм Но является изящный и плавный язык двора» [10, с. 100—105].
Японский ученый Миямори, указывая на классическую традицию, подчеркивал уникальность этой драматической формы: «Эти драмы и их постановка отличаются краткостью и спокойствием. Сюжет и диалоги их просты, но преисполнены значимости, текст распевается „туманными" и приглушенными голосами, и разве что только специалист способен установить различия между голосами мужских и женских персонажей; музыка спокойная и печальная; актеры пользуются мистически бесстрастными масками; движения и танцы медленные, величественные и для постороннего взора крайне незамысловатые. Эти характерные особенности в большой степени являются результатом влияния буддийской секты дзэн, которая в период Муромати была популярна среди военного сословия и учение которой проповедовало тишину, спокойствие и простую жизнь во имя духов
57
ного самосовершенствования. Такое же влияние оказали и чайные церемонии, которые в те дни были в моде у военного сословия, хотя их первостепенной целью было успокоение сознания.
Начиная с эпохи Муромати и вплоть до падения токугавского сёгуната (1868 г.) театр Но был церемониальной привилегией военного сословия. На ранней стадии развития танцев Но, когда его еще называли „саругаку-но Но", исполнителями были „саругаку-но хоси", т. е. „священники саругаку", и в церковной иерархии они стояли на самом последнем месте. Но затем их статус постепенно возрастал, и в период Эдо (1603—1868) к ним стали относиться с глубоким почтением, а в социальном отношении они стояли на одном уровне с самураями. Более того, искусство представлений Но со временем стало приравниваться к рыцарским занятиям» [52, с. 14].
Следует отметить, что драма Но — чисто аристократическое развлечение в русле самурайской или религиозной традиции и предназначенное только для самых образованных сословий. Как и чайная церемония, она еще продолжает сохранять популярность в интеллектуальных кругах Японии и среди серьезных, утонченных и эрудированных людей, сохраняющих глубокое уважение не только к древним обычаям, но и к особо изысканным и утонченным видам искусств. Драма Но, как и старинная придворная музыка, сохранилась главным образом благодаря усилиям императорского двора и поддержке ученых, для которых китайские классические сочинения, искусство каллиграфии и сложение стихов в жанре хайкай также символизируют древние и достойные традиции золотого века Японии .
Под влиянием токугавского сёгуната драмы Но начали играть важную роль в жизни высших сословий. Они превратились в торжественные представления, устраиваемые в ясики знатных людей, в этих внушительных торжествах участвовали сами князья и феодальные правители, когда их гостями были еще более высокопоставленные князья. К медленным и величественным движениям танцоров и их игре с веером, колокольчиками и барабанами добавился диалог и преувеличенное внимание к деталям и этикету. Еще больше, чем прежде, усилилась формальная и обрядовая сторона драм Но, и в эпоху чрезмерных условностей, которые были слишком серьезными, чтобы быть искусственными, искусственность театра Но превратилась в чистую реальность.
В Англии, как мы уже говорили, был в моде сходный вид драмы, развившийся из религиозного театра масок. На раннем этапе Реставрации эта примитивная драма отошла от библейских и аллегорических сюжетов и соприкоснулась с подлинной древнеримской комедией. Точно так же классический театр Но начал наряду с древней мифологией усваивать комические
58
элементы. В незамысловатых английских пьесах представители спорящих сторон обращались к зрителям в интерлюдиях, излагая важные абстрактные теории или доводы. Эти интерлюдии, будь то моральные, религиозные, научные или развлекательные, исполнялись на сцене начиная с правления Генриха VIII и до середины царствования Елизаветы. До 1575 или 1576 г. театральных помещений не существовало, сцены воздвигались в залах дворцов, замков, университетов и в городах, под открытым небом. У короля или королевы были в услужении исполнители интерлюдий, равно как и музыканты. Под защитой своих более или менее номинальных хозяев по стране бродили группы людей, называющие себя «слугами» и одетые в костюмы аристократов и благородных людей, и с помощью своей профессии зарабатывали себе на хлеб. Учащиеся различных школ, особенно школы Св. Павла, выступали перед знатной аудиторией, студенты же последних курсов университетов также выступали (сначала на латыни) перед королевой Елизаветой, открыто выражавшей свое недовольство тем, что ее не развлекало. Позднее, когда из Европы подул ветер Ренессанса, наступила великая эпоха Елизаветинского театра. Большинству англичан произведения греческих классиков были известны по переводам, а эти переводы, как в случае с историком Фуки-дидом, делались с французских изданий; с Платоном же знакомились по сочинениям итальянских комментаторов. Исследователи помогли широкой публике познакомиться с греческой мифологией, поэтому оказывается, что самые убогие персонажи Шекспира слышали многие греческие легенды. Придворный «театр масок» утратил серьезность и включил в себя более легкие элементы: песни, музыку и танцы. Вкусам публики импонировали более свободные пьесы, сменившие многочисленные подражания тяжеловесному Сенеке, но в эпоху шекспировской драмы продолжали исполняться также «моралите» и интерлюдии старого типа.
К тому времени, когда на английской сцене появились реалистические и комические персонажи, какие можно было увидеть в «Глобусе» и других лондонских театрах в конце XVI в., английские литераторы смогли оценить, какое преимущество (временно утраченное в период пуританского междуцарствия) было у них по сравнению с французским театром, в котором был еще силен формализм. Там условности сковывали театр столь же сильно, как и драму Но в Японии. В XVII в. находившийся на удобном наблюдательном пункте в условиях свободы периода Реставрации Драйден смог язвительно обрисовать современную ему французскую драму, выставив ее так, что она стала чем-то напоминать японский придворный театр.
«Прелести французской поэзии — это прелести статуи, а не
59
человека, ибо в ней отсутствует душа поэзии, являющаяся отражением характера и страстей. . . Тот, кто посмотрит французские пьесы, написанные лет десять назад, заметит, что в них не найти даже двух-трех сносных характеров. . . Их стихотворения представляются мне самыми холодными из всех, какие я когда-либо читал, их речи кажутся излишне декламационными. Когда кардинал Ришелье провел реформу французского театра, в него проникли эти продолжительные разглагольствования, которые своей торжественностью скорее подходят церковникам. Возьмем, например, ,,Цинну" и „Помпея". Было бы правильнее назвать их не пьесами, а долгими обсуждениями государственных проблем. А „Полиенкт" столь же выспрен в религиозных проблемах, сколь длинны регистры наших органов. С тех пор этот обычай закрепился, и их актеры, подобно нашим пасторам, говорят по песочным часам. Я не отрицаю, что французов это может вполне устраивать, ибо мы, будучи людьми угрюмыми, приходим в театр развлекаться, они же, люди с веселым и легкомысленным нравом, приходят туда, чтобы набраться серьезности» [19, с. XV].
КЛАССИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ
В области поэзии самые ранние образцы — это длинные стихотворения, но с течением времени большую популярность приобрели различные короткие стихотворные формы25. Уже в эпоху Хэйан (782—1185) стихосложение стало популярным видом искусства среди правящих классов, унаследовавших традиции первых императоров 26. Кобаяси Итиро объясняет это тем, что, когда бразды правления в Киото находились в руках семейства Фудзивара, «все правители были слишком заняты собой, чтобы заботиться о благе народа, которому настолько трудно жилось, что не было времени думать ни о чем другом. Поэтому поэзия ценилась только придворными, из которых мало кого занимали масштабные мысли. Естественно, это привело к тому, что необходимость сочинять длинные стихотворения исчезла. В это время представители семейства Фудзивара, которое приобрело политическую власть, стали также стремиться к роскоши. Они обращали мало внимания на государственные дела и под видом любования луной или цветами проводили время в пирушках. На этих праздниках всегда присутствовали разные льстецы, которые всячески старались им угодить. Наиболее утонченным развлечением при такой роскошной жизни было сочинение стихов, поэтому они часто устраивали ута-авасэ, т. е. поэтические состязания, во время которых стихотворцы делились на две группы и сочиняли стихи на заданную тему.
60
Оценивал эти стихи судья. Тот, кому присуждалась пальма первенства, получал известность при дворе и таким образом часто добивался повышения в должности или ранге 27. Эти состязания были настолько напряженными, что некоторые из участников действительно умирали от горя. Естественно, что в такую эпоху поэзия достигла большего совершенства в области формы, нежели содержания. В таких условиях при дворе наступило неизбежное падение нравов, а придворные кавалеры и дамы открыто обсуждали свои интриги и любовные дела. Любовники сочиняли стихи и через них поверяли свои чувства друг другу. Сочинению стихов придавали огромное значение, ибо часто судьба любовных отношений зависела от искусности в написании стихов. Так как основное внимание уделялось форме, длинные поэмы было сложно украсить изысканными эпитетами. Поэтому в моду вошли короткие стихотворения. Третья причина заключается в усиленном изучении китайской литературы. Китайские книги были завезены в период Нара, и постепенно их начали читать. В эпоху Хэйан значительно возросло число лиц, писавших прозу и стихи по-китайски. Хотя никто из них не мог сравниться с китайскими мастерами, но все же те, кто сочинял стихи и прозу на китайском языке, пользовались огромным уважением. Соответственно уменьшилось число тех, кто трудился над сочинением длинных стихов по-японски» [44, с. XVIII].
Таким образом, нага-ута, т. е. длинные стихи, предназначавшиеся наподобие старинных баллад трубадуров для пения, постепенно утратили свое значение, а танка — короткие пятистишия в 31 слог — приобрели всеобщую популярность. Со временем у представителей праздных сословий стало обычным развлечением устраивать поэтические собрания, на которых один человек обычно сочинял первые три строки танка из 17 слогов, известные как хайкай, а второй человек добавлял две последующие строки. Так возникли рэнга — «сцепленные стихи». В рамках этих ограничений, строго регламентировавших число строк и слогов, определенный круг тем и специальную лексику, вырос поразительный кодекс условностей. Но и в этих жестких рамках способный поэт мог достигнуть своей цели минимальными языковыми средствами, ибо у опытных знатоков уже сами слова вызывали множество значений, ассоциаций или намеков, несущих дополнительный смысл. Гленн Хьюз указывает: «Подобный метод знаком нам по итальянским сонетам, но в сонете, который считается предельно емкой стихотворной формой, это в конечном счете законченная сложная форма выражения мысли, тогда как в танка содержится лишь намек, вспышка воображения, и удивительно, что японским поэтам удается достигать в своих 31-сложных стихотворениях того же совершенства, что
61
и авторам сонетов, использующим в пять раз больше слогов» [35, с. 4].
В дальнейшем мы более подробно рассмотрим этот литературный жанр. Пока же только отметим, что искусство сложения миниатюрных стихотворений являлось главным образом занятием образованных представителей литературной среды и господствующего класса и оставалось скованным правилами и классической традицией, сложившейся семью-восемью веками раньше, пока в середине XVII в. школа Данрин не начала использовать для хайкай более разговорный и доступный народу язык. И хотя Токугавский сёгунат наряду с другими видами искусства покровительствовал и поэзии на японском языке, ей так и не удалось окончательно избавиться от условных ограничений, раз и навсегда для нее установленных.
КУЛЬТУРА ФЕОДАЛЬНОГО ДВОРА
Кратко рассмотрев придворную культуру Киото и непохожую на нее культуру Эдо, мы увидели, как аристократия принимала и трансформировала искусство и литературу, в основе которых лежали либо древнеяпонские формы, либо китайские образцы. Среди придворной знати эти виды искусства приобрели изысканную утонченность, и, несмотря на ограничения и несоответствие требованиям, они внесли весомый вклад в японскую культуру. И пока в период Гэнроку центр культуры не переместился в Эдо, аристократическая культура достигла своей вершины в Киото, на протяжении тысячелетия являвшегося императорской столицей, центром культурного и научного прогресса.
* * *
Как мы уже выяснили, вплоть до XVII в. именно аристократическая верхушка диктовала вкусы и вырабатывала каноны культуры. В мирную же эпоху Токугава, хотя это влияние и стало отличаться еще большей изысканностью, оно начало испытывать давление снизу. «На протяжении нескольких столетий хаотической неразберихи, — пишет Джеймс Мэрдок, — известности можно было добиться главным образом на поле битвы. Теперь снова воцарился мир — такой мир, какого империя не знала много поколений, и отныне стало казаться, что мечи теперь станут носить главным образом как украшения. Теперь желающему увековечить себя в памяти потомков приходилось добиваться славы на поприще литературы или изящных искусств. В такой совершенно изменившейся ситуации одним
62
из наиболее быстрых и легких путей отличиться стало обладание тайными или доступными только посвященным знаниями, которые и находились в руках аристократов, оказавшихся в положении синьора Лижеро, танцмейстера из „Жиль Блаза", хотя претендовать на звание ученых они и не могли. Толпы состоятельных людей добивались благосклонности управляющих домами кугэ, чтобы через них убедить их хозяев поделиться своими познаниями в японской классической литературе и искусстве, в умении предсказывать будущее, в астрономии, в искусстве составления букетов и разбивки садов, в том, как подбирать и носить одежду, как входить и выходить из комнаты, как вести себя при встречах с кугэ в обществе и на состязаниях по игре в мяч, чтобы при этом на тебя обратили внимание. Сидзё обучал, как накрывать стол к обеду и готовить пищу, что почиталось занятием достойным благородного человека. Когда какой-нибудь искусник приготавливал обед и сервировал его, было обычным явлением наслаждаться "работой мастера, как произведением искусства 28. Обычно взималась и входная плата. Зонтики, зубочистки, палочки для еды сделать было нетрудно, но, хотя существовало много разнообразных способов их изготовления, правильным являлся только один-единственный, и владение этим способом превращалось в монополию какого-нибудь придворного, что позволяло ему ставить на изделиях, производимых в этом доме, личную печать независимо от того, изготавливались ли они лично мастером или только под его контролем. Поэтому неудивительно, что Киото снова превратился в законодателя мод по всей стране на одежду, обстановку комнат и во всех прочих вопросах, подобно тому как это было в первые три-четыре века после его основания. Совершенно ясно, что во времена Кемпфера древняя столица имела гораздо большее значение для Японии, чем Париж для Европы того же периода» [54, т. 3, с. 170—171].
Если мы мысленно окунемся в атмосферу Киото того времени, то сможем отчетливо осознать ее глубокое духовное родство с эпохой Людовика XIV. Япония и Франция в XVII в. были в иных отношениях столь похожими, что, нарисовав картину жизни одной страны, ее в точности можно применить и к другой. Особенно это верно для императорской столицы Киото и французской королевской резиденции. Поскольку в наши задачи входит выявление явных параллелей в развитии Японии и Европы приблизительно того же времени (несмотря на политику самоизоляции, проводившуюся в Японии в эпоху Токугава, исторические перемены в обоих полушариях происходили словно бы под влиянием одних и тех же веяний), мы позволим себе нарисовать общую картину жизни во Франции в начале XVII в.
63
«Версаль, — пишет Литтон Стречи, — является ключом к пониманию эпохи Людовика XIV. Это огромное, почти необъятное сооружение, такое внушительное и величественное, с бескрайними регулярными парками, окруженное могучими деревьями, которые были доставлены из далеких лесов, с воздвигнутыми на засушливой почве удивительными фонтанами стоимостью в несколько миллионов, с примыкающими к нему парками и дворцами меньших размеров, с шумными толпами придворных — вся эта груда сокровищ, великолепия и торжественности, сваленная в одну кучу, представляла собой нечто более значительное, чем просто загородную королевскую резиденцию. Версаль являл собой вершину, венец и наглядное воплощение идеалов той великой эпохи. Какими же были эти идеалы? Хотя идеи того общества, в котором было возможно возникновение Версаля, были ограниченными и несправедливыми, это не должно мешать нам видеть подлинное благородство и славу, привнесенные им в жизнь. Действительно, за блеском Людовика и его придворных лежала черная пропасть нищенствующей Франции, разоренного крестьянства, целая система, складывавшаяся из нетерпимости, привилегий и плохого управления. И все-таки этот блеск был подлинным — не фальшивым и невыразительным блеском безделушки, а жгучим, ярким, насыщенным опытом, накопленным нацией. Такой образ жизни, сколь много бы он ни значил для тех, кто его вел, уже давно исчез с лица земли и сохранился для нас только на страницах произведений воспевавших его поэтов да в том странном воздействии, которое оказывает Версаль на современных путешественников, оказывающихся среди его безграничного запустения. Несомненно, можно только радоваться, что такая жизнь исчезла бесследно раз и навсегда, но стоит нам оглянуться в прошлое, как мы сможем ощутить ее былое очарование и прочувствовать его особенно остро именно из-за того, что та жизнь была такой необычной, такой непохожей на нашу. Нашему взору предстанет мир пышности и великолепия, церемоний и праздничных убранств, маленький мирок, в котором кипят жизненные страсти, мир, облаченный в одежды, сшитые на заказ, мир, в котором можно было жить легко и роскошно. . . Когда же с восходом солнца звуки рожка разносятся по длинным улицам, кому бы, пусть мысленно, не захотелось примкнуть к блистательной кавалькаде, сопровождающей на охоту стоящего на пороге своей славы молодого Людовика? Потом мы сможем остановиться на нескончаемой террасе, чтобы полюбоваться великим монархом на красных каблуках, с позолоченной табакеркой в руке, в высоком напудренном парике, когда он пребывает в окружении придворных или сидит в тщательно отделанной ложе и аплодирует Мольеру. Когда же опустится ночь, на гале-
64
рее, сверкающей тысячами зеркал, заиграет музыка, начнутся танцы, маскарады и праздничные пиршества в садах, где отбрасываемые факелами причудливые тени притаятся среди искусно подстриженных деревьев, а оживленные господа и гордые дамы будут под звездным небом вести свои беседы.
Такой была обстановка, в которой возникла классическая французская литература и которая во многом на нее повлияла. По форме и по содержанию эта литература была аристократической, хотя сами писатели почти все были выходцами из среднего сословия и выдвинулись благодаря покровительству короля. Великие драматурги, поэты и прозаики того времени находились в положении художников, творящих по особому разрешению на благо и к удовольствию избранной публики, принадлежать к которой сами они не имели права. Они пребывали в обществе людей знатного происхождения и благородных манер, но не были выходцами из этой среды, поэтому в своих произведениях, в которых нашли отражение самые утонченные общественные идеалы того времени, им удалось избежать главных недостатков, характерных для литературной продукции знатных особ: поверхностности и дилетантизма. Литература той эпохи находилась. .. в руках вдумчивых и тонких художников, творивших для немногочисленной, праздной, знатной и критически настроенной аудитории, в то же время сохраняя более широкий взгляд на вещи и чувство меры, что было результатом их личного жизненного опыта. Даже в мельчайших деталях требовалось соблюдение учтивости, благопристойности и норм благородного поведения, которыми неизбежно заражались и писатели. Изысканность манер требовала изящества: величественности без претенциозности, выразительности без резкости, простоты без легкомыслия, утонченности без жеманства. Такими были основные особенности той обильной литературы, которую по праву считают классической литературой Франции» [72, с. 63—67].
В общих чертах, а часто и в деталях, это описание могло бы относиться к Киото и к характерной для него аристократической литературе.
Во всем мире феодальное общество было самодержавным; это сопровождалось величием аристократии, изысканностью, богатством и достоинством высших сословий. И все-таки в Японии, так же как и в Европе, XVI—XVII вв. были временем зарождения в среде простолюдинов духа независимости, иногда сосуществовавшего с властью, а иногда противостоявшего ей и исключительности придворной знати.
В заключение можно подчеркнуть, что почти во всех странах это было одним из типичных признаков феодализма. Лорд Ред-сдейл, воздавая должное культуре и искусству, процветавшим
5 Заказ 1438
65
в придворной и аристократической среде, отмечал эту историческую особенность. «Должно быть, — говорит он, — расцвет литературы и искусства при феодальной системе в самых разных странах объясняется не просто случайным совпадением обстоятельств. На это указывает и Фроуд 29 в одной из своих лекций, оправдывая своего самого любимого профессионального писателя Эразма Роттердамского, рассылавшего письма знатным людям с просьбой о помощи: ,,Нужно делать скидку на время; для малообеспеченного автора богатый покровитель был тогда естественной опорой, и возможно, что при такой системе появлялись книги более высокого качества, чем те, которые сейчас получает публика при системе свободной торговли. Сейчас не встретишь нового „Гамлета" или еще одного „Дон Кихота". Следует признать, что в Японии литература не принадлежала к числу величайших культурных достижений. Астон в нескольких словах точно характеризует особенность японской литературы: „Это литература смелых, вежливых, беспечных, любящих развлечения людей, скорее сентиментальных, чем страстных, остроумных и насмешливых, талантливых и изобретательных, сообразительных, но поверхностных и едва ли способных на высокоинтеллектуальные достижения, склонных к лаконичности и изяществу выражения, но редко или даже никогда не поднимающихся до возвышенного уровня".
В Японии никогда не было своего Шекспира, Милтона, Данте, Сервантеса, Гёте. Она имеет несколько очаровательных романов и немало изящных и затейливых стихотворений. Наиболее плодотворными для Японии оказались жанры исторических сочинений, драматургия, эссеистика, проповеди и литература самого разнообразного содержания, во всяком случае, феодальная эпоха этому благоприятствовала...
„Трудно в нескольких словах рассказать об искусстве феодальной эпохи. Всем известно, сколь многим обязано искусство своим знатным покровителям и средневековой Италии. Нам не известно, какую поддержку оказывали искусству Лоренцо ди Медичи, Лодовико Сфорца, Лев X. При таких щедрых покровителях жизнь художника была материально обеспеченной, ему не приходилось думать о хлебе насущном. Отсутствовал мучительный страх перед возможной нищетой, отсутствовала борьба за существование и, следовательно, суета.
То же самое было во Франции. Великий Леонардо да Винчи закончил свою блистательную карьеру любимцем короля и почетным гостем в Шато де Клюй близ Амбуаза. Клюэ, известный также под именем Жанэ, являлся valet de chambre et peintre du Roi30 при Франциске I и Генрихе II. В Испании Веласкес был близким другом Филиппа IV. В Англии Гольбейна, прибывшего с рекомендательным письмом от Эразма Роттердамского,
66
приютил у себя и оказал поддержку Томас Мор. . . Когда королевская барка Генриха VIII, украшенная знаменами, под звуки труб приплыла по реке в Челси, Томас Мор принял короля с надлежащими почестями и показал ему свой дом и приусадебный участок. На каждой стене в доме висели картины, и Генрих, который был не совсем плохим ценителем искусства, пораженный шедеврами Гольбейна, воскликнул: „Неужели этот художник еще жив? Неужели он прозябает в нищете?" Гольбейна вытащили из чулана и поместили под покровительство короля...
Мне неведомо, уделяли ли японские вельможи искусству столько же внимания, но есть все основания полагать, что это было именно так. Выдающиеся произведения мастеров лаковых изделий, скульпторов можно найти, пожалуй, только во дворцах высшей знати и старинных храмах. Феодальные князья и настоятели монастырей были большими эстетами и любили окружать себя всем изысканным, изящным и прекрасным. Возможно, некоторые излюбленные ими церемонии, как, например, торжественный ритуал чаепития — тя-но ю или еще более причудливая церемония „слушания благовоний" — кокику, вызовут у нас улыбку, покажутся искусственными и излишне вычурными, но они соседствовали с вдохновением художника, и, когда заурядность XIX в. вытеснила их, словно бы погребальный звон возвестил о конце прекрасного искусства старой Японии.
И передо мной еще раз всплывает картина, изображающая одного из средневековых аристократов, скажем Ёсимаса в Серебряном Павильоне, в окружении близких друзей, готового, если родина окажется в опасности, в мгновение ока отбросить свои легковесные развлечения и взяться за оружие. Как в Европе, так и в далекой Японии атмосфера феодального общества, способствовавшая развитию искусства, заслуживает того, чтобы вспомнить о ней с чувством подлинной благодарности и восхищения. Без прославленного наследия средневековья мир стал бы скучен и мрачен. Как на Западе, так и на Востоке мы унаследовали в нем всю красоту и романтику жизни. Ему мы обязаны всем тем ценным, чем обладаем в архитектуре, скульптуре, поэзии и в обширной области литературы» [61, с. 230—234].
5:
III. РЕАКЦИЯ НА КЛАССИЦИЗМ
В то время как в XVI—XVII вв. — особенно среди представителей «просвещенных высших сословий» при двух дворах, императорском и сёгунском, — поощрялись классические традиции, в буржуазной среде стали проявляться признаки нового движения. Борьба нового со старым была долгой и сложной (...)
До сих пор мы старались акцентировать внимание на правящем сословии. Связанное с императором, сегуном и их окружением, правящее сословие страны включало в себя всех тех, кто держал в повиновении простой народ: или с помощью оружия, как это делали представители военного сословия самураев, или занимая государственные должности. В их среде возрождение классических традиций в области искусства, литературы и этики контролировалось правительством. Китайское «учение мудрецов» они воспринимали как необходимое для того, чтобы занимать свои почетные, ответственные и требующие соблюдения строгого регламента посты.
Ниже этого так называемого привилегированного сословия, как и в любой другой феодальной системе, находился весь остальной народ. Но хотя эпоха и была феодальной, называть всех этих людей «крепостными», пожалуй, будет неверным. Скорее их можно было бы уподобить «труженикам» централизованного муравьиного сообщества, где власть находится у военного сословия, а «труженики» служат на благо лилипутского государства. Конечно, в сельской Японии преобладающим был класс крестьян, или земледельцев, и среди всех простолюдинов—хэймин на первом месте действительно стояли земледельцы. Однако в городах существовало многочисленное сословие, называвшееся в Римской империи «плебсом»: рядовые «дровосеки и водоносы» — т. е. ремесленники, мастеровые, мелкие торговцы, чернорабочие и слуги у «джентри». Ремесленники пользовались большим уважением, ибо среди них были мастера по изготовлению технических и лепных изделий, мечей и доспехов, ваятели религиозных статуй и мастера, занимающиеся украшением мечей, гончары и лакировщики. На торговцев, пока их влияние не возросло, смотрели с презрением, и на социальной лестнице они стояли ниже всех '.
В подлунном мире художники не разделялись на дилетантов и профессионалов. Их положение в обществе зависело главным
68
образом от того, вступали ли они в союз с аристократией, чтобы пользоваться ее покровительством, или же ориентировались на народ, выходцами из которого были многие из них. Они и были глашатаями и выразителями нового движения в некоторых областях искусства. Прежде они в большинстве случаев довольствовались тем, что следовали вкусам высших сословий, у которых находили материальную поддержку и эстетическое понимание. Но в течение XVII в. многие из них начали порывать с этими сословиями, подавать свой голос или говорить на более разговорном языке простолюдинов. Выделение этой группы и было вторым составным компонентом японского Ренессанса 2.
УПАДОК БУДДИЗМА
Первой причиной проявления этой тенденции явился упадок в это время буддизма и утрата им привилегий в области образования и эстетики, которые в эпоху «мрачного средневековья» в Японии, равно как и в «монастырский период» в Европе, находились исключительно в руках церкви и покровительствовавшего ей двора. «Буддизм, — пишет Джордж Сэн-сом, — по-видимому, сошел с исторической арены в период Эдо, в это время религиозная литература пребывала в состоянии застоя, религия вообще не вносила своего вклада в культуру. Нобунага и Хидэёси сломили мощь буддизма, Иэясу своим законодательством закрепил его бессилие, и с той поры уже больше не появилось ни одного выдающегося священнослужителя или крупного религиозного реформатора. Причина столь внезапного упадка буддизма труднообъяснима. Хотя отдельные буддийские концепции по сей день прочно коренятся в национальном сознании, а некоторые буддийские ритуалы стали частью повседневной жизни, церковная организация, видимо, оказалась не приспособленной к изменившемуся характеру эпохи. В литературе того времени содержится много пренебрежительных высказываний о священниках, свидетельств того, что в народной среде их не любили, а люди образованные относились к ним с презрением» [66, с. 469].
Недостаток места не позволяет нам проанализировать различные причины этого упадка, но А. К- Рейшауэр, подробно рассматривая этот вопрос, отмечает среди прочего соперничество неоконфуцианских учений, скептицизм, порождаемый «повышенной критикой» учеными источников, и убежденность определенных научных школ, что буддизм был учением, привнесенным извне и несовместимым с чисто национальным культом синто. «Японские правительственные круги, действительно,
69
мало интересовались буддизмом, и поэтому он все более и более превращался в религию темных масс, которые ничего не знали о его лучших философских достижениях и былой славе. Даже лучшие буддийские умы не могли изменить создавшуюся ситуацию. Когда по примеру прогрессивных конфуцианцев они попытались приспособить свои религиозные воззрения к японской действительности, им не удалось этого сделать должным образом. Причина же заключалась в том, что буддийская философия жизни, будучи порождением уставшей от мирской суеты цивилизации, не могла явиться в переломную эпоху созидательной силой» [62, с. 149].
Правда, в правление Иэясу вопреки новому законодательству буддизм воздействовал на нацию почти так же, как конфуцианство, и буддийское духовенство продолжало держать в руках духовную власть, распространявшуюся на политические и придворные круги. Всеми политическими делами сёгуната ведали «архиепископ» Тэнкай, два других буддийских священника, Судэн Контиин и Бонсюн Синрюин, ученый-китаевед Хаяси Радзан и еще несколько человек. До этого Судэн был настоятелем храма Нандзэндзи в Киото; ему было поручено вести переписку с правительствами Сиама, Аннама и других стран. При Иэясу он ведал делами всех религиозных учреждений страны. Но и этому церковному влиянию было суждено ослабнуть. Рейшауэр отмечает, что «иногда отдельные буддисты, такие, как священник Тэнкай из секты тэндай или Такуан из секты дзэн, оказывали сильное влияние на государственные дела, но оно было ничтожным по сравнению с той / эпохой, когда даже императоры предпочитали монастырь трону и из этого уединенного места диктовали свою волю» [62, с. 343]. Даже Судэн при Иэмицу утратил его благорасположение за то, что вмешивался в политические дела настолько, что ему приписывают отречение от власти императора Гомидзуноо. Когда сменившая его императрица Мэйсё (Мёдзё) сама отреклась от власти в 1643 г., новый император, Гокомё, вступив на трон, отвернулся от духовенства. «Несмотря на то что его окружали верховные священники пяти буддийских монастырей, он презирал буддизм, считал, что это учение бесполезно для правителей и феодальных князей, стоящих во главе государства, а им больше подходит какая-нибудь другая идеология. По его мнению, для правителей значительно важнее конфуцианство, хотя старые китайские комментарии к конфуцианским сочинениям слишком категоричны и следует разработать новые. Его конфуцианские наставники возражали, что при императорском дворе конфуцианство всегда изучали со старыми комментариями, на что император ответил, что отныне можно все начать сначала. Так же резко император критиковал и
70
японские стихотворения (славословия) и знаменитый древний куртуазный роман „Гэндзи-моногатари". Никто из великих императоров и мудрых советников древности, заявил он, не заботился о поэзии. С безумного увлечения поэзией и начался упадок императорской власти. Что же касается „Гэндзи-моногатари", то это сочинение только развращало народные умы и способствовало безнравственности» [77, т. П, с. 8].
Такое отрицательное отношение к буддизму и стремление пересмотреть отношение к классическим конфуцианским сочинениям создало ситуацию, поразительно похожую на период Реформации в Европе. К счастью, это не привело к религиозным войнам или серьезным гонениям (если не считать христиан, которых преследовали не столько по религиозным, сколько совсем по другим причинам), но с той поры политическое влияние буддизма и средневековое могущество монастырей пришли в упадок.
Если мы вспомним, что культура и искусство ранних периодов японской истории, особенно в эпоху Нара и Камакура, почти полностью находились под буддийским влиянием, то следует признать, что утрата этой религией популярности имела далеко идущие последствия. Правда, дзэнский квиетизм и самоограничение проявлялись в литературе еще некоторое время после того, как политическое и религиозное влияние буддизма ослабело, но в целом буддийская иконография и портретная живопись, скульптура и литература выродились точно так же, как религиозная живопись в Европе на поздней стадии Ренессанса выродилась или стала более светской. Падение уровня европейской живописи до «плотской школы» едко высмеял Анатоль Франс в «Острове пингвинов». Причины же этой неизбежной перемены, заключающейся в принятии «языческих» культов эллинизма и воспевании красоты человеческого тела, убедительно показал Дж. Э. Саймондс в своей книге «Ренессанс в Италии». На Западе и на Дальнем Востоке происходили аналогичные процессы, и мы обнаружим, что отказ от буддийской или любой другой религиозной традиции в пользу секуляризованного искусства также был характерен для движения, охватившего Японию того времени. В литературе, равно как и в искусстве, требовалось заменить классические образцы более «земными» простонародными и светскими сочинениями.
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ КОНФУЦИАНСТВА
Конфуцианство хотя и оказалось подспорьем в делах управления и при решении некоторых интеллектуальных и философских проблем, но, подобно буддизму, оно также в основном
71
перестало владеть умами простого народа и быть хранителем жестких условностей китайской культуры, столь тесно с ним связанной. Только в области морали и этики внушенные китайскими мудрецами идеалы не просто насаждались сверху, но и находили поддержку у простых людей, которые, правда, только на словах признавали принципы правильного и неправильного, а в повседневной жизни их не соблюдали. Тем самым низшие сословия обнаружили несоответствие распространяемого сёгунатом конфуцианского учения интеллектуальным и духовным запросам простого народа. Это несоответствие отчасти объяснялось жесткостью и искусственностью, которые приобрел конфуцианский кодекс в высших кругах, отчасти же стремлением низших сословий к более естественным, непри-ужденным и гибким этическим нормам.
Уже отмечалось, что в начале этого периода школы в основном или находились в руках священников и были под буддийским влиянием, или же контролировались властями, насаждавшими конфуцианские принципы. «Учащиеся токугавских школ, — пишет Кинлейсайд, — не все свое время и внимание уделяли литературным проблемам. Им преподавали специальный курс этикета, правил поведения в обществе, и соответствующие нормы общения. Их обучали эпистолярному жанру, поэзии и другим благородным и прекрасным искусствам. Акцент делался на формальности социальных взаимоотношений, строгом соблюдении форм и символике вежливого поведения, крайним примером чего является чайная церемония, наиболее верно передающая дух эпохи, отчетливо демонстрирующая ее яркое изящество и в основном бесплодную сущность. Серьезность, с которой люди предавались занятиям поэзией, почти экстатическое восхищение, которое они испытывали перед придворным ведомством поэзии, и утонченная искусственность чайной церемонии, проводимой в маленькой темной комнате, — таковы трагикомические, но все-таки верные проявления духа эпохи» [41, с. 55—56].
В возрождении конфуцианства уже таились семена его упадка и гибели. Подобно всем религиям, со временем оно окостенело, кое в чем выродилось в пустые формулы и механические ритуалы и усилиями тех, кто без должного понимания превратил проповедь его догматов и комментирование в свою профессию, используя ее для собственной выгоды, лишилось жизненной силы. Правда, в Японии у него было больше шансов на успех и выживание, чем на более ранней стадии. Как отмечает Овелак, «синтоизм и буддизм устояли даже перед этой практической и жизнеутверждающей религией. Причина заключалась в живучести тех мистических обрядов, которые, проникая в самые нежные, потаенные и благородные уголки нашей
72
души, затрагивают те сердечные струны, о которых не знает рассудок». Но в эпоху развития торговли, а следовательно, в эпоху материалистическую, достоинства религии, в какой бы форме их ни подносили, бледнеют и становятся неубедительными 3. Жесткая дисциплина конфуцианского морального кодекса хотя и не исчезла полностью, но в значительной степени была подорвана новым движением простых людей, противопоставляющих ему менее жесткий кодекс поведения и менее ограничивающую и спартанскую философию. Среди жителей крупных городов начал распространяться своеобразный восточный вариант эпикурейства или гедонизма.
Несоответствие религиозного формализма пытливому духу новой эпохи было свойственно не только Японии. Это можно обнаружить также в соединении ренессансных и реформаторских движений в Европе. Там в эпоху всеобщей дезорганизации римские духовные власти под эгидой папства поддерживали некоторую дисциплину и порядок. Но их заповеди, или по крайней мере их ecclesia, в конце концов превратились в слишком жесткую и деспотическую власть, и «новое учение» принесло большую свободу в религиозных вопросах. В XVI в. Лютер в Германии, Кальвин в Швейцарии и Джон Нокс в Шотландии взбунтовались и заложили основы протестантства. В Англии, еще до знакомства с плодами античности через итальянский Ренессанс, Чосер, Лэнгленд, Уайклифф и некоторые менее значительные поэты и прозаики способствовали интеллектуальному возрождению. В XV и XVI вв. английские ученые-классики переводили греческих и римских авторов или же привозили из Италии античные рукописи. Тем самым они привили новые полуязыческие идеи эллинистической культуры. В результате этого произошел сильный переворот в сознании, порвавший путы религиозной авторитарности. Пуританская революция в Англии XVII в. была попыткой восстановить влияние церкви независимо от того, какие внутренние перемены произошли в ее догматике. Реставрация 1660 г. была бунтом против слишком строгого режима Английской республики [1649—1660 гг.]. Те же тенденции наблюдались во всей Европе. Европейское сознание, веками страдавшее от несправедливости и угнетения жестоким феодальным режимом и церковных гонений, откликнулось на призыв античной культуры, так как старое язычество, привнесенное в период классического Возрождения, по крайней мере — при условии, что они хранят верность государству, — позволяло людям жить спокойно. Сделанный в 1611 г. при короле Джеймсе перевод Библии на английский язык позволял по-разному толковать текст и давал свободу мнений. Таким образом, Ренессанс вызвал непрекращающуюся жажду знаний, дух, проникавший во все области мысли и чувства, ничто не
73
воспринимавший слишком священным и недостойным исследования или изображения в искусстве. Это был новый дух, для которого церковные догмы казались слишком узкими и сковывающими, и, как писал лорд Брайс, «назовем ли мы его аналитическим, скептическим, земным или просто светским, ибо в большей или меньшей степени все эти определения к нему применимы, этот дух, который был полной антитезой средневековому мистицизму, подобно бурному потоку, захватывал и увлекал людей. Люди были довольны тем, что могли удовлетворять свои вкусы и чувства, мало заботясь об отправлении обрядов и еще меньше — о догматах. Они больше не тешили себя надеждами и замыслами, которые толкали их предков становиться крестоносцами или схимниками. Их воображением владели картины, мало похожие на те, что вдохновляли Данте. Они не бунтовали против церкви, но и не испытывали религиозного энтузиазма. Их волновало все свежее, изящное и понятное. Они отвернулись от мрачного монастырского затворничества и от грубых развлечений феодального замка, к которым были слишком безразличны, чтобы испытывать враждебность» [13, с. 364]. В Японии схоластические споры монахов и философов изжили себя или превратились в сверхутонченную диалектику, недоступную пониманию простых людей. Не «грубые развлечения замка», а искусственность дворцовой жизни перестала соответствовать новой духовной свободе поднимающегося среднего сословия.
СОЦИАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Отход от конфуцианского учения в сфере этики в значительной степени нашел отражение в новых общественных тенденциях. Слабость аристократически ограниченного искусства заключена в его предельной условности. Само оно может перестать быть искусственным и — даже в искусственном обществе в допустимых пределах — стать естественным, но оно существует только в строго условных и ограниченных рамках. Это прекрасно показал граф Кейзерлинг. «В Киото, — пишет он, — все еще преобладает духовная атмосфера былых дней, сюда еще не проникли веяния времени. Иногда я испытываю то же, что в Версале, где я гулял по полузапущенным аллеям в лучах октябрьского солнца. Я ощущаю себя придворным, все мои действия определены этикетом, видимость представляется мне высшей реальностью, а стереотипы — обязательны. И все эти предписания мне не мешают. В сущности, здесь именно предписания дают максимально возможную внутреннюю свободу. В Версале Людовика XIV только совершенный при
74
дворный мог быть искренним. То же самое было и в Киото. В его искусственной среде — якобы находившейся под контролем марионеточных императоров, а в действительности — в руках их фаворитов, — погрязшей в интригах, были приемлемы только льстецы. Но, по-видимому, их роль была чрезвычайно важной. Благодаря особенности японского характера, в котором столь странным образом соединяются чувствительность, отсутствие воображения и чувство реальности, придворные могли быть абсолютно искренними. Они были так же искренни, как пингвины, проводящие время во взаимном обмене любезностями на ледяных полях вокруг Южного полюса» [42, с. 179—180]. В рамках таких партерных ограничений процветала аристократическая культура, хотя она была эгоистической, самодовольной и не распространяла свое благоухание на внешний мир. Поэтому, если она и не вымерла от истощения и анемии, в любом случае не могла оказывать никакого влияния на народные массы. Поэтому массам пришлось создать собственное искусство, более им понятное и народное, чем вычурные и утонченные классические формы, популярные у привилегированных сословий.
Точно так и в Англии в эпоху классицизма существовала прочная связь культуры только с благородными высшими сословиями. Лондон того времени был законодателем мод, остальной же части страны это почти не касалось. Это была эпоха салонной литературы, литературного и аристократического снобизма. Это была эпоха Драйдена, а немного позже — Поупа, формализма в театре и аккуратно зарифмованных двустиший. Пьесы Драйдена предназначались для искушенных аристократов, стихотворения Поупа были изящными и сатирическими, бессодержательными, разжиженными и безжизненными, удивительно остроумными, но написанными для сообразительных и вежливых людей, изящными, но лишенными страсти или правдивости. Это была зима английской поэзии, классическая эпоха словно бы покрыла все сверкающим серебряным инеем.
Во всей Европе положение было примерно таким же. Время окоченело и застыло в неподвижном феодальном состоянии предыдущего столетия — наступила реакция на взрыв Ренессанса, который осветил высшие сословия и на некоторое время почти проник в народную среду. Жизнь наладилась, низшие сословия были зажаты в узкие рамки феодальных догм, не имея возможности из них выйти, высшие же сословия жили в мире тесных и ограниченных условностей. Простой народ воспринимался как необходимый фундамент, на котором покоилась великолепная пирамида золотого века аристократии. Людовик XIV, le Roi Soleil 4, был верховным сеньором всего французского
75
государства. Двор и высшие сословия жили в искусственном раю, застывшем, словно под стеклянным колпаком. Это было время, когда парки не были запущены, а являли собой аккуратные цветники; когда танцевали регламентированные гавот и менуэт, а не венские вальсы Штрауса с их свободой кружения; когда обставленные со вкусом салоны богачей украшали хрупкая и декоративная мебель, гипсовые богини и севрский фарфор цвета зеленых яблок или розовых груш «бери»; когда поведение было вежливым и церемонным; когда только придворные пользовались привилегиями и уважением. Все застыло и было, по словам Теннисона, «леденяще правильным, великолепно никчемным». Жизнь оторвалась от реальности.
Но во Франции того времени к концу «Великого века» величественное изящество классической эпохи начало тускнеть и приходить в упадок. Литтон Стрейчи писал: «Подобно любой другой, классическая традиция выродилась. Ее достоинства превратились в манерность, а слабости стали догмами. Иногда нам трудно провести грань различия между художником, оттачивающим условности, в которых он творит, и ремесленником, являющимся рабом этих условностей. Если они нам незнакомы, то в первую очередь условности приковывают к себе наше внимание, и творения становятся для нас бездушными. И действительно, работы поздних классицистов очень часто были именно такими. Оставалась одна шелуха — вычурный претенциозный скелет, приукрашенный выцветшими лохмотьями давно истрепанных идеалов. Каждая великая традиция умирает по-своему: классическая традиция умерла от робости. Она испугалась крови и плоти жизни, она была слишком вежливой, чтобы смотреть в лицо реальности, слишком возвышенной, чтобы касаться обычных конкретных событий и фактов; она занималась только обобщениями, ибо считалось, что они верны, безвредны и всеми уважаемы; если же и они пусты, что тогда остается делать? Умирая, она сжалась в комок и бормотала старые заклинания, и даже после того как испустила последний вздох, продолжала по инерции их бормотать» [72, с. 69].
Необычайно интересно отметить аналогичность вышеприведенных фактов с событиями, происходившими в это время в Японии. С одной стороны, отрицательным было постепенное угасание достоинств и возможностей аристократической культуры, с другой стороны, как мы увидим, положительным было зарождение новых идей и форм, готовых прийти ей на смену. В Германии разрушение жесткости религиозной доктрины стимулировало возникновение исследовательского духа. В Италии контрреформация попыталась исправить издержки или ошибки Реформации, и национальное движение проникло в классицизм
76
Ренессанса прежде, чем тот себя истощил. Во Франции классическая эпоха Людовика XIV стала излишне аристократической и манерной и, «умирая, сжалась в комок». В Англии же пуританская эпоха стала слишком тесной, и вольный разгул периода Реставрации выбил у нее почву из-под ног, а полвека спустя еще раз оформившееся новое классическое возрождение, во главе которого стояли следовавшие французским образцам Драйден и Поуп, сначала сменилось натуралистическим движением из Шотландии, а потом романтическими поэтами, реалистическими романистами и журналистами из кофеен. Вместе с весенним теплом по всей феодальной и аристократической Европе подул ветер народных перемен. Поразительно похожие процессы происходили и в Японии XVII в.
ПРЕКРАЩЕНИЕ КИТАЙСКОГО ВЛИЯНИЯ
Вероятно, следует обратить внимание, что примерно в это же время начали высыхать китайские источники, из которых Япония черпала вдохновение. Завершилась великая эпоха Сун, одна из наиболее ярких в китайской истории, подходила к концу эпоха Мин. Внутренняя слабость делала Китай легкой добычей для северных врагов, и захват в XVII в. маньчжурами власти в Китае надолго задержал культурное развитие этой страны. Правда, в эру Цянь-лун (1736—1796) произошел запоздалый расцвет китайского искусства, но до этого набеги кочевников с севера и появление с 1644 г. в пекинских дворцах маньчжуров не принесли стране с тысячелетней культурой ничего, кроме упадка. Когда великолепные интеллектуальные и художественные источники временно иссякли, Япония, всегда чувствительная и восприимчивая к притоку идей из-за границы, по-видимому, тоже ощутила засуху и перестала воспринимать влияния, доходившие ранее с Азиатского материка. Даже Корея, через которую в Японию прежде проникло многое из китайской культуры, больше не являлась связующим мостом: последствия вторжений Хидэёси в Корею оказались неблагоприятными и уничтожили многие каналы, по которым в Японию проникала культура из этой страны. Конечно, были и исключения. Вместе с возвращающимися войсками Хидэёси в Японию прибыли корейские гончары, которые привезли в островную империю новую технику, благодаря чему XVII в. является для Японии самым великолепным периодом в истории развития ее прекрасной и неповторимой керамики. В этой области искусства Япония пережила не просто Ренессанс: она открыла новые средства художественного выражения, привлекшие к себе внимание
77
Европы. За исключением этого крупного открытия (и, возможно, усвоения жанровой живописи эпохи Мин), через Корею из Китая в Японию не дошло никаких свежих веяний. С введением же Японией политики закрытых дверей даже просто сношения с Кореей фактически прекратились.
Это не могло не сказаться на дискредитации деятельности ученых-китаеведов в Японии и не задержать развитие конфуцианского учения и философских исследований, равно как и живописи старых стилей.
Лоуренс Биньон пишет об искусстве этого периода: «Идеалом Иэясу, великого основателя династии сегунов Токугава, была простота. Отчасти этим объясняется реакция школы живописи Кано на витиеватость периода Момояма. Хотя Иэясу, возможно, и желал возвратиться к утонченной строгости культуры Асикага, дух времени был против него. Нация начала осознавать свое единство. Но уже сама политика сегунов Токугава, наконец своей мощной властью установивших мир в опустошенной стране, создавала обстановку, неприемлемую для аскетического искусства, выпестованного в период опасностей и бедствий учением дзэн. К концу века, в знаменитый период Гэнроку, жизнь в Эдо представляла собой своеобразный карнавал удовольствий и развлечений для тех, кто в силу сложившихся обстоятельств не мог принимать активного участия в политических и военных делах. Восстановить атмосферу эпохи Асикага было невозможно. Ее утонченные искусство и обычаи, которые могли быть подготовлены только долгой традицией исследовательской и религиозной мысли, не смогли безболезненно пережить крупного переворота, происшедшего в Японии. Мы ощущаем эти перемены, когда от живописи Масанобу переходим к живописи Танъю. Становится заметной утрата духовности и появление некоторой кичливости» [4, с. 198—199].
ПОСЛЕДСТВИЯ политики изоляции
Увядание классической культуры, по крайней мере отсутствие к ней интереса со стороны широких народных масс, объясняется не только прекращением контактов с Китаем, но отчасти и изоляционистской политикой токугавского правительства. Процветая под эгидой сёгуната и среди императорского окружения, искусство знати утратило жизнеспособность из-за отсутствия притока новых идей из-за границы. В этот период Япония оказалась почти герметически закрытой. Не многих иностранцев пускали дальше о-ва Дэсима, близ Нагасаки, японцам же запрещалось ездить за границу. Количество иностранных кораблей ограничивалось несколькими судами в год,
78
а кораблестроение и мореплавание на японских судах было запрещено почти полностью 5.
Пока в Европе не началось возрождение заморских исследований и мореплавания, ученые-схоласты точно так же окончательно погрязли в самокопаниях и пустых спорах, и только новые географические открытия проложили дорогу веяниям Ренессанса. По мнению Накагава Еити, на классическую литературу Японии сильное влияние оказало море, когда же Япония отвернулась от моря, литература стала пустой, самодовольной и фальшивой. Существует теория, что, подобно эпосу Гомера, основными мотивами классической поэзии «Манъёсю» является чувство восторга и преклонения авторов перед могучими морями и описывается трагический опыт морских путешествий 6. В сборнике «Манъёсю» имеется несколько стихотворений, сочиненных послами в танский Китай; несколько стихотворений, в которых рассказывается о плаваниях по Внутреннему Японскому морю, оставил и Хитомаро, самый выдающийся официальный поэт того времени. Суда, на которых императорские дары отправляли на континент, были крошечными, и поэтому вполне понятно, что каждое плавание было рискованным предприятием. Вероятно, Хитомаро и его собратья по перу плавали по морю не в слишком комфортабельных условиях, поэтому их опыт приобретал мужественный, эпический и глубоко эмоциональный смысл. Бодлер писал: «Свободный человек, любить ты будешь море». Правда, замечает Накагава, «моря переменчивы и совершенно отстранены от мирских дел, тем самым предоставляя превосходную возможность для романтических приключений или героических деяний. Как видно по стихотворениям, сочиненным греческими героями, принимавшими участие в походе аргонавтов, именно море рождает в умах поэтов самые сумасбродные и фантастические идеи и красочные литературные сюжеты». Ранняя японская поэзия не испытывала недостатка в такой воодушевляющей теме.
Но потом, много позже, все переменилось. Наступила изоляция Японии. Мореплавание прекратилось, иссяк и благотворный приток идей. «Как это ни странно, любовь к морю и морские подвиги, характерные для периода составления „Манъёсю", постепенно ослабли, а потом и полностью исчезли. В прославленных антологиях „Кокинсю", „Синкокинсю", в поэтических сборниках позднейшего времени, в прозе и эссеистике мы не найдем даже намека на поэтическое восприятие моря, даже упоминаний о нем 1. Как жаль, что японская литература отвернулась от широких морских просторов, содержащих в себе неистощимый запас приключений и чудес! Одновременно с исчезновением из японской литературы маринистской поэзии национальная культура начала терять свое великолепие. Осо
79
бенно же когда государственные дела оказались в руках регентш — матерей императоров, и еще позже — когда политическая власть перешла в руки военного сословия, культурная жизнь народа стала еще более прозаичной и унылой. Сильнее всего эта тенденция проявилась в культуре эпохи Токугава. Двести шестьдесят пять лет существования токугавского сёгуната ознаменованы вновь вычеканенной надписью: „Политика закрытых дверей". Нельзя отрицать, что политика закрытия страны от всех внешних воздействий с последующим запретом всякого мореплавания очень сильно мешала и сдерживала воспитание романтических чувств» [66, с. 32].
В действительности же запрет на заграничные контакты начал действовать только в 1640 г., при третьем сегуне Токугава Иэмицу. Для противостояния влиянию испанских и португальских миссионеров-иезуитов Иэясу расширил торговлю с английскими и голландскими протестантами. Но в 1637— 1638 гг. в Симабара произошло крупное восстание христиан, показавшее властям, что Европа при помощи религии может подрывать верноподданничество граждан. Таким образом, отмечает Феноллоза, «с 1639 г. началась политика изоляции, при которой ни один местный житель не мог покинуть страну и ни один японец, находящийся за ее пределами, не мог вернуться на родину. Все голландцы были сосредоточены на острове Дэсима, и им разрешалась присылка только одного корабля в год. Китайцы также могли осуществлять торговлю через единственный порт — Нагасаки. И экономически, и духовно Япония превратилась в изолированный остров перед лицом развивающегося мира. В течение последующих ста лет, когда иезуиты успешно вошли в доверие к маньчжурам, а король Франции Людовик XIV мог обмениваться дружественными посланиями с великим Канси 8, в то время как англичане осваивали огромный Североамериканский континент, а наука стремительно приближалась к эпохе Просвещения, Япония, нахмурив брови, стояла, подобно непоколебимой крепости прошлого, игнорируя цивилизацию, бросая вызов людскому братству, отстаивая совершенно искусственные идеи и формы старого порядка» [24, т. 2, с. 114].
В какой-то степени отсутствие новых веяний из-за границы, напротив, способствовало росту более энергичной культуры. Как мы видели, она не отвергала полностью новых китайских культурных влияний, но в интеллектуальных кругах Японии, где философы были, по-видимому, поглощены самоуглублением и диалектическими дискуссиями, эти влияния становились все более и более окостенелыми. Нельзя до конца согласиться, что политика изоляции мешала росту местной национальной культуры или народного искусства и литературы, она обратила
80
мысль народа вовнутрь, стимулируя искусство миниатюрных нэцкэ и резьбы по слоновой кости, утонченную поэзию или выращивание крошечных деревьев и другие подобные занятия. Что же касается классических увлечений двора, то они стали настолько условными и искусственными, что утратили в глазах широких масс всякий смысл и выродились в бессодержательные формулы и ритуал. Таким образом, из-за нехватки кислорода и новых заграничных идей классические традиции утратили силу и начали увядать. Благодаря этому у сторонников чисто национальной культуры появилась возможность продемонстрировать свои достоинства и создать более самобытное искусство, литературу и этические нормы.
В области науки такая изоляция от внешнего мира оказала на национальную мысль пагубное влияние с непредсказуемыми последствиями. «После краткого периода, — замечает Кинлей-сайд, — когда поощрялись сношения с Европой через посредство миссионеров и торговцев, сёгун начал опасаться за прочность своего режима, в случае если иностранные идеи свободы и прогресса получат неограниченный доступ в Японию9. . . Поэтому вскоре был воздвигнут барьер против всех иностранных идей, и вместо нового возрождения и великой эпохи культурного просвещения токугавский режим очень быстро начал поощрять просветительскую политику, поддерживая в первую очередь консервативные, ортодоксальные и в основном бесплодные идеалы древнего Китая и Японии. Таким образом, хотя Иэясу содействовал возрождению науки и восстановлению авторитета ученых, он и его последователи сузили задачи и ограничили направления, в пределах которых ученые могли проводить свои исследования и добиваться успеха. ,,Эпоха сёгуната ни в коей мере не была периодом интеллектуального застоя. Но в эту эпоху правительственная система образования умышленно и неосознанно сдерживала свободомыслие независимых ученых и контролировала врожденные инстинкты, которые тем не менее проявлялись и подготовили почву для свержения сёгуната и реставрации 1868 г."» [41, с. 49—50].
Как мы увидим, такое стремление формализовать образование и управлять знаниями истощило творческую энергию и эффективность схоластических методов, и причастные к ним сословия совмещали их с духом свободного исследования. Потребность же простого народа, движимого неистребимыми «врожденными инстинктами», в каком-то элементарном образовании при создавшемся частичном вакууме оставалась неудовлетворенной. Пробуждавшееся сознание народа было невозможно контролировать полностью, и следствием самого строгого и консервативного контроля явилось появление
6 Заказ 1438
81
дешевых и популярных книг, дававших пищу для ума, легендарно-героических или полуморальных сюжетов театра кукол или Кабуки и назидательных бесед в чайных домах, которые, несомненно, играли почти такую же стимулирующую роль в жизни горожан, как знаменитые кофейни Лондона того же периода или несколько позднее на континенте — кафе на бульварах.
Многие японские ученые признают, что политика изоляции отрицательно сказалась на культурном развитии Японии. Ни-тобэ Инадзо открыто осуждает ее пагубные последствия. «Япония впала в спячку в начале XVII в , чтобы пробудиться только в середине XIX столетия. Она прожила этот период, ничего не зная (не считая слабых отголосков, которые доносили до нее голландские торговцы) ни о Тридцатилетней, ни об Английской гражданской войне, ни о Реставрации, ни о Блистательной революции, ни о правлении великих монархов Петра I или Карла XII, Екатерины II или Фридриха Великого, ни о разделе Польши, ни об Американской войне за независимость, ни о Французской Революции, ни о Наполеоне. Трудно представить, как долго она спала. . . Все крупные бури, сотрясавшие Европейский континент, не шевельнули даже стебля травы в стране блаженного неведения» 10 [57, с. 60]. Нитобэ признает, что прекращение междоусобиц и гражданских войн периода Асикага принесло желанный мир, но этому миру не хватало некоторых вдохновляющих признаков величия «,,Рах Tokugawa", — пишет он, — оказался плодотворным для национальной японской культуры. Поскольку художникам и писателям этого времени иностранные образцы были недоступны, им приходилось копаться в собственных душах, чтобы создавать какие-то оригинальные произведения. Под бдительным контролем правительства и в иерархическом обществе в сфере искусства и литературы не могли появиться великие личности, если же они и были, то не осмеливались выражать себя, хотя в ремесленнических мелочах, в изяществе рисунка немногие могут превзойти тех, кто вырос в эпоху изоляции и феодализма. . . Не было создано ни одной крупной философской системы, а лучшие умы были заняты комментированием классиков или оттачиванием второразрядных стихотворений на китайском языке. Власти опасались любых оригинальных идей или смелых высказываний. На изобретения и открытия смотрели настороженно, с подозрением, и всячески им препятствовали. Во всем царила жестокая условность» [57, с. 61].
Все это верно, однако Нитобэ, вероятно, преувеличивает, когда он развивает свою мысль: «Такими были общие последствия политики изоляции: пагубное влияние на свободу полета мысли, невозможность получения стимула из-за границы, огра-
82
ничение фантазии из-за игнорирования остального мира, низведение энергии страны и народа на самый низкий уровень, уменьшение численности населения до минимальных размеров, препятствие наиболее энергичным осуществлять смелые предприятия» [57, с. 62]. Хотя, как мы показывали, высшая иерархия и стремилась стать неподвижной, а следовательно, бесплодной в результате изоляционистской политики и самопожертвования, в среде простого народа вызревали новые силы, формировалось динамическое движение, рассказать о котором мы и собираемся. Классическое возрождение принесло в аристократические круги великолепие или же (если не кричащее великолепие во вкусе Хидэёси) возвышенную строгую красоту Но когда оно лишилось гибкости и начало обретать строгие формы, то утратило свою социальную значимость. В то же время среди третьего сословия начался бунт против классицизма высших классов и воскрешение простонародной культуры, которая вдохнула свежие силы в культурное возрождение периода Гэнроку.
Существовала еще одна причина возникновения этого движения, особенно в районе Кансай Пока правители укрепляли свое влияние в Киото, распространяя конфуцианское учение и классическую культуру, это в какой-то степени сказывалось и на народных массах. Но когда сёгун Иэясу переместил свою военную ставку и административный аппарат в Эдо, за ним последовало много военных и чиновников, обосновавшихся вокруг нового восточного двора. В Киото осталась только часть самураев, хранивших верность императору. Они отчасти покровительствовали образованию, изящным искусствам или придворной литературе, но главные меценаты классической учености покинули Киото. Хотя законы, провозглашенные в Эдо сегуном, еще распространялись на всю страну, в действительности в старой императорской столице их соблюдала очень ограниченная группа. Столицу покинули самураи, а вместе с ними — китайский рыцарский кодекс и конфуцианское учение. Таким образом, за исключением ограниченной группы вокруг императорского трона, Киото лишился классического влияния, утверждаемого Токугава. Наступило некоторое ослабление, что позволило расширяться «новому движению» народной культуры. Возникло буржуазное городское сословие, в некоторых отношениях более сильное, чем самурайское, и во всех отношениях более независимое. В такой изменившейся социальной среде придворные традиции стали столь же старомодными и столь же подвергались критике, как в Лондоне периода Реставрации, когда древние формы и церемонии, ходульные и неестественные, стали предметом грубых насмешек и шуток.
IV. НАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ
В главе II мы показали, как при первых сегунах Токугава началось возрождение классицизма, поощрявшееся аристократией, подобно тому как Классическое Возрождение во Флоренции проходило под покровительством Медичи и тосканской знати. Мы также показали в главе III, как в конце концов изжило себя это обращение к древней и преимущественно чужой культуре, отделившись, как это произошло в среде аристократов и интеллектуалов, от основного направления прогресса и пробуждающейся энергии народных масс. Объединение страны, экономические перемены и установленные Токугава мир и порядок привели к зарождению японского национализма, подобного тому, который в этот же период медленно развивался в Европе. Этот национализм требовал более чистой национальной формы выражения и оформления, чем та, которую могли предложить стереотипные китайские культурные течения. Поэтому теперь мы кратко рассмотрим формы проявления нового движения, которое должно было возникнуть в этом веке, чтобы восполнить пробелы в аристократической культуре.
Хотя для удобства исторического и культурного анализа мы попытались проследить поочередно все эти стадии, едва ли нужно указывать, что, как и во всех подобных исследованиях культурного прогресса, различные течения накладываются друг на друга или совпадают. Потоки пересекаются, а потом разделяются и взаимопроникают один в другой. Поток истории течет не в строго установленном русле, а произвольно извивается по полям столетий. Но все же всякая рябь или волна движут речные воды. Пена, водовороты и шумные воды, равно как и медленный прозрачный поток, всегда свидетельствуют о жизни и движении. Реки разбиваются о скалы, крутятся у берегов водоворотами или текут плавно. И тем не менее они всегда движутся к определенной цели: некоторые, чтобы исчезнуть под землей или напитать корни растений; другие же, чтобы накопить за это время энергию. Подобные тенденции существуют и в потоке цивилизации; в данном обзоре мы можем только наметить вехи, довольно приблизительно указать направление течения отдельных речек и ручейков. Рассмотрение их в виде строго определенных и независимых тенденций привело бы к неверной интерпретации истории, и все-таки историк вынужден поступать так, хотя бы для практического
84
удобства. В различных пересекающихся потоках культурного развития Японии постоянно существовали действие и противодействие, слияние и разветвление. Например, Коэцу в живописи, а Басё в поэзии сочетали традиционные принципы с новаторством. Точно так же весь период представлял собой совокупность движений. Разделение этих сложных тенденций на составляющие компоненты обязательно будет искусственным, хотя и неизбежным при любом подобном анализе.
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Можно обнаружить, что любое народное движение, если не основывается на образованности населения, то по крайней мере зависит от ее уровня. Почти все крупные политические, социальные или интеллектуальные реформы любой цивилизации совпадают с соответственной степенью просвещенности тех классов, чьи интересы они затрагивают. Там, где благотворительствующими деспотами реформы насаждались сверху народу, не готовому к их принятию, они, как правило, оказывались недолговечными. Европа вышла из «мрачного средневековья» не благодаря указам императоров, пап и реформаторов, а благодаря пробуждению определенных интеллектуальных возможностей самого общественного сознания, что подготовило благодатную и способную дать всходы почву для семян, посеянных отдельными реформаторами. Мы неизменно должны изучать состояние сознания народных масс, интеллектуальный уровень народа и при оценке влияния отдельных конкретных лидеров.
Точно так же, как наступление европейского Ренессанса было ускорено развитием книгопечатания, заменившего печатным прессом Гутенберга прежние трудоемкие методы ручного копирования рукописей, вследствие чего число книг было невелико и они были крайне дорогими, так и «новое движение» в Японии стимулировалось распространением литературы среди более широкого круга читателей.
На предыдущих страницах мы уже отмечали недостатки системы образования того времени. Тэракоя, или храмовые школы, представляли собой крайне убогие учебные заведения; лишь немногие из простых людей пользовались привилегией посещать средние школы. Вполне естественно спросить, как могло получиться, что романы, драмы, картины и другие произведения искусства были созданы простыми горожанами, возможно, получившими образование только в тэракоя, а это значит обучавшимися главным образом каллиграфии. Единственной настоящей наукой, которая была им доступна, являлась арифметика, и, хотя некоторые изучали арифметику значительно
85
более сложную, чем та, которую преподают в современных начальных школах, трудно представить, какая связь может существовать между наукой о числах и тем великолепным и поразительным искусством и литературой, которые были характерны для токугавской культуры.
Хосэгава Нёдзэкан так объяснил распространение интеллектуализма среди средних сословий. «В первую очередь, с древних времен в этой стране [Японии] было сравнительно мало неграмотных. Даже в старину, когда приходилось записывать японский текст при помощи китайских иероглифов, простой народ породил много поэтов и поэтесс. С изобретением и всеобщим принятием национальной слоговой азбуки — кана, образование, получаемое в тэракоя, во многом способствовало снижению уровня неграмотности. Примерно с X в. усилиями высокоинтеллектуальных аристократов начала развиваться литература, написанная каной, — возможно, наиболее показательным произведением этого периода является знаменитый роман „Гэндзи-моногатари", — ас наступлением военной эпохи она превратилась в популярную литературу, более отвечающую вкусам военного сословия. В период Токугава появилась литература в современном значении этого слова, предназначенная для простых людей, в форме эдзоси, своеобразных публикаций, которые привлекали скорее иллюстрациями, чем текстом, хотя полный текст публикуемого произведения печатался каной вокруг иллюстраций. У многих простолюдинов дома имелась библиотечка из эдзоси, рассказывающих о войнах и любовных историях и содержащих цветные гравюры, которыми иллюстрировались основные события, описанные в этих книгах. Многие из горожан могли читать такие написанные каной книги, и их популярность привела к появлению публичных библиотек эдзоси, занявших прочное место во всех городах империи. Не только торговцы и ремесленники, но и крестьянское население также было прекрасно знакомо с крупнейшими историческими персонажами и событиями, с героями и героинями знаменитых историй, точно так, как средний житель современной Англии знаком с сюжетами и героями пьес Шекспира. Поэтому самые прекрасные продукты культуры эпохи Эдо были доступны и абсолютно понятны людям, находившимся на самой низкой ступени социальной иерархии. Торговцы и ремесленники этого периода, несомненно, были способны оценить первоклассный театр Кабуки и музыку, поскольку искусство подражания голосам выдающихся актеров и музыкантов стало столь модным среди простых людей, что со временем развилось в профессию чревовещателя» [30, с. 593—594].
Предполагаемую параллель между Японией и Англией в переходный период от классического обучения к народному будет
86
весьма уместно проиллюстрировать выдержкой из интересного исследования «Философия английской литературы» Ингрема Дж. Брайена, бывшего преподавателя филологического факультета Токийского университета. Рассматривая период Реставрации, пришедший в Англии на смену периоду Республики, он пишет: «Бесплодная строгость не может внести в литературу ничего нового, литература же всегда нуждается в чем-нибудь новом. Классическая теория привела в дальнейшем к все-подавляющей тирании форм, когда литература превратилась в простую имитацию стереотипных моделей, вместо того чтобы быть средоточием жизни, пламенем, а не пеплом прошлого. Но следует отдать должное классицистам за то, что они оставили литературе в наследство изящные формы и дух индивидуальности, без которого наша поэзия и проза были бы намного беднее. Джонсон любил изображать смену настроений каждого персонажа, то же делало большинство наших великих писателей после него. Но приверженность принципам, требующим беспрекословного соблюдения формальности в искусстве, привела литературу к бездушной условности и неискренности, поскольку она уже присутствовала в жизни и образе мыслей. Попытка королей династии Стюартов в политической и религиозной сфере предписать этот принцип всей нации при-
о
вела к самому революционному движению в нашей истории. Главная ошибка классицистов и родственных им формалистов была в том, что они игнорировали народ, а без него настоящая литература, которая в какой-то степени должна быть отражением жизни, невозможна. Несомненно, массы не могли при чтении полностью оценить все литературные достоинства произведения. Даже Ренессанс не смог проникнуть в потаенные уголки народного сознания. Социальная, религиозная и экономическая революция эпохи Тюдоров, брожение в среде горожан при ранних Стюартах, постоянный рост национального самосознания, открытия путешественников и ученых и, помимо всего, популяризация библейской и классической литературы в огромной мере расширили сферу интересов и воображения рядового человека, не слишком изменив его личные чувства, убеждения и идеалы. Ему была присуща всеобщая слабость — моральный нейтралитет. Духовные и этические преобразования предстояло совершить поколениям, жившим при Иакове I и Карле II. Но народное сознание было слишком занято классовой ненавистью, религиозными распрями, политическими неурядицами, чтобы заботиться о моральном и интеллектуальном прогрессе. Осознание интеллектуального и национального единства, проявившееся при Елизавете, было задушено тиранией и господством бездуховной религии. Народ значительно больше интересовался ведьмами и демонами, виселицами и четвертованиями,
87
чем истиной и моралью. Повсеместными были жестокие игры и спортивные состязания с участием животных. . . Литература, равно как государство и церковь, была больше занята своими собственными делами, чем проблемами человечества. Бен Джонсон создал социальные комедии, при помощи которых намеревался улучшить жизнь и нравы, но в них выводились скорее типы и отвлеченные категории, чем герои, которые были бы понятны большинству. Очевидно, в эпоху пуританства страсть и причуды елизаветинцев с присущей им щедростью чувств и симпатий и учащенным пульсом наслаждений сменились строгим моральным величием, утратив то изящество юмора, которым компенсируется вычурность и излишества» [12, с. 158—159].
Как уже отмечалось, реакцией на все это была драма эпохи Реставрации с ее склонностью к вольности, переходящей в непристойность, сатирическая поэзия, энергичная, язвительная и популярная; и, наконец, истинно народная литература, появлению которой способствовало развитие книгопечатания и газетного дела.
Наблюдается явная параллель с процессом, у истоков которого стояли Сайкаку и Тикамацу и который более подробно мы опишем на последующих страницах. Развитие классицизма шло в своем русле; он был достоянием высших сословий и поэтому как в Японии, так и в Англии утратил контакт с принимающим все более отчетливые черты искусством простого народа. На смену ему пришла народная литература.
НАРОДНОЕ ИСКУССТВО
Новая тенденция проявилась также и в специфическом развитии искусства. Как мы видели, после настойчивых усилий нескольких поколений своих предшественников токугавскому правительству удалось создать единую социальную структуру, и, естественно, оно обращало особое внимание на поддержание порядка и подавление любых идей, которые могли бы привести к крушению этого порядка. Некоторые мероприятия привели к подавлению свободного выражения творческих импульсов. Например, должность постоянного художника при токугавских сегунах наследственно закрепилась за художниками школы Кано, Четыре члена семейства Кано пользовались непосредственной поддержкой сёгуната, а еще 16 представителей той же школы — покровительством бакуфу в Эдо. Все они считались феодальными князьями и, подобно самураям, числились гражданскими подданными; им даже позволялось носить у пояса два меча. Привилегированная должность передавалась от отца
88
к сыну, и все изучавшие искусство молодые люди, которые стремились занять подобные должности в поместьях даймё, стекались в мастерские того или иного Кано, даже если он оказывался художником, лишенным подлинного таланта и склонным только блюсти традиции, установленные мастерами этой школы.
С другой стороны, простые люди, не имевшие доступа к почетным и доходным должностям, давали выход своей жажде свободы, удовлетворяя свои желания и любовь к развлечениям. Они отправлялись в веселые кварталы и театры, украшали себя или свои жилища всевозможными безделушками. Не только в аристократических кругах, но и среди простого народа вошли в моду картины укиё-э, инро — маленькие лакированные коробочки для лекарств, подвешиваемые к поясу; нэцкэ — застежки-украшения с изящной резьбой, при помощи которых крепились к поясу инро или табачные кисеты; декоративные рукоятки-гарды (ибо даже простолюдинам в особых случаях позволялось носить один меч). Вскоре Япония
прекратила контакты с заграницей, эгоистически сосредоточилась на самой себе, и искусство ее стало еще более миниатюрным, изысканным, лапидарным — ив конце концов суперизящным. Эти вещички были очаровательными, пленительными, но с течением времени они постепенно утратили жизненную сущность эстетического идеала и отклонились в сторону от развития основных художественных форм.
Но в Киото расхолаживающие ограничения сёгуната были слабее. Здесь ощущалось большее стремление к свободе и индивидуализму. Большая терпимость объясняется более благоприятной и здоровой атмосферой. Даже в те времена императорская столица находилась вне сферы влияния и контроля военного деспотизма. Поэтому со всех концов страны в Киото стекались вольнодумцы и художники, которые отказывались рабски следовать жестким условностям официальной школы
Кано и ей подобных.
В сфере искусства прежде всего и возникла народная
школа, выступившая против ходульных форм китайской условности. Представителем движения возрождения освященной временем национальной живописи Ямато-э выступала школа Тоса. Мастера этой школы в качестве придворных художников остались в Киото, школа же Кано, придерживавшаяся китайского стиля и традиций, переместилась в столицу сегуна — Эдо и встала на службу конфуцианским принципам этого правительства. Там же возникла новая школа живописи — укиё-э, популярная простонародная форма жанрового искусства, почти исключительно японская
Бунтуя против классической традиции, некоторые худож
89
ники дошли до того, что стали искажать канонические священные фигуры. Например, они изображали Фугэн, бодхисаттву всепроникающей мудрости, сидящим на спине слона и вместо буддийского сочинения держащим в руке любовное послание. Основоположника дзэн-буддизма Даруму часто изображали с любовным письмом и в объятиях красотки.
Таким образом, в этот период в живописи постепенно развился более живой и земной стиль. Классические изображения с изящными чертами, на которых посвященным предлагалась целая серия эзотерических символов, начали казаться слишком утонченными. Вот тогда и появились художники, в более реалистических формах рисующие сцены из повседневной жизни.
Дисциплина и самоограничения аристократического эстетизма частично утратили искру жизни. В новом простонародном движении, окончательно сформировавшемся в эпоху Гэнроку, возродилась некоторая доля действительности и жизненности. «К тому времени гиганты школы Кано уже давно умерли. На месте их могучего вдохновения остались только поверхностность и бездушный формализм. Уже давно было мертво величественное идеалистическое искусство, лучше всего известное нам по работам Сэссю, отличавшее предшествующий период Асикага, искусство, которое, по словам Лоуренса Бинь-она, ,игнорирует человека и не проявляет интереса к физи-
ческой красоте мужчин и женщин, сосредоточившись главным образом на созерцании широких просторов над озерами и горами, тумана и потока или дрожащих в воздухе веток нежных цветов". Отживающее свой век искусство высших сословий стояло одиноко, подобно маленькому острову, отгороженным от искусства народа, неспособным влиять на него или испытывать его влияние» [24, с. 53].
Так выросло новое искусство, укиё-э, отражающее современную жизнь простонародья, его представления, праздники и времяпрепровождение. Стиль, которым изображалась жизнь большинства населения, допускал некоторый натурализм, часто окрашенный юмором, а иногда — умеренной непристойностью. Это был легкомысленный стиль, который не воспринимал всерьез ничего, кроме самого себя. «Укиё-э, — замечает Артур Дэвисон Файк, — означает ,,картины изменчивого мира";
в самом слове заключен упрек и приговор тривиальности. Оно предполагает существование ценностей, которых не допускает то ортодоксальное созерцательное буддийское отношение к жизни, когда жизнь воспринимается как театр теней, место преходящих желаний, иллюзий и страданий, бодрствование, которого можно избежать, только постоянно имея пред мысленным взором картины безмятежного спокойствия нирваны.
90
Но подобная философия отчаяния и отрицания не могла пустить глубоких корней в душе столь жизнелюбивого народа, как японский; в такой стране эти идеи могли найти серьезное пристанище только в одиноких умах изолированных от общества аристократов. Будучи народной, школа укиё-э оставалась столь же мало затронутой буддизмом, как современное французское искусство плаката — христианством. Между взглядами Джотто и Обри Бердслея расстояние не многим больше, чем между взглядами Канаока и Утамаро. Весь тот ореол морального идеализма, перед которым благоговело классическое японское искусство, был отброшен народной школой во имя искреннего признания радости бытия и увлекательных мирских соблазнов» [25, с. 55].
Рассматривая развитие этого нового движения, мы должны вспомнить об Эдо в так называемый период Гэнроку. Именно в Эдо, несмотря на сдерживающее влияние токугавского бакуфу и предписываемые им классические вкусы, простонародное движение в искусстве окончательно оформилось и было наиболее ярким. Эдо стал чем-то наподобие Лондона XVII в. эпохи Реставрации: центром книжных и газетных издательств, чайных домиков, напоминающих знаменитые кофейные дома времен Джонсона, театральных кварталов и кварталов развлечений. В Эдо достиг вершины новый стиль иллюстраций укиё-э, особенно стиль нисикиэ — цветных гравюр на дереве, чему также способствовало издание книг и театральных афиш.
Тем не менее можно считать, что первый толчок к этому дали торговые города Западной Японии, где богатство, роскошь, свобода и распущенность вылились в новые культурные формы, по своему характеру радикальные, современные и ломающие традиции, существовавшие как при императорском дворе в Киото, так и в сёгунской ставке в Эдо.
Продолжая сравнительное сопоставление тенденций развития Японии и Запада, нам неизбежно придется еще раз обратить внимание читателей на большое сходство двух цивилизаций, в частности, в области гравюр. Как отмечалось, в Японии они появились в конце XVII в. и вершиной их расцвета являются цветные гравюры, созданные после эпохи Гэнроку. Самой ранней известной иллюстрированной книгой является «Буссацу дзюо-кё» (китайское буддийское сочинение «Десять владык ада»), опубликованное в 1582 г. и представляющее собой точную копию китайского издания2. Ее украшали довольно грубые гравюры на дереве. В 1608 г. появился сборник любовных и куртуазных историй под названием «Исэ-моногатари», иллюстрированный 48 гравюрами; в 1610 г. вышло его второе издание. В 1628 г. появились «Хогэн-моногатари» и «Хэйдзи-моногатари», иллюстрированные гравюрами, вслед за которыми
91
было издано множество других книг, отпечатанных с досок, на которых вырезались текст и рисунки 3.
Слова Сиднея Колвина о развитии этой формы печатания в Нидерландах вполне могут быть применены к Японии. «Искусство печатания было изобретено как раз вовремя, чтобы помочь новому движению и способствовать его принятию сознанием людей. Новое искусство позволяло просвещать народ уже не только при помощи письменного слова. Наряду с печатанием текстов или даже раньше того начал применяться другой вид печатания — рисунков, т. е. того, что обычно называют гравюрами. Точно так же, как книги являлись средством размножения и более дешевого распространения идей, гравюры на меди или дереве являлись средством размножения и более дешевого распространения изображений, которое позволяло облекать идеи в образы или же служило их заменителем для неграмотных. . . Вскоре начала ощущаться большая потребность в обоих видах гравюр. Независимо от иллюстраций рукописных или печатных книг, для которых применялись почти исключительно гравюры на дереве, создавались гравюры или наборы гравюр обоих типов: более изящные и дорогие, предназначенные специально для представителей образованных сословий, делались на меди, а более смелые, простые и дешевые — на дереве. Оба типа успешно продавались на рынках, ярмарках и во время церковных праздников по всей стране. Преобладали темы, пользовавшиеся симпатией народа. . . Но вскоре к ним
добавились сюжеты аллегорические, из античного наследия, связанные с колдовством, пережитками и повседневной жизнью; сцены в жилых домах, в монастырях, лавках, в поле, на рынке и в военном лагере; и, наконец, портреты знаменитых людей, сцены придворной жизни, величественных процессий и церемоний. Так новое искусство превратилось в зеркало, в котором отражалась почти вся жизнь и образ мыслей той эпохи» [23].
«Сравнение с развитием гравюры на дереве в Европе, — замечает В. фон Зейдлиц, — покажет нам, что и на Востоке, и на Западе процесс был очень похожим. В Европе резьба гравюр на дереве была изобретена в конце XIV в. На протяжении более пятидесяти лет она применялась только для печатания отдельных листов, главным образом картин; иногда добавлялось имя или несколько строк текста, вырезанные на той же самой печатной доске. Вскоре после изобретения в середине XV в. печатания с наборным шрифтом появились первые гравюры на дереве (ксилографические книги), которые в подражание популярным иллюстрированным рукописям соединяли в себе и текст и иллюстрации. В начале 70-х годов того же века отдельные гравюры на дереве помещались в качестве иллюстраций к кни
92
гам, напечатанным наборным шрифтом. Эти скромные контурные рисунки, служившие главным образом основой для раскрашивания, усилиями независимых художников, в особенности Дюрера, превратились в композиции, в совершенстве передающие светотень и поэтому не нуждающиеся в красках. Тогда гравюры на дереве, подобно гравюрам на меди, в форме отдельных отпечатанных листов начали прокладывать себе дорогу к простым людям. Тем не менее, прежде чем отважились на создание цветных гравюр, прошло еще некоторое время. Настоящие полихромные гравюры были впервые созданы только в конце XVIII в. Губицем, но широкого распространения не получили. Обеим странам потребовалось примерно одинаковое время (немногим более столетия), чтобы гравюры на дереве разными путями превратились из заготовок для последующего ручного раскрашивания в полихромные гравюры, которые на последней стадии своего развития имели в Японии намного большее значение, чем когда-либо выпадало на их долю в Европе» [67, с. 54].
Из всех видов народных искусств и ремесел новой эпохи, возможно, наибольшее внимание привлекало к себе искусство японских цветных гравюр. Для большинства исследователей Японии его развитие представляет значительно больший интерес, чем театр Кабуки, кукольный театр и другие формы творческого самовыражения или же отражения духа той эпохи. Несомненно, причина этого главным образом заключается в том, что, по крайней мере для иностранцев, интересующихся Японией, в укиё-э нет такого языкового барьера, который существует в других областях искусства или литературы. Хотелось бы более подробно рассмотреть эту в высшей степени уникальную форму искусства, но нам придется отказаться от этой мысли по двум причинам. Во-первых, основной темой нашего обзора являются скорее литература, поэзия, драматургия, чем изобразительное искусство. Во-вторых, за несколькими исключениями, цветные гравюры более характерны для эпохи Гэнроку и последующего периода и достигли вершины своего развития только в середине XVIII и начале XIX в. Даже так называемые «примитивные гравюры», черно-белые (сумиэ) и раскрашенные от руки или простые двухцветные начали появляться только после 1700 г. Матабэй, новатор предшествующего периода, умер в 1650 г., а Хисикава Моронобу (1625—1714) 4, чьи первые черно-белые гравюры появились только в 1670 г., передал своим последователям только намек на цвет. Подлинным же изобретателем цветной гравюры считается Окумура Масанобу (1685—1764?). Следовательно, в полную силу этот вид искусства проявился позже рассматриваемого нами периода, и, кроме того, основной его центр находился в Эдо.
93
Однако семена укиё-э начали прорастать в середине XVII в., и следует отметить, что именно в это время в Японию были завезены голландские гравюры на меди, а возможно, и европейские гравюры на дереве, а также цветные китайские ксилографии. Первые книги, например «Исэ-моногатари», были иллюстрированы грубыми ксилографическими рисунками, но они ни в коей мере не были связаны со школой укиё-э, ибо являются продуктом старой классической традиции. Настоящие народные гравюры и иллюстрации, возникшие наряду с прекрасным искусством рисунка, появились главным образом в Эдо к концу столетия и получили широкое распространение среди населения. «Это были речные потоки, по которым озерные резервуары укиё-э вернулись в море народной жизни, из которого они и черпали воду». В них нашли воплощение не только тема изменчивого мира, но также сознательно декоративный момент и действительно созидательный стиль. По ним видно, как новая кровь привносит жизнь в высушенную, анемичную и формализованную эпоху. Этот специфический жанр сосуществовал рядом с театрами и кварталами развлечений, роль которых в жизни народа все больше возрастала; являясь «зеркалом», они могли принять ту форму, которая обусловливалась только ценностью новой свободы в жизни общества. Немаловажно, что жанровая живопись в Нидерландах и «Голландская школа», вершиной которой является Рембрандт (1606—1669), удивительно прогрессировали почти в это же самое время; голландские же купцы были тогда единственными иностранцами, поддерживающими регулярные контакты с Японией.
Мы уже отмечали, что произошел переход от религиозного
буддийского искусства, преимущественно скульптурного и иконографического, к более народному и светскому гуманистическому искусству. В этом есть определенная аналогия с европейским искусством эпохи Ренессанса, которое также перешло от религиозных форм к светскому искусству народа. Мы обнаружим
поразительную параллель с объяснением, которое дает Сай-мондс. «Как в древней Греции, так и в Италии эпохи Ренессанса первое место в интеллектуальной культуре страны занимали изящные искусства. Но мыслям и чувствам современников требовались эстетические средства, которые могли бы выражать эмоции более сильно, разнообразно и тонко, чем скульптура. Поэтому в Италии живопись стала искусством искусств. Однако при всем своем разнообразии и богатстве возможностей живопись не могла так удачно приспособиться к христианским сюжетам, как скульптура к языческим мифам. Религия, интерпретируемая через живопись, не отражала реальных условий, в которых существовали люди, в то время как искусство по самой своей природе привязано к границам того мира, где мы живем.
94
Церкви казалось, что искусство поможет ей, и в определенных сферах живопись успешно содействовала воспитанию благочестия: образно иллюстрировала Священное Писание и жития святых, создавала новые типы строгой красоты и безгрешной радости, облекала в плоть ангельские существа, объясняла культ девы Марии во всем его очаровании и пафосе и вызывала глубокое сострадание к мукам господа нашего. И все-таки живопись не могла передать саму сущность христианства, каким оно представлялось самым набожным, бескомпромиссным пуристам. Она не делала и того, что ждала от нее церковь: вместо того чтобы крепить узы церковного авторитета, вместо того чтобы пропагандировать мистицизм и аскетизм, она действительно вернула людям смысл их собственного достоинства, красоты и помогла доказать несостоятельность средневековой точки зрения, ибо, в сущности, искусство свободно от всякого контроля, и, более того, оно свободно в царстве чувственного переживания, от которого отворачивается монастырская религия в поисках собственной экстатической свободы созерцания. Таким образом, первый шаг к раскрепощению современного сознания был сделан искусством, провозгласившим благую весть о своей ценности и величии в мире разнообразных наслаждений, созданных для того, чтобы ими пользовались. Прикосновение искусства всему придавало человечность; благочестие, поддавшись соблазну искусства, сложило свои парящие крылья и опустилось на плодородную землю» [75, т. 1, с. 602— 603].
Гуманистическое движение, привлекшее наше внимание, и в Европе, и в Японии в сфере искусства в основном было представлено развитием жанровой живописи. Лоуренс Биньон отмечал: «Основоположником жанровой живописи в Южной Европе (на Севере это впервые появилось в некоторых, потом утраченных картинах Ван Эйка) был Джорджоне. . . Тема прекрасного, которую Джорджоне обнаружил в излюбленных развлечениях родных венецианцев — летних пикниках среди лесистых холмов, которым музыка придавала возвышенное очарование чувств и грез, — была итальянским прототипом многочисленных голландских жанровых полотен, когда развлечения солнечного Юга на открытом воздухе сменились интерьерами Севера, где пучок солнечных лучей добавляет какое-то печальное обаяние и подчеркивает тенистые уголки и знакомую обстановку, придает какую-то возвышенную нежность привычной домашней атмосфере. Ватто и его последователи в других условиях возродили тот же вид искусства, но чуточку отдалили его от действительности. Шарден же вернул его в домашнюю обстановку, выражая прекрасное при помощи возвышенных и изысканных сцен. Японский эквивалент жанровой живописи —
95
картины укиё-э, что значит картины изменчивого мира". По происхождению этот термин буддийский, и в нем ощущается реакция буддизма на все, что относится к области чувств и свидетельствует об эфемерности жалкого рода человеческого. Но со временем слово утратило эту окраску. Первоначально его применяли к художникам, изображающим повседневную жизнь, из-за их склонности к определенным сюжетам, но потом оно стало означать определенный стиль, и художников этой школы отличали по стилю, даже когда они изображали пейзажи, цвет, батальные сцены, любой из известных сюжетов старых школ. Родоначальник жанра укиё-э Матабэй занимает в японском искусстве место, аналогичное тому, какое Джорджоне занимает в Европе» [4, с. 204—205]. Поэтому в сфере изобразительного искусства новое направление жанровой живописи в обоих полушариях было в равной степени свидетельством проявления нового гуманизма и развития новых форм выражения, отличных от аристократических и классических традиций. В Японии оно явилось одним из наиболее ярких признаков подъема природных художественных устремлений народа.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И ЛИТЕРАТУРА
Ослабление влияния конфуцианского учения, возрастающая искусственность культуры двора, утрата сословием самураев своего влияния, отсутствие притока омолаживающих идей из-за границы и схоластические споры религиозных и философских авторов по вопросам конфуцианской доктрины — все это в итоге направляло интеллектуальные течения в чисто националистическое русло и привело к возникновению более национального искусства, литературы и религии.
Итальянский Ренессанс по своей природе был двойственным. Он обратился к античным формам и языку, оживив греческие или языческие идеалы, трансформированные через римские выразительные средства, но облек эти новые потоки энергии в чисто итальянскую форму. Боккаччо и Петрарка заново открыли величие позабытых литератур Греции и Рима, одновременно заложив основы итальянской национальной литературы. Позднее в Италии появились такие художники, как Микел-анджело, Рафаэль и Леонардо да Винчи, и создали творения, превосходящие шедевры древней эпохи. В XV в. Флоренция стала для Европы тем, чем были Афины в V в. до н. э.: ее самодержавные правители Козимо ди Медичи (1389—1464) и Лоренцо ди Медичи (1448—1492) были великими и щедрыми вдохновителями учености и не жалели сил, чтобы убедить ученых и талантливых людей селиться в прекрасном городе на реке Арно. Однако следствием этого явился расцвет не только культуры, подражающей античности, но и национальной литературы и искусства, что проявилось в XVI— XVII вв. Этобыло не просто возрождение античности, а ее соединение с гениальностью итальянского народа, приведшее к завоеванию западного мира. Росту итальянской культуры на родном языке, в основе которой лежал этот плодотворный союз, во многом способствовал отказ от античного наследия. «После того как блестящая плеяда поэтов-ученых в начале XIV в., —-пишет Буркхардт, — распространила в Италии поклонение перед античностью, установила формы образования и культуры, часто забирая в свои руки руководство политическими делами, и в немалой степени восстановила древнюю литературу, в XVI в., еще до того как их теории и образованность утратили силу в глазах общественного мнения, весь этот класс начал пользоваться глубоким и всеобщим презрением. Хотя к поэтам, историкам и ораторам все еще относились с почтением, никто лично не желал бы оказаться в их числе. К двум основным выдвигаемым против них обвинениям: недоброжелательному самодовольству и отвратительному распутству поднимающиеся силы контрреформации громко добавили третье обвинение — в безбожности» [14, с. 171].
Нечто подобное произошло в следующем столетии и в Японии. В области философии попытка увязать буддийский негативизм с конфуцианским преклонением перед природой привела к спорам в интеллектуальных кругах между сторонниками философии Чжу Си и Ван Янмина. Полемика между кангакуся (учеными-конфуцианцами) и вагакуся (представителями национальной школы) привела к возрождению изучения синтоизма, что, в сущности, свидетельствует о слабости контроля конфуцианства и феодальной системы над национальным сознанием. В конце концов этот неосинтоизм, подчеркивающий наследственную и духовную власть императора, посеял семена, которые дали всходы, фактически свергли сёгунат и модернизировали Японию 5.
И формой и содержанием китайская литература неблагоприятно воздействовала на развитие национальной литературы. Некоторое время китайские ученые оказывали мощное влияние на жизнь и сознание японцев, но они натолкнулись на духовное противодействие вагакуся — японских ученых, считавших, что народ должен изучать своих собственных классиков, иметь свою религию и политику, а не пользоваться иностранными. Под покровительством Мицукуни, князя провинции Мито и родственника токугавских сегунов, началось мощное движение за
7 Заказ 1438
97
национальную науку, особенно в пользу классической японской литературы. Одним из пионеров, содействовавших усиленному изучению древней национальной литературы, был буддийский монах Кэйтю (1640—1701). Его последователем был Када Ад-зумамаро (1669—1736), который выступал против кангакуся,
отдававших предпочтение китайским литературным сочинениям перед японскими. Мабути основал в Эдо школу по изучению национальной литературы. Являясь борцом за чистоту языка,
он стремился максимально исключить из своих сочинении китайские заимствования. К этому же направлению мысли принадлежали и многие другие влиятельные авторы. В XVIII в. многие из ученых национальной школы, обнаружив, что их оппозиция прокитайской политике сёгуната встречает неодобрение, переехали из Эдо в Киото, где объединились в кружок при императорском дворе.
Таким образом, подобно Италии эпохи Ренессанса, мы видим в Японии контрреформацию, пытающуюся уничтожить слепую зависимость от классических и устаревших форм и привить стране более национальную культуру. Если описанное в предыдущей главе конфуцианское возрождение придало стране новые моральные силы, то более позднее ренессансное движение взывало к самосознанию народа — и оба они послужили источниками, впоследствии породившими верноподданни-чество и патриотизм.
НАРОДНАЯ ПОЭЗИЯ
В то время как новое просвещение народа шло через популярные иллюстрированные книги эдзоси, которые давали его воображению новые картины или зарисовки из повседнев-
и
нои жизни, ученые продолжали вести дискуссии, а националистически настроенные вагакуся способствовали возрождению японской литературы в противовес принесенной извне китайской, люди из среднего сословия начали заниматься сочинением стихов. Возможно, в этом отражалось льстивое подражание представителям высших сословий, среди которых занятие поэзией считалось аристократичным и благородным, а возможно, и было вызовом этим сословиям. Поэзия определенного рода являлась отличительной особенностью японской культуры. Стало невозможно не допускать к ней рифмоплетов из средних сословий, поэтому ее спустили с вершины Парнаса и включили в специфическую сферу поэзии элементы разговорного языка, подобно тому как в значительно больших масштабах Данте сделал то же для Италии.
Мы уже упоминали о своеобразной форме японской има-жистской поэзии, известной кактанка, или ее компонентехайкай,
98
которые с незапамятных времен представляли собой традиционное развлечение образованных сословий 6. В некоторых отношениях эта поэтическая форма выкристаллизовалась в упражне-
ния, скованные строжайшими правилами и предписаниями в области просодии и тематики, поражающими своей детализацией. Форма эта не изменилась по сей день. Но в конце XVI— начале XVII в. произошло значительное ослабление сковывающих ограничений, и благодаря большей внутренней свободе
поэзия хаикаи получила новый толчок к развитию в среде народа. К концу XVI в. законодателем моды в этой напоминающей эпиграммы поэзии стал самурай по имени Мацунага Тэй-току (1571 —1653), опубликовавший сборник «Огарагаса», где провозглашались новые принципы, отличные от тех, которыми
так долго руководствовались сочинители «сцепленных строк». Он стал общепризнанным наставником своей эпохи, и указом императора ему был присвоен титул «Хана-но мото» («Цветочная печать») 7, что позволяло Тэйтоку осуществлять контроль над всеми лидерами меньших поэтических школ и их учениками, он обладал правом выдавать им дипломы или лишать этих дипломов. Хотя он был человеком эксцентричным и совершенно безрассудным, у него осталось множество последователей, в том числе такие, как конфуцианский ученый Хаяси Радзан и выдающийся защитник японизма Китамура Кигин.
Среди его наиболее знаменитых учеников — одним из пяти, снискавших славу «пяти звезд», — был Ясухара Тэйсицу (1610—1673), который даже превзошел учителя, хотя сам был столь низкого мнения о своих творениях, что только три стихотворения счел достойными остаться в веках, остальные же предал огню 8. В своем путевом дневнике «По тропинкам Севера» Басё рассказывает, как однажды он прибыл на горячие
источники в Яманака. «Хозяином в гостинице состоит еще молодой парень Кумэноскэ. Его отец любил поэзию хайкай; когда Тэйсицу, давным-давно, еще молодым, прибыл из столицы сюда, он был посрамлен им в знании изящного, вернулся в столицу, сделался учеником старца Тэйтоку и стал известным. И, прославившись, он в этом селении за слова суждения не брал платы. Теперь-то все это стало рассказом былых времен» .
Когда искусство стихосложения стало менее формализованным, его популярность возросла, и некоторое время процветала школа Данрин, чье влияние распространялось из Эдо во все стороны. Чемберлен так рассказывает о происхождении школы Данрин. «Самурай из провинции Хиго по имени Нисияма Соин (1605—1682), чей хозяин был уволен со службы, отправился в Киото и Осака, где он обрил голову и стал буддийским монахом. В храме Тэммангу он молил даровать ему поэтическое вдохновение и преподнес на алтарь одно за другим все свои
7*
99
сочинения (. . .> Поэт предавался всевозможным словесным выкрутасам и искренним изощрениям. Между тем подобный мишурный блеск нашел признание в незадолго до того основанном процветающем городе Эдо, где он пришелся по вкусу узкому кругу стихотворцев, уставших от простоты старой школы из Киото. В 1664 г. их кружок, известный под названием Данрин (,,лес бесед"), тепло приветствовал Соина в Эдо. Он его возглавил и, странствуя по всей стране, от Нагасаки до крайнего Севера, где его учеником стал один из местных даймё, повсюду распространял новую моду, в чем ему помогал Сайкаку, популярнейший новеллист того времени» [17].
Тот же автор сообщает нам, что, хотя над японской литературой довлели китайские образцы, с незапамятных времен существовало правило, запрещающее использовать в поэзии какие-либо слова, кроме чисто японских. Тем самым исключалось более половины словарного запаса, поскольку он был наполовину китайским, в том числе и многие из наиболее употребительных слов, не считая слов, выражающих тончайшие оттенки значений. Исключение их сразу ограничило сферу поэтического выражения, способствовало приданию ей большей искусственности и все более и более отдаляло ее от реальной жизни. В серьезной поэзии запрет на употребление любых иностранных слов оказался настолько силен, что нарушить его было невозможно, и в результате она погрязла в манерности и показной подражательности. Именно в рассматриваемый нами период произошли кардинальные изменения: были разрушены устаревшие ограничения, и, например, в школе Данрин, появилась определенная свобода. Создавались стихи юмористические и на разговорном языке, в том числе использовалась лексика иностранного или «нечистого» происхождения. Благодаря этому появилось широкое поле деятельности для ума и языка, который долго был связан средневековыми путами. Как мы увидим, Басё, самый великий из поэтов хайкай, ощутил себя наследником новой свободы, но приложил огромные усилия, заново очищая язык, однако уже не возвращаясь в узкие рамки классических ограничений. В этом смысле он был представителем нового движения, оставаясь одновременно и традиционалистом.
ТЕАТР КАБУКИ
После рассмотрения новых тенденций в японской поэзии представляется естественным проследить изменения, происшедшие в национальном театре. Поскольку значительная часть нашего исследования будет посвящена достижениям в этой об
100
ласти, представляется оправданным подробно рассмотреть вопрос о возникновении Кабуки и кукольного театра, особенно
учитывая тот факт, что общественная жизнь народа на протяжении всего XVII в. была тесно связана с театральными развлечениями. Театру вскоре предстояло стать для японцев среднего и низшего сословий тем же самым, чем он был в Англии, или по меньшей мере в Лондоне, в веселые дни «доброй королевы Бесс», когда устами Гамлета Шекспир выразил дух своего времени в словах: «Зрелище — веревка для шеи короля». Есть все основания подробно рассмотреть все изменения в театральной жизни того периода, так как из всех искусств XVII в. чуть ли не один Кабуки существовал и процветал дольше других, дожив до наших дней.
Возможно, ни один из видов искусства не отражает настроения масс так сильно, как театр, использующий, подобно литературе, чувственный настрой, а также музыку, образ поведения любой данной группы населения или любого периода в истории страны, являясь зеркалом и одновременно путеводным светом, влияющим на поведение и устремления публики. Заметный прогресс и видоизменение драмы в Японии XVII в. имели всеобщее значение, и, возможно, понятие «Ренессанс» применимо к ней более, чем к любой форме искусства.
Мы уже рассказывали, как в эпоху Камакура, когда из расположенной на морском побережье столицы всеми делами государства управлял сёгунат Ходзё п, родился театр Но. Театр Но развился под покровительством воинов и феодальных князей и продолжал оставаться исключительной привилегией военного сословия вплоть до «реставрации Мэйдзи» 1868 г., когда было отменено деление на сословия и признано равенство всех в гражданских правах.
Простому народу не были знакомы ни сакральные танцы кагура, ни драма Но, и в течение долгого времени у него даже не было театральных подмостков для выступлений. Однако в начале эпохи Токугава, наконец, родился, расцвел и принес плоды демократический театр Японии. Это была драма Кабуки.
Ритуальные танцы часто исполнялись для развлечения прихожан при синтоистском храме в Идзумо. Они и по сей день исполняются при синтоистских храмах в Нара и других местах. Юные девушки в тонких накидках поверх белых кимоно и алых хакама, с распущенными волосами и красиво загримированными лицами танцуют в зале храма. Из числа таких храмовых танцовщиц была и девушка по имени Идзумо-но Окуни |2, дочь кузнеца. В старинных хрониках говорится, что она была красавицей с волосами мягкими и длинными, как ветви ивы, и обликом походила на цветок персика. «Ее танцевальная манера была величественной, — отмечали хроники, — а звонкий
101
голос поражал всех, приходивших на нее посмотреть». Она была также известна своим нежным сердцем, и ею в равной степени восторгались как мужчины, так и женщины.
Примерно на рубеже XVII в. Окуни прибыла в Киото и начала исполнять некоторые из ритуальных танцев в высохшем русле реки или на шумных улицах древней столицы. Первым она исполнила «Буддийский танец возглашения», сопровождаемый буддийскими молитвами. Этот танец изобрел буддийский священник по имени Куя; поскольку танец отвечал чаяниям народа, то получил признание и быстро распространился из одного города в другой 13. Так как простым людям этого времени были недоступны наслаждения, популярные среди аристократов и самураев, они собирались на открытом воздухе, чтобы увидеть танец, подобный тому, какой предлагала им Окуни. Надев поверх великолепно отделанного кимоно скромное черное буддийское платье, она танцевала и произносила на санскрите имя Будды: Намомитабхая. Ее красота и прекрасные танцы принесли ей симпатии множества поклонников и покровительство феодальных князей. Юки Хидэясу, сын Токугава Иэясу и приемный сын Тоётоми Хидэёси, был покорен ее красотой и исполнительским мастерством. Рассказывают, что однажды он подарил ей свои драгоценные коралловые бусы, сказав, что стеклянное ожерелье, которое она носила, «слишком холодно и не вызывает радости».
Начав с раскованного неофициального развлечения киото-ской толпы, Окуни постепенно добавила в репертуар романтические и светские танцы, исполнявшиеся сначала под аккомпанемент флейты, старомодных барабанов, по которым ударяют пальцами, и других музыкальных инструментов, применявшихся в драме Но, а затем и при исполнении мелодий более популярных баллад. Со временем она приобрела популярность во всей столице, и ее появление на маленькой открытой сцене привлекало многочисленных зрителей, жаждавших после окончания эпохи междоусобных войн эстетических наслаждений. Она умело совместила различные традиционные танцы, народные баллады, стихотворные импровизации и другие элементы в одно гармоничное целое и таким образом создала театр Кабуки, в котором выступали молодые и красивые танцовщицы и. Естественно, что это еще больше устраивало простых людей, для которых единственной возможной альтернативой были такие низменные и примитивные развлечения, как выступления жонглеров, сказителей баллад, акробатов, клоунов или показ уродливых и забавных существ. Теперь же появилось нечто более богатое и эстетическое и при этом не столь классическое, как театр Но. Принятие сямисэна также в значительной степени способствовало дальнейшему развитию театра Окуни.
102
Своей популярностью этот инструмент многим обязан Рютацу, композитору, известному также своим прекрасным голосом. Пантомима возникла благодаря усилиям Нагоя Сандзабуро, который стал мужем Окуни. К новому театрализованному танцу были добавлены комические диалоги, а сама Окуни вскоре начала исполнять мужские роли. Этот новый вид представления распространился по разным провинциям и вызвал множество подражаний.
В 8-м году Кэйтё (1603 г.) Кабуки Окуни окончательно оформился и принял форму театра. Вначале Окуни выступала со своей труппой в Киото, в кварталах Сидзёгавара и Кодзёга-вара, а в 1604 г. она построила собственную стационарную сцену на территории синтоистского храма Кита но. Однако, несмотря на славу нового театра, к участвовавшим в нем актерам и актрисам сохранялось значительное социальное предубеждение. Их называли каварамоно, т. е. «люди с поймы реки», поскольку именно в этих местах первоначально выступала труппа Окуни. Но, несмотря на падение репутации Кабуки Окуни, причиной чему была растущая безнравственность и распутство некоторых актеров и актрис, которые все еще занимали наиболее презренное место в феодальной иерархии, саму Окуни в свое время с необычайной теплотой встречали в высших сферах, примером чего является покровительство Хидэясу и одной знатной придворной дамы из Киото.
Труппа Окуни состояла примерно из двенадцати актрис. В 12-м году Кэйтё (1607 г.) она отправилась в Эдо, где, точно так же как в Киото и Осака, ее представления вошли в моду. «Во время представлений помещения всегда были переполнены, и популярность Кабуки была столь головокружительной, что самураи Эдо до безумия влюблялись в танцовщиц и устраивали поединки, дабы завоевать их симпатии. Властям это показалось уже излишним, и они решили запретить выступления труппы, хотя запрет был вызван скорее поведением эдоских кавалеров, чем деятельностью самого Кабуки» [31].
В трех крупнейших городах, Киото, Осака и Эдо, быстро росло число актрис, воодушевленных успехом Окуни, и исполняемые ими представления Кабуки стали излюбленным развлечением широкой публики. Но развитие театра сопровождалось пагубным влиянием актрис на общественную нравственность, и токугавское правительство издало ряд декретов, запрещающих появление актрис на сцене. «Падение нравов в Онна Кабуки (женском Кабуки), — пишет Пенлингтон, — в немалой степени объяснялось тем, что мужчины и женщины выступали на сцене вместе. Очень скоро зрители начали смотреть на исполнителей сверху вниз и называть их кавара кодзики (сухого русла нищие). В последующие времена этим словом пользова
103
лись, чтобы запятнать репутацию целых поколений настоящих честных актеров. В 1608 г. был издан указ, разрешающий выступления Онна Кабуки только на городских окраинах, где его тлетворное воздействие менее пагубно сказывалось бы на обществе. Несколько придворных дам, которые завели роман с красивыми актерами Онна Кабуки, в наказание за недостойное поведение были отправлены в изгнание. Правительство часто вмешивалось в дела Кабуки. В 1626 г., когда группа актрис выступала в Таканава, близ Синагава в пригородах Эдо, театр был настолько переполнен, что возникли крупные беспорядки, и было приказано прекратить представления. И наконец, правительство третьего сегуна Иэмицу издало в 1629 г. строгий указ, запрещающий любые представления с участием женщин. Одним ударом был положен конец выступлениям танцовщиц, актрис Онна Кабуки, и даже женщин-сказительниц, пением которых сопровождались движения марионеток во время кукольных представлений» [43, с. 60—61] 15.
Теперь место театра актрис занял возникший еще в начале XVII в. Вакасю Кабуки, в котором играли только юноши. Однако, так как театр, в котором выступали только мальчики и молодые люди, также начал считаться подрывающим моральные устои, в 1644 г. правительство его запретило. После этого был издан указ, которым «предписывалось закрыть четыре ведущих театра Эдо, равно как кукольные театры и второстепенные центры развлечений, причиной чего послужил скандал, в который оказались вовлечены какой-то актер и жена одного даймё. Очевидно, власти намеревались упразднить театр, но после неоднократных прошений их владельцев в следующем году было разрешено открыть их вновь. . . В 1648 г. правительство третьего сегуна издало указ, запрещающий представителям аристократии посещать театр, а в 1656 г. — дополнение к указу, гласящее, что актерам-я/о/ся не разрешалось выступать в особняках аристократов, даже если их туда приглашают. Что же касается театральных костюмов, то они не должны быть роскошными, пьесы же, воспевающие расточительность, исполнять не разрешалось» [43, с. 203—204]. На протяжении всего этого периода профессиональные актеры приравнивались к самым низшим сословиям, к люмпенам и нищим 16.
Существование оннагата, исполнителей женских ролей, появление которых явилось следствием запрета для актрис выступать на сцене, стало совершенно необходимым и сохранилось до настоящего времени. В середине XIX в. указ, запрещающий женщинам выступать в театре, был отменен, но к этому времени противоестественное искусство оннагата развилось настолько, что сами актрисы уже не могли исполнять женские роли с такой женственностью, как мужчины-о/шагата, которые
104
тратили долгие годы на достижение совершенства в искусстве перевоплощения в женщин. В былые времена такая тренировка приводила к тому, что даже в повседневной жизни они вели себя, как женщины.
В японском языке словом «публика» обозначаются не слушатели, а зрители. Это доказывает, что Кабуки — прежде всего зрелище для глаз, и действительно, в пьесах Кабуки преобладают те же мотивы, что и в цветных жанровых гравюрах укиё-э. Интеллектуальность содержания в Кабуки часто подчинена желанию доставить удовольствие глазам и сердцу, и все построено так, чтобы соответствовать этому зрительному аспекту. Излюбленным приемом Кабуки для усиления чувственного восприятия является преувеличение: в гриме на лице актера, в костюмах, в поступках и речах. В этом проявился бунт против театра Но, для которого характерны приглушенная музыка, эффектные позы, диалоги и действия, организованные так, чтобы апеллировать скорее к слуху и интеллекту, нежели к зрению.
Развитию популярной формы изобразительного искусства укиё-э, о котором упоминалось выше, во многом способствовал театр Кабуки, так как в период Гэнроку и на протяжении почти всего последующего столетия цветные гравюры представляли собой театральные афиши, портреты актеров и рекламные плакаты. Например, изображающие актеров гравюры Сяраку, в которых последующие поколения обнаружили уникальную художественную ценность, были всего-навсего такими афишами и шаржами. Таким образом, Кабуки и укиё-э развивались бок о бок, являясь отражением народного движения. Цвет вошел в серую жизнь простых людей и придал ей некое подобие той яркой духовной пищи, волнения и живого развлечения, какими елизаветинский театр содействовал созданию «веселой Англии» из ее монотонности былых времен.
Мы уже отмечали, что в общих чертах общественное и культурное развитие Японии в XVII в., при сегунах Токугава, по крайней мере отчасти напоминало ситуацию в Англии того же времени. В период, известный как «эпоха пуританизма» (1625— 1666), продолжалось сильное политическое брожение, но усилиями мощных религиозных учений поддерживался порядок, и общественная жизнь в основном была мрачной и спокойной. Литература этого времени была не столько романтической или реалистической, сколько философской. Крупнейшими выразителями классических традиций, как этических, так и религиозных, были Милтон и Джон Бэньян. Внезапно в 1660 г. началась эпоха Реставрации. Освободившись от ограничений, общество отбросило все нормы приличия, уважение к закону и властям и ударилось в крайность. С общественной, политической и
105
моральной точек зрения Лондон стал чем-то похож на итальянский город времен Медичи, а его литература, особенно драматургия, стала безрассудной и порочной. Лондонское общество начало восторгаться упаднической поэзией Рочестера и драмами Драйдена и Уайчерли. На протяжении жизни целого поколения многие естественные удовольствия находились под запретом, а теперь вновь открылись театры, возобновилась травля собаками быков и медведей, спортивные состязания, музыка и танцы. Дикое наслаждение удовольствиями и суетой мира сего пришло на смену той погруженности в «потусторонность», которая отличала крайний пуританизм. Елизаветинская драма после временных притеснений ожила и вернулась к изображению грубых, непристойных сцен. Как пишет Эндрю Лэнг, «ни одна эпоха не довольствуется старыми пьесами, ей нужно демонстрировать современные нравы и характеры. И в период Реставрации появились изображения жестокого веселья и грубых развлечений торжествующего порока, флирта и интриг лакеев с господами и дамами, изящные и остроумные, a la mode 17 двора и города, какими мы их знаем по Пипису и Граммонту» [47, с. 358]. От классических форм и романтических историй писатели обратились к реализму. Крупнейшим представителем переходного периода был Драйден (1631 — 1700), создатель законченного чеканного рифмованного двустишия, которое было в моде на протяжении всего столетия. Драйден стал также вождем классического направления в прозе эпохи Реставрации, которая делала упор на точность и лаконичность выражения и естественность стиля. В сущности, он являлся современником Басё в нескольких аспектах. Философами этого периода были Джон Локк (1632—1704) и Томас Гоббс (1588—1679), а хроникерами, в мельчайших деталях описавшими общественную жизнь, были Джон Эвелин (1620—1706) и Сэмюэл Пипис (1633—1703). Им можно найти аналогию и среди японских писателей этого периода. Английские сатирики-драматурги от времен Драйдена до Конгрива в равной степени пытались изображать характеры и рисовать нравы, но с первой и более
важной задачей им редко удавалось справиться столь же удачно, как со второй. Прибегая к средствам, которые бы делали их пьесы максимально отвечающими вкусам публики, они почти всегда выступали в роли толкователей тех моральных качеств, которые стремились изображать. При всей их популярности, непристойность тем, излишнее остроумие и яркость в конце концов вызвали «реакцию на реакцию эпохи Реставрации». Крайности комического театра были окончательно устранены в 1698 г. сокрушительными нападками Джерми Кольера. С этого момента английский театр восстановил доброжелательное отношение к себе зрителей и властей и, особенно
106
благодаря гению Гаррика 18 с 1741 по 1776 г., вновь укрепил свою репутацию великого культурного достижения нации.
Учитывая, что Нидерланды, в которых последствия Ренессанса начали ощущаться с запозданием, в это время благодаря активной торговой деятельности Голландской Ост-Индской компании поддерживали тесные контакты со странами Дальнего Востока, следует обратить внимание на ту выдающуюся роль, которую играли Нидерланды в европейском литературном процессе этого времени. Голландская национальная литература на родном языке появилась в XVI в. благодаря усилиям Анны Бейнс, но своей вершины достигла в начале XVII в. Республика Объединенных Провинций, культурным центром которой являлся Амстердам, заняла место в первых рядах европейских держав, и этот крупный город к концу века превратился в средоточие живописи, поэзии и литературы. Здесь величайшие представители голландской литературы — Вон-дель, Хоофт, Кате, Гюйгенс — довели родной язык до полного совершенства. Но наряду с такими серьезными эстетическими достижениями существовал грубый, фарсовый юмор, исконно присущий голландскому народу. В течение пятидесяти лет — самых блистательных в истории Голландии — эти два мощных потока текли рядом, а часто — в одном и том же русле. Один стремился к красоте и мелодичности, другой — к веселой комедии. Под контролем бывших литературных гильдий — «палат риторики» процветала драматургия. Голландская Академия, основанная в 1617 г. почти исключительно как гильдия драматургов, обнаружила, что для постановки новой драматической продукции не хватает театральных помещений. Вследствие этого она объединилась с двумя другими палатами, «Эглантин» и «Белая Лаванда», для сооружения в 1638 г. большого публичного театра, первого в Амстердаме. До тех пор голландская драма, ведущая происхождение от средневековых мистерий, была в основном религиозной, но, как и в Японии, сопровождалась фарсами на светские темы, которые полурелигиозные труппы исполняли вне церковных стен. Отныне театр стал полностью светским.
Разница между классическим театром Но и народным театром Кабуки такая же, как между французским театром XVI—XVII вв. и елизаветинской драмой. Тэн в следующих словах рисует это различие: «Поэт не копирует наобум современные ему нравы. Из обширного материала он отбирает и неизбежно переносит на сцену те душевные волнения и поступки, которые лучше всего соответствуют его таланту. Если он логик, моралист и оратор, как, например, один из крупнейших французских поэтов XVII в. (Расин), то он будет изображать только изящные манеры, избегать низких персонажей,
107
испытывать ужас перед слугами и чернью, соблюдать строжай-
о
шую чинность в момент самого сильного взрыва страстей, с возмущением отвергать любое грубое и неприличное слово, избегать фамильярности, ребячливости, безыскусности, веселого подтрунивания над семейным бытом; он будет вымарывать точные детали, особые приметы и заведет трагедию в строгую и возвышенную сферу, где его абстрактные герои, вырванные из времени и пространства, после обмена изящными речами и умных бесед изящно убьют друг друга, словно бы совершая какую-то церемонию. Шекспир делает совершенно обратное, ибо его гениальность совсем иного плана. Главное его качество — это бесстрастное воображение, свободное от любых уз разума и морали. Он отдается на волю своего воображения, и для него в человеке нет ничего лишнего. Он принимает его таким, каков он есть, и находит его прекрасным. Он рисует его во всей его ограниченности, с присущими ему недостатками, слабостями, распущенностью, и в минуты гнева. Он показывает человека за едой, в постели, за игрой, пьяным, безумным, больным. К тому, что происходит на сцене, он добавляет то, что недостойно быть увиденным. Он стремится не к возвеличиванию, а к точному воспроизведению жизни людей, и желает сделать свою копию более яркой и впечатляющей, чем оригинал» [76, 2, гл. IV].
Такие реалистические японские современники этого периода, как Сайкаку, Тикамацу и другие, порвали в своем творчестве с высокопарным и церемониальным стилем театра Яо, в основе которого лежали классическая и поэтическая традиции, и начали писать в более гуманистической манере, напоминающей шекспировскую или елизаветинскую драму в Англии. В этом отношении, хотя конечно, и не в столь полной мере, Тикамацу справедливо заслуживает сравнения с Шекспиром и может считаться одним из выдающихся, равно как и одним из первых великих гуманистов в японской литературе и драматургии. Нарисованное Тэном различие проявилось в это время, между прочим, — как в Европе, так и в Японии — в разрыве между классической живописью и новым направлением жанровой живописи, где художник «стремится не к возвеличиванию, а к точному воспроизведению жизни людей».
Когда мы говорим о появившейся в это время безумной тяге народа к театру, то имеем в виду движение, которое было почти безудержным. Тщательное изучение японской драмы XVII—XVIII вв., будь то в Киото, Осака или Эдо, показывает нам, что она затягивала зрителя, подобно водовороту. Ни итальянская опера XIX в., ни русский балет, ни народный водевиль в начале XX в. не были столь притягательными, только кино нашего времени может сравниться по своей попу
108
лярности с драматическими и кукольными пьесами старой Японии. Что же касается Англии елизаветинского периода, когда люди настойчиво требовали театральных представлений, то Эмерсон отмечал в своей лекции о Шекспире: «Двор тотчас же отреагировал на политические намеки в пьесах и попытался добиться их запрета. Растущая, энергичная партия пуритан и религиозные деятели англиканской церкви поддержали бы запрет, но такие пьесы были нужны народу. Постоялые дворы, дома без крыш и импровизированные ограждения являлись готовыми театральными подмостками для бродячих актеров. Люди познали эту новую радость, и, как сейчас было бы безнадежным делом запрещать газеты — нет, это не по зубам самой сильной партии! — так и тогда ни король, ни священники, ни пуритане, ни в одиночку, ни общими усилиями не могли запретить орган, который одновременно являлся балладой, эпосом, газетой, закрытым собранием, лекцией, кукольной комедией и библиотекой. Вероятно, и король, и священник, и пуританин — каждый извлекал из этого свою выгоду. В силу этих причин театр приобрел общенациональное значение, что ни в коей мере не является странным, и, возможно, какой-нибудь крупный ученый возьмется рассмотреть его роль в английской истории, значение, которое было ничуть не меньше от того, что он был дешевым и пользовался авторитетом не большим, чем лавка булочника» [22, с. 537J. Так и в Японии кукольный театр в Осака, а потом в течение некоторого времени в Эдо, затем Кабуки, особенно в Киото, более века были предметом народного увлечения и, даже придя в упадок, продолжали оставаться одними из значительных искусств империи и достигли уважения, которого не знали в былые времена.
НАРОДНАЯ МУЗЫКА
В истории музыки наблюдается удивительное сходство тенденций развития в Европе и Японии, хотя, возможно, в настоящее время ни один вид искусства не отличается столь сильно, как музыка Запада и Востока.
На протяжении средневековья лютня была на Западе самым распространенным инструментом. Унаследовав от арабов и форму и название, она была явно восточного происхождения и была известна еще в древнем Египте. Под разными названиями и в разных вариантах ее принесли в Южную Европу и Испанию мавры, в южную Россию — персы в правление Сасанидов, в Грецию она проникла из провинций Византийской империи. В XVI и XVII вв. она получила в Европе повсеместное распространение, но в XVIII в. популярность ее
109
пошла на спад. Еще в XIV—XV вв. трубадуры и странствующие менестрели исполняли песни под аккомпанемент лютни, а в период расцвета рыцарства умение играть на ней считалось обязательным для всех образованных рыцарей и знатных дам. В конце XVI в. великий родоначальник оперы Монтеверди использовал один из вариантов лютни — теорбу для аккомпанирования только что изобретенному речитативу, чем открыл новую эпоху в истории музыкальной драмы. В начале XVII в. Бах написал «партиту» для лютни, и вплоть до XVIII в. этот инструмент продолжал использоваться для исполнения серьезной музыки. В 1720 г. Гендель написал партию для теорбы в «Эстер». С той поры этот большой музыкальный инструмент уже не входил в состав оркестров, но почти до конца века использовался для игры дома, пока на смену ему не пришли смычковые инструменты. Но наибольшую популярность в Европе лютня снискала в виде переносного инструмента странствующих поэтов и менестрелей.
В Японии с древнейших времен существовал инструмент, который сыграл в жизни страны похожую роль. Это была бива, получившая в феодальную эпоху широкое распространение. Считается, что ее привез Киби-ноМакиби (693—775), знаменитый деятель и высокопоставленный чиновник, который способствовал распространению в Японии китайской цивилизации. Он отправился на обучение в Китай и по прошествии 17 лет вернулся, обогащенный знаниями в области политики, философии и искусства. В XV—XVI вв. в Японии развилось искусство сказителей хэйкэ, заключавшееся в исполнении под аккомпанемент бива отрывков из эпоса с таким же названием 19. Наряду с этим в конце периода Асикага, около 1500 г., появился кото — инструмент, похожий на цитру и использовавшийся в качестве аккомпанемента для мелодий, напоминающих французские песни. Кото стал одним из основных инструментов для исполнения придворной музыки гагаку, исключительно аристократической по своему характеру 20. Бива же, напротив, был более популярным инструментом среди самурайства. Им пользовались поэты, и, например, Басё с удовольствием слушал рассказы, сопровождаемые игрой на бива. Игра на этом инструменте служила привлекательным аккомпанементом к сэккё — моральным поучениям на классические и буддийские сюжеты, в меланхолических тонах распеваемым профессиональными исполнителями — чаще всего слепыми музыкантами, которые трогали сердца людей и заставляли их развязывать кошельки и жертвовать подаяние, дабы умилостивить богов или обеспечить себе благополучие в ином мире.
Но с течением времени и в Европе, и на Востоке истории религиозного содержания уступили место балладам на сюжеты
по классической мифологии более светского характера, а потом в руках поэтов и менестрелей обрели романтическую окраску. Вскоре после периода Камбун (1661 —1673) сэккё превратились в общедоступное развлечение, пользовавшееся симпатиями простого народа, а когда на смену бива пришел сямисэн, сюжеты постепенно стали более чувственными и возобладала любовная тематика.
В XVII в. в Европе был изобретен новый музыкальный инструмент. Наряду со щипковыми инструментами, такими, как разные виды лютни, постепенно возникали новые формы смычковых инструментов, которые тоже были древнего азиатского происхождения, ибо персидский ребаб упоминается в XII в., а арабы по сей день используют какой-то его примитивный вариант. Прототипом гитары-скрипки, смычкового инструмента, существовавшего еще в XIII в., был средневековый ребек. В руках трубадуров он тоже приобрел популярность. Из различных инструментов развилась виола, которая существовала с конца XV до конца XVII в., после чего ее постепенно сменила скрипка, которую довели до совершенства опытные итальянские мастера из Брешии, Кремоны и Венеции.
Развитие в XVII в. скрипки наряду с родственными ей виолой, виолончелью и контрабасом открыло новую музыкальную эру в Европе. Появилось оркестровое искусство, а вслед за ним опера и сложная музыкальная драма. Перед вокальной музыкой открылись новые возможности. Для квартетов струнных инструментов начали писать особую камерную музыку, которая пришла на смену мадригалам и хоралам, исполнявшимся любителями в свободное время у себя дома. Все чаще и чаще в сборниках нотных текстов начала появляться надпись: «Годится и для голоса, и для скрипки». Наряду с совершенствованием клавишных инструментов появился новый вид инструментовок, который развился в более совершенную форму религиозной музыки — sonata di chiesi21 и музыку более легкого и веселого содержания — sonata di camera 22. Потом возникла симфония, для которой необходимо соединение множества музыкальных инструментов. По мере развития этих форм усилилась активность композиторов, росла популярность музыки и крестьянские формы танцевальной музыки превратились в такие танцы, как сарабанда, мюзет, буре, алеманда, куранта, ригодон, джига, тамбурин, пассакалья и чакона. Иными словами, новая инструментовка лишила музыку ее ограниченного религиозного характера, сделала светской, общедоступной, и она в равной степени стала достоянием как богатых, так и бедных. В высших сферах вошли в моду перечисленные композиции и танцевальные формы; состоятельные люди в основном увлекались оркестровой музыкой; у простого же народа, особенно у крестьян или
in
цыган Центральной Европы, скрипка стала столь же популярной, как в России балалайка, а в Испании гитара. Усовершенствовав скрипичные инструменты, Европа оказалась на пороге новых музыкальных достижений «До конца XVI в. в центре внимания всегда находился художник. Начиная с XVII в. место его занял музыкант, и больше уже никому его не уступал». В сущности, это были поздние цветы европейского Ренессанса. Джон Эддингтон Саймонд отмечает: «В тот момент, когда живопись почти иссякла, возникло новое искусство, которому было суждено достигнуть в художественной сфере многого из того, чего не смогла сделать живопись. Когда художники истощили весь комплекс христианских идей и прошло первое увлечение античностью, музыке, наконец, представилась возможность проявить себя во всем своем многообразии чувств и сложности движений. В музыке мы обнаруживаем ту исходную точку, где искусство покидает область мифов, как христианских, так и языческих, и обращается к эмоциональной деятельности самого человека и во имя его самого» [75, с. 605].
Новый прогресс в музыке, который стимулировался развитием струнных инструментов, характерный для европейской культуры, обнаруживает параллель с развитием народйой культуры Японии того же, XVII века
Ранее, конечно, при дворе существовала древняя ритуальная, религиозная музыка, аналогичная религиозной музыке в европейской церковной традиции. В обоих случаях она более или менее была монополией высших сословий. «Гагаку, музыку императорского двора, нельзя было услышать просто так, ее
приберегали для самых торжественных случаев. Привезенная из Китая на самом раннем этапе контактов между двумя странами, она была настолько отгорожена от повседневных дел, словно
пребывала в какой-то заоблачной сфере. По прошествии тысячи лет эту музыку все еще можно услышать на концертах при дворе или во время буддийских и синтоистских церемоний, и ее медленный, величественный ритм вызывает трепет в сердцах наших современников и уносит их в эпоху, когда не знали, что такое спешка. . . Точно так же музыка драмы Но была предназначена для интеллектуалов, обладающих достаточно богатым внутренним миром, чтобы принимать ее утонченную атмосферу нереального. От слов и движений в театре Но были неотделимы таинственные ритмы барабана и флейты, буддизм, аскетизм, воины и призраки, далекие от мира и всех его дел» [43, с. 192—194].
Такая музыка была достоянием высших сословий, у простого же народа, как мы видели, существовали бродячие слепые сказители, которые читали нараспев сэккё 23 более или менее религиозного и мифического содержания под аккомпа-
112
немент бива. Но эти эпосы, исполняемые нараспев в грустных и трагических тонах, отражали самые потаенные глубины небытия и доставляли жаждущим романтических историй жителям «трех городов» слишком мало удовольствия. К счастью, примерно в это время началось новое движение.
Тогда же вошел в употребление музыкальный инструмент оказавший глубокое влияние на жизнь простых людей. Им был сямисэн, сыгравший в Японии такую же роль, как возникшие в Южной Европе виола и скрипка Где-то в середине XVI в, он
был привезен с островов Рюкю, которые в прошлом служили посредником в переносе цивилизации с Азиатского континента к берегам Японии 24. На Рюкю сямисэн, очевидно, попал из Китая, где он существовал еще при юаньской (монгольской)
династии (1279—1367), куда он, несомненно, был занесен потоком чужеземной культуры. Как видно по старым рисункам, он несколько отличался от сямисэна формой, размером и устройством. Даже число струн у него не ограничивалось тремя (откуда и возникло название инструмента сямисэн — «три струны»), «В период Эйроку (1558—1570) слепой музыкант по имени Исимура усовершенствовал его, и этот музыкальный инструмент получил широкое распространение. Считается, что Исимура во многом позаимствовал технику у бива, на котором играл с большим мастерством» [40, с. 361]
Принятие такой формы инструментальной музыки имело столь же важные последствия для японской истории культуры, особенно для театра, как оркестровые ансамбли из скрипок и родственных им инструментов для европейской.
Но, прежде чем начался период безраздельного господства сямисэна, бродячие сказители, рассказывая свои истории, либо перебирали струны своих лютнеподобных бива, либо скребли по ребрам вееров, чтобы сохранить необходимый им для рассказов ритм, либо пользовались инструментом, состоящим из двух бамбуковых палочек, которые терли друг о друга. Священники, распевавшие гимны с целью распространения своего священного учения, отбивали ритм при помощи точно такого же металлического гонга, как тот, которым пользовалась Окуни. Ритм был настолько необходим при исполнении баллад, что первые сказители даже встряхивали пучком палочек или размахивали металлическим стержнем, напоминающим жезл. Но когда они получили в свое распоряжение значительно улучшенную музыку более удобного для переноски сямисэна, профессия сказителя намного облегчилась и приобрела широкую популярность. Сэкке, исполняемые под аккомпанемент сямисэна, стали одними из основных развлечений простого народа, и такие комбинированные представления сэкке васан исполнялись на временных театральных площадках в кварталах Сидзёгавара
8 Заказ 1438
113
в Киото и Сакаи-тё в Эдо. Как уже отмечалось, сюжеты стали значительно более романтическими и любовными, и постепенно возникли баллады дзёрури, расцвет которых приходится на конец периода Кёхо (1716—1735). Для этих новых представлений уже в изобилии имелся готовый материал, и сказители состязались друг с другом, рассказывая о современной им жизни. «Они сразу же подхватывали песни, исполнявшиеся во время праздников моряками, погонщиками, крестьянами, торговцами; истории о сражениях и любви, даже религиозная пропаганда, превращались в рассказы, исполняемые под переборы струн сямисэна».
Все это привело к возникновению в народной среде нового направления, которое проникло в «веселые кварталы» и чайные дома; куртизанки — гейши и ойран — превратили его в одно из своих основных занятий. Из привилегий мужчин-сказителей, певцов баллад, оно стало достоянием женщин и исключительно их занятием в свободное время. В атмосфере пения и веселья, под аккомпанемент перебираемых струн сямисэна они напевали стихи и баллады. Это искусство также стало одним из основных элементов развивающегося театра, каковым остается и до наших дней.
«Символический инструмент презираемых якуся (актеров) и употребляемый в не очень почтенном мире гейш, сямисэн не был в почете у высших сословий. Предоставленный самому себе, народ создал собственный театр, музыку и искусство. От аристократов же, сторонившихся народных масс, никаких импульсов не поступало. В среде самураев творческий дух почти отсутствовал, ученые, погруженные в занятия китайской философией и литературой, оглядывались на славное прошлое своего континентального соседа, а музыку сибаи (театральной драмы), простонародное наследие токугавской эпохи, создал народ трех городов без помощи, без руководства или импульсов вдохновения со стороны более знатных людей общества» [43, с. 199—200].
В чем же заключается помимо конкретного совпадения нововведений — скрипки в музыкальной истории Европы и сямисэна в истории развития японской музыки — более глубокое культурное значение этого события? Уже отмечалось, что возникновение в Европе смычковых инструментов привело к появлению великих композиторов и возникновению оркестров и оперы. Точно так же в Японии сямисэн в соединении с балладами дзёрури породил два величайших национальных вида искусств: кукольный театр и драму Кабуки. В обоих случаях это были явления Ренессанса, во многом повлиявшие на развитие культуры XVII в.
В Италии Монтеверди (1567—1643) в основном был скрипа-
114
чом, но он же являлся одним из лидеров движения, соединившего новую инструментальную музыку с вокальной и драматическим речитативом и превратившего их в ораторию и оперу, которые принесли новую славу европейским подмосткам в целом. Дж. Э. Саймондс отмечает: «Гуманисты восстановили латинскую поэзию; архитекторы усовершенствовали неоримский стиль; скульпторы и живописцы успешно занялись изучением остатков античности и воспроизвели барельефы и арабески римских дворцов. И уже значительно позже пришла очередь музыкантов предпринять подобную попытку. Их поиски были слабыми и неуверенными. От греческой или римской музыки ничего не сохранилось. Эти исследователи руководствовались только туманным подозрением, что древние декламировали свои стихотворные драмы с музыкальной интонацией. Но, подобно тому как опыты алхимиков, искавших философский камень, создали современную химию, или же, как гласит древняя пословица: ,,Те, кто искал серебро, нашли золото", так же педантичные и неверные попытки музыкантов привели к созданию системы, которая легла в основу современной оратории и оперы. Примечательной особенностью этих поисков является то, что начала формироваться новая форма музыкального выражения, декламационная и речитативная, а следовательно, драматическая, противостоящая лирическим и фуговым методам приверженцев контрапункта. Клаудио Монтеверди, который в своей опере ,,Орфей" впервые применил речитатив; Джакомо Кариссими, в ,,Ефте" которого уже наметились принципы оратории, были самыми значительными мастерами школы, зародившейся в Флорентийской Академии Палаццо Вернио» [75, т. 2, с. 884].
О значении всего этого для жизни Европы Гендрик Биллем ван Лоон пишет: «Люди продолжали вести ту же жизнь, что и прежде. Но мода на оперу в период барокко привела к последствиям, за которые мы должны быть ей благодарны. Как мы сейчас сказали бы, мир стал ,,музыкопонимающим". Музыка вышла за пределы церквей и частных концертных залов для богачей и отправилась бродить по большим и проселочным дорогам. Погонщики мулов мурлыкали популярные мелодии, когда они гнали своих упрямых подопечных по пыльным трактам Тосканы или жарились под приятными лучами неаполитанского солнца. . . Тысячи восторженных юношей и девушек повсюду усердно обучались игре на скрипке и клавесине или изучали пение, чтобы в своем северном краю проводить долгие дождливые вечера, импровизируя ,,Версальскую ночь", когда каждый пел и играл, прилагая максимальные усилия, словно бы выступал пред очами самого Верховного Монарха» [84, с. 434—435].
8*
115
В Японии инструментом для простых людей стал сямисэн. Его можно было услышать на больших дорогах, в освещенных фонарями чайных домиках, в кукольном театре и рядом с подмостками Кабуки. Для дзёрури он являлся тем же, чем был оркестр для оперы. Не будь его, это популярное театральное искусство Японии развивалось бы в эпоху Токугава совсем в ином направлении.
Кобаяси Итидзо отмечал: «Для музыкального сопровождения (в театре Кабуки) используется сямисэн. Сама по себе музыка сямисэна ушла в прошлое. Кроме того, вероятно, она уже больше не способна выполнять роль основного музыкального аккомпанемента, так как для больших современных театров звучание ее слишком слабое. Сямисэн ушел в прошлое, подтверждением чему являются песни, которые слышны повсюду на улицах: песни, основанные на старинной мелодии сямисэна, не пользуются особой популярностью» [45]. Но при всем уважении мнения этого крупного представителя современного японского театра, некоторые, возможно, скорее согласятся с госпожой Пенлингтон, писавшей: «Одним из основных недостатков музыки сямисэна является существование нескольких разных школ, каждая из которых ревностно хранит свои традиции. Если возникнет необходимость в каком-нибудь новом выражении чаяний народа, можно будет соединить эти различные элементы для создания нового музыкального направления, подобно тому как Такэмото Гидаю, признавая ценность различных дзёрури своего времени, объединил их и заложил прочную основу для баллад кукольного театра. Более того, как бы ни критиковали музыку сямисэна за часто присущую ей тривиальность и поверхностность, тем не менее она остается национальной музыкой» [43, с. 199—200].
Тот же, у кого возникнут сомнения, может посмотреть прекрасную пьесу театра Кабуки, побродить по берегам реки Сумида летней ночью или во время праздника прогуляться под опадающими цветами вишен. Мелодии сямисэна, которые более двухсот лет назад звучали в старом Эдо, Осака или императорской столице — Мияко, не в меньшей мере можно услышать и сейчас. Сямисэн по праву занимает достойное место в истории театрального Ренессанса XVII в.
КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР
Корни кукольного театра в Японии восходят к кугуцуси, охотникам, побочным занятием которых были кукольные представления. Конечно, их искусство было очень примитивным. Впервые о них упоминается в японской литературе более
116
тысячи лет назад. Они устраивали представления прямо на улице или переходя от дома к дому. С появлением буддийской секты дзёдо большинство из них стало ее приверженцами и использовало свое искусство для популяризации религиозных сочинений. У некоторых из этих странствующих актеров к шее на шнурках была подвешена миниатюрная сцена, так называемая кубикакэ. На этой маленькой сцене при помощи кукол рассказывалась история какого-нибудь известного храма, часто посещаемого паломниками, или же история происхождения какого-нибудь буддийского божества. Позднее бродячие кукольные представления соединились с сэккё — музыкальными изложениями буддийских рассказов, что способствовало росту их популярности. Кукольные представления, известные в древности как кугуцу, оказались приспособленными для более мирских целей, так как еще до эпохи Токугава куртизанки из окрестностей Нисиномия, близ Кобэ, прибегали к этому искусству для развлечения своих покровителей [40, с. 356; 37, с. 57—60].
В первые годы эпохи Токугава сэккё (т. е. «проповеди», возникшие в религиозной среде в VIII в.) еще сильнее проникли в сферу народных увеселений. Развитию этого искусства способствовало сопровождение на музыкальных инструментах: сначала в виде бамбуковых палочек, которые терли друг о друга, а позднее в виде струнного сямисэна. Кроме того, как мы отмечали, темы, прежде бывшие преимущественно религиозными и историческими, постепенно стали менее регламентированными и приобрели любовную и несколько излишне чувственную окраску. В период своего заката сэккё приняли форму утадзаимон и кадо-сэккё: первые исполнялись под аккомпанемент сямисэна, вторые — под мелодию кокё, японского варианта скрипки, или под трение бамбуковых палочек. До более высокоразвитого искусства дзёрури оставался один шаг.
Популярная музыкальная пьеса дзёрури, исполняемая под аккомпанемент сямисэна, существовала уже во второй четверти XVI в. Она получила признание в среде народа в отличие от исполняемых в сопровождении бива повествований «Хэйкэ», признанных в высших кругах. Самым ранним использованным для дзёрури текстом была «История Дзёрури», откуда произошло и название самого жанра. В основе ее лежал рассказ о романтической любви популярного героя Минамото Есицунэ и Дзёрури, дочери состоятельного жителя города Яхаги в провинции Микава. Направляясь в Осю, местность на северо-востоке Японии, Есицунэ вступает с девушкой в любовные отношения. Расставшись с предметом своей случайной страсти, Есицунэ заболевает и оказывается в бедственном положении на побережье Фукиагэ в провинции Суруга. К счастью,
117
его находит и спасает Дзёрурихимэ, которая в трудную минуту оказывается истинным другом и проявляет о нем нежную заботу. Он выздоравливает и, тепло попрощавшись с прекрасной самаритянкой, отправляется дальше. Повествование состояло из двенадцати песен. Оно было необычайно популярно у «трубадуров» этого периода, проникновенно распевавших его под тоскливую мелодию сямисэна [40, с. 358; 37, с. 50—57].
Конечно, при наличии подобных тем прежнее искусство кукольных представлений превратилось в подсобное и удачно соединилось с новыми видами искусства: игрой на сямисэне и дзёрури. Первым художником, соединившим дзёрури с кукольным представлением, был Дзёкэй. Отцом его был Дзёкэн, уроженец города Сакаи, близ Осака. Он играл на бива и был знаменитым исполнителем «Хэйкэ-моногатари», популярного исторического эпоса, рассказывающего о величии и гибели блистательного рода Тайра и являвшегося в то время популярным развлечением придворных аристократов и самураев. Дзёкэй унаследовал от отца исполнительское мастерство и особый стиль дзёрури и соединил их с искусством кукольных представлений, которое он изучал у Гэннодзё, кукольника из Нисино-мия. Очевидно, Хидэёси проявил интерес к новому кукольному театру, так как для его развлечения было дано представление, где Дзёкэю помогал один из кукольников школы Гэннодзё. Еще одним учеником Гэннодзё был Дзиробэй из Киото, который вместе со своим наставником исполнил кукольное представление, сопровождаемое дзёрури, — одно из первых в Японии. Представление состоялось на временных подмостках на высохшем русле реки Сидзё в Киото. Сообщают, что своей новизной оно вызвало в древней столице большой ажиотаж.
Родившийся в 1595 г. сын Дзёкэя Дзёун продолжал традиции своего отца вначале под псевдонимами Торая Дзироэмон и Кохэйда. Позднее, став монахом, он принял имя Дзёун, но, поскольку женственная атмосфера западной столицы — Киото не соответствовала его воинственному характеру и темам его дзёрури, он отправился искать счастья в сёгунскую столицу Эдо, где основал в квартале Накабаси кукольный театр и начал устраивать представления. Речь героев его дзёрури была свободна от вульгаризмов, куклы и их костюмы были выполнены в классическом стиле, музыка сямисэна, сопровождающая представления, была поразительно проста. Он отказался от глиняных кукол в пользу деревянных. Бумажные занавески были заменены роскошными шелковыми.
Одним из наиболее выдающихся учеников Дзёуна был Гэн-даю, стиль которого отличался утонченностью и изяществом. Он ощущал, что почва Эдо неблагоприятна для его женственного искусства, и, отказавшись от манеры своего более муже
118
ственного и воинственного учителя, перебрался в Киото, где его спокойное и величественное искусство имело больше шансов приобрести широкую популярность. В древней столице к нему присоединился еще один ученик Дзёуна—Мияути Гидаю. С появлением в Киото этих выдающихся исполнителей началась новая эра расцвета кукольного театра, который сразу же завоевал популярность, перешедшую в моду, и пользовался восторженным приемом.
Популярность кукольных представлений оказалась также связанной с положением в это время самураев в районе Кан-сай. «После сражений между семействами Токугава и Тоётоми, происходивших в районе Осака в конце XVI и в начале XVII в., — объясняет С. Кацумата, — как это обычно бывает после прекращения крупных беспорядков, Осака был наводнен остатками последователей Тоётоми и лишившимися хозяев самураями, которые средь бела дня занимались грабежами домов состоятельных граждан и вызывали раздражение законопослушных горожан. Во избежание подобных неурядиц им была предоставлена возможность зарабатывать себе на жизнь честным путем. Былым грабителям было поручено охранять семнадцать башенных ворот вокруг Осакского замка. Бывшие профессиональные головорезы, получив мирное занятие, находили эту службу слишком однообразной и банальной. Им хотелось привнести в свою жизнь чуточку волнения. В голову наиболее предприимчивым из их числа пришла идея совместить службу с незатейливым придорожным представлением, чтобы развлекать проходящих через ворота, в надежде, что такое побочное занятие даст дополнительную прибавку к их жалкому заработку привратника. Для этого были выбраны кукольные представления, как наиболее подходящие для такой цели, на что без труда удалось получить разрешение властей. Уроки кукольного искусства они брали у наставника, приглашенного из Нисиномия, и, когда стражники овладели мастерством настолько, что могли демонстрировать его публике, они обеспечили себе сотрудничество чтецов дзёрури. Инструктором бывших ронинов, совмещавших два эти ремесла: стражника и кукловода, был назначен Дзироэмон, который позднее под именем Дзёун снискал известность в кукольном мире Эдо. Чтецы дзёрури, распределившиеся по семнадцати башенным воротам, были учениками Дзироэмона. Зрители щедро покровительствовали кукольным представлениям, которые позволяли им время от времени отвлечься от деловой городской суеты. Таким образом, безработные самураи смогли начать честную и спокойную жизнь, сами собой прекратились случаи грабежа и насилия, которые прежде поразительно часто происходили на улицах Осака и причиной которых были полуголодные самураи,
119
о u
доведенные до крайней степени отчаяния невозможностью добыть себе пропитание. В большом городе воцарились мир и спокойствие» [40, с. 372—374].
Интересным напоминанием о происхождении осакских кукольных театров является знаменитый кукольный театр Ги-даю—Такэмото-дза, сооруженный в Осака спустя полвека; к нему была пристроена башенка, украшенная вывеской с броской надписью: «Такэмото Гидаю». Башня свидетельствовала о наличии официального разрешения на проведение представлений. Также она указывала на происхождение осакских кукольных театров у башенных ворот вокруг Осакского замка.
В искусстве кукольного театра, как и во многих других аспектах культурного развития, мы наблюдаем в Японии удивительные параллели с процессами, происходившими в Англии и других европейских странах. Кукольные представления, корнями уходящие в древность, вошли в Англии в моду в конце XVII в. и выросли из пьес «моралите», подобно тому как Кабуки вырос из театра Но или из древних ритуальных пьес. В 1641 г., согласно афише этого года, на Варфоломеевской Ярмарке, популярном центре развлечений Лондона того времени, предлагались следующие удовольствия: «Мошенник в шутовском одеянии дует здесь в трубу или бьет в барабан и приглашает вас посмотреть на его куклы. Проказник, похожий на лесного дровосека, или же в потешной маске инкуба желает видеть вас в числе своих зрителей». В 1667 г. Пипис писал, что на Варфоломеевской Ярмарке он обнаружил «мою леди Каслмэйн в кукольной пьесе Терпеливый Гризилл"». В этот период среди простого народа были особенно популярны такие кукольные пьесы, как «Дик Виттингтон», «Выходки веселого Эндрю», «Печаль Гризельды» и «Развлечения Варфоломеевской Ярмарки». В Лондоне времен Иакова I театральным центром была Флит-стрит, где непрерывно демонстрировали кукол, голых индейцев и удивительных рыб. В следующем поколении Гёте и Лессинг в Германии и Лесаж во Франции обратили
о
некоторое внимание на кукольный театр, а искусство марионеток во многих странах Европы стало привычным развлечением. В ту же эпоху в отгороженной от мира Японии неизвестные Европе Гидаю и Тикамацу распространяли то же самое искусство.
* * *
В этом кратком общем обзоре, посвященном рассмотрению покровительства сёгунским режимом классической китайской культуре и подъема простонародной культуры, более национальной по духу, следует подчеркнуть, что ее созданию способ
но
ствовали не только общественные и экономические факторы, но также и конкретные личности, которые мощными ударами молота выковали из традиционного материала новую культуру в области литературы, искусства и театра. В следующей части нашего исследования мы более подробно рассмотрим деятельность двух выдающихся новаторов, Сайкаку, Тикамацу, и некоторых из сотрудников и современников последнего в области театра. Историю нельзя объяснить при помощи только больших безличных сил или движений, причиной которых считают Zeitgeist или же экономические факторы. За каждым крупным движением стоит человек, а его мысли и есть те рычаги, которые двигают мир. Карлейль и Эмерсон настаивали, что история — это только биография великих людей, и мы помнили об этом, когда включили в данное исследование о японском Ренессансе биографии нескольких великих литературных деятелей XVII в.
Прежде чем перейти к более конкретной части нашего исследования, мы, однако, рассмотрим в следующей главе некоторые экономические факторы, определившие подъем народной культуры периода Токугава. Возникновение торгового сословия в Японии, как и в Европе, сыграло громадную роль в происшедших глубоких культурных переменах.
Примечание 1. В слове кабуки слог ка обозначается китайским иероглифом, который значит «песня», а слог бу — китайским иероглифом, означающим «танец». Однако, как считает японский комментатор Мики Харуо, слово кабуки вовсе не означает «песни и танцы». Китайские иероглифы были просто использованы для передачи фонетического звучания. «Это слово чисто японское и означает ,,шутовство" или ,,паясничание". Некоторые полагают, что имеется в виду вовсе не дурачество, а странное поведение или необычная внешность. Во всяком случае, в то время широкая публика действительно взирала на исполнителей свысока» [51].
Примечание 2. По мнению Мики Харуо, «сямисэн впервые появился на театральной сцене в 10-м году Канъэй (1633 г.), когда бывший актер Кинэя Кисабуро начал играть на сямисэне и принял участие в представлении театра Сарувака. Действительно, в основе исполнявшейся Кинэя мелодии лежала длинная эпическая песня из Эдо. Барабанчик, большой барабан и флейта применялись и раньше, но как только в театре появилась музыка сямисэна, возникло много школ по обучению игре на этом инструменте, что значительно способствовало успеху представлений и в то же время сильно обогатило содержание пьес Кабуки» [51].
121
Примечание 3. По поводу кукольных представлений (нингё-сибаи, т. е. «кукольных пьес») один из авторов замечает: «Чтение дзёрури сопровождается музыкой сямисэна, но это несколько больше, чем обычный аккомпанемент. Декламация и мелодия сямисэна сливаются в единую музыку, и во многих местах появляются сольные партии, поочередно исполняемые чтецом дзёрури и игроком на сямисэне. Эта уникальная музыка, создаваемая чтецом и музыкантом, и составляет основное в нингё дзёрури, а куклы действуют и танцуют на сцене в соответствии с этой музыкой. Поэтому такие пьесы и называются нингё дзёрури, т. е. дзёрури с куклами». В этом есть аналогия с оперой, где действие второстепенно по отношению к пению и музыке.
V. ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭКОНОМИКИ
1
ПОДЪЕМ ТОРГОВОГО сословия
Перенесение в 1615 г. ставки сегуна и переселение сословия самураев из Киото в Эдо1 сильно повлияло на экономическое развитие Японии, а позже обусловило новые культурные движения. Действительно, экономические факторы послужили новым импульсом, имевшим далеко идущие последствия для всей истории Японии. Культурную историю раннего периода Токугава или эпоху художественного расцвета Гэнроку невозможно изучать, не рассмотрев особо важные экономические тенденции, их обусловившие.
Короче говоря, в социальной сфере этот период ознаменовался подъемом торговой буржуазии, или среднего сословия, что сопровождалось процветанием и соответственно ростом роскоши, искусства, литературы, театра и всех видов развлечений, характерных для эпохи благополучия. На некоторое время в Японии наступил «позолоченный» век. В такой общественной и культурной среде в обстановке роскоши и богатства возникли многие из видов японского искусства и ремесла, народной литературы, поэзии и драматургии. В этой среде расцвел талант Сайкаку, Тикамацу и их современников.
Все же основным экономическим фактором этого периода являлся подъем торгового сословия. До этого времени, в широком смысле этого слова, общественная и политическая структура Японии была исключительно феодальной. Феодальные князья, или даймё, их вассалы — самураи составляли привилегированное воинское сословие, правящий класс страны. В состав этого класса входило также большое число сановников (кугэ), находящихся на службе центрального сёгунского правительства 2 или же провинциальных феодалов — даймё. С другой стороны, как в любом феодальном обществе, существовал класс простых людей.
В течение XVII в. возникло новое сословие — купцов, торговцев и ростовщиков. В целом этот класс, сосредоточившийся в Нара, Киото и Осака, назывался камигата3, и историк-экономист Такэкоси Есабуро приравнивает их к европейским евреям. Практичные, бережливые, удачливые, они быстро превратились в мощную силу, так как феодалы-аристократы не обладали ни склонностью к занятиям торговыми делами,
123
ни необходимой для этого проницательностью. «Их отличительной чертой были умение и изобретательность, благодаря которым они смогли разработать систему, основать общество и использовать их себе во благо. Они уже создали дза (цехи), ракуцу (свободные порты) и ракуити (свободные рынки), превратили золото и серебро в законное платежное средство и, чтобы компенсировать нехватку валюты, печатали бумажные деньги, а также придумали счета для биржевых сделок. В действительности все достойные упоминания экономические учреждения, особенно имеющие отношение к экономической истории Японии, были изобретены и претворены в жизнь этими камигата. Усердие, изобретательность, настойчивость и бережливость камигата позволили им столь же преуспеть в делах и торговле, как муравьям в строительстве муравейника. Не будь этих камигата, взявших в свои руки ремесло и торговлю, экономическая система Японии, находившаяся под контролем мужественных, но тупоголовых жителей северо-востока и горячих жителей Кюсю, которую вследствие их грубого, поспешного и непрактичного ведения дел постигала одна неудача за другой, никогда бы не вышла из своего примитивного состояния» [77, т. 2, с. 282].
Создалась ситуация, когда класс даймё и самураев, численность которых в Эдо достигала 250—260 тыс. человек и которые в качестве вассалов сёгуната получали щедрый рисовый паек, оказывался в зависимости от рисовых маклеров, когда им было необходимо превратить свое состояние в более удобную форму валюты — золото, серебро, бумажные деньги или переводные векселя. Таким образом, в Киото и Осака появились крупные рисовые менялы. Маклеры, торговцы и ростовщики из класса камигата процветали. И всего за одно поколение самые удачливые из них составили себе приличное состояние. Согласно Мицуи Такафуса, в одном только Киото в период Гэнроку существовало сорок шесть торговых домов-миллионеров, которые в конце концов разорились и канули в вечность. Множество торговых и финансовых фирм и крупных миллионеров существовало также в Осака и Эдо.
Профессор Такэкоси умело провел параллель между подъемом при сходных условиях среднего торгового класса в Японии и в Европе. Мы вспоминаем крупный немецкий дом Фуггера, где дело передавалось от отца к сыну и который, начав с чисто торговых сделок, постепенно перешел к банковским и обменным операциям и предоставлял огромные ссуды императорам и даже папе. «В распоряжении Фуггера было огромное богатство, но, естественно, этот дом не был единственным преуспевшим в делах и приобретшим большое состояние. В Венеции и в старой Италии многие обнаружили в себе талант коммерсанта и соответственно достигли успеха. . . В средневековой
124
Европе появилось множество рыцарей, которые в результате отчаянной борьбы завоевали княжества и графства в континентальной Европе, в новое время превратившиеся в маленькие государства. И когда они завоевывали политическую власть, бок о бок с ними боролись многочисленные торговцы, наградой которым была власть богатства. Интересно отметить, что история семейства Фуггера очень похожа на историю наших торговцев, выступивших на арену после периодов Кэйтё (1596— 1615) и Гэнва (1615—1624), но, к сожалению, все крупные торговцы, возвысившиеся в годы Кэйтё и Гэнва, разорились, и единственными сохранившимися их потомками являются дома Мицуи и Коноикэ» [77, т. 2, 259—266].
РОСКОШЬ
Вполне естественно, что подъем буржуазного сословия состоятельных торговцев и миллионеров сопровождался ростом роскоши, как в быту, так и в развлечениях. Как обычно бывает у представителей такого сословия, быстро разбогатевших и неспособных в силу отсутствия традиции или возможностей стать крупными феодалами-землевладельцами, они могли тратить свои денежные средства только на требующие больших расходов развлечения и представления. Так, Навая Куроэмон и его младший брат Дзюроэмон, богатейшие люди Киото эпохи Гэнроку, жили в великолепных особняках и «их бурная жизнь поражала весь Киото». Рассказывают, что, когда однажды богатый торговец из Эдо прибыл в Киото и пригласил братьев Навая на банкет с целью добиться их расположения, он смог удовлетворить их, только потратив на один этот прием 20 ООО каммэ серебра. Когда Куроэмон стал финансовым распорядителем при князе Мацудайра, ему присвоили самурайский ранг, и с тех пор он разгуливал по улицам Киото в сопровождении слуг, вооруженных копьями. Дзюро-эмона тоже повысили в ранге, что позволяло ему носить мечи — привилегия военного сословия самураев, — ездить верхом на коне и разгуливать по городу под охраной копьеносцев. Эти и многие другие нувориши были собирателями и знатоками прекраснейших произведений искусства, а также покровителями художников. Рассказывают, что богатое семейство Итикава, первоначально входившее в сословие феодальных даймё, но еще более разбогатевшее на торговле, обладало поразительно редкими и ценными вещами, которые оно было вынуждено продать вследствие банкротства семьи, в середине эпохи Токугава вызывало восхищение жителей Киото. Знаменитый дом Едоя в Осака, прежде чем его погубил ревнивый
125 сёгун Цунаёси, гордился неслыханным богатством и антикварными вещами, более ценными, чем те, которыми обладали крупнейшие феодальные князья. В его коллекции было: 21 цельная золотая курица с 10 цыплятами, 14 цельных золотых попугаев ара, 15 цельных золотых воробьев, 51 цельный золотой и серебряный голубь, жемчуга, кораллы, 173 рубина, агаты, янтарь и т. п., 150 000 фунтов ртути, более 700 мечей, свыше 1700 рулонов замши, бархата, шелка и парчи, 480 ковров, 96 стеклянных створчатых ширм, цельная золотая шахматная доска толщиной в три дюйма, 3 500 000 рё в золотых монетах 4, 14 166 000 рё серебра и 550 000 рё в медных монетах, около 750 китайских картин и т. д., не считая 540 домов и около 250 угодий и полей с 1500 арендаторами. Кинокуния Бундзаэмон, человек сомнительного происхождения, родившийся в 1615 г.5, отправился в Эдо и, продав привезенные морем апельсины из провинции Кии, стал крупным лесоторговцем и наконец добился подряда на поставки сёгунскому правительству. После этого он вел сумасбродный образ жизни, распутствовал в Ёсивара 6; дом его занимал целый квартал, и он устраивал щедрые приемы для официальных лиц. Его имя повсюду прославляли в стихах, превозносили профессиональные певцы. Он дошел до того, что каждый день менял в своем доме циновки, изготовлением которых постоянно занимался целый отряд плетельщиков. Все это делалось ради того, чтобы продемонстрировать представителям официальной власти уважение и заботу. Сохранилось много других рассказов о расточительности и выходках, которые позволяли себе эти предприимчивые люди, быстро разбогатевшие на выгодных торговых или банковских сделках [77, т. 2, с. 222—228].
Это был воистину «позолоченный» век. О наблюдавшемся у части горожан, торговцев стремлении к роскоши свидетельствуют ограничения, которыми бакуфу пытались как-то их сдержать: «Горожане и слуги не должны носить шелковых одежд», «Горожане не должны носить накидок», «Горожане не должны вести расточительный образ жизни», «Горожане не должны устраивать роскошных приемов». Однако, как отмечает Джордж Сэнсом, «именно это горожане и предпочитали делать и никакими указами сегуну было не заставить их отказаться от удовольствий, которые те могли получить за свои деньги. Время от времени слишком кичливый торговец или ростовщик вызывал такое возмущение бакуфу, что его имущество конфисковывалось, бывали также случаи, когда слуги сёгуната пытались закрепить законы, ограничивающие расточительность, путем ареста слишком богато одетых лавочников. Но тяга к роскоши укоренилась слишком глубоко, чтобы ее можно было пресечь, и горожане, если им было запрещено проявлять ее внешне,
126 тратили свои деньги на менее очевидные, но еще более дорогостоящие удовольствия» [66, с. 463].
Следует отметить, что одновременно то же самое наблюдалось и в Англии в пресловутый период Реставрации. В 1660 г. там покончили со сдержанностью предыдущей пуританской эпохи и ограничениями, введенными сёгуноподобным правителем Кромвелем, и начался период резкой реакции на пуританство. Историк Грин отмечает, что «умеренность в одежде, в речи, в поведении вызывала насмешки». [Самюэль] Батлер в своем «Гудибрасе» с шутовской педантичностью осыпал прошлое обвинениями, в которых привлекала скорее содержащаяся в них ненависть ко всему, чем юмор. Отличительными чертами истинного джентльмена стали дуэлянтство и распутство, а почтенные богословы сквозь пальцы смотрели на глупости «честных парней», которые дрались, играли в азартные игры, сквернословили, пьянствовали и заканчивали разгульный день ночевкой в сточной канаве. Жизнь светского человека колебалась между фривольностью и распущенностью. В одной из комедий того времени придворному говорят, что «он должен хорошо одеваться, уметь танцевать, фехтовать, писать любовные письма, обладать приятным голосом, быть влюбленным и осторожным, но не слишком постоянным» [27, т. 2, с. 569]. Конечно, все это наблюдалось преимущественно в столице и среди придворных и джентри, точно так же как это было в Эдо среди сёгунских придворных и самураев. Что же касается простого народа, то «основная масса англичан была удовлетворена возвращением ей ,,майских деревьев" и сладких пирожков». Точно так же и низшие слои японского общества искали свободы в «веселых кварталах», чайных домах и общественных парках.
Что же касается одежды, то щегольство английских джентри и горожан в XVII в. было не менее сумасбродным, о чем свидетельствует любое описание костюмов времен Карла I, Карла II или Иакова I. Мужчины наравне с женщинами использовали рюши и перья, яркие, дорогие шелка и бархат, кружевные жабо, пряжки и украшения с драгоценными камнями, пудру и косметику. Моды, позаимствованные во времена правления Карла II у двора Людовика XIV, можно сравнить с изощренной элегантностью окружения принца Гэндзи. Любопытно отметить, что даже после появления париков в Англии продолжали быть в моде косички, часто завязанные черной шерстяной лентой, а в армии они были окончательно отменены только в 1808 г. Шпага также стала неотъемлемой частью мужского костюма даже у гражданских лиц. В феврале 1661 г., в воскресенье, Пипис, сын портного, испытывавший робкое пристрастие к изящным одеждам, «начал носить свой плащ и шпагу, как теперь принято у джентльменов». Как и
127 у японских самураев, этот обычай продолжал существовать до XIX в.
Не вникая подробно в принимавшиеся Иэясу и последующими сегунами законы, направленные против роскоши, с целью пресечь расточительность в быту и одеяниях, следует заметить, что в этот же период в Англии костюмы дворян достигли таких фантастических высот изощренного великолепия, что неоднократно издавались законы и указы, регулирующие конкретные проявления моды: Генрихом VIII, удерживавшим средние сословия от безрассудного подражания прекрасному полу; Марией [Стюарт], постановившей, что штрафу должен быть подвергнут всякий человек с доходом менее 20 фунтов в год, если в его шляпе или туфлях обнаружат шелковую подкладку; Иаковом I, Карлом I, Карлом II и т. д. Иэясу, издававший законы против неоправданной роскоши, не был одинок.
■
ВЛИЯНИЕ НА КУЛЬТУРУ
Такое слишком быстрое обогащение, как в Англии, так и в Японии, привело к крайностям.
Влияние более консервативного сословия самураев в Киото и Осака ослабло с переселением их в Эдо. Поэтому в других городах началось опьянение свободой. В период Гэнроку сословия японских торговцев и стоящих ниже них ремесленников и чернорабочих впервые смогли открыто вкусить напиток жизни. И он ударил им в голову. Вполне естественными последствиями столь быстрого перемещения по лестнице социальной иерархии явились сумасбродство и роскошь. . . О та-
кои расточительности, как у торговцев, самураи никогда не могли даже помыслить. В «веселых кварталах» «говорят деньги», поэтому торговцы стали в них практически безраздельными хозяевами. Эти места пользовались огромной популярностью. . .
Сайкаку до мельчайших подробностей описывает безумную расточительность подобных людей в своей кнше «Тёнин кагами» 7 и говорит: «Они очень естественны и, не страшась ничьего осуждения, делают именно то, что им нравится».
В «Канкацу дайдзин катаги» 8 говорится: «Нанива—Осака — крупнейший порт Западной Японии, равно велики и умы его жителей. В любую минуту они, не раздумывая, потратят на развлечения сто—двести моммэ золота . Кто когда-либо слышал раньше в Японии о чем-то подобном?».
Тикамацу, другой выдающийся автор, обрисовавший этот «позолоченный» век, описывает в своей книге «Эдо-но кои
128 сюссэ-но Такинобори» княжескую расточительность семейства Едоя: «Должен сказать вам, что мой отец тратил от 800 до 900 рё только на одни развлечения, и при этом никому не казалось, что это слишком много. Что может помешать мне поступать точно так?».
До этого периода японское общество было строго разделено на четыре основных класса, известных как си, но, ко, сё (самураи, крестьяне, ремесленники и торговцы) и занимающих положение в порядке их перечисления. В литературе периода Токугава можно обнаружить такие высказывания, как: «Один крестьянин стоит двух самураев, а три нищих — четырех горожан». Но возраставшая экономическая мощь презираемого торгового сословия, хотя и не принесла ему признания, но по крайней мере его авторитет возрос и в глазах самураев, оказавшихся у него в зависимости, и в глазах ремесленников, которые тоже отчасти многим ему были обязаны. Таким образом, торговцы крупных городов Эдо, Киото и Осака (особенно двух последних, поскольку Эдо все еще оставался преимущественно самурайским городом) подали пример низшим сословиям, которые быстро, хотя и в меньших масштабах, начали им подражать. Общественная жизнь стала менее скованной и регламентированной, хотя и более вульгарной. В то же время, как мы видели, в этих городах появились печатные станки (использовавшие ксилографические доски), у представителей всех сословий возросла потребность в книгах, и три эти города превратились в крупные литературные центры. Народ нуждался в литературе.
В течение последующего периода Гэнроку простые люди, выделившиеся в отличное от воинов и аристократов сословие, впервые в истории Японии обрели силу и способность к развитию. Крупный историк японского искусства Эрнест Феноллоза пишет: «Это напоминало подъем класса промышленных рабочих в вольных городах Европы в тот период средневековья, когда начала рушиться старая феодальная система. Там тоже можно было увидеть, как облаченные в доспехи владельцы замков процветали бок о бок с бюргерами и членами гильдий. Наличие подобной двойственности дает нам ключ к пониманию токугавской культуры в целом. . . Ключ к жизни и искусству эпохи Токугава заключается в широком их разделении на два основных потока — аристократический и простонародный. Эти два потока текли параллельно, сравнительно мало смешиваясь. С одной стороны, компании рафинированных господ и дам, которые собирались в величественных замках и ясики 10, даймё и самураи, занимающиеся военным искусством и изучающие прошлое своей страны и Китая, сочиняющие воинские кодексы чести, окружающие себя удиви-
9 Заказ 1438
129
тельными лакированными изделиями, фарфором, вышивками и умело обработанными бронзовыми предметами, а с другой стороны, в таких крупных городах, как Осака, Нагоя, Киото и Эдо, жило множество предпринимателей, ремесленников и торговцев, которые не пользовались многими из привилегий жителей замков, но придумали для себя способы самовыражения в сфере местной администрации, образования, науки, литературы и искусства» [24, т. 2, с. 112—113].
К этому можно добавить замечание Джорджа Сэнсома. «Культура горожан в основном была культурой процветающей буржуазии, склонной к развлечениям. Создаваемое ею искусство сосредоточивалось вокруг того, что на разговорном языке того времени называли укиё-э, то есть „картины изменчивого мира". Это был мир мимолетних наслаждений, театров и кабачков, борцовских балаганов и домов свиданий, постоянными посетителями которых были актеры, танцовщицы, певички, рассказчики, шуты, куртизанки, банщицы и странствующие торговцы, а также некоторые беспутные сынки богатых торговцев, похотливые самураи и шаловливые подмастерья. Жизнь этих ,,веселых кварталов" и их обитателей преимущественно и изображалась в популярных романах и живописи того времени — укиё-дзоси и укиё-э, ,,записках и картинах об изменчивом мире". Театр же и все вспомогательные виды сценического искусства гармонично развивались в соответствии со вкусами этого веселого общества. Понятно, что такой безответственный образ жизни и столь откровенно снисходительное отношение к наслаждениям были неприятны более аскетически настроенным самураям и в целом вызывали отвращение у правящих кругов, что еще более усилилось, когда они осознали, что горожане платят за развлечения деньгами, извлеченными у них самих. Поэтому они стремились сдержать распространение роскоши среди простолюдинов при помощи указов, направленных против расточительности, наподобие упомянутых выше. Они были склонны хранить достоинство и блюсти свои традиционные привычки, словно бы времяпрепровождение простолюдинов было недостойно их внимания. Они не выдержали соперничества и были вынуждены уступить мощным экономическим и общественным силам, не подвластным их контролю. Однако благодаря их консерватизму до нас дошли, хотя и в несколько закостенелой форме, некоторые из традиционных видов искусства, а также важные элементы их морального кодекса» [66, с. 466—467].
Из вышеприведенного описания новой тенденции стремиться к веселью, развлечениям и вычурности может показаться, что существовал духовный вакуум. Однако следует подчеркнуть, что внешняя легковесность совмещалась с культурой довольно
130 высокого эстетического уровня. Подобные развлечения не были привилегией исключительно пошлых и невежественных кругов. Состоятельные bon viveur 11 при всей их мягкотелости обладали некоторым вкусом. Они «были людьми зажиточными и изысканными, но не из тех, кого бы мог удовлетворить невзрачный узор на одежде, неуклюжая форма чайника, небрежно выполненное театральное объявление и плохо поставленная пьеса. . . Можно не сомневаться, что к 1700 г. все горожане достигли высокого уровня богатства и культуры; и хотя самураи могли заявлять, что тёнин (горожане) — это люди низкого происхож-
дения, сомнительных занятии и с низменными вкусами, у тенин были свои, достаточно определенные критерии того, что следует считать хорошей пьесой, хорошей картиной и — чего не следует забывать — хорошим поведением». Это было особенно верно для старых городов, которые являлись политическими, художественными и общественными центрами до перенесения столицы в Эдо. Осака и Сакаи долгое время были торговыми городами; их население составляли буржуазные предприниматели высшего класса, подмастерья и ремесленники. Киото, хотя он неоднократно становился местом сражений и часто оказывался жертвой военных действий, всегда сохранял какие-то, пусть даже поблекшие, следы своей древней славы, а на его жителей падали некоторые отблески столичной утонченности императорского двора. Люди были изысканными, проницательными и благородными, а в вопросах культуры — сторонниками оригинальности и новаторства. Жителями же Эдо, напротив, были, с одной стороны, представители правящего сословия: даймё, самураи и прочие вассалы, а с другой — разношерстная толпа недавно сюда переселившихся предприимчивых торговцев, горожан и нуворишей; людей грубых, деятельных, любящих поспорить, задиристых, потомками которых являются типичные эдокко, похожие на лондонских кокни: остроумные, разборчивые, дерзкие и приверженные своему жаргону» [66, с. 465].
Чтобы лучше понять литературу рассматриваемого периода, нужно постоянно помнить об этом отличии. Литература, развившаяся преимущественно в Киото и Осака, отличалась изяществом, остроумием, а в большинстве случаев — глубиной и изысканной утонченностью. Тем не менее эта культура была
новой, порвавшей с классическими китайскими традициями и выработавшей новый стиль в искусстве и литературе — по своему характеру более независимый, более свободный, национальный и естественный.
*
VI. БАСЁ
ПОЭТ-СТРАННИК
Перипатетики были философами, которые по примеру Аристотеля разгуливали туда-сюда во время лекций. Мендиканты были бродячими монахами нищенствующего ордена, которые жили исключительно подаянием. Пилигримы были странниками, которые совершали паломничество к святым местам, чаще всего в Палестину, или, как говорится у Чосера, «кто в Кентербери бывало тянулись — все они пилигримы». Трубадуры были лирическими поэтами XI—XIII вв., воспевающими преимущественно рыцарскую доблесть и благородство, иногда в обществе бродячих музыкантов или кочующих шутов и фокусников-жонглеров. Проселки средневековой Европы, которые едва ли можно назвать дорогами, были наводнены такими странниками.
Басё был бродячим поэтом.
В сущности, он обладал понемногу всеми этими качествами. Хотя он и не просил подаяния, но жил милостыней. Хотя он и не был монахом, но совершал паломничества к алтарям и святым местам Японии. Хотя он и не воспевал рыцарское благородство, но сочинял стихи и читал их другим. Хотя он и не был шутом, но обладал чувством юмора и был приятным собеседником. Хотя он и не был музыкантом, но «слушал музыкальные драмы окудзёрури которые исполняли слепые музыканты под аккомпанемент четырехструнной лютни», а возможно, и сам носил при себе обычную для странника флейту.
Бывший французский посол в Вашингтоне Ж. Ж. Жюссеран написал фундаментальный труд о жизни странников в средневековой Англии. Подобная задача еще стоит перед историками Японии. Странничество превратилось в изящное искусство, для многих оно стало призванием. Для поэтов оно было неизбежным. Не мог перед ним устоять и Басё. Если он и не путешествовал, подобно Р. Л. Стивенсону, на осле, то иногда, как Дон Кихот, ехал на лошади, но чаще всего, подобно современному закоренелому бродяге и поэту У. Г. Дэйвису, странствовал пешком. Впрочем, неважно, как Басё бродяжничал, как скитался — он всегда оставался странствующим поэтом, перипатетиком и паломником.
В Японии XVII в. для путешественников существовало два препятствия. Во-первых, путешествовать можно было
132
только или верхом на лошади, или пешком (конечно, если это не был даймё или богатый господин, которые могли позволить себе воспользоваться паланкином и носильщиками). Самураи обычно ездили верхом, паломники же, поэты и бродячие торговцы передвигались пешком. Во-вторых, существовали бюрократические сложности: паспорта на право пребывания в других провинциях, таможенные заставы на Токайдо и других главных трактах, специальные разрешения на передвижение, долгие и нудные объяснения со стражами сёгуната, внимательно следившими за движением по дорогам.
Эти заставы вызывали раздражение, но были необходимы для контроля за политическими процессами и контрабандой огнестрельным оружием. Обычно они начинали функционировать в шесть часов утра, а закрывались в шесть вечера. Скин-Смит недавно опубликовал старые документы, касающиеся этих учреждений. Одно из донесений с заставы гласит: «Все проходящие через заставу должны снять свои головные уборы (соломенные шляпы и дзукин2). Двери паланкинов должны быть открыты. Паспорта путешествующих женщин должны тщательно проверяться, если же они путешествуют в паланкине, то следует препроводить их в помещение заставы для обследования». Для раненых, мертвых, а также «для лиц, страдающих безумием, заключенных, отрубленных голов (мужских и женских) и трупов (мужских и женских)» требовались паспорта.
Для путешествовавших между Киото и Эдо паспорта выдавались правительственными органами, и они были необходимы для мужчин и женщин из самурайских семей. Непосредственным вассалам бакуфу паспорта не требовались. Простым людям получить разрешение было очень легко: необходима была записка от владельца дома, деревенского старосты или одного из родственников. Бродячим актерам, чтобы пройти через заставу, было достаточно продемонстрировать стражникам свое мастерство [69, с. 58—59].
Несмотря на все эти ограничения, паломничества совершались, и странствующие ученые, поэты и художники неторопливо бродили от села к селу, подобно учителям-перипатетикам или средневековым европейским проповедникам, скитались из одного города в другой, от одного прославленного живописного места к другому, по всей стране вдоль и поперек. Несомненно, им приходилось объясняться с сёгунскими таможенниками, охранявшими заставы или городские ворота, но они, наверняка, были достаточно сообразительны, чтобы ответить на их вопросы и вполне благополучно пройти.
Возможно, среди подобных странников не было более неутомимого путешественника, чем молодой человек, сменивший
133
множество имен, начиная со своего подлинного Дзинситиро Гиндзаэмон и кончая приобретенным уже в зрелые годы псевдонимом Басё.
Он родился в 1644 г. в призамковом городе Уэно, столице провинции Ига, в семье самурая низкого ранга. После нескольких лет службы у молодого князя Еситада, чей отец управлял замком Уэно, он отправился в императорскую столицу Киото, где попал под влияние выдающегося поэта хайкай Китамура Кигина. Дзинситиро и его сюзерен Еситада, который принял псевдоним Сэнгин, стали близкими друзьями и обычно демонстрировали свои поэтические наклонности, сочиняя модные «стихотворные цепочки» — рэнга. Уже в юности молодой самурай проявил такое мастерство, что, когда ему было двадцать два года, некоторые его стихотворения, равно как и его сюзерена Сэнгина, были включены в антологию, изданную поэтом Огино Ансэй. Тогда же Дзинситиро принял литературное имя Мунэфуса 3.
На следующий год, в апреле 1666 г., его хозяин и друг Еситада (Сэнгин) внезапно умер. Скорбящий 23-летний Мунэфуса, взяв прядь волос своего молодого хозяина, отправился на гору Коя, чтобы поместить ее там в знаменитом буддийском монастыре. Краткого пребывания в храмах с их спокойной обстановкой благочестия и набожности, самососредоточенности и мистицизма оказалось достаточно, чтобы отвлечь чувствительного и одинокого парня от родного очага и приятелей и опутать его чарами созерцательных монастырских методов. Он был готов уйти от мира.
Тем не менее вскоре он снова оказался в Киото и поступил в услужение к Кигину, литературному наставнику Сэнгина, с которым он продолжал изучение классических японских книг, рэнга и хайкай школы Тэйтоку. Одновременно под руководством крупного специалиста Ито Танъана он изучал китайских классиков. В это время молодой поэт-самурай еще раз изменил свое имя и стал называться Тосэй — «Зеленый персик», в честь китайского поэта, творчеством которого он очень восхищался 4.
Последующие пять лет Тосэй провел в Киото, усиленно учась и сочиняя стихи. Он подружился с литературным братством, проживавшим в императорской столице. В те дни Киото был большим городом, и нам неизвестно, поддерживали ли поэты тесные контакты друг с другом и с лучшими представителями искусства, ремесла и театра. Однако, вполне вероятно, что их пути часто скрещивались: на центральных улицах, в садах и парках столицы или на многочисленных поэтических вечеринках, которые устраивались в литературных кругах. По меньшей мере многие знали друг друга по имени благодаря
134
антологиям наподобие составленных Огино или Танака Дзёкё, где впервые появились стихотворения Тосэя. В сборнике «Кайой» («Игра в ракушки») было опубликовано более 30 пар его хайкай, 2 из которых, подписанных псевдонимом Собо, были им написаны не в классической форме и не в более современном стиле Данрин 5.
БАСЕ — ФИЛОСОФ
В 1672 г. сёгун вызвал Кигина в Эдо; сопровождал его молодой ученик Тосэй. Чтобы как-то помочь ему свести концы с концами, его назначили ответственным за строительство сооружений по водоснабжению в Сэкигути, находящемся в округе Коисикава в Эдо, но, даже занимаясь этой официальной и практической деятельностью, несомненно, несовместимой с его темпераментом, Тосэй продолжал изучать классиков и слагать стихи. Вскоре он отказался от должности и взял на себя невыгодную и не приносящую доходов роль учителя хайкай. Число его учеников, многие из которых позднее прославились, постоянно росло. С каждой публикацией год от года росла и его слава. Один из его друзей и учеников, Сугияма Сампу, богатый поставщик рыбы для ставки сегуна, предоставил в распоряжение Тосэя свою хижину, расположенную на левом берегу реки Сумида в Роккэмбори, в округе Фукагава. Здесь, в саду, Тосэй посадил банановое дерево (басе) и ученики стали называть его жилище «Басё-ан» («Обитель банановых листьев»). После этого поэт принял имя Басе, под которым он более всего и известен.
Мы не будем подробно рассказывать о его уединенной жизни в этом простом рыбацком жилище, состоявшем всего из одной крошечной комнаты, где он занимался сочинением стихов и изучал основы дзэн-буддизма. Это было, как можно предполагать, то самое идеальное убежище, в каком нуждаются поэты и философы всех времен и народов: Овидий, Гораций и Цинцинат на своих сельских фермах; Ницше и Гёте в своих обителях; Эмерсон и Торо в своих хижинах «Конкорд» и «Уол-ден», английские «озерные поэты» на берегах Грасмера и даже граф Грей в своем сельском уединении в Фаллодене, на берегу реки. Возможно, он вспоминал слова древнего китайского художника Какки 6: «В чем причина такой любви достойных людей к пейзажам сансуй (шаныиуй)? Пейзаж — это когда долины и пригорки покрыты растительностью; когда ручьи среди скал резвятся как дети; это место, которое любят посещать дровосеки и мудрые отшельники; место, где птицы громко выражают свою радость». Здесь Басе мог наслаждаться
135
пейзажем — сансуй, черпать в нем душевное спокойствие, радость, вдохновение, общаться с природой и ощущать свое единство с ней. Здесь он мог, совершенствуясь в созерцательном искусстве дзэн, подобно Эмерсону, «впасть в знакомый йогам и суфиям транс, достичь мистического состояния самадхи, когда избавившийся от всех желаний разум, бесцельный и бестелесный, пребывает за пределами сознания и когда ощущаешь себя свободным, всемогущим и бессмертным».
«Существует множество противоречивых и одинаково правомочных версий, — писал о Басё Чемберлен, — объясняющих причину его отшельничества. Одна, которая ничем не подтверждается, но которая легла в основу популярной драмы, указывает на причины морального порядка, намекая на какую-то интрижку с женой сюзерена. Но самое простое объяснение следует искать в том пессимистическом и аскетическом настроении, которое — хотя оно и не знакомо Японии XX в. — оказывало влияние на национальное сознание в средневековую эпоху гражданских войн и нищеты и которое задолго до Басё заставляло воинов и аристократов отказываться от светских титулов. После окончательного умиротворения страны около 1600 г., в правление сегунов Токугава, эта причина исчезла. Но в то же время жизнь всех членов самурайского сословия, или военной аристократии, превратилась в унылую, повседневную рутину, в бесконечную череду церемониальных ритуалов, что тяготило всех, за исключением самых прозаических умов. Ничего удивительного, что главы семей как можно раньше совершали инкё, т. е. уходили от активной жизни, видя в этом единственное спасение от официальной тирании, единственную возможность жить, как хочется. Другие же, более нетерпеливые, сворачивали со стези еще раньше, в юности, скрываясь в тени буддизма, чья власть над страной все еще была сильна. Многие становились буддийскими монахами только формально, отказывались от наследственных имен и титулов, брили голову и надевали монашеские одежды, но посвящали свою жизнь не религии, а наслаждениям. Такими были эстеты, которые, являясь друзьями детства сегунов и других высокопоставленных персон, разработали чайные церемонии, спланировали самые прекрасные сады в Киото и способствовали развитию изящных искусств. Другие же были истинными подвижниками; вероятно, многие остановились на полпути между мистической страстью и искусством или литературой. Положение Басё было особым. Истинно верующий, до мозга костей последователь мистицизма школы дзэн, он все же преследовал чисто практическую цель: он желал сделать жизнь и мысли людей лучше и возвышеннее и для этого выбрал в качестве инструмента этического воздействия одну область искусства — поэзию, которой он и по
136
святил всю свою жизнь. Само слово „поэзия" <. . .) было для него идентично морали. Если бы кто-то из его последователей нарушил кодекс нищеты, простоты, смирения, длительного страдания, он бы попрекнул нарушителя словами „Это — не поэзия", что означало бы: „Это — не верно" 7. Но еще чаще он наставлял своим собственным примером» [17, с. 110].
Так как погруженность Басе в дзэнскую философию является ключом к его жизни и литературной деятельности, мы вправе задать вопрос: что же она собой представляла? В Японии дзэн появился не ранее 1200 г. и достиг расцвета в эпоху Камакура. Его притягательность заключалась в отсутствии канонов. «Дзэн, — как указывает Джордж Сэнсом, — не основывается на письменных источниках, не имеет разработанной философии. В сущности, он почти антифилософичен, ибо делает упор на значении постижения истины, которая возникает как видение в результате самосозерцания, а не вследствие изучения сочинений других людей. Наставник дзэн не читает сутр, не соблюдает никаких ритуалов, не поклоняется изображениям и наставляет своего ученика не при помощи долгих проповедей, а намеками и недоговоренностями. Ученик должен сам постичь себя, совершенствовать себя самостоятельно и отыскать свое место в духовном мире. Наставники учили obscurum per obscurius 8, прибегая к парадоксальным притчам» [66, с. 330]. В этом описании содержится ключ к сокровенной сути хайкай, с ее эстетическим восприятием природы, ее настроений и погружением человека в мир, выражаемый скорее при помощи «намеков и недоговорок», чем открытым текстом. В другом месте Сэнсом говорит о японцах: «Они верили, что вся природа пронизана единым духом. В этом, в частности, и заключалась цель занятий дзэн — очистить свой разум от эгоистических устремлений и достичь спокойного, интуитивного понимания своего единства с миром. . . Конечно, такое чувство приобщенности к природе нашло отражение и в западной литературе: однако там оно всегда несет на себе отпечаток антропоцентризма. Мистическая любовь к природе появляется в японской поэзии задолго до того, как мы можем (за редкими исключениями) обнаружить ее в Европе. Когда Блейк увидел „в одной песчинке вечность и небо в чашечке цветка", он чувствовал то, что китайские и японские поэты выразили задолго до него и что было почти банальностью для дзэнского мировосприятия» [66, 385]. Когда Стопфорд Брук писал то же самое о Вордсворте, он сам не подозревал, что выражает дзэнскую точку зрения в словах: «Человек, который находит в Природе только отражение своих страстей и мыслей, может обнаружить Бога только через Его отношение к нему или его близким. Он видит в Боге только человеческое и тем самым
137
игнорирует всю абсолютную сторону Божественного. Его идея Бога очень несовершенна. Тот же, кто через страстную любовь к Природе отстранится от самого себя, заглянет в душу Природы и увидит ее такой, как она есть, узрит Бога не только как личное, но и как безличное, не только как очеловеченного Бога, но и как выходящего далеко за пределы человеческого; и он поймет, что существует бесконечная величественность, вечное спокойствие, великолепие порядка, красоты и разнообразия, чему он не осмелится дать имени или наделить человеческими качествами, но он воистину поймет, что это — действующая и любящая, мудрая и невыносимая сила. Наша современная теология остро нуждается в такой теории. Она бы смогла отказаться от бесконечного и болезненного акцентирования только на человеческом и позволила бы нам немного освободиться от самих себя» [8, с. 97]. Именно это освобождение от самого себя, это увлеченное созерцание Природы и Мира при помощи дзэн обусловило значимость Басе как человека и как поэта.
БАСЕ — ПОЭТ
Как поэт, Басе сознавал, что он является наследником великолепной поэтической традиции и древних поэтических инстинктов. В предисловии к «Кокинсю», старинной поэтической антологии, опубликованной в 905 г., знаменитый поэт Ки-но Цураюки писал:
«В древности, из поколения в поколение, государь по утрам, благоухающим цветами весны, и по ночам, озаряемым осенним месяцем, — каждый раз созывал своих придворных и повелевал им слагать подходящие к моменту песни.
И вот, одни говорили о том, как, наслаждаясь цветами, они попадали, не заметив того, в неведомые им места; другие говорили о том, как, в мечтах о луне, они оказывались блуждающими в безызвестном мраке; а государь внимал их сердцам и определял, что было мудро и что — неразумно.
И не только это. . . Когда они взирали на государя, говоря при этом о камешке мелком и огромной горе Цукуба; когда радость охватывала все существо их; когда они преисполнялись восторгом; когда они любили любовью вечной, как дым горы Фудзи; когда они тосковали о друге под стрекотание цикад; когда помышляли о том, что сосны в Такасаго, в Суминоэ подобны жене и мужу, стареющим вместе; когда они думали об ушедших годах мужской отваги и сокрушались о кратком миге девичьего расцвета, — они слагали песню и утешались ею.
138
А видя, как опадают цветы весенним утром; слыша, как падают листья в осенние сумерки; скорбя о том, что каждый год в зеркале появляются и „белый снег", и „волны"; видя пену на глади волн и росу на растеньях, — они содрогались от мысли о своем бренном существовании.
И когда одни, вчера преисполненные гордости и славы, сегодня теряли все и влачили жалкую жизнь в этом мире, и друзья удалялись от них; и когда другие говорили о волнах, перекатывающихся через горы, покрытые соснами, и о зачерпывании воды из ручейков, бегущих в равнинах, когда они глядели с тоской на желтеющую снизу листву осеннего хаги; когда в печали считали взмахи крыльев кулика на рассвете; и когда третьи сравнивали человеческую жизнь с коленцами бамбука и роптали на преходящий мир; вспоминая о водах реки Есино; и когда они слышали, что дым с горы Фудзи не поднимается боле и перестроен мост через реку Нагара, — в песне, и только в песне, они находили усладу сердцу» .
У Эмерсона, как и у Вордсворта, было нечто очень общее с Басё: полная подчиненность природе. «Особенность его поэтического вдохновения, — говорится об Эмерсоне, — заключалась в его уединенном общении с природой. Весенним днем, летом на рассвете, в осенних лесах, на берегу реки, в естественных дубовых и сосновых парках, где земля гладкая и невозделенная, до него доносились сладостные и жуткие речи, которых не услышишь в библиотеках. Холмы начинали терять свои очертания и расплываться в воздухе. Мельчайшие частицы его тела начинали вибрировать. Он переходил в новое состояние; ощущал, что в его костях заключен костный мозг мира; в его сознание вливалось все многообразие существующих форм; ему казалось, что он обмакивает кисть в банку с краской, которой были нарисованы птицы, цветы, одушевленные скалы, пейзаж и вечное небо. . . Иногда он вставал до рассвета и, сидя на темном, принесенном ледником обломке скалы, ждал восхода солнца над лесом. Часто он отправлялся на прогулки ночью, когда луна делает мир янтарным, все окна в коттеджах поблескивают серебром, а луга излучают ночное благоухание, рассылая буйные запахи всех своих папоротников и закрывшихся на ночь цветов. В долинах в траве мерцали маленькие распутные светлячки, и он слышал голос ветра, столь слабый, чистый и таинственный, словно это был звук вращающихся светил. . . Он обращал внимание на какой-то естественный предмет: на горечавку, на дикую яблоню, плоды которой похожи на ягоды; на шиповник с красными плодами; на мелодичный северный ветер, играющий на деревьях, как на арфах; на падающие в тихом воздухе снежинки; на моросящий по водной глади дождь — и никогда такие мгновения не представлялись ему
139
бессодержательными. А когда он видел величественный небесный свод, то ощущал, что начинает выбираться из своего существования в скорлупе. В природе царило вечное Сейчас, развешивающее по кустам те же розы, что когда-то очаровывали халдеев в их висячих садах» [9, с. 257—260].
Считается — и это подтверждают рисунки его современника, друга и поэта Бусона 10, — что Басе был стройным человеком небольшого роста, с тонкими изящными чертами лица, густыми бровями и выступающим носом. Как это было принято у паломников, священников и отшельников, он брил голову. Здоровье у него было слабое, и он всю жизнь страдал расстройством желудка. По его письмам можно предположить, что он был человеком спокойным, умеренным, необычайно заботливым, щедрым и верным по отношению к родным и друзьям. В стихах отразилась его необычная чувствительность в восприятии природы и тонкое понимание ее духа. В нем не было почти ничего от практичного мирянина, и в последние месяцы своей жизни он понял, что коммерческая атмосфера Осака несовместима с его музой и безразлична к его творчеству. Словно детей любил он своих непосредственных учеников, и они, в свою очередь, платили ему сыновней почтительностью. Хотя всю жизнь он страдал от нищеты и половину жизни был вынужден существовать за счет своих учеников, как истинный философ, он был безразличен к материальным благам и всегда сохранял спокойное и бесстрастное состояние духа. Подобно Роберту Бернсу, он мог сказать о себе, что «как настоящий поэт не стоит и шести пенсов». Однако благодаря влиянию учения 1 дзэн и буддийской философии он мог обнаружить,как «сладки плоды страданий» , и, пребывая в своей маленькой обители, сказать, что «при такой жизни, вдали от людных мест, мы находим собеседников в деревьях, книги — в журчащих ручьях, молитвы — в камнях и добро — во всем». Считают, что своей прижизненной славой он обязан не только той репутации, которой пользовались у знатоков его отточенные стихи, но еще больше — своему цельному характеру, скромности и верности в дружбе. В то время, когда новые увлечения, роскошь и безнравственность горожан начали подрывать былые спартанские устои, его общественное и философское спокойствие и скромность служили примером, почти достойным Сократа.
Зимой 1682 г. сёгунская столица Эдо в очередной раз стала жертвой одного из регулярных пожаров, которые называли «цветами Эдо» и чья мрачная красота в виде летящих искр и пламени очаровывала тех, кто лично не пострадал от гнева бога огня. К несчастью, этот пожар погубил «Обитель бананового листа», и сам Басе едва избежал гибели. Однако после нескольких месяцев пребывания в провинции Каи он снова
140
вернулся в Эдо, подавленный и удрученный мыслью о бессмысленности жизни и человеческом бессилии. В сентябре 1683 г. при помощи и на средства своих учеников он построил новую хижину; в саду посадили еще одно банановое дерево. 1 Но то было для поэта только pied a terre 12, ибо с этого момента он провел одиннадцать лет в непрерывных паломничествах и странствиях. Быстро распространялась его слава, и повсюду он обретал новых учеников. Считается, что в конце концов школа Басё насчитывала более двух тысяч последователей, в том числе Кикаку, Рансэцу, Кёрай, Сампу и дюжину других выдающихся поэтов.
В сопровождении своего ученика Тири, уроженца провинции Ямато, как рассказывает один из биографов Басё, в августе 1684 г., когда ему исполнилось сорок лет, он отправился в свое первое путешествие. «Интересно отметить, что представляло собой его дорожное одеяние: большая плетеная шляпа (какие обычно носили священники) и светло-коричневый хлопчатобумажный плащ, на шее висела сума, а в руке были посох и четки со ста восьмью бусинами. В суме лежали две-три китайские и японские антологии, флейта и крохотный деревянный гонг. Одним словом, он был похож на буддийского паломника. После многодневного путешествия по главному тракту Токайдо Басё и его спутник прибыли в провинцию Исэ, где поклонились Великим святилищам 13. Далее они отправились на север и в сентябре оказались на родине Басё, в Уэно, где после 16-летней разлуки поэт вновь встретился со своим братом Хандзаэмоном. Вполне понятно, что радость их не знала границ.
В то же время Басё, должно быть, разрыдался, вспомнив, что за время его отсутствия родители скончались. После нескольких дней отдыха два странника отправились в провинцию Ямато, где их пути разделились: Тири вернулся домой, Басё же после странствий по провинциям Мино и Овари в конце декабря вновь прибыл в Уэно, где проводил старый год и встретил новый. В январе он покинул родительский дом и после одинокого путешествия по провинциям Ямато, Ямасиро, Оми, Овари и Каи в апреле вернулся в свою обитель „Басё". Следует отметить, что, где бы ни останавливался поэт во время своего долгого путешествия, местные поэты хайкай приглашали его на поэтические вечеринки и большинство из них становилось его учениками. Таким образом, путешествие Басё во многом способствовало распространению его стиля во всех посещенных им провинциях. Хрупкое здоровье Басё и продолжительность странствия заставили немало поволноваться его учеников и друзей в Эдо, и только после его благополучного возвращения они смогли облегченно вздохнуть. Свой рассказ о путешествии
141
Басе озаглавил „Нодзараси кико" („Смерть в пути")» [52, с. 50].
Японцам присуще постоянное чувство природы и времен года. Из всех времен года, как отмечает Комия Тоётака, больше всего японцы любят осень. В Японии этот сезон длится очень долго и обладает множеством разнообразных характерных признаков: осенью цветы, птицы, луна и небо особенно прекрасны. Поэтому множество самых известных стихотворений в жанре хайкай было вдохновлено осенью. Современная цивилизация значительно изменила облик японских городов, в прошлом они были намного теснее связаны с миром природы. В те времена японцы обычно сами для себя выращивали овощи, сами для себя ловили рыбу, сами для себя охотились на куропаток. Другими словами, как это прекрасно показал Лоуренс Биньон в своей книге «Дух человека в азиатском искусстве», японцы подчиняют себя природе и находят удовольствие в гармоничной жизни с ней [46].
На протяжении долгого времени непрекращающихся гражданских войн люди в средневековой Японии привыкли относиться к жизни как к чему-то ненадежному, изменчивому, непостоянному. Поэтому многие искали прибежища в буддийской философии и, отринув земную жизнь, отправились на поиски спокойствия и безмятежности. Такими были странствующие паломники, путешествовавшие по стране и жившие среди природы и в согласии с ней, описывавшие свои переживания в дневниках или слагавшие стихи. Басе был одним из них. Такую жизнь вели те, кто желал писать стихи, ибо стало почти правилом, что единственным способом сделаться поэтом хайкай было личное знакомство с природой и погружение в нее.
В поэзии Басе и его современников присутствует некоторый пантеистический дух, похожий на тот, что был свойствен Ворд-сворту, который любил природу, понимал ее и находил радость в общении с ней. Но, несмотря на аналогию, имелось и одно существенное различие. Как правило, на Западе отношение к природе предполагает подчинение ее человеку и стремление привнести ее в человеческую жизнь. Отношение же японцев к природе совсем иное: направить человеческий дух к Природе, чтобы погрузиться в нее. Где бы ни был Басе, всюду он подчинял себя окружающей его природе, причем он был столь же субъективен в восприятии природы и ее нюансов, как и большинство японцев. «Японцы, — пишет Миямори, — страстные любители природы. Любая деталь, любое время суток, любое изменение в природе во все четыре времени года сильно затрагивают их утонченное эстетическое чувство. Не говоря уже о любовании цветущими вишнями, древнем обычае, распространенном среди всех слоев населения, среди знатных
142
и простых, молодых и старых, японцы часто выплывают на лодках в море или на озеро, чтобы полюбоваться осенней луной. Они любят забираться в горы, где наслаждаются „серебряным миром" снегов. Они часто отправляются на берега рек, чтобы "> в темноте созерцать светлячков. Они любят подниматься на поросшие лесами горы, чтобы после первых морозов насладиться яркой парчой кленовых листьев. Они часто с восторгом внимают пению лягушек, о которых древний поэт Ки-но Цураюки говорит: „И лягушка, живущая в воде, все живое поет свою песню" 14. Осенними вечерами на уличных лотках продают клетки с поющими насекомыми, горожане часто слушают их, чтобы ощутить „голоса осени". Вполне естественно, что люди, обладающие эстетическим вкусом, и в первую очередь поэты, наслаждаясь такими сценами, немедленно сочиняли стихотворения. В поисках поэтического вдохновения у меняющегося облика природы хайдзин 15 часто отправляются бродить по стране. С собой они берут бумагу и кисть, и, когда их посещают удачные мысли, они сразу же их записывают, превращая в стихотворение. Такие поэтические прогулки носят название гинко» [52, с. 13]. Как мы видели, Басе часто покидал свою маленькую отшельническую хижину на берегу реки Сумида и отправлялся в странствия по стране, погружаясь в ту красоту, которую предлагала ему Природа, и ощущая тот космический дух, который полностью переносил его в возвышенный и божественный мир.
Эссеист Урамото Сэкитё отмечает, что «Басе, один из величайших поэтов Японии, говоривший, что он с незапамятных времен ведет бродячую жизнь, подобно облаку, гонимому ветром, оставил следующее бессмертное хокку:
«Табибито то «Странник! — Это слово Вага на ёбарэн Станет именем моим Хацусигурэ» Первый дождь осенний. . .»
[Пер. В. Марковой]
Он хотел сказать, что отправится в странствие, когда начнут моросить мелкие дожди, и станет бродить, пока за тягу к путешествиям его не назовут странником — табибито. Но такие люди относятся к особому разряду поэтов и литераторов, воспринимающих природу подобно сибаритам. Когда я думаю о том, как просто сейчас стало передвигаться, то часто сочувственно вспоминаю путешественников былых времен, которым приходилось терпеть всяческие неудобства, подобно тем, что выражены в знаменитом хайкай:
«Иэ нараба «Сидел бы дома,
Имо га тэ макан Приласкала бы жена. . .
Кусамакура» Изголовье из травы».
143
«Изголовье из травы» — образное выражение, означающее в японском языке путешествие. Следовательно, путешествия еще не превратились в культурное времяпрепровождение, а были нелегким предприятием, что подтверждает и известная пословица: «Люби своего ребенка и отправь его в путешествие». Это означало, что ребенка следует отправить в путешествие для приобретения жизненного опыта, ибо трудности, с которыми приходилось сталкиваться во время странствий, действительно считались воспитательным средством.
«Всякая большая радость связана с большой печалью. Просветления нельзя достичь иначе, как через заблуждение — таков закон, управляющий человеческой жизнью. Путешествие же можно уподобить человеческой жизни. В этом нас убеждают и „Странствия пилигрима" Бэньяна, и „Божественная комедия" Данте, и ад, и рай в представлении буддистов.
Японское слово таби (путешествие) — это сокращенная форма от тадоруби (день отправления в путь), и оно символизирует передвижение во времени. Английское же слово journey происходит от латинского diurnata, что означает „дневной труд". Интересно, что английский и японский термины для обозначения путешествия содержат в себе похожий смысл. Путешествие закрепляет и проявляет смысл существования в сельской местности. И на Западе, и на Востоке во время долгого путешествия скучают по дому или ощущают тоску по родным местам, о чем сложено много стихотворений и песен. Безграничное удовольствие, которое дарят каждая гора, и каждая река, и даже растения родных мест, может испытать только тот, кто пребывал вдали от дома в чужих краях или долгое время был в путешествии» [82].
Эти замечания об отношении японцев к путешествиям представляются нам вполне уместными, поскольку они показывают причину той грусти, что пронизывает сочинения Басё. По собственному признанию поэта, в путешествия его толкал внутренний порыв. Странствия часто были тяжелыми и полными невзгод. Они вызывали в нем горестно-сладостное ощущение тоски и ностальгию. Возможно, поэтому многие его стихотворения и окрашены глубоким чувством неудовлетворенности, страстного желания и духовного поиска, причиной чему были буддийское настроение печали и дзэнский дух смирения и самоотрешения. Присущее путешественнику ощущение себя изгнанником вызывает глубокую тоску, которая переходит в душевное спокойствие и самосозерцание.
144
«Старый пруд»
В 1687 г., после года спокойных размышлений в своей маленькой хижине, Басе издал новый сборник стихов, собственных и своих учеников, под названием «Хару-но хи» («Весенние дни»). В этом сборнике впервые появилось стихотворение, которое раз и навсегда утвердило за Басе славу лучшего поэта-хайкай Японии.
«Старый пруд» явился вехой в литературной истории этого жанра. Несмотря на обманчивую простоту и сухую безыскус-ность, это стихотворение считается высшим образцом хайкай. Как и в самом пруду, в нем несколько глубинных слоев, отзвуки которых достигают мудрого и чувствительного сердца. Сайсё Фумико верно показывает значение этого содержательного стихотворения:
«Представьте себе поэта, сидящего в своей хижине у затянутого бумагой окна и наслаждающегося тишиной окружающей его природы. Из окна виден маленький японский садик. Ранняя весна. Поэт уже ощутил, как весна крадется в его сад. Привыкший к общению с природой, он любит „ощущать" ее. Большую часть сада занимает пруд, но не красивый искусственный пруд, вырытый для украшения пейзажа, а естественный водоем, заросший илом и травой, обычное обиталище лягушек и насекомых. В этом пруду не хотелось ничего менять. Он любил его таким, какой есть, безо всяких признаков „искусственных украшений", или „хитростей". Он любил этот пруд за его старость — когда пятнадцать лет назад он поселился в этой хижине, пруд уже был здесь, — а также за его естественность и неухоженность. Пруду было присуще некое непотревоженное спокойствие, что позволяло поэту ощутить присутствие Природы, неизменной и неизменяемой. И это как-то помогает ему забыть о ничтожности и суетности человеческих желаний и стремлений. Он смотрел на водную гладь с наслаждением, как это свойственно отшельнику, когда тот ощущает себя наедине с непотревоженной Природой, и вдруг услышал слабый, но отчетливый звук — всплеск воды. Это лягушка прыгнула в старый пруд. И в этот момент сознание его внезапно пробудилось, пробудилось, чтобы ощутить присутствие Жизни среди мертвого спокойствия Мира. Слабый звук воды, нарушивший вечное молчание Природы, вызвал в его сердце новое ощущение Жизни в Мире,
«Фуруикэ Я Кавадзу тобикому Мидзу-но ото»
«Старый пруд.
Прыгнула в воду лягушка.
Всплеск в тишине».
[Пер. В. Марковой.}
10 Заказ 1438 145
ранее ему неведомое. Он понял, что в этот самый момент ему открылась тайна вселенной. Сами собой родились строки:
„Фуру (старый) икэ (пруд) я, кавадзу (лягушка) тобикому (прыгает) мидзу-но (воды) ото (звук)".
Он сам поразился такой спонтанности. Все произошло настолько естественно, что не результат его сознательного творчества, а сама сущность Жизни воплотилась в этом сем-надцатисложном стихотворении. На мгновение ему показалось, что мир может не понять его, но все же он был уверен, абсолютно уверен в себе, ибо знал, что его духовный опыт обрел совершенную форму выражения. Он уже не стеснялся своего искусства, как это было раньше. Это стихотворение словно бы указало ему путь, какому он должен следовать в своем искусстве хайкай, которому он посвятил всю свою жизнь с раннего детства.
Для японской поэзии „Старый пруд" — произведение эпохальное. Благодаря ему обычное словесное развлечение, представлявшее частный интерес лишь для узкого круга, поднялось на уровень подлинной литературы, выражающей универсальный человеческий опыт. Каким же образом? Басё вдохнул в него Жизнь, придал смысл вечной реальности. Сама форма выражения настолько проста и естественна, что даже самые строгие критики хайкай в этом стихотворении не смогут ни к чему придраться. В нем содержится три намека: картина старого пруда, прыгающая лягушка и слабый всплеск воды. Помимо этого для создания общего впечатления не добавлено ни слова, ни фразы. И все же это стихотворение позволяет японцам ощутить глубину, беспредельность и неподвижность Мира и неописуемое одиночество человека в нем» [64, с. 405].
Некоторые утверждают, что буддизм пессимистичен,и, прибегая к силлогизму, заявляют, что, поскольку Басё был буддистом, следовательно, он был грустным, разочарованным, пессимистом. Возможно, Нитобэ Инадзо, христианин и оптимист, в своей интерпретации «Старого пруда» выразил собственное отношение к негативизму буддийского учения. «Считается, что в этом единственном стихотворении, состоящем из четырех существительных, одного прилагательного и одного глагола, — пишет он, — заключена вся философия Басё. Старый пруд! Да, старый пруд, поросший тростником, со стоячей водой. Никто не приходит в это уединенное место. Там ползают и веселятся жуткие существа. Внезапно тишина нарушается. Что это? Просто в пруд прыгнула отвратительная жаба! . . Человеческая жизнь немногим отличается от этого. Пустое, созданное из глины тело. Оно издает шум, оно двигается. В него проникает жизненная сила. Вся идея — пессимистичная
146
и буддийская. . . Не лучше и жизнь целого народа. Что это за грохот слышен? В старый, илистый, сугубо национальный пруд прыгает что-то новое, но не исцеление несущее на своих крыльях, а жабий яд в брюхе» [57].
А вот Харада Дзиро находит в этом стихотворении источник для размышлений над самой природой звука. В лекции, прочитанной в 1935 г. в Бостоне в Музее изящных искусств, процитировав это небольшое стихотворение, он сказал: «У некоторых из нас это небольшое семнадцатисложное стихотворение вызывает в воображении все ассоциации, связанные с бесконечностью. Каким символом молчаливого прошлого является древний пруд, заполненный стоячей водой! И чтобы усилить мертвую тишину этого мгновения, ему пришлось издать звук! Что же это был за звук? Была ли это вода? Есть ли у воды свой собственный звук? Или его издала лягушка? А может ли она издать иной звук, кроме кваканья? Кто же издал звук: вода или лягушка? Когда между полюсами с противоположными зарядами существует зазор, возникает разряд, когда же они соприкасаются, разряды прекращаются. Но в данном случае звук возник в тот момент, когда лягушка коснулась воды. Откуда исходил этот звук? Что такое вообще звук? В чем причина жизни? Более того, что такое жизнь? Нам представляется, что на этом хайку лежит отпечаток ваби — сурового душевного спокойствия» [28, с. 32—33].
Самая характерная черта японских хайкай — краткость и лаконичность, в них содержится лишь намек, указывающий нужное направление, иногда это может быть простое восклицание. Они служат для раскрытия того, что психологи называют «чувственным оттенком». В них есть обертоны и полутона, смысл явный и смысл скрытый, косвенные намеки. Они допускают множество толкований. Следовательно, читателю остается одно — предположить, что мысль, которую хотел передать Басе, не окрашена глубоким пессимизмом или циничным отчаянием. Он был человеком скрытным, и нам неведомо, о чем он думал. Возможно, он размышлял над безмятежностью существования, которое так легко могут нарушить любые случайные обстоятельства. Как считал Эмерсон, «движение или перемены и неизменчивость или покой — вот две тайны Природы: Движение и Покой. Все ее законы можно записать на ногте большого пальца, на печатке перстня». Или же он мог размышлять о тех последствиях, которые вызывает в самодовольном невежестве мира новая мысль, зароненная в него подобно упавшему на водную гладь грузилу: послание Будды Сиддхартхи Гаутамы, учение Кун Фу-цзы (Конфунция), мистицизм Лао-цзы, изобретение священником Кобо-дайси японской слоговой азбуки — пожалуй, все это можно уподобить лягушке, нарушившей
147
застоявшиеся водные глубины и разбудившей интеллектуальный мрак оглушительным всплеском. Или же мы можем приложить стихотворение Басе ко всему нашему исследованию и считать, что классическая традиция стала в Японии «старым прудом», в который прыгали новые идеи, новая энергия, — не уродливая жаба, а яркая, жизнерадостная зеленая лягушка, которой было суждено пробудить новое столетие и распространить звук ожившей воды и движение расходящихся кругов по всей стране.
Чудо этого сухого, эпиграммоподобного и загадочного стихотворения, как и большинства ему подобных, заключено в его неоднозначности: каждый открывает в нем что-то свое. Секрет величия и прижизненной славы Басе, возможно, кроется в том, что он говорил загадками и парадоксами, что его стихотворения казались читателям столь же глубокомысленными, как речения дельфийских оракулов, и столь же загадочными, как высказывания сфинкса, «преисполненными скрытого смысла, подобно морю с поджидающими в нем жизненными невзгодами».
Тем не менее опасно приписывать кратким, туманным строкам «Старого пруда», равно как и любого другого стихотворения Басе, которые, по словам Ногути Енэ, «всего лишь случайные заметки, понятные только самому поэту», слишком большую глубокомысленность и философский смысл. Основная ошибка ученых заключается в том, что они ищут дополнительный смысл в проблемах, изначально и не содержавших темных дельфийских истин, и делают загадочными простые высказывания или вслушиваются в намеки, о которых сам автор и не подозревал. Мы, действительно, не можем быть уверены, является ли большинство стихотворений Басе просто «заметками», или же они представляют собой мистически окрашенные, глубокие комментарии к дзэнской философии. «Иностранный исследователь, — замечает Чемберлен, — может вначале испытать некоторый скептицизм относительно морального содержания, приписываемого многим эпиграммам Басё. Конечно, такой метод интерпретации обосновать трудно. Тем не менее не следует полностью сбрасывать со счетов традиционные концепции, приписывающие „внутренний смысл" не только сочинениям Басё, но и произведениям, и даже поступкам многих людей этого и предшествующего периодов. Неважно, верен такой метод интерпретации или ошибочен, но он широко применяется» [17, с. 113].
Таким образом, если мы присоединимся к этой теории о мистицизме Басё, то обнаружим, что она полностью соответствует взглядам Анатоля Франса на маленькие условные знаки, заимствованные у языка. «Эти знаки пробуждают
148
в нас дивные образы. Вот где чудо! Прекрасный стих подобен смычку, проводимому по звучным фибрам нашего существа. Не свои — наши мысли заставляет поэт петь внутри нас (. . .) Он кудесник. Понимая его, мы тоже становимся поэтами, как он. Во всех нас без исключения, хранится экземпляр каждого из наших поэтов, никому неизвестный и осужденный навеки исчезнуть со всеми своими вариантами в тот миг, когда мы перестанем что бы то ни было чувствовать» («В садах Эпикура») .
Хайкай 16
В японской литературе существуют также более длинные и звучные стихотворения, напоминающие западную поэзию. Они могут быть описательными, повествовательными или эмоциональными, короче говоря, обладают формой и сохраняют полную законченность и внутренние связи. Напротив, хайкай — чрезвычайно своеобразный и искусственный поэтический жанр, структура которого обычно лишена формы и ясности выражения. Он предельно экономит слова, он ограничен и сдержан, насколько это допускает письменное слово. В сущности, это искусство недомолвок или намеков — невероятная техника передачи невыразимого через невыражение впечатлений.
Такая камееподобная утонченность требует и от поэта, и от читателя изысканности «чувств», предполагает существование между ними столь чуткого взаимопонимания, что нескольких точно выбранных слов, замечания из двух-трех слов достаточно, чтобы вызвать отклик, всколыхнуть рябь симпатии в правильно настроенном сердце читателя. Это мелодия грустной флейты с ее чистым звучанием; звук одинокого удара колокола, который, подобно протяжному пению, пронизывает душу; набросок, воскрешающий в памяти хорошо знакомый пейзаж; бледное изображение тени, намекающее на существование невидимой реальности. Людям неподготовленным такая поэзия может показаться обманом, на самом деле это искусство, будящее воображение чуткого и подготовленного ума.
Ключ к японской поэзии, равно как и к японскому созерцанию природы, и к учению буддийской секты дзэн, заключен в слове аварэ, которое приблизительно можно объяснить как сочетание чувственного «всезнания» с духовной причастностью. Его можно перевести как молчаливое «ах!» в минуту созерцания. Такое качество присуще par excellence 17 созерцательному Востоку, хотя оно знакомо и Западу, если тишина и спокойствие в сочетании с вдумчивостью и непосредственностью остаются
149
чистыми и не замутненными современным материализмом. Многим английским поэтам присуще такое чувство почтительного восторга и единства с природой, но западная поэзия пытается его выразить, восточное же искусство ограничивается самыми незамысловатыми возгласами. Созерцание требует тишины, но оно выливается в приглушенный вздох или в почти неслышное восклицание. Ките это и имел в виду, когда писал, что «звучащие мелодии прекрасны, но беззвучные еще прекрасней»; то же гласит и старая пословица: «Слово — серебро, а молчание — золото». Японская поэзия — это уникальное искусство для выражения чего-то невыразимого, для указания на нечто достойное внимания при помощи намеков и символов.
«Хайкай, — пишет госпожа Сайсё, — это соединенные воедино импрессионизм и имажизм. Для реализма в западном смысле этого слова в поэзии хайкай нет места. Поэт жанра хайкай знает, как намекнуть на многое, отсутствующее в его стихотворении. Эта способность вызывать мысли является основным и единственным эстетическим законом японского искусства, будь то живопись, поэзия или танец. Крупнейшим нарушением законов искусства является для японцев ясность и звучность. В хайкай не прибегают к накоплению фактов или деталей для придания живости впечатления. Звуковых, цветовых и образных намеков достаточно, чтобы „прочувствовать" цельность и глубину мира» [64, с. 405]. Миямори развивает эту мысль: «Если проводить аналогии с живописью, то японский язык подобен наброску тушью, европейские же языки, обладающие большей точностью выражения, напоминают четкую живопись акварелью или маслом. . . Хайку подобно эскизу или наброску. Если продолжать сравнение, то хайку всего лишь название картины, вернее—лишь намек на него. Короче говоря, в хайку дается беспристрастное описание, глагол часто опускается, и наводящие на размышления чувства поэта дают почву читательскому воображению. Весомость и многозначность, краткость и недоговоренность — в этом смысл и суть хайку» [52, с. 5].
Читатель «Гэндзи-моногатари», хроник X—XI вв. или дневника фрейлины Мурасаки обнаружит изысканность и красоту простых японских стихотворений, когда косвенный намек является способом передачи серьезнейших посланий, мыслей и чувств.
В качестве примера приведем небольшой отрывок, описывающий «несравненного принца» Гэндзи покидающим хижину отшельника, где он ненадолго останавливался и где ему привиделась миловидная девочка Мурасаки, которую позднее ему предстояло удочерить 18.
150
«Близился рассвет. Из храма, где читали „Лотосовую сутру", горный ветер доносил слова покаяния, и этим величественным звукам вторил шум водопада.
„Завывания ветра В горной глуши Разбудили меня. Я прослезился. Шум водопада. . ."
Этими словами Гэндзи приветствовал священника. Тот ответил ему стихотворением:
„От слез
Намок ваш рукав, А сердце Горного жителя Уже не трепещет".
„Наверно, я к этому привык", — добавил он. Утреннее небо было затянуто густым туманом, не слышалось даже щебетания горных птиц. Вокруг росло так много цветущих трав и деревьев, названий которых Гэндзи не знал, что горы казались покрытыми разноцветным шелковым ковром. Он так залюбовался оленем, который то останавливался, то вышагивал дальше, что даже печаль его рассеялась. . . Священник принес ему в подарок невиданный корень, который он вырыл где-то глубоко в ущелье. „До конца нынешнего года я связан зароком не покидать этих гор, о чем теперь очень сожалею, поскольку не смогу вас проводить", — сказал он и преподнес Гэндзи прощальный кубок. „Мое сердце осталось среди этих гор и потоков, — сказал Гэндзи, — но боюсь, что император уже беспокоится обо мне. Все же я надеюсь вернуться раньше, чем опадут эти цветы". И он произнес стихотворение:
„Приду я к людям И потороплю их, Иначе ветер их опередит И горных вишен Оборвет цветы".
Старый священник, тронутый изысканным изяществом слов Гэндзи и покоренный обаянием его голоса, ответил стихотворением:
„Как тот, кому выпало Счастье любоваться Цветами удумбара 19, На вишни горные Я больше не взгляну".
151
,,Я вовсе не такая диковинка, как дерево удумбара", — с улыбкой произнес Гэндзи. Священник принял от него прощальный кубок со словами:
„Хоть я нечасто отворяю Дверь своей горной хижины, Мне никогда еще Цветка такого, как сегодня, Не удавалось лицезреть".
И когда он взглянул на Гэндзи, в глазах его блестели слезы».
Мы показали, как при помощи намеков и иносказаний в поэтической форме представители образованных сословий упражнялись в искусстве обходительности и любезности. Это чрезвычайно утонченное искусство продолжало оставаться привилегией всех тех, кто претендовал на изысканность и вежливость обращения (...) Среди различных условных форм стихосложения хайкай оказался наиболее ограниченным и немногословным жанром, выражающим в 17 слогах призрачную мысль, хотя и наполненную смыслом. В XVII в. было немало мастеров, любивших подобное времяпрепровождение, но никто из них не мог превзойти силой таланта и мастерством бродячего поэта Басё.
БАСЕ — ПУТЕШЕСТВЕННИК
Нет необходимости подробно рассказывать о последующих странствиях Басё, во время которых он продолжал совершенствовать популярное искусство хайкай, которое по сей день продолжает оставаться в Японии наиболее изысканным времяпрепровождением императора, ученых, философов и любителей природы. Куда бы он ни приходил, всюду его встречали почитатели, пополнявшие собой ряды его учеников. Куда бы он ни приходил, всюду его приглашали принять участие в поэтических вечеринках. В 1686 г. он совершил паломничество в Есино и еще раз к святилищу в Исэ. В следующем году он отправился на север, в Сэндай и Мацусима, где, равно как в Есино, лишился дара речи при виде природных красот, представших его взору. Позднее, в том же году, он вновь посетил Нара и Киото, где ему был оказан торжественный прием. В 1690 г. он снова вернулся в Исэ и надолго задержался у озера Бива, одного из красивейших мест Японии.
Как мы видим, Басё был паломником-путешественником. Мало того, он был не только поэтом, но и великолепным прозаиком — одним из родоначальников теперь столь популярного жанра путевых дневников 20. Он оставил пять описаний своих путешествий, каждое из которых является своего рода
152
шедевром, и во всех нашел отражение характер поэта. Лучшим из них считается его знаменитое прозаическое сочинение «Оку-но хосомити» («По тропинкам севера»), великолепно переведенное на английский язык Исобэ Яитиро под заглавием «Поэтическое путешествие в старой Японии»21. В нем описывается самое продолжительное из путешествий Басё вместе с его учеником Сора, начавшееся в марте 1689 г. и продолжавшееся сто шестьдесят дней. В первых строках этого повествования он раскрывает многие из черт своего характера и причины своих странствий:
«Месяцы и дни — путники вечности, и сменяющиеся годы — тоже странники. Те, что всю жизнь плавают на кораблях, и те, что встречают старость, ведя под уздцы лошадей, странствуют изо дня в день, и странствие — им жилище. И в старину часто в странствиях умирали. Так и я, с каких уж пор, увлеченный облачком на ветру, не оставляю мысли о скитаниях.
Бродил я по прибрежным местам и минувшей осенью смел старую паутину в ветхой лачуге своей у реки. Вот и этот год кончился, и весной, наступившей в дымке тумана: „перейти бы заставу Сирукава!" — бог-искуситель, вселившись во все, стал смущать мне душу, боги-хранители путников так и манили, и за что я ни брался, ничто не держалось в руках.
Залатал я дыры в штанах, обновил завязки на шляпе, прижег моксой колени, и с той поры сразу встал неотвязно в душе образ луны в Мацусима. Уступил я жилище другим и перебрался за город к Сампу. . .
В третий месяц, в седьмой день последней декады, когда небо чуть брезжило зарей и луна клонилась к закату, гася свой свет, еле виднелась вершина Фудзи, и от дум: ветви вишен в Уэно и Янака, когда же снова? — сжалось сердце. Все близкие собрались накануне с вечера и провожали меня на лодках. Когда я сошел с лодки в месте по имени Сэндзю, мне стеснили душу мысли о трех тысячах ли пути, предстоящих мне впереди, и на призрачном перепутье бренного мира я пролил слезу разлуки.
,,Юку хару я „Весна уходит!
Тори наки И плачут птицы, у рыб
Уо-но мэ ва намида". На глазах слезы. . ."
Так я обновил дорожную тушечницу, но путь еще не спорился. А позади, стоя на дороге, должно быть, глядели мне вслед до тех пор, пока только был я виден.
Так в этом году, во второй год Гэнроку, как-то так вздумалось мне пуститься пешком в дальний путь на север, в Оу. Хотя под небом дальних стран множится горесть седин, все ж,
153
быть может, из краев, известных по слуху, но невиданных глазом, я вернусь живым. . . — так я смутно уповал. И вот в первый день напоследок прибрел к станции по названию Сока.
Все навьюченное на костлявые плечи первым делом стало мне в тягость. Я было вышел налегке, но бумажное платье — защита от холода ночи, легкая летняя одежда, дождевой плащ, тушь и кисти, да еще — от чего никак не отказаться — подарки на прощанье — не бросить же было их? — все это мне стало помехой в пути чрезвычайно» 22.
Так увлекательно, в непринужденной и естественной форме дневника, повествует Басё о своем первом северном путешествии по провинциям Никко, Мацусима и Сэндай, и наконец, о возвращении через Исэ в древнюю столицу. По этому незамысловатому описанию мы можем без труда представить себе поэта: сорока двух лет, спокойный и не слишком сильный странник, который бродил по стране, подчинял свое «я» духу окружающей его природы и, подобно бродяге Одиссею, становился частью всего, что встречалось на его пути. От природы ему было не нужно ничего, а от своих спутников — очень мало. Вернее, ему было надо одно — подобно зверям, растениям и деревьям слиться с окружающим его миром, при этом оставаясь независимой личностью, способной записывать свои ощущения, а потом демонстрировать их своим друзьям в четких, доведенных до совершенства стихотворениях.
ПОСЛЕДНИЕ ДЛИ ЖИЗНИ БАСЕ
В 1691 г. он снова отправился в Киото, который, несмотря на растущую популярность театра и живописи укиё-э в Эдо, все еще оставался центром наиболее изящного и утонченного искусства и культуры империи. Тремя годами позже он еще раз посетил свое родное Уэно, древнюю столицу и культурный центр прошлого Нара и, наконец, Осака, где у нуворишей начал появляться подлинный вкус к более традиционным и совершенным формам старинного искусства. (Даже Басё в одном из своих путевых дневников говорит о торговце Сэйфу: «Хотя он и богат, но обладает вкусом и хорошими манерами».)
В Осака его встретили не столь тепло, как он того ожидал, поскольку там под покровительством школы Данрин пустила корни более простонародная форма хайкай, и стиль Басё не всем был по душе.
Это путешествие оказалось для него последним. О последних днях жизни Басё подробно рассказывает один из его биографов. «29-го числа этого месяца (сентябрь 1694 г.) Басё участвовал в поэтической вечеринке в особняке госпожи Соно, своей
154
прилежной ученицы, которая устроила в его честь роскошный прием. К несчастью, ужин оказался роковым для поэта, уже несколько дней страдавшего расстройством желудка. Возможно, он переел грибов и ночью испытывал сильные боли. Обычное лекарство не помогало, и болезнь, вероятно дизентерия, принимала все более серьезный характер. Прикованный к постели поэт сказал: ,,Мокусэцу из Оцу хорошо разбирается в состоянии моего здоровья. Пошлите за ним". Поэт-врач пришел и осмотрел его. Поэт сказал: „Мне нужно кое-что сказать Кёраю", и послал за Кёраем в Киото. В доме его ученика Содо, у которого Басё остановился по прибытии в Осака, не было необходимых условий для ухода за ним, и 3 октября Басё перенесли в заднюю комнату владельца цветочной лавки по имени Нидзаэмон в Минами-кютаро-мати, близ храма Мидо.
Не говоря о Сико и Идзэне, сопровождавших поэта в его последнем путешествии, за ним день и ночь ухаживали Сидо, Кёрай, Мокусэцу, Сяра, Донсю, Дзёсо, Отокуни и Сэйсю, которые прибыли тотчас же, узнав о его болезни. Тревожная весть распространилась по окрестным провинциям, и толпами начали приходить его ученики и друзья, охваченные тревогой и страхом. Вышеупомянутые десять учеников принимали их и благодарили, но к больному в комнату никого не пускали. Обнаружив, что состояние больного критическое, Мокусэцу предложил Басё пригласить какого-нибудь другого врача, но умирающий поэт не желал об этом слышать, сказав: „Нет, твое лечение меня вполне устраивает. Никого другого мне не надо". Когда его попросили написать последнее стихотворение, он ответил: „Мое вчерашнее стихотворение — сегодня будет моим последним стихотворением. Мое сегодняшнее стихотворение завтра станет моим последним стихотворением. Каждое стихотворение, которое я когда-либо писал в своей жизни,— это последнее стихотворение". Однако 8-го числа он призвал к постели Дзёсо, Кёрая и Донсю и продиктовал Донсю следующее стихотворение:
„Таби-ни яндэ „В пути я занемог.
Юмэ ва карэ-но но И все бежит, кружит мой сон
Какэмэгуру" По выжженным полям".
[Пер. В. Марковой]
„Это стихотворение не последнее, — сказал поэт, — но возможно, что оно и последнее. Во всяком случае, это стихотворение вызвано моей болезнью. Но думать об этом сейчас, когда я стою перед великой проблемой жизни и смерти, пусть даже я всю жизнь посвятил этому искусству, было бы заблуждением".
155
11-го числа неожиданно из Эдо прибыл Кикаку, который странствовал в окрестностях Осака и ничего не знал о болезни своего учителя. Учитель и ученик обливались слезами одновременно от радости и от печали. На следующий день, когда приближались его последние минуты, Басё попросил приготовить ему ванну и, призвав к своему ложу Кикаку, Кёрая, Дзёсо, Отокуни и Сэйсю, продиктовал Сико и Идзэну подробное завещание о том, как распорядиться его имуществом, а также оставил послания своим ученикам и слуге в Эдо, указания о том, как распорядиться его рукописями и прочее. Записку своему брату Хандзаэмону в Уэно он написал сам. Высказав все, что ему хотелось, он сложил руки и, шепотом прочитав что-то, напоминающее отрывок из сутры Каннон, вскоре после четырех часов дня, в возрасте пятидесяти одного года, издал последний вздох»23 [52, с. 59—61].
МЕСТО БАСЕ В ЛИТЕРАТУРЕ
Басё по праву может занять место в любом исследовании, посвященном этому периоду, не потому, что он был мятежником или радикальным реформатором, а потому, что он в некотором смысле сосредоточил в себе все то, что было сделано до него в жанре хайкай. Благодаря своей поэтической гениальности он упростил танка и превратил их в более короткие, чеканные миниатюры хайкай. Но в том и заключалась сила его таланта, что в результате такого упрощения эти стихотворения, в сущности, ничего не потеряли. Он очистил традиционный жанр танка и писавшиеся вдвоем рэнга, убрал словесную игру, дешевый юмор и вульгаризмы. Он придал им чувство спокойствия и привнес Природу в поэзию, подобно тому как это сделал Вордсворт с раннеромантической поэзией, пришедшей на смену классической. Под рукой Басё стихотворная форма стала утонченнее и по языку, и по содержанию и тем самым поднялась на более высокий уровень чистой литературы. Таким образом, он был представителем лучшей японской классической традиции 24.
Басё оставался значительно большим традиционалистом, чем Сайкаку, Тикамацу и другие авторы. Он действительно не был ни бунтовщиком, ни новатором. Он продолжал работать с материалом классического формализованного жанра хайкай. В этом он сохранял приверженность унаследованным им традициям и во многих отношениях довел традиционную форму 17-сложных трехстиший до полного совершенства. Тем не менее следует отметить, что произведенные им усовершенствования, получившие название стиля Басё, в своей ограниченной сфере
156
оказались чрезвычайно значительными. В этом смысле он тоже принадлежит эпохе приспособлений и перемен, что является центральной темой нашего исследования о семнадцатом веке. Одной из характерных особенностей Басё было неприятие любой фальши и банальности. Он не мог, да и не пытался, освободиться от литературных условностей своего времени и своей культуры, но он вдохнул в них новую жизнь, придал им свежесть и гибкость. «На так называемые законы стихосложения, — пишет один ученый, — он обращал мало внимания, в сущности, настолько мало, что его последователи, которые ревностно стремились руководствоваться в своем творчестве этими законами, были вынуждены позволить своему учителю находиться вне рамок этих правил. По-видимому, он инстинктивно ощущал бессмысленность всех тех строгих ограничений, которые требовались для столь крошечных стихотворных скорлупок, но подлинный бунт был так же чужд духу дзэн в художественной сфере, как в социальной и политической. Теория и практика Басё заключались в четырех слогах: фуэки рюко, которые можно вольно перевести как „неменяющаяся истина в изменяющейся форме", то есть, что поднимаемые проблемы должны представлять постоянный интерес, а форма их выражения должна соответствовать духу эпохи. Считается, он говорил, что основу стиля составляет правдивость, и называл правдивым стиль, обладающий гармонией и простотой. „Когда сочиняешь, — говорил он, — не сочиняй слишком много: иначе утратишь непосредственность. Пусть твои хайкай рождаются из сердца, а не от мастерства". В письме одному из друзей он пишет: „Мне приятно, что ты столь увлечен сочинением хайкай, но стихотворение, рождающееся в сердце, важнее, чем плод твоей эрудиции. Многие могут сочинить хайкай, мало кто следует велению сердца". Или, например, такие его высказывания: „Стиль должен быть естественным, с изящным поворотом темы. Оригинальность, погоня за необычным нежелательны. . . Будь естественным и постоянно обращайся к природе. . . Пусть твои хайкай будут похожи на ветвь ивы с каплями дождя на ней, иногда колышущуюся под порывами ветра"» [17, с. 113]. Отчетливо видно, насколько отошел Басё от застывшего формализма традиционных форм, со всеми их неизменными правилами и условностями. В этом смысле он был в авангарде экспериментаторов, новаторов и сторонников натурализма.
При его жизни стремление к чистоте, получившее название «стиль Басё», широко распространилось во всех литературных кругах Японии, несмотря на разницу в личных и моральных качествах его учеников. После же его смерти, когда исчезло его сильное влияние как человека и как поэта, образовалась
157
пустота, которую не замедлил заполнить более примитивный и грубый стиль. Хотя в стихотворениях все еще продолжала ощущаться манера Басё, а его имя и произведения пользовались уважением (что сохраняется и по сей день), его ученики и последователи вскоре избрали другие направления, с течением же времени этот разрыв усилился. Появилась новая тенденция — стремление к вульгаризации, свойственное и другим простонародным видам искусства нового направления. Последующие полвека были периодом упадка и застоя, не ознаменовавшимся почти никакими достижениями. Только в начале XVIII в. следующему великому поэту, Танигути (или Еса) Бусону (1715—1783), который способствовал «возрождению периода Тэммэй» и попытался восстановить манеру Басё, совместив ее с некоторыми собственными нововведениями, удалось временно приостановить этот упадок. Бусон, который также был выдающимся художником, находился под влиянием своего времени и окружения. Хотя он родился вблизи Осака, но вскоре поселился в Эдо, возможно, поэтому в его поэзии больше человеческих проблем, одноминутных зарисовок и бытовых тем, чем у Басё с его чистой эстетикой преклонения перед природой. При всей ограниченности средств выражения в творчестве Бусона нашли отражение романтические сюжеты, иногда почерпнутые из японских и китайских классических книг, интересные исторические события и местные происшествия. Такое расширение тематики привело также и Сайкаку в новые области, где он окончательно порвал с хайкай и положил начало популярному прозаическому жанру.
Хотя считается, что условная поэзия танка и хайкай является продуктом классической и в некоторой степени излишне утонченной и формалистической эпохи, а форма ее подвергается такой же критике, как итальянский сонет, французские вила-нелла, триоле, рондель и другие ограниченные поэтические жанры, в ней можно обнаружить дисциплинирующую ценность. Помимо формы главной особенностью метода Басё была его искренность личностного погружения в природу, что, как мы показали, исконно присуще японцам, хотя вопреки распространенному мнению характерно не только для японцев. Восемнадцатый век в Шотландии, а сразу вслед за тем и в Англии, ознаменовался «открытием» природы как объекта, а некоторыми наиболее чувствительными поэтами, особенно Вордсвор-том, и как субъекта. Ногути Енэ справедливо отмечает: «Мне вдвойне приятно обнаруживать в английской поэзии такое же, хотя и не столь частое, преклонение перед природой, почтительное и благоговейное, как у Вордсворта, который с замиранием сердца взирал на радугу, или в последних сонетах Джона Китса, где он говорит о любовании луной» [58].
158
Но сколь бы искусственной ни была условность формы стихотворений Басё и сколь бы странной ни казалась его настойчивая подчиненность природе, когда он превращался в полной мере в звучащую, но несовершенную арфу, на которой играли небесные струи, возможно, наибольшее впечатление производит его личность с присущими ей молитвенным смирением и искренностью.
У изучающего жизнь Басё в памяти остается образ мудреца — поклонника великой тайны природы, частью которой он сам являлся; созерцателя, к которому приложимы слова У. Г. Дэвиса:
«Чего стоит суетный жизненный круг, Если времени нет осмотреться вокруг?»,
преданного и верного друга, вдохновителя своих учеников и последователей; человека простого и бедного, не обладающего ни здоровьем, ни состоянием, который при всем этом спокойно относился к жизни; философа, не отрешившегося от мира, а остающегося его частицей. За художником всегда стоит человек, и в «изменяющемся мире», в быстро вращающемся и калейдоскопическом окружении Басё-человек стоял, овеваемый всеми ветрами, подобно искривленной старой сосне, и позволял всем временам года, всем порывам ветра пронизывать свою душу, и она откликалась на них.
VII. ИХАРА САЙКАКУ
РОМАНИСТ
«ПОЗОЛОЧЕННОГО» ВЕКА
Осака
Второй по величине город Японии, Осака, постигла участь Манчестера: туристы и желающие познать истоки японской культуры излишне часто пренебрегают им, считая недостойным внимания. Древние сады, великолепные особняки, театральные улицы и увеселительные центры сменились заводами. Тем не менее есть своя символика в том, что характерными признаками Осака являются дымящиеся трубы и шумное движение транспорта, ибо, как мы уже видели, еще в 1650 г. Осака стал первым и крупнейшим торговым центром Японии. Это объяснялось близостью к порту Сакаи, являвшемуся основным торговым центром в этой части страны. Хотя Осака — старинный город, впервые он приобрел известность в 1532 г., после того как Коса Кэннё, верховный священнослужитель великолепнейшего храма Ниси-Хонгандзи, навлекший на себя гнев военного правителя Ода Нобунага, построил для себя в этом месте огромный замок-монастырь, который успешно оборонял в течение пяти лет. Тоётоми Хидэёси избрал в 1583 г. этот город своей резиденцией, перестроил замок, превратив его в сооружение невероятных размеров, и привлек сюда несколько знатных семей. Тогда Осака превратился в процветающий город, средоточие богатства и современной культуры, и, поскольку он взял на себя снабжение Киото с его полумиллионным населением товарами, доставляемыми и по морю, и по суше, стал крупнейшим торговым центром Японии. Оживленным было в этот период передвижение на джонках. Тысячи неуклюжих, но живописных суденышек качались на поверхности залива или были пришвартованы к берегу, причем многие бросали якоря в местах, ставших сейчас частью густонаселенного города.
В новое время город называли «японской Венецией» из-за системы водных путей, по которым беспрерывно двигались грузовые суденышки. «Осака, — писал в 1889 г. в одном из писем Редьярд Киплинг, — построен так, что в нем, под ним и вокруг него имеется тысяча восемьсот девяносто четыре канала, реки, дамбы и водореза». - Нельзя сказать с точностью, сколько водных путей существовало за 200 лет
160
до этого, так как за это время топография Осака значительно изменилась.
Вне всяких сомнений, облик феодального Осака определял грозный замок, возвышающийся на берегу реки Окава, которая вьется через весь город рядом с самим замком. С величественного возвышения и с его башен открывался вид на весь город и близлежащие окрестности миль на 30. Чтобы возвести эти изумительные стены от 30 до 60 тысяч рабочих трудились день и ночь в течение трех лет. Португальский иезуит Луис Фройш писал в 1586 г.: «Стены, широкие и высокие, сделаны из камня. Чтобы не возникало сложностей из-за большого скопления ремесленников, каждому владельцу мастерской для работы было отведено определенное место. Каждую ночь множество людей вычерпывало воду, которой постоянно наполнялись рвы. Вызывает удивление, когда видишь, как доставлялось множество камней самых разных размеров, в которых ощущалась большая нехватка. Для этой цели Хидэёси приказал местным князьям в округе 20—30 миль от города присылать суда, груженные камнями. Таким образом, только Сакаи был обязан поставлять ежедневно 200 судов. Поэтому мы иногда видим из нашего дома, как под полными парусами входят чередой до тысячи судов. . . Кроме окружающих крепость башен и бастионов, которые из-за своей высоты и великолепной позолоченной черепицы видны издалека, он воздвиг там много и других восхитительных зданий» [79, с. 613]. Через столетие с лишним Кемпфер еще более подробно описал это колоссальное сооружение, как основной и характерный символ всего города. А через два века перед этим замком, хотя он был разрушен и представлял собой всего-навсего памятник средневековья, стоял еще один ошеломленный путешественник Редьярд Киплинг, который написал: «Какая крепость! Высота — 50 футов, и при этом — ни капли строительного раствора. Фасад же не перпендикулярный, а выпуклый, как доспехи у рыцаря. В Китае умели возводить такие кривые стены, видел я и как французские художники изображают их в книгах, описывая находящийся во власти дьявола город Татарии. . . Глыбы гранитные, а люди былых времен обращались с ними, словно с глиной. Отшлифованные с учетом кривизны фасада блоки были в 20 футов длиной, 10—12 футов высотой и такой же толщины. Не было даже намека на связку, но соединения были безукоризненными. . . Должно быть, армиям, которые вели осаду этих стен, приходилось нелегко. Замки индийские мне знакомы, крепости великих императоров я видел, но ни Акбар на севере, ни синдхи на юге 1 не строили подобных сооружений — ни украшений, ни красок, только одна дикая сила и предельная чистота линий».
11 Заказ 1438
161
В 1614 г. Токугава Иэясу с армией в 180 ООО человек осадил этот огромный неприступный замок, который обороняли 90 ООО ронинов Хидэёри 2.
В январе 1615 г., после заключения мирного соглашения, были засыпаны внутренний и внешний рвы, ширина которых составляла 120 футов, а глубина достигала 30 футов, и срыты крепостные валы. Во второй осаде замка, летом 1615 г., принимали участие 270 000 воинов Токугава, которые 4 июня сожгли цитадель и убили тысячи его защитников. Хидэёри покончил с собой в своем пуленепробиваемом убежище в центральной башне. Его супруга была убита одним из вассалов. Тридцать же сопровождавших его мужчин и женщин подожгли здание и потом вспороли себе животы, совершив почетное сэппуку. Осакский замок, самый большой и укрепленный из когда-либо существовавших в Японии, пал, и вместе с ним рухнул дом Тоётоми Хидэёси, соперника дома Токугава и будущей династии сегунов.
Окружение Сайкаку
У нас нет возможности пересказать в красочных подробностях этот яркий эпизод японской истории. Падение Осакского замка в 1615 г., равно как и сожжение .его в 1868 г., занимает в японских анналах такое же место, какое занимает осада Трои и падение стен Иллиона в эпосе Гомера, а великое сражение и героическая смерть Роланда в Ронсевальском ущелье, ставшие главной темой chanson de geste 3, — в средневековой европейской литературе. Это волнующее событие получило в Японии должное отражение в песнях, прозе и драматургии и до сих пор из поколения в поколение вызывает трепет у старых и молодых.
Однако в данном случае важна именно дата, ибо в 1641 г., за два года до смерти Шекспира и Сервантеса, за год до смерти Хидэёри, когда окружающий осажденный замок .тород был охвачен'волнением, на глухой улочке Осака родился некий Ихара Сайкаку 4, которому предстояло стать поэтом и прозаиком и оказать влияние на все последующее развитие японской литературы. Возможно, символично уже то, что он родился под звуки битв, когда шла осада оплота феодализма, ибо в последующие полстолетия ему пришлось обрушиться на некоторые феодальные традиции классической литературы, казавшиеся столь непоколебимыми, и насильно открыть ворота, ведущие в новую, токугавскую зру литературы и искусства.
О жизни Сайкаку известно мало. Он много путешествовал по Японии, и самыми интересными являются те его произведе
162
ния, в которых он рассказал о том, что слышал и видел во время своих странствий. К сожалению, только некоторые из этих историй переведены на европейские языки. Он умер в 1693 г. в возрасте пятидесяти двух лет, на год раньше Басё и на тридцать один год раньше драматурга Тикамацу. Таким образом, хотя он родился на целое поколение раньше прославленного драматурга, он также был его старшим современником. Не считая путешествий, большую часть жизни Сайкаку провел в Осака, и его сочинения представляют собой характерное отражение образа мыслей и нравов района Кансай.
Очевидно, достоверных сведений о его юности не сохранилось. Поэтому мы можем только предполагать, что детство Сайкаку прошло в процветающем торговом городе Осака и его окрестностях, вероятно, главным образом среди торговцев и деловых людей, чьи неаристократические взгляды он разделял и в чьих более или менее грубых, непристойных развлечениях принимал участие. Очевидно, он был выходцем из народа; нет никаких свидетельств о его тесных связях с представителями высших сословий, которые в Осака были, конечно, очень мало-численными1 Он вырос в любопытной- и очаровательной атмосфере буржуазного материализма, смотрел действительности в лицо и предавался чувственным наслаждениям, не слишком считался с высокомерными условностями придворных традиций и обычаев или с мистической духовностью мудрецов, философов и поэтов. Судя по окружавшей его среде, мы можем представить Сайкаку человеком-, лишенным иллюзий и трезво смотревшим на жизнь.
«Осака, — отмечает наш верный летописец Кемпфер через несколько лет после смерти Сайкаку, — очень многолюдный город и, если верить тому, что рассказывали нам хвастливые японцы, только своими- силами может выставить армию в 80 ООО, человек. Это крупнейший торговый центр Японии, само расположение которого, необычайно благоприятно для ведения торговли по водным и наземным путям. -Поэтому в>, Осака и проживает столь много богатых купцов, ремесленников и предпринимателей! Несмотря на многочисленное население, продукты питания очень дешевые. Жаждущий роскоши и чувственных наслаждений, может в изобилии их здесь получить. Поэтому японцы называю?; Осака всеобщим театром удовольствий и развлечений. Театральные представления можно увидеть ежедневно, как публично, так и в частных домах. Со всех концов империи, сюда стекаются шуты и фокусники, готовые показать разнообразные искусные трюки, и всевозможные демонстраторы диковинок: всяческих уродов, заморских или дрессированных животных, убежденные, что здесь они заработают больше, чем где-либо.. Приведу один пример. Несколько
163
лет назад наша Ост-Индская компания послала из Батавии в подарок императору большую, обитающую в Ост-Индии птицу казуара, способную глотать камни и горячие угли. К несчастью, эта птица не понравилась нашим строгим цензорам, губернаторам Нагасаки, которым предписано решать, какие подарки наиболее подходят для императора, и поэтому, когда нам было приказано отослать ее обратно в Батавию, один богатый японец, большой любитель подобных диковинок, заверил нас, что, если бы ему разрешили купить эту птицу, он бы с удовольствием заплатил нам 1000 талеров, не сомневаясь, что впоследствии выручит денег вдвое больше, показывая ее только в Осака. Поэтому неудивительно, что ежедневно сюда прибывает множество иногородних и путешественников, преимущественно богатых, уверенных в том, что здесь они могут провести время и потратить деньги с гораздо большим удовольствием, чем в каком-либо другом уголке империи. У всех западных князей и феодалов по эту сторону Осака имеются в этом городе дома и прислуга, дабы обслуживать их в случае приезда, хотя в городе им разрешается оставаться всего на одну ночь. Кроме того, при отъезде они обязаны двигаться по дороге, которая совершенно не просматривается из замка. Питьевая вода в Осака немного солоновата на вкус, но зато у них лучшее в Японии сакки (сакэ), которое в больших количествах изготовляется в близлежащей деревне Тэнусии и откуда вывозится в большинство других провинций, более того, голландцы и китайцы вывозят его и за границу» [39, с. 447].
Жизнь Сайкаку прошла в атмосфере этого оживленного города наслаждений, развлечений и легко добываемых денег, которая позднее проникла и в его произведения. Он воистину родился в нужном месте и в нужное время. Он, несомненно, лучше знал, где и как развлечься в своем родном городе, чем голландский посланник. Хотя Сайкаку много путешествовал по стране, что обогатило его знаниями и жизненным опытом, почти наверняка он оставался жителем Осака. (А что это означает, нам уже совершенно ясно.).
Теперь мы позволим себе небольшое отступление. При изучении Японии небезынтересны некоторые западные параллели. Любопытный пример представляет собой Шотландия, какой она была в начале XVIII в. В это время, подобно Киото, Эдинбург был столицей, где находился двор и аристократия; существовал независимый парламент. После издания в 1707 г., через 13 лет после смерти Сайкаку, декрета об Объединении, слава Эдинбурга поблекла и он лишился своего былого величия. Безвозвратно канули в прошлое яркие и шумные дни, когда на узких улочках Эдинбурга толпились самые знатные и веселые люди Шотландии. Подобно тому как сёгунские придворные
164
и вассалы перебрались в новую столицу Эдо, джентри переселились в Лондон. Потом Шотландия внезапно пережила новый расцвет, второе рождение, причиной которого явилось возрождение торговли. В результате Унии прекратились торговые связи Шотландии с Францией, рыболовство на Восточном побережье, прядильная и ткацкая промышленность пришли в упадок, не выдержав конкуренции с Англией, но, с другой стороны, получила большую свободу торговля с английскими колониями и возможность развития как сельского хозяйства, так и коммерции. Склонность шотландцев к торговле нашла себе применение. «По всей стране там и сям усердно взывали к золотому тельцу. Джентри не гнушались заниматься торговлей, и для многих из них ростовщичество превратилось в профессию. Новые богатые торговцы сахаром и табаком щеголяли в золоте и пурпуре перед менее удачливыми, чем они; вслед за мужчинами и женщин захватило это увлекательное занятие». И тогда к стенам великих эдинбургских каменных замков-крепостей отчасти вернулось былое оживление. «Поскольку дома служили прежде всего для ночлега, а лавки — для хранения товаров, то развлечения, равно как и всяческие сделки, в основном происходили на улице или в крайнем случае — в общественных заведениях. Люди развлекались и заключали сделки в тавернах, которые чаще всего обслуживались членами семьи. Примерно в полдень, когда начинался перезвон „музыкальных колоколов", как верно было кем-то подмечено, „любого джентльмена города почти со стопроцентной гарантией можно было увидеть слоняющимся по Маркит-Кросс в поисках собутыльника и собеседника". Основным развлечением эдинбургских джентри были выпивки и беседы; любое время суток было удобным для пирушек, попутно решали и деловые вопросы, регулярно устраивая перерыв и по всяческому поводу откладывая дела». Улицы были настолько узки и неудобны, что по ним можно было передвигаться только на паланкине. Отовсюду доносилась брань носильщиков, крики торговок рыбой или продавцов вареных бобов. Шум и сутолока были ужасными, так что пешеходам приходилось прокладывать себе дорогу, минуя устриц и мидий, разложенных для продажи на мостовой. «Театр еще находился под запретом, но горожане подогревали себя напитками, которые хлестали из оловянных кружек, петушиными боями, бегами пони и популярными показами гигантов и прочих физических уродов, демонстрируемых на уличных помостах. Летающий человек скользил на брюхе по веревке длиной в 150 ярдов от батареи равелина до Касл-Рок. Пожиратель огня жарил во рту кусок мяса на тлеющих углях. Бескостный человек сгибался в обруч и балансировал на двух перевернутых винных стаканах. . . Джентри же, конечно, добав
165
ляли к более грубым развлечениям горожан свои утонченные забавы. Они играли в замысловатые игры, посещали кофейные дома (где не было никакого кофе), устраивали балы и концерты— к последним позднее добавились „интерлюдии" — представления бесспорно театрального характера. На улицах начали появляться пестро одетые щеголи, которые заселили долго пустовавшие дома. Они писали стихи, изучали философию и произведения античных классиков, сочиняли неуклюжие эпиграммы, услаждали свою страсть к музыке» [16, с. 24—25}.
Эдинбург того времени очень напоминал Осака и Киото в период расцвета их торгового могущества. Несмотря на добровольную изоляцию Японии, ей были присущи многие из,тех социальных и экономических тенденций, которые в то время наблюдались в другой островной империи. Роберт Берне жил позже Сайкаку; последний был горожанином, Берне же оставался неотесанным крестьянином. Однако они были похожи своим отношением к жизни, своей разухабистостью, плебейскими вкусами, равно как и тем вкладом, который они внесли в народную литературу, бунтуя против ценностей выкристаллизованных классических традиций.
Подобно тому как покровителем Кикаку был состоятельный житель Эдо — Кибун, покровителем Сайкаку в дни его зрелости был богатый осакский купец по имени Таннодзия. Сайкаку любил посещать «веселые кварталы» — возможно, в компании своих более богатых друзей. Считают, что обычно он занимал деньги в счет своих будущих гонораров и умер, так и не закончив книгу, за которую уже получил аванс.
САЙКАКУ — ПОЭТ
Впервые Сайкаку выступил как сочинитель стихов в жанре хайкай. Прежде чем обратиться к его прозаическим произведениям, рассмотрим его поэтическое творчество.
Сайкаку-поэт был учеником великого Соина и, как показывают его первые опубликованные сборники хайкай, принадлежал к неортодоксальной школе Данрин. Как мы уже отмечали, для этой школы была характерна новая манера выбирать материал из повседневной жизни и повышенное внимание к общественной жизни и человеческим чувствам. Она отражала общую тенденцию гуманизации, а возможно и вульгаризации, народной литературы. В этой области Сайкаку стал искусным и плодовитым мастером. Рассказывают, что в 1680 г. Сайкаку велел повесить большой занавес перед алтарем Икутама, где обычно он собирал большую толпу местных жителей и читал им почти по 4000 новых стихотворений в день. Пять человек
166
следили аа порядком, восемь до изнеможения записывали его поэтические изобретения, а всевозможные знакомые и незнакомые люди приходили слушать его. В 1684 г. Сайкаку с гордостью прочитал перед алтарем Сумиёси за один день 23 500 стихотворений 5.
Но изобилие банальных тем, не подходящих для использования в такой короткой форме, представляло собой материал для более широкого развития в форме романа. Таким образом, Сайкаку сочинял различные хайкай на популярные любовные сюжеты, которые в развернутом виде представляли бы собой эпизоды любовной истории. Ему оставалось просто перейти от чистой поэзии к полнокровному роману, где сохранялись бы те же самые темы общественной жизни, любви или человеческих чувств.
Мы могли бы продолжить рассуждения о психологических факторах, которые (сколь бы неосознанными они ни были) могли увести Сайкаку от сочинения хайкай. Самураи исконно относились к деньгам с еще большим отвращением, чем гордые аристократы; прикасаться к «презренному металлу» считалось недостойным и унизительным, но осакских торговцев такие ничтожные грешки, вероятно, не волновали. Они имели дело с деньгами и были лишены презрительно-высокомерного отношения к ним, присущего «высшим сословиям». Сайкаку был выходцем из народа и, несомненно, точно так же как любой торговец Осака, не упускал случая подзаработать. Кроме того, он, должно быть, считал, что презрение ученых былых времен к откровенному выражению и передаче мыслей и чувств — всего-навсего жалкая форма стоического самоограничения. Мысль казалась ему похожей на деньги: ее нужно отчеканить и пустить в обращение, и ему была несимпатична литературная традиция, согласно которой чувства или поучения следует выражать иносказательно или при помощи сжатых и загадочных недоговорок, без явных признаков чеканности мыслей или словесных загрязнений.
Однако, даже обладая мастерством в сочинении хайкай, в душе Сайкаку был бунтовщиком и радикалом. Ему было недостаточно гарцевать подобно лошади изящными шажками на строго определенном и ограниченном пятачке, с головой, неестественно оттянутой назад жестким мартингалом. Он хотел бежать рысью, иноходью, скакать галопом, а не только заниматься чрезмерно искусственными по своему характеру цирковыми представлениями. Сайкаку устал от условной формы, когда в трехстишии из 17 слогов нужно было развить заданную тему: например, передать определенные человеческие чувства при помощи стереотипных аллюзий к четырем временам года. Это было увлекательным занятием, особенно в придворной
167
среде, но приевшимся за тысячу лет непрерывного использования. Все, что можно было выразить в хайкай, очевидно, уже было сказано. Последнее слово сказал Басё, а после него начался упадок.
Одно дело, когда первоначально жанр хайкай использовался любовниками для изящных посланий на веерах или для красивых «изречений», которые следовало воспроизводить изящным каллиграфическим почерком, неискушенным же современникам Сайкаку этот жанр казался слишком вычурным. Умение сокрыть мысль за набором определенных правил при ограниченном количестве слогов, при помощи иносказания, эллипсиса, пренебрежения синтаксисом, опущения слов и усложненной символики больше не отвечало требованиям эпохи с ее реалистическим и прямолинейным духом. Народные массы, слабо разбирающиеся в древней классической литературной символике, не были подготовлены к пониманию столь усложненного искусства. Жизнь простых людей была откровенной и чистосердечной. Их не волновали трудноуловимые оттенки и многозначительное молчание; сущность реальных вещей была им более понятна.
Некоторые современные японские критики попытались post factum объяснить и оправдать жанр хайкай — в целом чрезвычайно утонченную, искусственную и иносказательную поэтическую форму — как порождение чувств, «слишком глубоких, чтобы быть выраженными в словах». Например, Нитобэ видел причину его возникновения в стоицизме самурайского кодекса старой Японии. «Наше стремление скрыть переполняющие нас чувства объясняется вовсе не извращенностью восточного сознания. Для нас в словах часто заключается, как говорят французы, „искусство скрыть мысль". . . „Тот, кто, широко разевая рот, раскрывает содержимое своего сердца, — гласит народная пословица, — всего-навсего напоминает плод граната". Далее он продолжает: „Первый порыв мужчины или женщины в тот момент, когда их охватывает какое-то чувство, — это скрыть его проявление. Для слуха японцев действительно являются оскорбительными самые святые слова, самые интимные проявления сердечных чувств перед разношерстной толпой. Например, молодой самурай пишет в своем дневнике: „Ты ощущаешь, как поле твоей души наполняется нежными мыслями? Настало время семенам взойти. Не тревожь их словами; пусть они растут сами по себе в тишине и в тайне"» [56, с. 111 —112]. Точно так же Енэ Ногути заявляет, что «мы считаем поэтом не того, кто открыто проявляет свое безумие, а того, кто хранит его внутри, если оно у него есть, и содержит свою душу в одиночестве. Для нас блаженным состоянием является то, когда в минуты досуга даже великий поэт забывает от изумления свой язык, и ему достаточно
168
нескольких слов, хотя кому-то они могут показаться загадкой или детским лепетом. . . Мы избегаем поэтического красноречия, от которого человек преисполняется жаждой и беспокойством, и с радостью становимся многословными, потому что мы достаточно хорошо знаем несостоятельность человеческого языка» [58].
Но едва ли такое самоограничение или самоуглубленность свойственны простым людям. Простые японцы были человечными. Более свободные, чем скованные кодексом бусидо самураи, они чувствовали, что наделенные речью живые существа инстинктивно стремятся к самовыражению. Во всякий великий момент своей жизни — час страстного счастья или глубокой печали — человек стремится к обеспечению и выражению своих чувств в словах. Возможно, обычный человек чувствует себя настолько бессловесным, словно никогда не умел говорить; он немеет перед лицом жизни, смерти или величием природы. Но его немота — это только прелюдия, которая сменяется жаждой самовыражения. Он ощущает насущную потребность в даре речи. Истинный поэт — тот, кто обладает этим бесценным даром. Поэзия для него — это голос сердца и разума; подобно морскому прибою он вздымается и опускается. Таково конечное словесное выражение пережитого или прочувствованного.
За исключением придворных кругов, для которых хайкай являлись развлечением, — и, как однажды заметил Нитобэ, «в культуре, где Муза вырождается», — у японцев сохранялось стремление к «свободе выражения». Далее Нитобэ, описывая исконно японские песни — ута, говорит, что японцы «скрытны и необщительны. Иногда (их) даже считают „таинственными". Бывает, что их необщительность достигает невероятных пределов. Нам неизвестно, является ли это следствием долгой изоляции, островного положения страны, какой-то этической отобщен-ности или чрезмерного акцентирования на нормах поведения и соответственно боязни фамильярности. Однако остается фактом, что японцы, слишком эмоциональные и остро реагирующие на обиду или доброту, живут в состоянии постоянного самоограничения. Спасением от этого самоограничения является ута. Она служит предохранительным клапаном для этого самоограничения. Это сильно бьющая струя фонтана. Поэтому в ней находят выражение чувства, которые замкнутый в себе человек не может высказать в обычной речи» [57, с. 176].
Поэтому свободные от чопорности и ограничений самурайской традиции простые люди непринужденно выражали себя в прозе, балладах (дзёрури) или ута. Сайкаку и современные ему писатели отбросили самоограничения изящной и утонченной культуры высших классов ради более естественных и откровенных форм выражения и тем самым вывели литературу на более
169
свежий воздух повседневного гуманизма. Действительно, он занимал независимую позицию, несколько похожую на ту, что великий итальянский поэт Пьетро Аретино выразил словами: «О заблуждающееся большинство, снова и снова говорю вам, что поэзия — это каприз природы в минуты ее радости. Она зависит от личного вдохновения человека-, и, когда его не хватает, пение поэта превращается в беззвучное бренчание бубна, в колокольню без колоколов. Те же, кто пытаются писать стихи без вдохновения, подобны алхимикам, которые при всем своем образовании и невероятной алчности так еще ни разу и не создали золото, в то время как природа производит его, чистое и прекрасное, в изобилии. Учитесь у того художника,, который на вопрос, кому он подражает, указал на толпу живых людей, имея в виду, что он черпал сюжеты в жизни и действительности... Что нам делать со словами, которые когда-то были на устах у всех, а ныне вышли из моды? . . Намного лучше пить из собственных деревянных кружек, чем из чужого золотого кубка; и собственные лохмотья лучше краденого бархата» [75, т. 2, с. 402]. Подобный протест против античной традиции был характерен для позднего Ренессанса и гуманистического движения в Европе; такую же позицию гуманистического подхода к литературе и жизни занимает и Сайкаку.
САЙКАКУ — ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРИТИК
К этому времени усилиями Тикамацу — автора драматических баллад дзёрури и Гидаю — знаменитого рассказчика кукольных пьес Осака стал центром театров марионеток, которые соперничали друг с другом, желая снискать благосклонность толпы, жаждавшей развлечений. Наряду с кукольными пьесами процветал и драматический театр Кабуки, для которого Тикамацу тоже писал пьесы. Хотя популярность Кабуки быстро росла и в Эдо, но на протяжении еще нескольких десятилетий Осака продолжал оставаться главным театральным центром Японии. Этот вид развлечения достиг невероятной популярности, граничащей с манией. В такой обстановке Сайкаку обратился к драматургии, подобно тому как ранее — к.стихотворной деятельности, а позднее — к прозе. Было совершенно естественно, что человек из народа, чувствующий свою среду, знающий нравы и обычаи родного города, оказался в театральном водовороте. Он писал различные пьесы, которые пользовались умеренным успехом; но у него оказался конкурент, превосходивший его в этом виде искусства. Как-то его пригласили написать пьесу дзёрури для старого чтеца Удзи Kara, и он создал «Ка-
по
лендарь». Но Тикамацу — его литературный и театральный ^соперник— создал для своего партнера Гидаю «Новый календарь и упражнения ученых дам в каллиграфии», который пользовался большим успехом. Сайкаку попытался вернуть Kara славу еще одной пьесой; снова его постигла неудача, потому что театр сгорел и повсюду шли преимущественно различные пьесы Тикамацу.
Иногда высказывают несправедливое мнение, что литературный критик — это неудачник в литературе. Мы не станем придерживаться этого суждения; но все же можно сказать, что не слишком успешная деятельность на поприще драматургии и в сочинении дзёрури побудила Сайкаку заняться театральной критикой, и в этой сфере, он действительно стал новатором.
Один автор пишет о Кабуки следующее: «Театральные представления вызвали к жизни театрального критика. Актер и его критик во всем дополняли друг друга. Претендующие на роль .литераторов начали критиковать актеров и публиковать свои соображения по этому поводу. Неясно, когда впервые появилась такая критика, но Ихара Сэйсэйин упоминает в качестве возможной даты 1656 г. Сначала критика основное внимание уделяла внешности актеров-оннагага, самых впечатляющих участников представления, чье позаимствованное у женщин очарование и изящество привлекали в равной степени и мужчин, и женщин. Потом появились публикации, связанные с анекдотами об актерах. Уровень критики возрос после того, как критики начали получать доходы за свои рассуждения и смогли высказывать суждения о ценности и качестве игры, а не ограничиваться только описанием одежды, внешности или поведения актера на сцене.
В плодотворный период Гэнроку, когда театр достиг вершины своего расцвета, существовали два знаменитых театральных критика. Одним из них был Ихара Сайкаку, автор не отличающихся высоким моральным уровнем популярных новелл укиё-дзоси и прочих подобных сочинений. Другим был Ходзё Дансин, сочинитель коротких стихотворений хайкай. Свои критические сочинения они писали в часы досуга ради собственного удовольствия. К счастью, им не нужно было думать о газетных издателях, чувствительных театральных директорах или капризах читающей публики, и они могли излагать любые мысли, приходившие им в голову после посещения театра. Они не обязаны были проталкиваться в какую-нибудь прокуренную, шумную газетную редакцию, чтобы в последнюю минуту отстукать на машинке статью, в то время как ученики наборщика *с нетерпением ожидают той минуты, когда они смогут выхватить ее у них из рук. Несомненно, они целый день сидели у себя дома "на соломенных циновках-гагалш, любовались каким-ни
171
будь умиротворяющим пейзажем и проводили свободное время в размышлениях. По примеру Ихара Сайкаку и Ходзё Дансина другие литераторы тоже занимались ведением театральной хроники, обильно и подробно описывая жесты и речь актеров.
Критическая литература называлась хёбанки („записи оценок"), и она стала монополией Хатимондзия, издателя из Эдо. Первая такая книга появилась в 1656 г., издание серии продолжалось до „реставрации Мэйдзи"; издательство просуществовало 211 лет. Дзисё, глава издательства „Хатимондзия", был не только издателем, но и автором сочинений на театральные темы, его партнер Эдзима Кисэки тоже писал книги о театре. Когда партнеры поссорились и на несколько лет расстались, каждый основал собственное издательство, но позже они забыли о былых разногласиях и возобновили сотрудничество. Их последователи продолжали издавать хёбанки, являвшиеся единственными книгами по вопросам театра. Насчитывается несколько сотен томов подобных сочинений, представляющих собой своеобразную энциклопедию Кабуки» [43, с. 80—81].
САЙКАКУ — НОВЕЛЛИСТ
Новые темы, к которым обратился Сайкаку в своих хайкай в стиле популярной школы Данрин, как уже отмечалось, представляли собой материал для более обстоятельного рассмотрения и в конечном счете легли в основу его новелл. Для любовных историй, необыкновенных приключений, бытовых рассказов, которые нельзя было передать в условных 17-сложных стихотворениях, требовалось более широкое полотно. Такая возможность представилась Сайкаку в популярных в то время хёбанки. Они не только представляли собой хронику театральных событий и подробные описания жестов, речи и поведения актеров, но и превратились в художественные произведения. Многие из них были крайне непристойными, описывали почти исключительно жизнь публичных домов Киото, Осака и других городов. Для читателей этот аспект общественной жизни был более интересен, чем строго регламентированные нравы высших классов, где единственными мужчинами, которых позволялось видеть женщине, были ближайшие родственники. Хотя новая литература имела явно аморальную окраску, нельзя отрицать присущие ей юмор и занимательность. Сайкаку, сам являвшийся завсегдатаем «веселых кварталов» Осака, использовал эти темы при написании романа «Итидай отоко» («История любовных похождений одного мужчины»). В этом, равно как и в других романах он использовал новый прозаический стиль. Предложения были сжатыми и мощными, что явилось следствием его
172
многолетней практики в жанре хайкай, а его язвительность пользовалась огромной популярностью. В Эдо появились даже «пиратские» издания его романов.
Воодушевленный успехом первого романа, он написал вслед за ним «Нидай отоко» («Любовные похождения двух мужчин») и «Гонин онна» («Пять женщин, предавшихся любви»), после чего целиком посвятил себя сочинению романов. В это время в жанре хайкай господствовала более классическая школа Басё, а широко использующая разговорный язык школа Данрин постепенно приходила в упадок, поэтому Сайкаку отказался от своей прежней профессии «поставщика хайкай» и до самой смерти, которая наступила в 1693 г., все внимание уделял написанию прозаических произведений.
«Итидай отоко» — это история мужчины по имени Еносукэ. Впервые он влюбился или начал испытывать любовные порывы в возрасте семи лет, после чего начались его странствия по трем провинциям в поисках наслаждений. Когда ему исполнилось 60 лет, устав от подобных развлечений, он снарядил корабль под названием «Косёку-мару» («Корабль любви») и отправился на поиски Острова Женщин. Образ Еносукэ был нужен автору, чтобы описать различные «веселые кварталы» и изложить несколько отдельных историй, слабо связанных друг с другом, и, подобно тому как это было в хёбанки, чередуя их с рассказами из жизни куртизанок.
С другой стороны, в «Нидай отоко» он вернулся к более раннему типу произведений, где истории не объединены одним героем. Настоящими и полноценными романами с более отчетливо выраженным сюжетом являются «Гонин онна» и «Итидай онна» («История любовных похождений одинокой женщины»).
С годами Сайкаку, вероятно, стал несколько более привержен к соблюдению правил и традиций, ибо ему приписывается высказывание, что в рассказах, предназначенных для торговцев, в юности человек должен усердно трудиться, а в старости может делать все, что душе угодно. По-видимому, его теория основывалась на личной убежденности в существовании воздаяния за добродетель, заслуженного отдыха после праведных трудов и рая с гуриями, подобного мусульманскому, для проживших безупречную жизнь6. В этом, несомненно, нашли отражение нравы и мораль многочисленного сословия городских нуворишей того времени.
На самом деле Сайкаку придерживался эгоистических взглядов и был выразителем философии личной выгоды и сиюминутности. Правда, в некоторых своих историях он повествует, что слишком близорукое и опрометчивое поведение нередко ведет к безумию и несчастьям. Однако в основном, как отмечал в 1897 г. один из его биографов, Цунода Рюсаку, жизнь для
173
Сайкаку ограничивалась настоящим, будущее его не волновало. В своих рассказах он показывал непостоянство вещей: не «вечное Сейчас», а «только Сейчас». Таким образом, вследствие отсутствия у него трезвых размышлений, осознания прошлого или будущего мы, по-видимому, не сможем обнаружить у Сайкаку морализма или тенденциозности. Описывая любое сложное событие, он не уделял никакого внимания ни мотивам, ни замыслам своих героев. Он старался не проводить различия между хорошим и плохим с точки зрения морали, что не позволяло читателю сделать окончательный вывод. Для Сайкаку существовал только тот день, в который происходит то или иное событие. Наказания же и вознаграждения он либо вообще игнорировал, либо только поверхностно их касался. 'В свои наиболее плодотворные годы, когда его произведения были особенно популярны, он руководствовался эгоистической целесообразностью или бездумным потаканием своим желаниям, что, возможно, устраивало его читателей, но подрывало незыблемость национальных устоев. Такой отход от кодекса бусидо, или официальной морали, привел к тому, что власти запретили его книги, и постепенно Сайкаку перестал писать в этом духе. В последние годы жизни он создал менее интересные, но более высокоморальные книги, более соответствующие самурайскому кодексу и правилам хорошего поведения.
Сайкаку прославился своим новым стилем в области прозы, создав литературу о современной жизни и нравах, подобной которой не было со времен эпохи Хэйан. Его изящная и выразительная проза, описывающая жизнь городских лупанариев, приобрела необычайную ^популярность. Однако, постепенно подчиняя свое творчество!низкопробным вкусам читателей, Сайкаку дошел до таких непристойностей, что правительству пришлось запретить его книги. Он также создал шуточные литературные портреты своих тфиятелей-поэтов, модных в то время, но невзыскательная дублика предпочитала его прозу более низкого качества.
МЕСТО САЙКАКУ В ЛИТЕРАТУРЕ
Средний класс Японии стремился избавиться от той стерильной, искусственной, бесцветной жизни, которую ему навязы-вада придворная знать. Кроме того, писать излишне откровенно о том, что доносилось яз этой придворной среды до ушей обычнвгх людей, было слишком опасно; бакуфу незамедлительно наказывало тех, кто в чем-то проявлял излишнюю критичность или непочтительность к системе и ее функционерам. Соответственно желание убежать в более реалистический и человечный мир вообще уводило публику от происшествий при дворе и не
174
избежно — в сферу более легких и менее опасных развлечений: на театральные улочки, в чайные дома и «веселые кварталы» — Ёсивара. Рассказы лавочников, мелких чиновников и ремесленников о своей любви и ненависти, о радостях и печалях, известные всем людям во все времена и во всех странах, были понятны каждому. Сайкаку стал их рассказчиком и немедленно обрел известность. Он был «оазисом действительности в чаще традиций и классических образцов». Он изображал мир более реальный, вернее — просто тривиальный, избегая довольно избитых тем с описаниями пикников, во время которых любовались цветами вишен и луной, сочинения стихов, сентиментальных сцен и вечеринок богачей. Он привнес в литературу юмор, пафос, «соленые» словечки, споры и примирения, из которых состояла повседневная жизнь горожан. . . В своих непри-украшенных «Рассказах из всех провинций» он излагал подлинные события и передавал простые, незамысловатые истории, которые привлекли его внимание во время путешествий. Они были искренними, а его стиль лишен вычурности; он писал на разговорном языке, понятном каждому.
Сайкаку вполне можно было бы назвать Боккаччо эпохи Гэнроку. Этот итальянец тоже вырос в среде торговцев и писал вычурные сонеты; отступив от идеалов традиционной религии, античной культуры и деспотичной власти, в «Декамероне» он обратился к описанию грешков мужчин и женщин; и наконец, он был предтечей движения гуманизма, лежавшего в основе итальянского Возрождения. В общих чертах Сайкаку прошел тот же путь. «Боккаччо, — отмечал Джон Эддингтон Сай-мондс, — был типичным итальянским буржуа, выходцем из того класса, который в конце концов и представлял Ренессанс. В его прозе и поэзии в зародыше содержатся различные формы, которые в этот период были доведены до совершенства. Изучая его, уже в самой его незрелости мы ощутим дух последующих веков. Он был первым, кто заменил литературу образованных сословий и артистократии литературой, народа. Он освободил природные инстинкты от аскетических запретов и мистицизма трансцендентального толка. Он беспощадно высмеял фальшь рыцарских романов и лицемерие монашества, а не просто подшучивал над ними при помощи язвительных или бранных слов. Он восстановил честь реализма в литературе и искусстве, изображал мир, каким тот ему представал — чувственным, низменным, смешным, нелепым, патетическим, нежным, жестоким, — во всей его грубости и противоречивости. Вместо абстрактных аллегорий он обратился к конкретным фактам. Он отстаивал право на страсть и чувственные наслаждения, отвергнув идеальные желания и угрызения совести терзаемого религией сознания. .. Боккаччо действовал, сам не созна
175
вая, что он делает, и не ставя перед собой ясных целей. . . Он скорее был глашатаем своей эпохи и народа, указавшим в литературе, что итальянское общество вступило в новую фазу, а старые порядки исчезли» [75, т. 1, с. 986].
Сайкаку и несколько его современников сделали для освобождения литературы от классических ограничений то же самое, что первые мастера цветных гравюр укиё-э сделали для раскрепощения искусства в начале XVIII в. Новой формой романа он положил начало «народной школе» — литературному аналогу укиё-э.
Интересно между прочим отметить, что то же открытие было совершено и в Англии, когда, порвав со всеми морализирующими сочинениями пуританского периода — с Милтоном и Бэньяном, «Релиджио Медичи» Брауна и со всеми религиозными поэтами и моралистами, — Дефо и Ричардсон отыскали новую народную форму, реалистическую и плебейскую, и изобрели «роман», связанный с действительностью через серию мыслей, чувств, событий, максимально тождественных жизни.
Следует вспомнить еще одну параллель — шотландское окружение Роберта Бёрнса, в котором он вырос и достиг похожих почестей. Шотландские народные песни XVIII в. отличало пристрастие к непристойности. Один авторитетный историк заявляет, что, «вероятно, нигде в мире крестьянство не было столь склонно к распутству». Шотландские песни, рассказы, интерлюдии во время представлений по случаю венчания или других общественных событий почти полностью были преданы благородному забвению. Священники последующих лет прилагали все усилия, чтобы заменить «славными благочестивыми балладами» местные сочинения. Но достаточно выжить малейшим крохам, чтобы доказать превосходство пикантной смеси из вольности, свежести и дерзкого хохота над искренними вздохами и слезами. Не преуспевшие в искусстве, даже в ремесле занимающие низкое место подражателей, шотландцы умели едко комментировать жизненные события. Сотни тысяч дешевых шотландских брошюр с непристойными историями ежегодно находились в обращении не только к северу от Твида, но и к югу от него. Церковь неоднократно пыталась их запретить, а они разрастались еще сильней. Если уж на то пошло, они черпали новую жизненную силу для своей непристойности в тени евангелических учений [16, с. 6].
В поисках аналогий этому новому течению откровенности и чистосердечности в области нравов и литературы можно обратиться не только к Шотландии. Мы уже отмечали реакцию на пуританство в период реставрации в Англии с 1660 по 1688 г. Эта реакция перешла в распущенность, вероятно не имеющую себе равных в английской истории. Историк Грин
176
отмечал (не стесняясь в выражениях), что к благородству придворных «повесы эпохи Реставрации добавили невероятное бесстыдство и грубость. Модным поэтом был лорд Рочестер, хотя названия некоторых его стихотворений в наши дни не могли бы быть напечатаны открытым текстом. Модным остряком был Чарльз Седли, а его речь была настолько непристойной, что даже грузчики с площади Ковент Гарден сбросили его с балкона, когда он осмелился обратиться к ним. . . В порочности театра нашел отражение типичный порок эпохи. Комедия периода реставрации унаследовала от французской комедии все, за исключением поэзии, изящества и хорошего вкуса, которыми та прикрывала свою грубоватость. Совращения, интриги, жестокость, цинизм, распутство получали должное выражение в диалоге умышленного и обдуманного непотребства, когда даже остроумием не может компенсироваться возникающее отвращение. Уайчерли, первый драматург этой поры, остается самым жестоким изо всех, писавших для театра. . . Он гордится откровенностью и „честностью", с которой рисует мир таким, каким он его видит, мир уличных драк и тайных свиданий, оргий в Воксхолле и поединков с секундантами, лжи и двусмысленностей, мошенников и идиотов, мужчин, продающих своих дочерей, и жен, изменяющих своим мужьям» [13, т. 2, с. 569].
Точно так же Сайкаку, а особенно некоторые из его менее сведущих и выдающихся последователей и подражателей, позволяли себе «честно» изображать мир Осака и других процветающих городов такими, как они их видели, часто с излишними непристойностями, за что он и его подражатели подвергались гонениям со стороны властей, заботившихся о состоянии «образа мыслей» и морали народа. В подобном игнорировании идеализма в искусстве Сайкаку можно обвинить только вкупе с его современниками во Франции и Англии. Однако во всех трех странах такие крайности проявлялись только в те моменты, когда качающийся маятник достигал высшей точки, и являлись неизбежным следствием падения нравов, что некоторое время обусловливалось упоением недавно обретенной свободой, а потом жизнь возвращалась в более привычные формы. Именно такая чрезмерность была необходима, чтобы разбить оковы бывших формалистических ограничений. Она продолжалась недолго: в Англии — пока разгул периода реставрации не был исправлен предписаниями или здравым рассудком; а в Японии — пока такие писатели, как Тикамацу, не придали вновь обретенной свободе художественную форму, отказавшись от крайней непристойности и распущенности, и недолговечный фосфоресцирующий блеск Эдо периода Гэнроку поблек.
Насколько очевидная параллель существовала между Англией эпохи Реставрации и раннетокугавской Японией, велико
12 Заказ 1438
177
лепно показывает Эрнест Фенеллоза: «В XVIII в. японцы в основном погрязли в праздности и мелочности. При всеподавляю-щей политической системе для величия не оставалось здравого выхода. Общество погрязло в бесчисленной формалистике и мелочном тщеславии. Некогда живые установления и идеалы живых героев выродились в романтизм и вычурное притворство. Тогда-то японцы и научились быть распутными и лживыми. Энергия тех молодых франтов, чьи деды завоевывали Корею, теперь тратилась на кукольные представления и петушиные бои, на куртизанок и полуночные проделки. В искусстве этого периода получил точное отражение характер эпохи. Преимущественно оно занималось изображением знаменитых уличных женщин, актеров, фокусников, пьяных франтов и грязных непристойностей; непочтительными карикатурами на богов, блеском и сверканием прекрасных одежд, незначительными сиюминутными набросками, которые сводили с ума узколобых „чайных наркоманов"; и слабыми подражаниями старым китайским рисункам, удовлетворявшими прихоти утонченного вкуса эпохи.
Несомненно, диктаторы из Эдо с удовольствием взирали на милый их сердцу народ, столь счастливый и довольный своими невинными развлечениями. Конечно, в искусстве этой эпохи есть много очаровательных и новых черт, но ему присуще определенное ребячество и неискренность. Все духовное исчезло, и оставшиеся плотские развлечения никогда не могут быть восприняты как художественное вдохновение» [14, с. 281 ].
Один из современных японских исследователей этого периода, Фудзии Отоо, отмечает в своем эссе, что, хотя Сайкаку не был полностью «реалистическим» писателем в современном смысле, — ибо иногда он допускал излишние преувеличения, усиление впечатления и сгущение красок, — в целом он был «реалистом», который рисовал атмосферу, события и переживания своего времени, не прибегая к воображению. В отличие от Тикамацу, который знакомил читателей с прекрасными чувствами и переживаниями своих героев, Сайкаку писал о людях только «голую правду».
Басё, обсуждая хайбун (проза в стиле хайкай), отмечал, что, «глядя на хайбун, я замечаю: иногда китайские выражения смягчены при помощи каны (японской силлабической азбуки), иногда в вака, как в прозе, примешано китайское произношение, вследствие чего слова становятся грубыми, а выражения пошлыми, и, говоря о человеческих чувствах, . . . опускаются до уровня Сайкаку, который описывает все что попало. У сочинений нашей школы должен быть четкий план, и даже в случае заимствования китайских выражений следует делать это гладко и изящно. Свежесть необходима, даже если вы пишете о низменных вещах».
178
Сайкаку всматривался в горькую действительность и без колебаний откровенно ее описывал, не заботясь об изяществе. Он никогда не пытался представлять грубое прекрасным. В этом отношении он был реалистом в самом современном смысле. При виде своих опьяненных чувственными наслаждениями современников он не испытывал ни удивления, ни отвращения.
Все это воспринималось им как один из интересных аспектов жизни народа. И сам он часто спокойно ходил, покрытый пылью, среди этой толпы, танцевал или развлекался вместе в ней. Басё стремился бежать от нее, чтобы наблюдать за ней со стороны, из тихого закутка. Сайкаку же оставался до конца одним из этих людей, человеком эры Гэнроку, точно таким, какими были многие великие английские литераторы елизаветинской поры или же его современники — писатели периода Реставрации. Возможно, подобно Джорджу Бернарду Шоу, он мог бы написать о жизни: «Только общаясь с мужчинами и женщинами, мы можем что-то узнать о жизни. Для этого необходимо вести жизнь активную, а не созерцательную, потому что, если вы ничего не совершаете, у вас не может быть с людьми никаких близких отношений. И вы должны заключать сделки, участвовать в закулисных политических махинациях, беседовать о религии, ощущать на себе и испытывать к самым разным людям ненависть, любовь и дружбу, прежде чем сможете приобрести чувство гуманности. Если вы хотите накопить достаточно опыта, чтобы стать философом, следует безоговорочно поступать именно так».
Если учесть беспечный и часто распутный характер торгового сословия в период Гэнроку, то не удивляет, что литература стала более грубой и простонародной. Тех, кто искал удовольствий в мишурном мире, изображали точно такими, какими они и были. Как отмечает Фудзии, «Сайкаку был одним из безумно кружившихся в вихре танца. С одной стороны, он наслаждался миром, где гонялись за наслаждениями, а с другой — занимал позицию постороннего наблюдателя и хладнокровно взирал на человеческие слабости и пороки. Басё был пессимистичным оптимистом, удалившимся от веселого и аморального мира. Странствуя среди природы и наслаждаясь тишиной, он издалека распознавал прекрасные черты человеческого характера и светлые стороны человеческой жизни. Сайкаку же можно назвать оптимистичным пессимистом, который вел веселую жизнь, замечая при этом темные стороны жизни. Сайкаку жил настоящим и вполне бы мог сказать: ,,Мы не знаем, что нас ждет. Ни на бога, ни на Будду рассчитывать нельзя. Давайте жить весело и счастливо"». Он разделял философские взгляды Омара Хайяма.
12'
179
«Если сравнить его с Тикамацу, то Сайкаку описывает события просто, не добавляя ни воображения, ни чувства, моральные критерии у него отсутствуют. Тикамацу поэтизировал факты при помощи воображения и придавал им моральный оттенок. Когда мы слышим Сайкаку, он представляется нам саркастическим мирянином. Когда же мы слышим Тикамацу, у которого так много теплой симпатии, его речи кажутся нам наставлениями благородного, умудренного жизнью старца.
Однако Сайкаку с его острой наблюдательностью и мощной выразительностью занимает одинокое место в истории японской литературы. До эпохи Гэнроку мы еще не можем говорить о существовании настоящих новелл. В одних объяснялись популярные учения, делалась попытка объединить конфуцианство, буддизм и синтоизм. Другие же были художественными путеводителями по знаменитым местам. Такими были, например, „Урами-носукэ" и „Уцуюки моногатари" 7, но темы их были наивными, а стиль — формалистическим, изобилующим прилагательными. Во многом они напоминали рассказы эпохи Асикага и были малоинтересными. Но появился Сайкаку, который отказался от старой формы. Описывая современное ему общество разговорным языком улицы, он создал новые новеллы, наполненные жизнью и реализмом. В этом и есть величие Сайкаку».
Как мы увидим дальше, развитие подобной литературы благодаря колоритной и живой манере Сайкаку не только сыграло значительную роль в том, что литературные вкусы читателей отвратились от старых классических образцов, но и проложило дорогу народной драме, первоначально развивавшейся в форме дзёрури и кукольных пьес. Сайкаку, который пытался превзойти своего блистательного современника Тикамицу, тоже внес свой вклад в драматургию, но это театральное использование популярных тем основывалось на заимствованиях из популярных прозаических историй и простонародных романов, начало которым положил он сам и другие, подобные ему писатели.
Сайкаку занимает весьма определенное место в истории японской литературы. Дитя только что возникшего торгового сословия и поднимающегося класса простолюдинов, он был выдающимся выразителем новых идеалов, новых нравов и морали своей эпохи. Он не был только зеркалом своего времени, модной стандартной стекляшкой. Эпоха способна сформировать человека, но и человек может воздействовать на эпоху. В том и заключается его величие, что он был способен это делать.
Сайкаку сделал классическую форму стихосложения хайкай разговорной; опустил ее с вершин Парнаса до уровня простых людей. Возможно, тем самым он ее испортил, но она и по сей день живет. Сделав жанр хайкай более земным, он способствовал росту его популярности.
180
Потом Сайкаку занялся театральной критикой, или коммен-таторством, и положил начало жанру, который стал неотделимым компонентом драмы. Комментарии, которые, в сущности, представляли собой всего-навсего личные впечатления Сайкаку, не только превратились в бесценные анналы истории японского театра, сохранившейся и увековеченной в хёбанки, но, несомненно, оказывали также непосредственное влияние на качество представлений и развитие театра. Они широко читались, и благодаря им театральная публика испытывала к актерам — якуся — более жгучий и критический интерес. Учитывая подготовленность зрителей, сами актеры, главная цель которых — понравиться, должны были с повышенной тщательностью следить за' своим искусством. Таким образом, зрители Кабуки стали столь же требовательными, сколь критичными были даймё на представлениях театра Но.
Однако величайшей заслугой Сайкаку является обновление им народного романа. Оставим в стороне то неудачное направление, которое приняла эта литература в соответствии с требованиями эпохи. Действительно, произошло высвобождение долго сдерживаемой энергии, открытие новых средств выражения, избавление от вековых жестких ограничений. Вполне естественно, что вновь обретенная свобода на некоторое время вылилась в невоздержанность, которой воспользовались многие менее достойные подражатели. Но при помощи официальных декретов и контроля эту аномалию удалось исправить, и с течением времени маятник вернулся из крайней точки в нормальное положение. Успех любых реформ определяется крайними мерами на начальной стадии, и Сайкаку нужно было резко разорвать путы классических традиций, против которых он взбунтовался. Это привело к открытию нового литературного мира, мира народной художественной литературы, единственными образцами которой были пяти- шестивековой давности сочинения придворных дам Мурасаки и Сэй Сёнагон 8.
Главная заслуга Сайкаку была в том, что он открыл новый жанр в литературе, которому Тикамацу придал драматургическую, или театральную, форму. Он учел появление в XVII в. печатных и иллюстрированных книг для простого народа, увеличение числа школ и распространение образования, рост богатства, наличие свободного времени и тягу к развлечениям и воспользовался всем этим. В литературе он сделал то, что художникам вскоре предстояло совершить в области ксилографии и цветной гравюры — он поддерживал «зеркало изменчивого мира» и в доступной форме рассказывал о жизни простого народа. Сайкаку открыл врата великолепного периода народной культуры Гэнроку. Он запечатлел в литературе картину общественной жизни горожан своей эпохи, пусть даже не-
181
сколько преувеличенную или нарисованную в неприятных тонах. Он был подлинным хроникером «позолоченного» века.
Последующие поколения простят ему ошибки, но они не смогут не заметить чарующее великолепие былых времен. Сегодня более зрелый критик осудит пороки разбогатевших выскочек, создавших эпоху Гэнроку, но не сможет игнорировать тех, кто предоставил на потребу простому народу культурное наследие, когда-то являвшееся исключительно достоянием знатоков или аристократов. Ихара Сайкаку открыл шлюзы и выпустил накопившуюся воду.
VIII. ТИКАМАЦУ
МОНДЗАЭМОН
ПЕРВЫЙ ПЕРИОД:
УЧЕНИЧЕСТВО
И ВАССАЛЬНАЯ СЛУЖБА
Тот, кто на протяжении полувека поставляет здоровые развлечения и увеселения населению большого города, вполне достоин права на признание. Более того, тот, кто облекает эти развлечения в подлинно художественную форму и создает истории, песни и пьесы непреходящей ценности, вполне достоин быть увенчанным лавровым венком. Такой человек — настоящий филантроп. Эндрю Флетчер писал, что «сочинителям баллад не приходится ломать голову над вопросом — кто же должен устанавливать законы в стране», а автор дзёрури — японских средневековых эпических сказаний, исполняемых под аккомпанемент струнных инструментов, мало чем отличается от такого сочинителя баллад. И наконец, тот, кто создал театральный жанр, на протяжении более столетия пользовавшийся огромной популярностью, доставляя удовольствие целому народу, и не исчезнувший даже по прошествии трех столетий, несмотря на конкуренцию бесчисленных нововведений, вполне может считаться благодетелем значительной части человечества.
Таким был Тикамацу Мондзаэмон — крупнейший драматург и увеселитель Японии. Его истории «отвлекали детей от игр, а стариков выгоняли из запечных уголков». Благодаря его гениальной популяризации кукольной драмы и приданию им свежести театру Кабуки Япония обрела один из своих самых неувядаемых и наиболее своеобразных видов искусства.
Он прочно занял место в сокровищнице японской литературы и драматургии, а некоторые его произведения до сих пор можно увидеть на сцене. Также общепризнано его влияние, как экспериментатора и новатора, на развитие литературных форм XVII в. И в то же время странно, что при изучении биографии этого человека мы сразу же сталкиваемся со множеством легенд и вводящих нас в заблуждение сомнительных фактов, почти столь же значительных, как те, что уже много веков окутывают сам факт существования. Гомера и даже вызывают сомнения в реальности личности. Шекспира или авторстве его пьес. Тикамацу был, бесспорно^ реальным историческим лицом, автором великолепных пьес;.некоторые события и даты известны
183
точно, но его происхождение, некоторые моменты его биографии и даже место его погребения до сих пор являются предметом спора японских ученых, скрупулезно изучавших эти проблемы.
Но, несмотря на все неясности, — а возможно, даже именно из-за этой тайны — жизнь и творчество Тикамацу многие десятилетия привлекает к себе внимание японцев.
Тикамацу является фигурой эпохальной. Хотя его кукольные драмы, подобно пьесам о Пиноккио, сейчас почти исчезли, тем не менее нельзя игнорировать место, которое он, бесспорно, занимал в истории японской литературы и театра. В свое время он был в Японии столь же признанным и значительным человеком, как во Франции —/Мольер, а возможно, даже как Шекспир в Англии Его вклад в японскую литературу и драматургию, прямое или косвенное влияние, вдохновлявшее многих мастеров последующих веков, давали Тикамацу все основания ощущать, что усилия любви не тщетны, а вернее — он мог бы сказать:
«Изощряйся, ум! Строчи, перо!
Я расположен заполнить целые фолианты!»2.
|Мы даже можем отметить, что он, подобно Браунингу или Шекспиру, сам стал героем пьесы, что может быть или не быть поэтическим оправданием. Подобно «Беретам с Уимпол-стрит» или «Уиллу Шекспиру», в современной Японии существует популярная пьеса для Кабуки, написанная Кикути Кан «Любовь Тодзюро», где фигурирует и Тикамацу, поскольку речь идет о Саката Тодзюро, актере, для которого он в основном писал.
Тикамацу, или, если называть его настоящим именем, Су-гимори Нобумори (Синсэй), родился в 1653 г., хотя даже трехвековые изыскания японских ученых не прояснили вопрос о его происхождении. Подобно Гомеру, право считаться местом рождения которого оспаривают семь городов, место рождения японского драматурга остается тайной, равно как и девять возможных мест его погребения 3. Один из современных ученых, Мия-мори, считает наиболее вероятным местом его рождения Хаги в провинции Нагато. Многие крупные специалисты, приводя другие доводы, считают, что он родился в Киото.
Точно так же существует несколько мнений и о его родословной. По-видимому, наиболее общепринятой является точка зрения, что он — потомок крупного феодального рода Сугимори из Осака. Самым древним предком этого семейства был Сандзё Самми Тюдзё Санэцугу. В пятом колене рода Сугимори некий Сугимори Итибэй Нобусигэ был вассалом великого японского военачальника и государственного деятеля Хидэёси и его сына Хидэёри, после чего служил правителю Едо, Инаба Мино-ноками. Второй сын Сугимори Нобусигэ — Нобуёси — был отцом Тикамацу. Нобуёси являлся вассалом Сайсё Этидзэна, но
184
позднее стал ронином, т. е. «бродячим самураем» 4. У него было три сына: Томоёси, который стал вассалом Ода Нагаёри; Корэ-цунэ, приемный сын Хираи Дзина, личного врача Нагаёри, избравший своей профессией медицину; и средний сын Суги-мори Нобумори, который позднее принял театральный псевдоним Тикамацу Мондзаэмон 5.
Таким образом, мы видим, что Тикамацу, вероятно, был выходцем из самурайского сословия и унаследовал традиции этой привилегированной страты японского общества. Хотя он отказался от военного ремесла своих самурайских предков, вероятно, в юные годы сохранял связи со знатью в качестве служилого вассала. Сохранилось его знаменитое «Предсмертное послание» (дзи-эй) — стихотворение или краткая записка, которую в старой Японии обычно писали на смертном ложе люди с литературными наклонностями. В ней говорится: «Я родился в семье воина, но, порвав связи с классом самураев, я служил более чем одному благородному дому».
ИЗУЧЕНИЕ КЛАССИКИ
Традиционно считается, что в юные годы, вероятно еще не достигнув 19-летнего возраста, Тикамацу покинул родительский кров и, как это было принято у молодых людей из самурайских семейств, отправился изучать буддизм. Можно только предполагать, где прошли его ученические годы. Высказывается мнение, что молодой Сугимори Нобумори жил в храме, название которого как-то связано с принятым им впоследствии именем — Тикамацу Мондзаэмон. Так, согласно «Кана Сёсэцу», в бытность будущего драматурга в храме Кинсёдзи (Гонсёдзи) в Карацу (пров. Хидзэн) один из священников этого храма совершил преступление и был казнен у ворот (мон), из чего некоторые делают предположение, что, поскольку слова кинсё и Тикамацу изображаются одними и теми же китайскими иероглифами, а в состав слова Мондзаэмон входит иероглиф ворота, он принял этот псевдоним в знак предупреждения. С другой стороны, в «Кию сёран» утверждается на основании тех же доводов, что Тикамацу взял для своего имени иероглифы, входившие в название храма Кинсё-ин, принадлежащего знаменитому монастырю Миидэра в Мии (пров. Оми), что подтверждало бы версию о том, что он родился в Коею (Оми). Однако в действительности само существование храма сомнительно и вопрос о происхождении его norn de plurne 6 остается спорным.
Следует помнить, что в это время правящие классы Японии все еще находились под влиянием первого великого сегуна ди
185
настии Токугава — Иэясу, умершего в 1616 г.; сегуном стал его сын Хидэтада. Иэясу был крупным феодалом, напоминающим великодушных европейских деспотов XVIII в. Как мы уже отмечали, он был выдающимся реформатором, создателем феодальной системы и сёгунской формы правления, в основе которых лежали правильная администрация, мир, процветание и сравнительно высокая общественная мораль — по меньшей мере среди самураев — принципы, остававшиеся неизменными на протяжении более 250 ле§\ Мало того, Иэясу подавал пример в изучении литературы и в отношении к буддийской вере, которому следовали его потомки на протяжении нескольких поколений и после его смерти. В августе 1615 г. был принят кодекс законов, известный как «Правила для императорского двора и придворной знати» («Кинтё нараби-ни кугэсю сё-хатто»), первая статья которого гласила, что «учение есть главное достоинство человека. Не учиться — значит быть несведущим в учениях древних мудрецов, и еще ни один неграмотный правитель не мог успешно управлять своим народом». Один японский историк написал в «Токугава дзидайси»^ что «Иэясу ценил литературу выше военного искусства. Он сам подавал пример в учении и при содействии многих ученых заложил прочный фундамент мира. Местным феодалам приходилось следовать его примеру. Необходимость поступать именно так казалась для людей менее значительных достаточно убедительной». Таким образом, его огромная любовь к литературе и требование изучать древние классические книги передавались из поколения в поколение как основное условие правильного правления, поэтому его последователи содействовали созданию школ и библиотек и в Киото, и в новой столице Эдо. Более того, в течение некоторого времени не только конфуцианство, но и буддизм пользовались официальной поддержкой: усилились храмовые организации, возросла роль священников, и, подобно средневековой Европе, монастыри по-прежнему являлись центрами учености, где создавались серьезные произведения. Первая полная история Японии, озаглавленная «Хонтё цуган», состоящая из 300 томов и охватывающая период от эры богов до 1600 г., была составлена Хаяси Радзаном и его сыном Сюдзаем в 1635 г., всего за 18 лет до рождения Тикамацу.
Четвертый сёгун, Токугава Иэцуна, правивший страною с 1642 г. до своей болезни в 1680 г., продолжал традиции Иэясу, считая, что литература и военное искусство должны быть основным занятием самураев и аристократов. Цунаёси, которому предстояло в 1680 г. сменить своего отца Иэцуна на посту сегуна, родился в 1646 г., так что он был всего на семь лет старше Тикамацу. По требованию отца он досконально изучил литературу и классические сочинения и был настолько увлечен сво
186
ими занятиями, что даже в дни болезни находил забвение в книгах. Превыше прочих этических систем он ценил учение Конфуция и даже в зрелые годы сохранил привычку посещать лекции с толкованием китайских классиков. Он поощрял изучение полезных книг, строительство буддийских храмов и конфуцианских святилищ.
Конечно, сегунам подражала их придворная знать, им — даймё, чиновники низших рангов, или куга 1, а тем, в свою очередь, — их вассалы. Поэтому для того периода характерно несомненное уважение и почтительное отношение высших сословий к классическим и этическим изысканиям. Так как Тикамацу воспитывался в этой среде, совершенно естественно, что ему пришлось, как было общепринято, продолжать образование в существовавших тогда учебных заведениях, каковыми в то время были преимущественно буддийские храмы и монастыри. Это представляется нам наиболее вероятным^ поскольку Тикамацу рано проявил интеллектуальный и литературный вкус и недюжинный талант.
БРАТ ТИКАМАЦУ — &РАЧ
По утверждению Фудзии, в «Сэтцу мэйсё-дзуэ» 8 говорится, что у будущего драматурга был старший брат Мунэнага, верховный священнослужитель храма Сококудзи, и младшая сестра Кинто, которая проживала в Осака, но о них нам ничего не известно. У него был также младщвй брат, известный под именем Иппоси, или Корэцунэ, который был врачом, в китайской школе в Осака.
Иппоси был одним из лучших учеников Сампаку Адзиока, но вынужден был расстаться с наставником из-за своего несносного характера. Тогда он начал писать трактаты и издал около 40 книг по медицине, таких, как «Сомон гэнки», «Ваго хонсо ко-моку» и «Хэнтё кокон ито» и десятитомное сочинение «Ходзё Токиёри-ки».
Годам к девятнадцами Сугимори Нобумори, вероятно устав от спокойствия буддийского затворничества, прибыл в Киото. В течение некоторого времени он жил вместе со своим младшим братом Иппоси (Корэцунэ), которого беспокоили мимолетные прихоти юноши, его праздная созерцательность и тяга к бесприбыльным литературным поискам, и он настоятельно советовал будущему драматургу заняться чем-либо другим и приобрести более полезную и серьезную профессию, положим, стать врачом. Благодаря своим сочинениям, этот брат считался в свое время признанным медицинским авторитетом, так что его усыновила семья Хираи Дзиана, личного врача феодала Ода
187
Нагаёри. Рассказывают, что, когда он посоветовал брату найти своему таланту более достойное применение, чем написание пьес для кукольного театра, Тикамацу ответил ему в духе Мольера: возможно, писать пьесы менее вредно, чем писать медицинские трактаты, поскольку в последнем случае опечатки или ошибки могут иметь для людей непоправимые и роковые последствия. Подобно Франсису Карлсу, брат мог бы сказать, что «изо всех людей самые счастливые — врачи; ибо каких бы успехов они ни добились, общество их осудит». И мы можем представить, как юный драматург с язвительной усмешкой отвечал: «О да, и к$кие бы ошибки они ни совершали, земля их скроет» 9. Медицинская практика — профессия благородная и предназначена для благородных; но после плохой пьесы опускается только занавес, а после плохого рецепта опускают шторы в доме умершего. На смену актерам приходят уборщики; а за доктором следуют могильщики. Так мог рассуждать Тикамацу, когда он сравнивал обе профессии, и поэтому продолжал писать свои пьесы, предоставив своему брату заниматься составлением рецептов.
Возможно, вследствие этого краткого знакомства с профессией Гиппократа Тикамацу приобрел некоторые познания в области естествознания и медицины, несколько большие, чем те, какими обыкновенно обладали обычный придворный или ученик священника. Возможно, какие-то отрывочные знания позволили ему высмеивать в «Календаре любви» женский промискуитет: «Посмотрите на диких уток и на уток-неразлучниц в пруду или же на ласточек, гнездящихся под карнизами. У них один самец совокупляется только с одной самкой, так ведется у всех тварей. Какая самка, за исключением собаки и кошки, приносит от разных отцов разномастных детей?» Возможно, в «Прекрасных дамах за поэтическими картами» слышится отзвук каких-то знаний по естествознанию, приобретенных им в бытность при дворе: «Я слышал, что синица, которую недавно подарил мне господин Кадоваки, может показать разные трюки, например пролететь через кольцо или принести воду, стоит лишь подать ей знак». Но уже что-то более профессиональное звучит в той же пьесе, когда беременная Карумо во время ухаживаний одного из своих любовников, предлагающего жениться на ней, чтобы спасти ее честь, говорит: «Следует мне благоразумно сделать аборт, или же позволите мне родить ребенка?». Тот отвечает: «Подобная процедура может оказаться опаснрй для матери, поэтому я против нее. Ради моей дорогой девочки я хотел бы, чтобы она родила легко и естественно». В «Самоубийстве влюбленных в Амидзима» Тикамацу упоминает о распространенном лекарстве для детей, которое тогда часто продавалось в Осака и изготавливалось по тай
188
ному корейскому рецепту. Уходящая мать взывает к своему мужу: «Не забывайте поутру давать им по маленькой пилюле Куваяма, еще до сладких лакомств, только-только они проснутся» — достойное врача наставление по соблюдению предписаний. В «Девушке из Хаката» он напоминает зрителям об еще одном предрассудке, распространенном среди простого народа, когда говорит: «А солома лечит ноги от лома, от онемения». Вероятно, слушателям был знаком обычай прикладывать ко лбу рисовую солому, чтобы устранить онемение ноги.
Таким образом, тут и там, во всех своих произведениях он облекает собственные отрывочные знания в какой-нибудь легкодоступный рассказ и включает в текст пьес все те немногие научные сведения, которые, вероятно, были распространены в его время.
ПОЭЗИЯ И ДРАМАТУРГИЯ
Примерно в то же время, когда ему было лет девятнадцать-двадцать, о нем впервые услышали и как о поэте. Опубликованная в Киото книга под названием «Такарагура» («Сокровищница») представляла собой сборник стихотворений авторов, проживающих в императорской столице. В этой антологии появились и хайкай Тикамацу. Вероятно, он тоже поддался модным среди его самурайских покровителей и наставников увлечениям. Нитобэ Инадзо упоминает о широко распространенном методе, предназначенном воспитывать утонченность вкусов. «Искусство стихосложения поощрялось якобы затем, чтобы выразить, а в действительности, чтобы воспитать у них более изящные чувства. Поэтому в нашей поэзии существует сильное подводное течение, сочетающее в себе пафос с нежностью. Хорошим примером этого является известный анекдот об одном неотесанном самурае. Когда ему велели заняться стихосложением и в качестве темы для первого задания предложили „Мелодии певчих птиц", его пылкая натура взбунтовалась, и он бросил к ногам своего учителя такое неуклюжее творение:
„Храбрый воин избегает Тех, кто способен слышать Трели певчей птицы".
Его наставник, не обескураженный проявлением грубых чувств, продолжал вдохновлять юношу до тех пор, пока однажды в душе того при звуке сладостного пения соловья не родилась музыка и он не написал:
„Стоит воин, сильный, в доспехах, Слушает песнь соловья, Скупо разливающуюся среди деревьев"» [57, с. 49—50].
189
Слышал Тикамацу эту притчу или нет, но его ранняя попытка попробовать свои силы в сложении стихов не шла вразрез с занятиями более достойными для мужчины его сословия, а вполне соответствовала принятому среди самураев кодексу морали и благородства.
Примерно в этот же период, с 1671 по 1672 г., будущий драматург снова поступил на самурайскую службу. Как уже говорилось, в своем «Предсмертном послании» он упоминает о том, что служил более чем одному благородному дому. Фуд-зии, современный биограф, отмечает, что, покинув дом брата, он поступил на службу в знатную семью Итидзё, где познакомился с обычаями и обрядами аристократии (если к тому времени он еще не был полностью в них посвящен) и в особенности с классическими пьесами Но и их древней традицией. Эти знания необычайно ему пригодились для некоторых ранних произведений, в которых ощущается влияние Но. Фудзии полагает, что, когда Тикамацу порвал свои связи с этим торжественным театром, он, продолжал считать себя многим ему обязанным,
В анналах того времени говорится, что Тикамацу также служил у придворного вельможи Огимати, если, конечно, речь не идет об одном и том же человеке/, упоминаемом под разными именами. В старинной хронике «Окинагуса» («Записки старика») упоминается о том, что «в юности Тикамацу служил у господина Огимати, придворного киотоского вельможи». Этот человек, прославленны^ автор юмористических стихов, писал также пьесы для декламатора дзёрури Удзи Kara. Тикамацу приходилось отправляться с поручениями к. этому сказителю^ Обладая литературным талантом, Тикамацу иногда помогал своему хозяину в сочинении пьес. Позднее именно он уговорил Гидаю,. старшего ученика- Kara, выработать ровный стиль декламации, который получил наименование «стиль Гидаю», и начал сам писать пьесы для Гидаю.
Поэтому мы встречаем его в компании знатного хозяина, поэта-юмориста и автора пьес для кукольного театра, и хорошо известного, исполнителя пьес Kara. Тогда, по-видимому, начался его интерес к театру и связь с этим миром. Как отмечалось^ он уже пробовал писать стихи в жанре- хайкай и одно из его стихотворений удостоилось чести быть включенным в киото-скую антологию.. Вполне возможно, что примерно в это же время он выполнял обязанности рабочего сцены: иногда стучал в деревянные колотушки, оповещая о начале и конце действия и сцены в японской драме или же для сопровождения хора, иногда же помогал при ремонте сценического реквизита. Это было в театре Кабуки — Мияко Мандаю-дза в квартале Сидзё (Киото). Точно неизвестно, служил ли он там до того, как
190
в 1677 г. была поставлена его первая пьеса, или же это было следствием признания успеха, завоеванного молодым драматургом.
В любом случае, после нескольких лет службы среди придворных аристократов, где он усвоил обычаи и традиции этого сословия и приобрел хорошие познания как в классических пьесах Но, так и в пьесах для кукольных театров, подобных тем, что писал его сюзерен Огимати, мы видим, что он полностью окунулся в драматургию Кабуки и на личном опыте познакомился со сценической техникой, которая „на протяжении всей последующей карьеры драматурга безупречно ему служила.
Подобно Шекспиру, он, вероятно, даже исполнял на сцене второстепенные роли, только после этого, возможно, и принял театральный псевдоним Тикамацу Мондзаэмон. Происхождение этого имени не совсем понятно. Уже говорилось., что, возможно, он положил в его основу название одного йз буддийских храмов, в котором был послушником. Но Фудзии также замечает, что актеры и раньше пользовались этим именем. Среди актеров театра Мандаю-дза -были Тикамацу Кэнносукэ, Тикамацу Кёно-сукэ и Тикамацу Умэносукэ, хотя неясно, использовалась ли эта фамилия ими до того, ткак ее принял Жондзаэмон, или же все они входили в «школу», названную так в честь Мондзаэмона. Среди учеников прославленных актеров существовал ,(.и .существует до сих пор) обыадй принимать фамилию или название «школы» своего учителя. Обычно перед смертью учитель сам выбирал из группы учеников самого любимого, которому предстояло стать преемником и принять имя учителя. Таким образом, после смерти Тикамацу Мондзаэмона среда «го учеников, писавших для Такэмото-дза в Осака, мы находим Тикамацу Хандзи (1724—1783)., который принял это имя, потому что унаследовал «школу» Тикамацу, равно как Тикамацу Токусо (1758—1810), ученика Хандзи, и еще одного автора пьес для кукольного театра — Тикамацу Янаги. Поэтому неясно,, кт© же был первым носителем этой фамилии.
Итак, юный драматург оказался в новой среде и на новом поприще. Будучи отпрыском самурайского рода и вассалом нескольких знатных домов, связанных с императорским двором в Киото, он не только хорошо знал аристократическую среду, ее увлечения и привычки, но и прочно усвоил классические традиции императорского двора, его этикет, литературу и драму Но.. Традиции и нравы этого круга, которые великолепно описала Мурасаки в «Гэндзи-моногатари» («Повести о Гэндзи»), за последующие пять веков мало изменились т. В результате обучения в храмовой школе Тикамацу приобрел глубокие познания в области буддийской философии и религии своего времени. Благодаря общению с драматургами, поэтами, исполнителями дзёрури и актерами его природный литературный талант стимулировался людьми искусства и театра, с которыми он встречался в возрасте от двадцати до двадцати пяти лет. Таким образом, он прошел хорошую школу, подготовившись к будущей творческой жизни, и обладал всем необходимым, чтобы внести великий вклад в блистательную эпоху Гэнроку, которая была не за горами.
IX. ТИКАМАЦУ МОНДЗАЭМОН
ВТОРОЙ ПЕРИОД: ДРАМАТУРГ ТЕАТРА КАБУКИ
Тикамацу-драматург согласился бы с Шекспиром, что «весь мир — театр». Во всяком жизненном аспекте он находил темы для своих драм; не связанные между собой повседневные события немедленно вплетались им в готовый сюжет; какие-то случайные знакомые становились героями пьесы; уличные вывески представлялись ему декорациями; жизнь окружающих людей служила материалом, который можно было использовать в пьесе, где он мог совместить солнечный свет комедии, тень трагедии, религиозное или моральное прозрение, жалящие стрела сатиры или вспышки юмора.
Ко мы можем также допустить, что по крайней мере некоторое время Тикамацу казалось, что «театр — это весь мир». Он сам стал частью этого мира имитации и приспособления; 'театр представлялся ему крохотной вселенной, а подмостки — личным владением. Как отмечалось, когда-то в юности он был связан с театром Кабуки в Киото. Он сидел за кулисами, откуда следил за представлением и в нужные моменты прерывал его звуком деревянных колотушек. Позже он заведовал театральным реквизитом и был рабочим сцены. В «зеленой комнате» 1 и в тесном мире профессиональных актеров Тикамацу чувствовал себя как дома. Мир представал ему в виде сцены, на которой под огнями рампы публика созерцает драматические сцены из подлинной жизни. В то же время сцена представлялась ему особым миром внутри мира, только ограниченным рампой. Его талант, как и Шекспира, заключался в умении видеть нечто театральное в настоящей жизни и одновременно ощущать, что настоящая жизнь для него — в мире театра.
В 1677 г. Расин создал, пожалуй, самую знаменитую из своих пьес — «Федру». К сожалению, она оказалась лебединой песней Расина, ибо в возрасте всего тридцати восьми лет, скорее на пороге, чем в зените своей славы, он забросил занятия драматургией (хотя и создал ещ* два менее значительных произведения), ушел от мира и жил в религиозном затворничестве.
Судьба Тикамацу сложилась инапе. За спиной у него уже был период буддийского ученичества, в который он начал (тоже
I * 5аказ 1438 193
подойдя к порогу своей славы) поразительную карьеру драматурга в тот самый год, когда Расин отрекся от театра. В 1677 г. в возрасте двадцати пяти лет Тикамацу дебютировал как драматург. Его первая пьеса для Кабуки, озаглавленная «Злой дух госпожи Глицинии», была поставлена в Киото в театре Мандаю-дза крупным реалистическим актером Саката Тодзюро. Пьеса изобиловала поэтическими образами и символикой и поражала зрителей своей новизной: в ней дух ревнивой придворной дамы по имени Фудзицубо (по мнению некоторых, императрицы из дворца Кокидэн) появлялся из цветка глицинии и превращался в огромную змею. Пьеса пользовалась большим успехом, и публика восторженно кричала: «Мондзаэмон! Мондзаэмон!», приветствуя молодого драматурга, который к тому времени уже принял это имя [81, с. 218].
К сожалению, эта пьеса не сохранилась и пребывает ныне в том таинственном складе исчезнувших произведений, где должны храниться стихотворения Сафо, посвященный французской революции роман Шелли «Губерт Ковин», интимные «Мемуары» Гейне, «Воспоминания» Байрона, изданная на собственные средства книга Лафкадио Хёрна «Аромат женщин» и блистательно переведенное Ричардом Бёртоном с арабского сочинение Нафзави «Услаждающий душу благоухающий сад», который леди Бёртон предала огню. В отличие от «Французской революции» Вальтера Скотта и «Семи столпов мудрости» Т. Э. Лоуренса, которые погибли, но были воссозданы, или стихотворений Россетти, в том числе цикла сонетов «Дом жизни», которые были извлечены из могилы его супруги, после того как пролежали там семь с половиной лет, первую снискавшую успех пьесу Тикамацу так и не удалось обнаружить. Правда, позднее та же самая тема была поднята им в пьесе дзёрури «Кокидэн У-но хана Убуя».
Создание первой пьесы знаменует начало второго из трех периодов, на которые условно можно разделить жизненный и творческий путь Тикамацу. Первый этап продолжался до 25-летнего возраста; он изучал буддизм в одном из храмов; в качестве вассала служил в одном или нескольких благородных домах, связанных с императорским двором; непродолжительное время провел в доме своего брата-врача; работал в театре; установил дружеские отношения с разными поэтами и драматургами и начал экспериментировать в области поэзии и драматургии.
Во второй период своей жизни, продолжавшийся двадцать семь лет, пока ему не исполнился пятьдесят один год, Тикамацу писал пьесы преимущественно для театра Кабуки и в основном жил в Киото. В третий период, с 1705 г. и до самой смерти
194
в возрасте семидесяти одного года в 1724 г., он создавал пьесы дзёрури для кукольного театра в Осака.
Сотрудничество с Саката Тодзюро
С 1677 по 1704 г. Тикамацу писал пьесы для театра Кабуки, исполнявшиеся труппой Тодзюро и некоторыми другими актерами, хотя иногда обращался и к жанру дзёрури. «Точно неизвестно, — пишет Миямори, — сколько пьес он успел создать за эти двадцать семь лет, но ему приписывают авторство двадцати шести исторических и бытовых драм. Большинство из этих бытовых драм было сочинено для труппы Тодзюро, и, вероятно, он писал их с учетом основных особенностей двух-трех ведущих актеров этого коллектива. Таким образом, он следовал принципу всех прочих драматургов Кабуки, которые едва ли не шли на поводу у актеров».
По мнению одного крупного специалиста по Кабуки, в то время ведущим драматургом, творившим в Осака для театра Кабуки, был Фукуи Ягодзаэмон, написавший в 1664 г. пьесу «Хинин-но адаути» («Месть нищего») 2. До той поры все пьесы были исключительно одноактными, как того требовала условность театра Но, существовавшего задолго до появления Кабуки. Разрыв Ягодзаэмона со всей прежней традицией был воспринят как новаторство, и пьеса приобрела большую популярность. Продолжателем его дела был Канэко Китидзаэмон, творивший в период Гэнроку и проживавший в Киото. Он был актером докэгата, т. е. исполнителем комических ролей, и конкуренты подвергали его критике за то, что в своих пьесах основное место он отводил собственному амплуа. Впоследствии он вместе с Тикамацу писал для Саката Тодзюро. Их сотрудничество началось в 1699 г. в столичном театре Мандаю-дза и продолжалось десять лет, пока Тикамацу не решил попытать счастья в кукольном театре и не перебрался в Осака. К тому времени, когда Китидзаэмон написал два тома коротких рассказов об актерах под названием «Дзидзинсю» («Собрание пыли за целый год»), Тикамацу еще не стал знаменитым, и в этих анналах о нем говорится мало. Однако Китидзаэмон пишет в «Дзидзинсю» следующее:
«Однажды мы с Тикамацу собрали актеров в гакуя (уборной) и беседовали с ними о пьесе. Актеры, получившие хорошие роли, восхваляли пьесу, те же, кому роли не пришлись по душе, ничего не говорили. Кто был неспособен сам решить, хороша пьеса или нет, следили за реакцией других актеров и присоединились к большинству. Люди же невежественные и неспособные
13*
195
оценить хорошую пьесу сердились и, браня своих слуг, покинули гакуя, не попрощавшись.
В то время Тодзюро был дзамото, т. е. театральным режиссером, и если бы он не выразил своего мнения, молчали бы и все остальные. Обычно он обращался к актерам со словами: ,,А теперь, за дело! Готовьте хорошо свои роли", после чего удалялся. На следующий день актеры начинали репетиции. Четыре-пять дней они разучивали свои роли и, как только запоминали наизусть очередную пьесу, принимались за следующую. Когда же актерам дали эту новую пьесу, Тодзюро попросил еще раз ее ему объяснить, после чего не произнес ни слова по поводу своей роли.
По сюжету требовалось, чтобы герой, которого ему предстояло играть, носил башмаки на высокой деревянной подставке и широкую соломенную шляпу, поэтому Тодзюро приказал изготовить реквизит и, надев эти вещи, произнес: „Теперь дайте текст моей роли". Тикамацу передал ему текст. „Хорошая пьеса, — сказал Тодзюро, — мне так и показалось, когда я впервые ее услышал. Одни пьесы пользуются у зрителей большим успехом, другие — менее популярны. Хотя мне уже за пятьдесят, я не могу по достоинству оценить эту пьесу, не знаю, хороша она или нет. Если бы я умел заранее оценивать пьесы, то к настоящему времени уже добился бы невиданного успеха. Прежде чем начать заучивать роль, я надел гэта3 и взял в руки трость. Лучше попытаться понять пьесу прежде, чем ее критиковать"» [43, с. 235].
Именно в этот период драма Кабуки стала народным искусством и сделала большой скачок вперед. Были сделаны усовершенствования в сценическом оборудовании и реквизите, большой прогресс наблюдался в мастерстве и технике исполнительского искусства. Появились великие актеры. В императорской столице Киото к их числу относился Саката Тодзюро, а в Эдо, где проживал сёгун, — Итикава Дандзюро Первый.
Основоположник реалистической школы Саката Тодзюро родился в 1645 г., а умер в 1704 или 1709 г. Его предки были родом из северной провинции Этиго, а отец являлся владельцем театра в Киото. Тодзюро был самым крупным актером Киото и Осака периода Гэнроку. В течение многих лет он был звездой киотоского театра Мандаю-дза, но подлинная слава пришла к нему после исполнения роли Идзаэмона, любовника Югури. Югури была куртизанкой из «веселого квартала» Симабара в Киото, затем жила в знаменитом заведении «Огия» в Осака, в квартале Симмати. Первоначально она стала героиней одноактной пьесы, но Тикамацу создал шедевр «Кэйсэй ава-но наруто», в основу сюжета которого положил историю любви Идзаэмоьа и Югури. В эпоху Гэнроку эта пьеса испол
196
нялась 18 раз и всегда собирала многочисленных зрителей; роль Идзаэмона неизменно играл Тодзюро. В исполнении Тодзюро наиболее удачно получались торговцы, и он чувствовал себя свободнее, когда играл людей из народа, а не аристократов. Ему лучше удавалось выступать в бытовых драмах, а не в исторических, которым отдавал предпочтение Итикава Дандзюро. Тодзюро же охотно брался за роли в пьесах из жизни «веселых кварталов», которые пользовались огромным успехом у публики в эпоху Гэнроку.
Продолжая традиции классического театра Но, Тикамацу также создал немало серьезных пьес на исторические темы, поскольку именно они обычно привлекали тех самураев, которые считали допустимым посещать театр или смотреть театральные постановки на частной сцене. В этих героических пьесах прославлялся самурайский кодекс бусидо, воодушевленно воспевались благородные герои, способные на месть, отвагу и великодушие. Они должны были взывать к воинственному духу представителей высшего сословия и даже сейчас, благодаря восхваляемым в них мужеству или моральным качествам, находят отклик у японских зрителей всех сословий. Полученное Тикамацу в самурайской среде воспитание как нельзя лучше помогало ему при разработке этих исторических сюжетов. О повсеместной значимости подобных тем упоминает Нитобэ Инадзо в своей книге «Бусидо»: «В период расцвета рыцарства в Европе в численном отношении рыцари составляли очень небольшую часть населения. При этом Эмерсон отмечал, что в половине английских пьес и почти во всех романах, от Филиппа Сидни до Вальтера Скотта, присутствует эта фигура (благородного воина). Замените Сидни и Скотта именами Тикамацу и Бакина, и вы в нескольких словах получите краткую характеристику литературной истории Японии. Народ имел бесчисленное количество способов развлекаться и одновременно получать информацию: театры, кабинки рассказчиков, помосты проповедников, декламация под музыкальное сопровождение, романы — и всегда в основе сюжета лежали истории о саму- _ раях. Крестьяне, собиравшиеся в своих хижинах ,,у камелька", не уставали повторять рассказы о подвигах Есицунэ и его верного вассала Банкэя или о двух отважных братьях Сога; черномазые уличные мальчишки слушали, разинув рот, пока не догорало последнее полено и не гасли тлеющие угли, и только в их сердцах еще продолжала пылать только что услышанная история. Приказчики и продавцы, затворив по окончании рабочего дня амадо4 своих лавок, собирались вместе, чтобы до поздней ночи рассказывать истории о Нобунага и Хидэёси, и после нудной работы за прилавком они переносились на поля сражений, пока от усталости их не начинало клонить в сон.
197
Самому крохотному малышу, едва он начинает что-то бормотать, родители рассказывают о приключениях Момотаро, отважного покорителя страны великанов. Даже девочкам внушается такая сильная любовь к деяниям благородных рыцарей, что они, подобно Дездемоне, совершенно серьезно, жадно внимают романтическим историям о самураях» 5.
Бытовые драмы
В силу определенных обстоятельств Тикамацу помимо исторических ^драм попробовал себя и в новой для него области бытовой драмы. Этого требовала сама эпоха, так как целые толпы среднего городского сословия начали посещать театр. Гамлет говорил о театрах, что «цель, как прежде, так и теперь, была и есть — держать как бы зеркало перед природой» 6.
Пока зрители воспринимают театр как зеркало мира, популярностью пользуются изображаемые на сцене рядовые события из повседневной жизни. Кроме того, и в литературе, и в искусстве, и в сценическом мастерстве в соответствии с требованиями времени наблюдался отход от классических условностей в сторону усиливавшегося реализма. Выразителем такой тенденции был Саката Тодзюро — по своему характеру актер совершенно реалистический. Как уже отмечалось, Тикамацу и другие драматурги того времени творили преимущественно с учетом специфики вкусов определенных популярных актеров.
Позволим напомнить, что популярность театра в Японии XVII в. зиждилась на столь же прочном фундаменте, как и английского театра в XVI в. Именно об английском театре писали, что «прочие общенародные развлечения, с которыми приходилось соперничать театру, были и менее литературными, и более грубыми. К числу популярных зрелищ относились публичные наказания; травля медведей и петушиные бои, происходившие в непосредственной близости от театра, собирали толпы зрителей; существовали кукольные представления и цирковые арены, на которых выступали акробаты, животные и уроды. Театр же был не дороже и не дешевле этих развлечений. И его столь необычная победа в этом соревновании объясняется тем, что он в отличие от всех прочих представлений позволял утолять страстную жажду — жажду познания истории. Театр давал пищу воображению, а также приводил зрителей в состояние своеобразного возбуждения, подобного тому, какое они испытывали во время петушиных боев и травли медведей. Театр являлся единственным удобным средством для распространения художественных произведений: ни журналов, ни ро
198
манов не существовало, а дешевых книг не хватало. Как указывал Клер Бирн, „основную массу предлагаемой публике театральной продукции составляли занимательные истории, калейдоскопические происшествия, многочисленные трюки с демонстрацией физической ловкости, всевозможные отступления от основной темы при сохранении общей атмосферы напряженности, — исходя из чего можно сделать вывод, что зрители направлялись в театр прежде всего, чтобы развлечься и получить удовольствие. Они испытывали наслаждение от увлекательной истории, которая трогала их чувства; от будораживших их музыки, танцев, шума и самого представления; от волнующего трепета в моменты наивысшего напряжения и кульминации; и наконец, от наблюдения за поступками героев пьесы, к которым они относились не с каким-то „праздным любопытством", а с чувством неизменно благожелательной моральной поддержки» [1, с. 130].
В сущности, это относится также к театрам Киото, Осака и Эдо. Во времена Тикамацу, как и во времена Шекспира, авторы творили, стремясь угодить своим хозяевам — зрителям. Они не были художниками в возвышенном классическом смысле этого слова, чуравшимися денег или вознесшимися на недосягаемые высоты. Они были драматургами, создававшими пьесы на потребу публике, за что получали щедрое вознаграждение: часто деньгами и — уж несомненно — аплодисментами. Таким образом очевидно, что сама аудитория во многом стимулировала создание пьес. Шекспира нередко осуждали — как его современники, так и недавно умерший английский поэт-лауреат Роберт Бриджес 7 — за вульгарность и дурной вкус или за то, что иногда он опускается до низкого художественного уровня [5]. Однако, подобно популярным современным кинофильмам, он старался приспосабливаться ко вкусам публики столичных или провинциальных театров. Как отмечал Клер Бирн, эта публика была представительной и разнообразной: «военные и их приспешники; молодые горожане, глуповатые или более смышленые; filles de joie 8; добропорядочные зеленщики с супругами; шумные подмастерья, которые встречали бурными аплодисментами любые технические новшества на сцене; ожившие „огородные пугала" и любители нюхательного табака; изредка попадались щеголи, ученые, остряки, деревенские чурбаны и степенные трудолюбивые горожане среднего достатка» [15, с. 215].
Японские зрители времен Тикамацу, несомненно, были иными. Подъем торгового сословия и возрастание роли горожан, особенно в таких городах, как Осака и Эдо, привели к появлению особой прослойки людей среднего класса; они жаждали развлечений, и театр давал больше пищи их уму
199
и сердцу, чем такие примитивные приманки, как интермедии, бродячие зверинцы или акробаты и жонглеры.
Именно поэтому Тикамацу и начал разрабатывать новый театральный жанр, который, подобно начинавшим входить в моду гравюрам, являл собой «зеркало изменчивого мира» — реалистические сцены из повседневной жизни соединялись в хорошо скомпонованный сюжет. Поэтому он поставил перед собой задачу создавать популярные пьесы, героями которых вместо привычных воинов и аристократов были бы лавочники, купцы, крестьяне и куртизанки. В этом он следовал новому образцу, уже ранее выдвинутому романистом Сайкаку, порвавшему с классической и аристократической традицией, чтобы писать для «неотесанных» горожан, и достигшему в этом жанре успеха, который в конечном счете вырос почти что в succes de scandale 9.
Хотя в то время (впрочем, как и на протяжении всего периода Токугава) Япония была лишена контактов с остальным миром, пребывала в полной изоляции и почти не испытывала внешних влияний, следует еще раз отметить удивительное сходство с ситуацией во Франции и Англии, так что придется допустить существование какого-то незримого духа времени — Zeitgeist. Например, Жан-Батист Поклен, известный под театральным псевдонимом — Мольер, после занятий философией и юриспруденцией и службы при французском дворе вступил в театральный мир, и в тот самый год, когда родился Тикамацу, создал свою первую комедию «L'Etourdi» 10. С того момента и до самой смерти в 1673 г. он писал сатирические произведения, обличавшие нравы и вкусы чопорной эпохи Людовика XIV, вызывая у зрителей веселье, жалость или симпатию, возмущая придворных и дворян, которых он безжалостно высмеивал, правда, вернув себе их благосклонность «Мизантропом» (1666 г.). В Англии Драйден, Уайчерли, а позднее Конгрив и другие писатели эпохи Реставрации, реагируя на пуританское межвластие, вывели на подмостки новую, популярную форму драмы: грубую, непристойную, реалистическую и раскованную, и на некоторое время она вошла в моду. Классические ограничения были отброшены. Поощрялась откровенная аморальность. Сатирическому осмеянию подвергались любовные похождения и интриги представителей высших сословий, жизнь людей выставлялась в комическом свете. Пьеса Драйдена «Все ради любви» была поставлена на сцене в 1677—1678 гг., одновременно с первой постановкой пьесы Тикамацу «Последний Новый год для Югири», рисующей жизнь куртизанки. По-видимому, на протяжении этого удивительного периода потоки драматургии текли параллельно.
200
«Последний Новый год для Югири»
Создавая почти ежегодно прекрасные пьесы для театров Киото с участием великолепного актера Тодзюро, Тикамацу стал все чаще пробовать свои силы в жанре баллад дзёрури, предназначавшихся для знаменитых чтецов Иноуэ Харима, Удзи Kara и особенно для Такэмото Гидаю. Пьесы были настолько безупречны, рассказчики исполняли их с таким мастерством, а искусство кукольного театра достигло столь высокого уровня, что постепенно кукольные представления превратились в соперника, способного серьезно подорвать популярность Кабуки. Со временем пьесы Кабуки начали обрабатывать и переделывать для кукольных театров Киото и Осака, и драматурги одним глазом наблюдали за обычной театральной сценой, а другим — за кукольной, подобно тому как современные романисты и профессиональные драматурги творят с учетом возможности впоследствии переделать свои произведения в киносценарии.
В 26-летнем возрасте Тикамацу создал свою лучшую бытовую драму для Кабуки — «Последний Новый год для Югири». Позднее тот же сюжет лег в основу его знаменитой кукольной драмы «Убийца женщины в аду кипящего масла», поставленной в 1721 г. И сюжет, и герои пьесы удивительно напоминают бытовую трагедию Джорджа Лилло «Лондонский купец», поставленную в Лондоне в 1731 г.п.
История Югири и ее любовника Идзаэмона пересказана Зои Кинкайд в ее трудах о Кабуки. «Бойкий, сентиментальный, вечно погруженный в грезы, жизнерадостный юноша Идзаэмон появляется на ханамити 12, сгорая от желания увидеть свою возлюбленную Югири, проживающую в домике ,,Огия" в Сим-мати — одном из „веселых кварталов" Осака. Придя в чайный домик, где его хорошо знают, он покупает широкую соломенную шляпу, чтобы остаться неузнанным. В то время среди завсегдатаев „веселых кварталов" существовал обычай гулять по ним, скрывая свое лицо. Идзаэмон выбирает шляпу, украшенную красным шнуром, чтобы Югири смогла узнать его по этой примете. Югири, окруженная толпой куртизанок, дает на ханамити великолепное представление, и в этот самый момент появляется Идзаэмон, избалованный представитель „золотой молодежи", привыкший к роскоши с тех пор, как был усыновлен процветающим киотоским предпринимателем Фудзия. Далее действие переносится в жилище деловитой матери Идзаэмона, которая, овдовев, сама успешно ведет все дела. Узнав, сколь расточителен стал Идзаэмон ради Югири, она лишает его права наследства.
201
В снежный день Идзаэмон одиноко сидит дома, смотрит на сад, мечтая о Югири, и терзает себя вопросом: чем занята она в данный момент? Он сожалеет о невозможности вернуться в Осака, поскольку мать объявила ему, что отныне ему придется самому зарабатывать себе на жизнь. Появляется его мать, она встревожена, но надеется на перемены к лучшему и дарит ему скромное бумажное кимоно, которое носил его отец, когда усердным трудом закладывал основы семейного благополучия. Принимая кимоно, юноша понимает, что в наказание за свою расточительность ему придется покинуть дом и, подобно отцу, самому устраиваться в жизни. Уставший от странствий, нищий неудачник Идзаэмон узнает, что Югири больна, и отправляется навестить ее. Скрыв лицо под соломенной шляпой в форме корзины, он стоит у ворот дома ,,Огия" в своем выцветшем и обтрепанном кимоно. Слуги принимают его за нищего и пытаются прогнать, но владелец дома узнает своего бывшего богатого клиента и любезно приглашает зайти в дом.
Идзаэмон узнает, что Югири уже выздоровела, за ней ухаживает самурай Хираока из Ава и ребенок, которого родила Югири, усыновлен Хираока. Решив, что Югири изменила ему, охваченный ревностью Идзаэмон проходит в ее комнату и, притворившись спящим, ожидает ее прихода. Югири будит его, вначале он изображает холодность и безразличие, но в конце концов не может больше скрывать свои подлинные чувства, и влюбленные рассказывают друг другу о страданиях, выпавших на их долю за время разлуки. Это одна из лучших идиллических любовных сцен в японском театре. Беседу юных любовников прерывает внезапное появление незнакомца в самурайском платье и с мечом у пояса. Когда же самурай снимает головной убор, обнаруживается женская головка, украшенная прекрасными гребнями и шпильками. Это переодетая в мужское платье О-Юки, жена Хираока, пришла побеседовать со своей соперницей, рассчитывая убедить Югири отказаться от всех прав на ребенка, которого она хочет усыновить и сделать наследником Хираока.
За этим следует патетическая сцена, когда Югири отправляется в дом самурая, чтобы в последний раз повидаться со своим сыном, а Идзаэмон, чтобы хоть краем глаза взглянуть на мальчика, идет туда переодетый носильщиком паланкина — каго. Проникнувшись сочувствием, О-Юки посылает денег, чтобы выкупить Югири из „Огия". Одновременно и мать Идзаэмона, видя страдания сына, смягчается и посылает еще большую сумму, чтобы выкупить Югири на свободу. Ей возвращают ребенка, и вместе со своими близкими она начинает новую жизнь свободной женщины. В конечном счете все благо
202
получно соединяются в Киото с матерью Идзаэмона» [43, с. 255—257].
По мнению Зои Кинкайд, эта пьеса представляет собой переработку одноактной пьесы, в которой Тодзюро играл роль Идзаэмона, самую популярную из своих ролей. Тикамацу нередко заимствовал сюжеты из чужих пьес и переделывал их, придавая им более эмоциональный характер. Образы многих героев — просто описания самих актеров, таких, как Есидзава Аямэ, Мидзуки Тацуноскэ и Катаока Нидзаэмон.
В возрасте двадцати семи лет Тикамацу написал для кукольного театра «Историю о том, как разбогател Акадзомэмон», а в следующем году — «Развлечения госпожи Хигасияма в день крысы» и «Записки от скуки». Миямори отмечает: «Эти и некоторые другие его пьесы, созданные в период ученичества, представляют собой либо довольно неуклюжие, как по сюжету, так и по манере исполнения, переделки драм Но, либо являются подражанием старым дзёрури. Сюжет в них неоправданно затянут и лишен драматизма, времени и месту действия не уделяется никакого внимания. По стилю они немногим отличаются от своих прототипов. Даже на многих его позднейших шедеврах лежит отпечаток драм Но» [53, с. 33—34].
Во второй период жизни Тикамацу постепенно избавился от рабского подражания другим формам дзёрури. Он приобрел настоящий жизненный опыт, отказался от литературных условностей и выработал новый, более театральный и ясный стиль. Диалог в его пьесах стал более гибким: в зависимости от ситуации он то убыстрялся, то замедлялся; усовершенствования в кукольном искусстве привели к тому, что безжизненные деревянные куклы стали казаться все более одушевленными и способными точнее передавать реальные чувства героев, по мере того как усложнялась техника управления ими и улучшалась драматическая выразительность кукол, при помощи которых иллюстрировались тексты баллад.
Сотрудничество с Такэмото Гидаю
Кукольный театр не был явлением исключительно японским. Корни его уходят в глубокую древность. Рассказывая о Пиноккио, самом популярном итальянском кукольном персонаже, Луиза Хоукс отмечала, что первые дошедшие до нас упоминания о куклах относятся ко временам фараонов. Куклы были гигантских размеров и совершали плавные движения, как это подобает богам. В Греции и Риме во время пиршеств маленькие куклы, своеобразные безделушки, которые приводились в дви
203
жение при помощи хитроумного приспособления, напоминали гостям, что жизнь коротка и прожить ее следует достойно. Таким образом, с момента возникновения куклы символизировали собой жизнь и изображали или старались подчеркнуть непрочность человеческого бытия [36, с. 100—101; 32, с. 69]. Однако японские куклы были уникальными: не просто марионетки, которых приводят в движение при помощи веревочек, не куклы наподобие Панча и Джуди, которыми манипулируют, надев их на руку, а фигуры со сложным механическим устройством, размером в половину человеческого роста, которыми управляли от одного до трех кукольников 13. В течение долгого времени они занимали ведущее место среди всех японских театральных форм. Куклы превратились в реальных одушевленных существ, обладавших почти магической силой воздействия на зрителей. Кукольные представления отличались поразительной имитацией реальной жизни и правдоподобием, которые зависели от невероятного совершенства действий группы из двух или трех кукловодов, а также чтеца текста дзёрури, музыкантов, игравших на сямисэне, и незаменимых, хотя и «невидимых», рабочих сцены. Все участники представления выступали как единое целое. Они словно бы точно следовали указаниям Гамлета: «Сообразуйте действие с речью, речь с действием; причем особенно наблюдайте, чтобы не переступить простоты природы» 14. Действия каждой отдельной куклы являлись результатом удивительно слаженной группы актеров. Словно бы несколько Пигмалионов вдохнули жизнь в бездушные фигуры, и «тряпка, кость и клок волос» превратились в живую Галатею. Для Тикамацу и его коллег искусство оживлять и одухотворять, должно быть, действительно таило в себе радость созидания и искренность чувств. Возможно, автор ощущал себя роком, управляющим судьбами людей: «на доску бытия нас для игры он ставит, чтоб в ящик сбросить вновь через короткий срок» 15, а возможно, отождествлял себя со своими куклами и сознавал, что
«Этот мир — эти горы, долины, моря — Как волшебный фонарь. Словно лампа — заря. Жизнь твоя — на стекло нанесенный рисунок, Неподвижно застывший внутри фонаря» .
Искусство дзёрури заключается в основном в чтении романтических историй, подобных тем, которые излагали наследники гомеровской традиции — менестрели и средневековые трубадуры. Во все времена они находили отклик в людских сердцах. Даже крестьянин в «Зимней сказке» восклицает: «Я люблю старые песни, особенно если веселую поют печально, а печальную весело» 17. Часто, по крайней мере дилетанту, кажется, что дзёрури обладают этим качеством, и конечно же, в XVII
204
и XVIII вв. они пользовались популярностью у всех японцев. А в соединении с театральным представлением, будь это фигуры в масках (Но), куклы (Гидаю) или же обычные актеры (Кабуки), они полностью отвечали всем тем требованиям, которые предъявляют к представлению, когда глаза могут видеть, а уши слышать. Как и в наши дни, в ту далекую эпоху театры были всегда заполнены зрителями.
В тот момент, когда Тикамацу начал приобретать известность драматурга Кабуки в Киото, он повстречался со знаменитыми чтецами дзёрури — Удзи Kara и Иноуэ Харима. Лучшим учеником Харима считался Симидзу Рихэй, к нему-то из своего родного города Осака явился некий юноша Симидзу, или Горо-бэй Ридаю, позднее прославившийся под именем Гидаю. Талант этого молодого ученика быстро заметил Удзи Kara и взял его подсобником — начинающим в искусстве чтения баллад для кукольного театра. Этот юноша родился в 1660 г. и был всего на три года старше Тикамацу. По-видимому, два молодых человека подружились в Киото, когда Гидаю благодаря своему сильному голосу, великолепному музыкальному слуху и проникновенной манере чтения уже приобрел известность как декламатор, в то время как Тикамацу еще только начинал свою карьеру драматурга. Этот гений среди декламаторов и рассказчиков был ему достойным помощником; он мог заставить рыдать даже камни и скалы:
«. . .Залив слезами сцену,
Он общий слух рассек бы грозной речью,
В безумье вверг бы грешных, чистых — в ужас,
Незнающих — в смятенье и сразил бы
Бессилием и уши и глаза» 18.
Драматургу повезло, что для исполнения своих текстов он нашел столь талантливого чтеца.
В 1684 г. этот 35-летний Горобэй, иди Ридаю, основал Такэмото-дза — один из двух театров, впоследствии долгие годы боровшихся друг с другом за первенство в Осака. Его партнерами в новом предприятии были знаменитый игрок на сямисэне Одзаки Гэнъэмон и Такэя Сёбэй, который финансировал театр. Основным патрнером был Такэя, личность довольно подозрительная в мире развлечений той эпохи. Из уважения к своему покровителю Горобэй Ридаю изменил свое имя на Такэмото Гидаю (Гидаю означает «поборник справедливости»). Одзаки, сопровождавший рассказ Гидаю игрой на сямисэне, также изменил свою фамилию на Такэдзава, соединив первые иероглифы слов «Такэмото» и «Савадзуми», как звали автора музыки для сямисэна, которой сопровождались эти дзёрури. При этом музыкант сохранил свое прежнее имя Гэнъэмон.
205
Открытие Такэмото-дза состоялось в 1685 г. в квартале Дотомбори, на том самом месте, где сейчас в Осака находится театр Нанива-дза. Первой на сцене была поставлена пьеса Тикамацу «Ецуги Сога» («Наследник Сога», позднее переименованная в «Сто дней Сога»), которую прежде с большим успехом читал Удзи Kara. В основе драмы лежит хорошо известный по повестям и песням сюжет о том, как произошло пресечение линии рода Сога, и о мести, которую осуществили вассалы двух братьев — Горо и Дзюро. Род Сога был восстановлен благодаря появлению сына, которого родила от старшего брата Дзюро его любовница — куртизанка Тора Годзэн. Эта довольно сомнительная история пришлась зрителям по вкусу. Кукловодом при Гидаю был Тацумацу Хатиробэй.
Таким образом, до 1686 г., когда Тодзюро еще играл в драмах Тикамацу на сцене театра Кабуки в Киото, Гидаю уже с успехом исполнял кукольные пьесы Тикамацу в Осака. Но с годами слава Тодзюро постепенно поблекла, так как возраст давал о себе знать, а Гидаю ожидала одна удача за другой. Популярность и того и другого во многом зависела от исполняемых ими ролей, которые поставлял им плодовитый и разносторонний Тикамацу.
Ранее мы уже говорили о великом осакском романисте Ихара Сайкаку, который приобрел известность в жанре реалистической прозы и даже пробовал силы в сочинении дзёрури. Именно тогда и произошел любопытный поединок Тикамацу с его старшим современником Сайкаку, «секундантами» у них были соответственно певец-сказитель дзёрури Гидаю и его бывший учитель Удзи Kara. Kara узнал, «что его великолепный помощник былых дней вернулся в Осака и обосновался в Дотомбори, в Западном театре», и, как это часто бывает с художниками, головокружительный успех младшего соперника вызвал у него муки ревности. Тогда Kara также перевел свою киотоскую труппу в Осака и обосновался в Дотомбори, но в Восточном театре. «Брошенный им вызов, — пишет современный биограф, — вылился в постановку пьесы по „Календарю" Ихара Сайкаку. Более молодой певец-сказитель ответил пьесой более молодого Тикамацу — „Новый календарь и упражнения ученых дам в каллиграфии". Победа осталась за Гидаю. Kara произвел перестановку сил и прочел еще одну пьесу Сайкаку, но его преследовала неудача: внезапно в театре вспыхнул пожар и уничтожил его дотла. Тогда удрученный старый сказитель был вынужден скрепя зубы вернуться в Киото. Эта борьба во многом способствовала упрочению репутации и Гидаю и Тикамацу» [53, с. 35].
С той поры этот дуэт, работавший с труппой кукольников, завоевал популярность в Осака, а со временем и славу театра
206
Кабуки в Киото, лишившегося лучшего драматурга и величайшего актера, и старой труппы кукольного театра в Киото затмила растущая слава осакского театра Бунраку. Тикамацу ощущал, в чем его призвание, и поэтому обратил свое внимание прежде всего на исторические и бытовые пьесы для кукольного театра, для которого он перерабатывал даже старые сюжеты Кабуки.
Драматург театра дзёрури
Почти в то же время, в 1686 г., возможно, дабы утвердить свою литературную победу над бывшим учеником и коллегой из Киото либо чтобы принести еще большую славу и известность своему нынешнему сотруднику по кукольному театру, Тикамацу создал для Гидаю пьесу дзёрури «Победоносный Кагэкиё» («Сюссэ Кагэкиё»). Было ясно, что слово «победоносный» (сюссэ) в заглавии произведения указывало на то, что драматург желает своему другу Гидаю дерзких успехов в новом для него жанре дзёрури. Эта историческая пьеса была поставлена в Осака на сцене кукольного театра в феврале 1688 г. Некоторые отклонения от традиционных канонов дзёрури заметны в сюжете, в характерах, сценах, диалогах и разных технических приемах. Количество диалогов возросло, а музыкальный аккомпанемент был ослаблен — таким образом, пьеса стала ближе зрителям, но менее эклектичной и более понятной. «Одной этой драмой, — замечает Миямори, — драматург произвел революционный переворот в самой природе дзёрури, так как он предложил публике, привыкшей считать основными элементами дзёрури музыкальность и лиричность, свое новое понимание роли диалогов и поведения героев, а также уважение к сюжету как к немаловажному фактору».
Правильность эксперимента Тикамацу подтвердилась немедленно, ибо пьеса, которую Гидаю прочел в совершенно новой манере, наиболее отвечающей его таланту, немедленно завоевала признание в Осака и принесла славу и автору, и певцу-сказителю. Кукольный театр как своеобразный вид искусства и народного развлечения сделал значительный шаг вперед. Такая форма представления, получившая по имени ее замечательного родоначальника название гидаю, начала затмевать славу театра Кабуки, которая в Киото и Осака уже несколько поблекла из-за отсутствия там крупных актеров, хотя в Эдо благодаря Дандзюро театр Кабуки еще продолжал пользоваться популярностью.
После такого успеха Тикамацу, продолжавший жить в Киото (поездка оттуда в Осака занимала целый день), создавал
207
новые исторические драмы, которые тепло встречались публикой. К их числу относились «Мацукадзэ и Мурасамэ», «Рождение Шакьямуни» — историко-религиозные представления на буддийские сюжеты, а также «Записки Урасима», «Сэмимару» и «Пять братьев Сога». Первая бытовая драма, написанная Тикамацу для кукольного театра и с большим успехом поставленная в 1700 г., — «Харакири женщины на Длинной улице», где, вероятно, драматург впервые положил в основу сюжета самоубийство. В этой увлекательной истории рассказывалось о событиях из повседневной жизни осакских горожан.
После того как его соперник Удзи Kara потерпел поражение, Гидаю не имел в Осака себе равных. Несколько раз в году он со своей труппой совершал гастрольные поездки по городам близлежащих провинций, чаще всего в Киото и Нара. Вершиной успеха исполнителя явилось признание его таланта при императорском дворе. В 14-й год эры Гэнроку (1701 г.) 50-летний •император даровал ему право называться Такэмото Тикуго-но сёдзё Фудзивара-но Хиронори. По случаю такого признания его заслуг императором Гидаю подготовил специальное представление. Исключительно для этого представления Тикамацу создал новую пьесу — «Сэмимару». Сэмимару был слепым музыкантом и великолепно играл на бива, поэтому впоследствии игроки на бива обожествили его и стали считать своим покровителем. Поскольку же дзёрури восходит корнями к «Хэйкэ-моногатари», исполнявшемуся под аккомпанемент бива, у певцов-сказителей дзёрури Сэмимару также стал считаться святым покровителем. Вероятно, именно из этих соображений Гидаю выбрал для торжественного представления именно «Сэмимару», чтобы тем самым выразить чувство благодарности богу-хранителю.
Окружение Тикамацу
Нет сомнений, что Тикамацу был чрезвычайно общительным человеком. Поскольку ему приходилось развлекать людей пьесами на злободневные темы из реальной жизни — или иногда тонко намекавшими на «исторические события», происходившие в другое время или в другом месте, — ему было необходимо знать жизнь окружавших его людей, чувствовать настрой и интересы публики, своевременно улавливать перемену ее вкусов. Тикамацу бродил по улицам, гулял по общественным, а иногда и по частным паркам, присутствовал на мацури и празднествах, вместе с друзьями проводил время в пирушках и загородных прогулках, посещал «веселые квар
208
талы», которые почти всегда находились неподалеку от знаменитых храмов.
Можно представить, как он, скажем в 1690 г., прогуливается по ухоженному дворику многолюдного храма, вслушиваясь в стук гэта по камням, в болтовню ярко одетых детей или в проникновенную и таинственную мелодию буддийской службы. Во время одной из таких прогулок, затерявшись в пестрой толпе, он вполне мог видеть странного, одетого в необычное — несомненно, голландское — платье варвара-чужеземца, на которого все таращили глаза и за которым следовала толпа зевак. Если ему встречался такой человек, или он видел его в толпе окруживших его любопытных, он мог по явно доходившим до него слухам догадаться, что этот иностранец не кто иной, как знаменитый немецкий путешественник Энгель-берт Кемпфер, который впоследствии написал одну из первых достоверных историй Японии на европейском языке. Столица (Мияко) произвела на Кемпфера сильное впечатление, однако он не сумел разобраться в двойной системе верховной власти. Он решил, что правитель в Киото — дайри — это религиозный владыка, а сёгун в Эдо — микадо — светский правитель. Эта ошибка была замечена и исправлена только в 1868 г. секретарем британской дипломатической миссии Эрнестом Сатоу. Можно представить себе, с каким удивлением Кемпфер рассматривал изобилующие лавками узкие улочки Киото и восхищался представленными там произведениями искусств и ремесел.
«Мияко, — писал он, — это огромный склад всевозможных японских товаров и главный торговый центр империи. В этой большой столице редко найдется такой дом, в котором что-то не изготовляли бы или не продавали. Здесь очищают медь, чеканят монеты, печатают книги, ткут необычайно дорогие ткани, украшенные золотыми и серебряными цветами. Самые лучшие и редкие красители, самая искусная резьба, все виды музыкальных инструментов, картины, лакированные шкатулки, разнообразные предметы из золота и других металлов, особенно из стали (например, закаленные лезвия мечей и прочие виды оружия^, отличаются здесь невиданным совершенством, то же касается и роскошнейших одежд. Количество всевозможных игрушек, двигающих головами кукол и прочих подобных безделушек слишком велико, чтобы их перечислить. Одним словом, в Мияко можно обнаружить все, что пожелает нарисовать ваше воображение, а из-за границы нельзя привезти ничего такого, что тот или иной художник в этой столице не смог бы скопировать — при этом еще непременно с большим изяществом. На главных улицах редко в каком доме не найдется чего-нибудь, предназначенного для продажи, и я со своей стороны не мог
14 Заказ 1438
209
надивиться, откуда у них берется нужное количество покупателей, при таком огромном числе товаров» [39, с. 485].
Мы располагаем личным свидетельством Кемпфера о расцвете театра в столице, и почти можно не сомневаться, что он видел пьесы Тикамацу или на сцене Кабуки, в Киото, или в кукольном театре в квартале Дотомбори в Осака. В XVII в. появление «иностранца» на улицах этих городов наверняка должно было произвести сенсацию, и Тикамацу, который всегда чутко реагировал на все происходящее вокруг и был в курсе городских сплетен, распространявшихся по чайным домикам, «веселым кварталам» и кругам театралов, непременно знал бы об этом, а возможно, даже лично встречал знаменитого и странного путешественника или его сопровождающих из Голландии.
Несомненно, Тикамацу было известно и имя такого поэта, как Басё. Ведь и сам драматург пытался в юности сочинять стихи в жанре хайкай. Если его собственные стихи включались в антологии, разве не были ему известны и другие знаменитые антологии, в которых достойное место занимали поэтические шедевры Басё? Когда отшельник из хижины «Басё», расположенной на берегу реки Сумида в Эдо, совершал свое очередное паломничество в Киото, весь литературный мир столицы просто сходил с ума; поэты и прозаики являлись на поэтические вечеринки, чтобы сидеть у ног учителя и слушать, как в роще цветущих сливовых деревьев или при мерцающем лунном свете с его уст падают жемчужины философских истин или плодов его раздумий. Возможно, что в числе этих восторженных почитателей был и Тикамацу.
В имперском граде приходилось поддерживать между собой братские отношения выдающимся представителям всех видов искусств, в число которых входили историк и философ Хаяси; Корин — писатель, художник, гравер, мастер по изготовлению лакированных изделий и, видимо, крупный знаток всех видов искусств и ремесел; знаменитый гончар Нинсэй и Матабэй, художник и реформатор жанровой живописи 19.
Но проводил ли Тикамацу свободное время, гуляя по храмам и дворикам, созерцал ли красоту садов Киото, развлекался ли в чайных домиках квартала Гион в компании близких ему по духу людей или же совершал загородные прогулки по столичным окрестностям — каждый год ноги должны были нести его чаще всего к тому загадочному району, представлявшему собой целый мир неувядаемого очарования — туда, где находился Такэмото-дза и другие театры, днем украшенные афишами и театральными программами, а по вечерам весело освещенные бумажными фонарями. Хочется мысленно представить, как выглядел вечером театральный район в старой Японии.
210
Он не мог сильно отличаться от того, каким предстал в 1904 г. Фредерику Тревесу, оставившему нам следующее красочное описание:
«В Киото есть заполненная мелкими лавочками шумная улица, которая зовется Театральной. На ней безраздельно господствует легкомыслие, так что символом этой улицы вполне могли бы быть „шутовской колпак и бубенцы". В этих закоулках запрещается появляться рикшам, их границ не имеют права нарушать ни повозки, ни розничные торговцы. Поэтому толпы людей могут бесцельно слоняться по этому району, глазеть на палатки и пышные наряды, не опасаясь, что в спешке их кто-нибудь может сбить с ног.
Вся улица из конца в конец пылает яркими красками. Помимо фонарей и знамен на ветру колышутся свисающие шелковые полотнища и цветистые зонты. Магазинные вывески, черные, красные и золотые, соседствуют с обрамленными блестками и бумажными цветами великолепными картинами, которыми украшены десятки театров и палаток. В этом центре развлечений не существует никаких цветовых ограничений. Чем ярче, тем лучше. Если один фасад будет розовым и желтым, то следующий — вишневым и зеленым. Они словно бы кричат друг на друга своими яркими красками. В одних театрах исполняются драмы с обильным кровопролитием либо комедии, действия которых, судя по афишам, разыгрываются среди цветущих вишен и лунных отблесков на озерной глади. А в других местах можно увидеть танцы, жонглеров с тарелками или женщин, ступающих босыми ногами по раскаленному докрасна железу. Наряду с восковыми фигурами (паноптикумом) и кинетоскопом можно также посмотреть „живые картины".
В лавках, которыми заполнены промежутки между палатками и театрами, торгуют всевозможными безделушками. В одних демонстрируются все секреты одеяний японских дам, равно как и великолепие их шелков; в других — веера, косметика, такие мелочи, как шпильки и курительные трубки, детские игрушки и букетики искусственных цветов. В сущности, на этих улицах торгуют исключительно подобной мишурой, ибо весь район не что иное, как Ярмарка Тщеславия.
Но наиболее многолюден и великолепен этот район ночью. Палатки и театры залиты светом, отблески которого падают на довольные лица неугомонной толпы. Горят разноцветные фонарики, и даже сквозь бумажные створки домов внутрь просачивается желтый свет. Гомон толпы, шуршание сандалий настолько сильны, что гонг фокусника едва слышен, а звуки барабана исполнителя на подмостках кажутся отголосками какого-то слабого бормотания» [80, с. 267].
Похожие сцены изображены на гравюрах укиё-э художников
14'
211
эпохи Гэнроку. Толпы людей искали своих вечерних развлечений и прокатывались через театральные мати или «веселые кварталы» матиай, где вывески и декоративные афиши были освещены цветистыми бумажными фонариками.
В такой оживленной атмосфере происходило и исполнение пьес Тикамацу. Возможно, что он часто сидел на подушках за ширмой в «партере» и наблюдал за представлением, и, может быть, вспоминал при этом дни своей юности, когда он со своими деревянными хлопушками находился за кулисами или порхал туда-сюда по сцене, раскладывая реквизит, или даже на этой самой сцене в изящных одеяниях лично исполнял второстепенные роли. Это был его собственный мир, заключенный внутри огромного мира.
»
«Тюсингура»
Если мы еще раз обратимся мысленно к очаровательному прошлому Киото XVII в., то сможем представить его холмы, покрытые густой растительностью, как театральную декорацию к очаровательному кварталу Гион. Даже сегодня склон Ма-руяма — это район святых мест и развлечений. Меж больших холмов разбросаны чайные домики и бани. Мелодиям сямисэнов и песням гуляк вторят храмовой колокол и хлопки в ладоши благочестивых верующих. Молитвы и развлечения соседствуют друг с другом, а двор святилища Гион у подножия холма мирно соседствует с дрессированными обезьянами и тирами для стрельбы из лука, круглыми ипподромами и крошечными закусочными. С горных террас Маруяма раскинувшийся внизу город представляется похожим на рельефную карту. Река Камогава, через которую кое-где перекинуты длинные мосты, разделяет город на две части. От каждого моста прямо на запад отходит улица. Днем эти магистрали похожи на борозды, пропаханные через сплошное поле из черепичных серых крыш, а по ночам они освещены тысячами ламп и фонарей, и эти узкие, колышущиеся полосы огня вызывают в памяти столь часто происходившие здесь празднества с факелами, а река являет собой сплошной широкий пояс света.
Что-то похожее, хотя, возможно, и не столь торжественное, существовало и во времена Тикамацу.
У самого склона Маруяма, где до сих пор растут древнейшие в Японии вишневые деревья, находится чайный домик «Ити-рики», который впоследствии стал частью знаменитой ныне гостиницы «Яами». Если Тикамацу прогуливался поблизости, что он, несомненно, и делал, пусть даже для того, чтобы увидеть весенний праздник фонарей в парке развлечений.
212
то он должен был в 1701 или 1702 г. время от времени встречать здесь состарившегося гуляку, посещавшего чайный домик «Итирики», слонявшегося по публичным домам и участвовавшего в разгульных попойках. Иногда этого горького пьяницу, словно бы ужасно всклокоченный и обезображенный осколок какой-то затянувшейся оргии, можно было видеть валяющимся на улице в бесчувственном состоянии. При виде его прохожие отпускали шутки и презрительно насмехались над ним, иногда даже давали пинка или плевали на него. Даже в этом легкомысленном квартале столь позорное поведение, как появление в общественном месте в пьяном виде, казалось из ряда вон выходящим. Этот человек стал известен всему району как распутник, пьяница, фигляр и приставала.
Пройдет немного времени, и этот же самый опустившийся, болезненного вида человек станет национальным героем и главным персонажем одной из пьес Тикамацу; однако тогда об этом еще никто не подозревал. Его подлинное имя — Оиси Кура-носкэ — было скрыто под прозвищем. Предосудительное поведение в местах, пользовавшихся сомнительной репутацией, было маской, которую надел на себя отважный и верноподданный самурай. Он был вассалом покойного Асано Такуми-но-ками из провинции Ако, который после неудачной попытки отомстить одному даймё за нанесенное оскорбление был приговорен к смерти. Лишившись сюзерена, Оиси Кураноскэ и 46 его товарищей начали тайно замышлять план мести за своего хозяина, намереваясь, как только настанет срок, напасть на даймё Коцукэноскэ.
В уединенном уголке Киото Оиси приобрел дом, где поселился с женой и детьми. Он настолько притворялся, что ведет буйную и беспутную жизнь, что даже жена во все это поверила и была вынуждена его бросить. Так он и продолжал жить, оставленный всеми, за исключением старшего сына и одной наложницы, проводя дни в пьянстве и разврате. Не известный никому, кроме своих тайных сообщников и, возможно, нескольких совершенно озадаченных шпионов, которых прислал даймё из Эдо, он тщательно вынашивал планы мести.
Тикамацу мог видеть этого грубого, отвратительного пропойцу, но маловероятно, чтобы он мог подозревать, какой драме предстоит еще разыграться: сначала на улицах Эдо, а позже — на сценах Кабуки и кукольных театров во всех крупных городах Японии.
Несколько изменив хронологию, Тикамацу на основе этого драматического события создал позднее вместе с Такэда Идзумо пьесу «Сорок семь ронинов», которая впервые была с успехом исполнена на сцене кукольного театра Бунраку. Поскольку в основном сюжете и во многих второстепенных сценах слишком
213
явно отражались порочные нравы сёгунского окружения, правительство Токугава запретило пьесу, вследствие чего название пришлось изменить на «Тюсингура» («Союз Верноподданных»), а события по времени отодвинуть далеко в прошлое 20. В наиболее часто исполняемом варианте одной из наиболее впечатляющих является сцена в чайном домике «Итирики» в «веселом квартале» Киото — Гионе. Чтобы усыпить бдительность вражеских шпионов, Юраноскэ21, предводитель сорока семи лишившихся хозяина самураев, предается распутству. О-Кару, жена Кампэя, одного из членов Союза Верноподданных, продает себя в увеселительное заведение, чтобы заработать денег для своего мужа и его товарищей по заговору. Вассал низкого ранга Хэйэмон — неподкупный князь Хакусю и брат О-Кару — приходит в заведение, чтобы сообщить сестре печальное известие о смерти Кэмпэя, который совершил благородное самоубийство — сэппуку после того, как она покинула свой дом в Эдо и переехала в Киото.
Месть самураев из провинции Ако состоялась в 12-м месяце 15-го года эры Гэнроку (январь 1703 г.), а уже через несколько месяцев на театральной сцене шла пьеса, в основу которой легло это событие. В 1706 г. в театре Такэмото-дза в Осака была исполнена драматическая баллада Тикамацу на тот же сюжет под названием «Кэнко-хоси мономи-гурума». Потом появился еще один вариант, озаглавленный «Гобан Тайхэйки», где действие было перенесено в середину XIV в., в эпоху правления первого сегуна династии Асикага. После этого в Киото, Осака и Эдо было поставлено еще несколько похожих пьес, отличающихся по своим достоинствам. Известный актер того времени Савамура Содзюро имел огромный успех в одной из таких пьес: в 1746 г. — в Осака, а в следующем году — в Киото. Успешное выступление Содзюро вдохновило Такэда Идзумо в сотрудничестве с Намики Сэнрю и Миёси Сёраку создать в 1748 г. пьесу «Канадэхон Тюсингура», которая сначала была поставлена на сцене кукольного театра, а позднее — в Кабуки. Это не только самая известная вариация на тему мести сорока семи самураев, но и самая популярная японская пьеса вообще.
Тикамацу еще в течение двадцати лет продолжал писать пьесы для театра Кабуки, но одновременно все чаще начал обращаться к созданию пьес для кукольного театра. Драматург был трудолюбив и необычайно плодовит. Во всяком событии он умел видеть новый сюжет и спешил переработать его для театра. Но годы шли, и прославленный актер Тодзюро превратился в пожилого человека, «вокруг которого витала лишь тень его былого величия». В отличие от Дандзюро из Эдо у него не оказалось ни одного достойного ученика, который смог бы унаследовать традицию и принять от него мантию наставника.
214
Актеры, оставшиеся в театре после того, как в 1705 г. Тодзюро в последний раз появился на подмостках Мияко-дза, чаще всего были людьми невежественными и высокомерными, не способными по достоинству оценить дарование Тикамацу. Братские и дружеские отношения между драматургом и актерами в традиционном японском театре были таковы, что Тикамацу, несомненно, не мог или не желал творить специально для этих более молодых актеров, так как совместная деятельность предполагала гармонию и согласие. После ухода Тодзюро из театра не нашлось ни одного исполнителя, который был бы в достаточной мере великим и увлеченным, чтобы вдохновлять драматурга к творчеству. Поэтому в 1703 или 1705 г. Тикамацу перестал писать пьесы для Кабуки.
X. ТИКАМАЦУ МОНДЗАЭМОН
ТРЕТИЙ ПЕРИОД:
ДРАМАТУРГ КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА
В правление сегуна Цунаёси (1680—1709) японское искусство и литература достигли вершины своего развития, в первую очередь в Эдо и, как мы отмечали, особенно в период с 1688 по 1704 г., известный как эпоха Гэнроку. Хотя к тому времени Эдо превратился в центр нового культурного движения, в бывшем признанном культурном центре Киото и даже в Осака, который был преимущественно торговым городом, где приобрела большую популярность народная драма, еще не обнаруживалось признаков явного упадка. Сам император — в это время правил 113-й император Хигасияма (1687—1707) —был roi faineant Он жил в полной изоляции в императорском дворце в Киото и находился в большей или меньшей зависимости от ежегодных пожалований сегуна по цивильному листу. Но в императорской столице сохранялись придворная жизнь и церемониал, и придворная знать продолжала покровительствовать талантливым художникам, ремесленникам и литераторам. Влияние этих культурных людей распространилось на средние сословия — богатые и сами по себе обладавшие более или менее утонченным вкусом — и наконец в несколько более доступных простому народу художественных формах проникло в нижние слои общества.
Тем не менее слава Киото поблекла, особенно в сфере театра. Упадок Кабуки в Киото компенсировался его популярностью в Эдо, а жанр дзёрури, начиная с Гидаю, переместился из Киото в Осака, где для его восприятия существовали более благоприятные социальные условия.
На протяжении всей жизни Тикамацу откликался на веяния времени немедленно, и вскоре после того, как в начале века безграничное влияние Тодзюро в Кабуки пошло на спад, он решил поддаться течению и перебраться в Осака, чтобы установить еще более тесный контакт со своим сотрудником Гидаю. Поэтому около 1705 г. он отряхнул пыль Киото со своих ног и отправился в Осака, где ему предстояло провести оставшиеся девятнадцать лет своей жизни. Это был третий период его деятельности. Один из биографов вполне правомерно заявляет: «Таким образом, Тикамацу начал новую жизнь, чрезвы
216
чайно плодотворную и для писательского гения, и для человеческих качеств. Останься он рабом актеров, его имя могло бы кануть в вечность. Эта перемена радикально изменила всю его жизнь, одновременно она явилась поворотным пунктом в истории японской драматургии» [53, с. 33].
Тикамацу исполнился пятьдесят один год. Помня, что впереди у него оставались долгие годы жизни и самые великолепные произведения, можно считать, что в это время он находился в расцвете сил. Современники изображают его на картинах человеком с правильными чертами лица, с тонкими усиками и маленькой бородой, как у древних китайских мудрецов, с длинными густыми бровями и высоким бритым лбом. Иногда рисовавшему его портретисту казалось, что его веселое лицо излучает ум и юмор, о которых свидетельствуют его сочинения.
Несомненно, Тикамацу по-прежнему оставался человеком общительным и любителем веселых компаний. Он был, что явствует из его произведений, хорошо осведомлен о всех событиях в жизни окружающих его людей. Он обладал журналистским нюхом на новости и досконально знал все аспекты веселой жизни города, как и подобало человеку театра. Хотя печатного станка еще не существовало, новости в те дни распространялись быстро: сам Тикамацу писал, что весть о самоубийстве Дзихэя, торговца бумагой в «веселом квартале», «назавтра разнесут по всему свету иллюстрированные листки, содержащие подробный рассказ о трагедии, — листки, отпечатанные на точно такой бумаге, с какой он сам привык иметь дело, — разнесут по всей стране его посмертный позор и унижение» [53, с. 257].
Существует много легенд об огромной скорости, с которой Тикамацу сочинял свои дзёрури. Даже если сделать скидку на преувеличение, исходящее от его почитателей, он, видимо, обладал удивительной изобретательностью и работоспособностью. Двойное самоубийство в Амидзима произошло в ночь полнолуния в октябре 1720 г.; в театральноой хронике отмечено, что «Тэн-но Амидзима» 2 впервые была поставлена 6 декабря. Рассказывают, что однажды зимним вечером, когда Тикамацу развлекался в кабачке у Синдзайкэ в Сумиёси, внезапно вошел человек, прибывший из Осака и имеющий отношение к театру Такэмото, со словами: «Вчера ночью на острове Амидзима в храме Дайтёдзи произошло двойное самоубийство. Не желаете ли сейчас же вернуться в Осака и воплотить эту историю в дзёрури? Тогда послезавтра мы весь день будем репетировать». Тикамацу немедленно заказал скорый паланкин — каго и поспешил обратно в Осака. Покинув каго, он немедленно помчался домой и принялся за сочинение. Свою историю
217
он называл «омои-но хаси дзукуси» («полной мостов размышлений»), потому что в Осака, городе, близ которого произошла трагедия, очень много мостов. Пьеса начиналась словами: «Почерк был торопливым, а текст книжечки утаи (текст драмы Но) был школы Коноэ, а яробоси (шляпа, которую носили актеры кёгэн, часто яркого цвета) была лиловой. . .» Эти связующие звенья в виде «послания», книжечки утаи и лиловой яробоси вызывали хорошо знакомые ассоциации, поэтому были удобны для зачина.
Также рассказывают, что когда он писал в театре Тоётакэ-дза «Яоя синдзю», пьесу о двойном самоубийстве зеленщика, происшедшем 5 апреля 1722 г., то на следующий день она была напечатана под названием «Синдзю футаэ-оби», а 8-го числа уже поставлена на сцене. Даже если эта и подобные ей легенды могут вызывать сомнение в почти фантастической скорости сочинительства, они подтверждают, что Тикамацу обладал не только даром газетного репортера, но и профессиональными навыками и легкостью в сочинении дзёрури. Его следует признать почти импровизатором, «слагателем баллад», подобным европейским трубадурам.
О том, что он не брезговал пользоваться предложенными ему услугами и даже привлекал других к сотрудничеству, существует немало анекдотов. Однажды он сочинял сцену самоубийства для пьесы «Сонэдзаки синдзю» («Двойное самоубийство влюбленных в Сонэдзаки»), и когда дошел до слов: «Снег таял с каждым шагом, приближавшим его к смерти», то растерялся, не зная, что делать дальше. Как раз в этот момент к нему в гости зашел Рёто, поэт, сочинитель в жанре хайкай из Исэ, и драматург не замедлил обратиться к нему за советом. Рёто ел, пил и говорил о чем-то, казалось, что он не обращает внимания на настойчивые вопросы хозяина. Наконец, когда Тикамацу еще раз повторил вопрос, Рёто шутливо предложил заключительную фразу: «Пустой, как сон во сне», Тикамацу понравилась столь неожиданная метафора, ею он и закончил фразу.
В его пьесах много и других свидетельств того, как быстро — при помощи слухов, через официальных чиновников, шпионов и паломников — распространялись по близлежащим провинциям новости о несчастных случаях, скандальных событиях или любовных происшествиях. Как мы видели, Тикамацу даже во время пирушки в тот же день узнал о знаменитом самоубийстве влюбленных. Обладая задатками хорошего журналиста, он немедленно превращал такие местные сюжеты в злободневные пьесы, которые иногда появлялись на сцене всего через две недели после происшествия. Поэтому вполне очевидно, что он пристально следил за жизнью народа в столице. Несом
218
ненно, он сам в окружении театральной братии посещал «веселые кварталы» Осака, столь прекрасно им изображенные.
Что представляла собой эта среда, хорошо показано в одной из самых известных пьес Тикамацу: «Сонэдзаки-Синти, квартал „ветреных женщин" в Осака, вполне заслуживает названия „океана любви", и, видимо, не случайно протекающая через этот квартал река называется Сидзими — рекой Ракушек.
В квартале Сонэдзаки-Синти смеркалось, и он был тускло освещен узорчатыми фонарями чайных домов. По шумным улицам гуляли молодые повесы, распевали на ходу модные песни, декламировали фрагменты из кукольных драм или произносили диалоги, подражая знаменитым актерам. Из верхних комнат многих чайных домов доносился веселый перебор струн сямисэна, и эта музыка была столь обворожительна, что завлекала некоторых из завсегдатаев квартала посетить куртизанок. Других же, скрывающих лицо под маской, чтобы более свободно наслаждаться веселой уличной атмосферой, служанки из публичных домов опознавали и обманом заставляли направляться в тот или иной дом» [53, с. 223].
Несколько дальше он пишет: «В Сонэдзаки за полночь; на улице ни души; только иногда тишину нарушало слабое мрачное журчание реки Сидзими. Полная луна сияла настолько ярко, что поблекли фонари на вывеске чайного дома „Яматоя". Мимо прошел пожарный, стуча в свою колотушку и сонным голосом крича: „Будьте осторожны с огнем! Будьте осторожны с огнем!", и казалось, что в самом монотонном звуке его колотушки слышится что-то сонное» [53, с. 252].
Вероятно, во всех городах Европы в это время можно было наблюдать похожую сцену, включая ночного сторожа, объявляющего время и кричащего: «Все в порядке!» Единственная разница в том, что, если в Европе такие обычаи исчезли, в японских городах они сохраняются и по сей день. Plus да change, plus c'est la meme chose 3.
Сотрудничество с Гидаю и Такэда
Как только Тикамацу поселился в Осака, он сразу стал там своим. Вскоре возбуждающая атмосфера квартала развлечений, которую мы только что описали, предоставила ему материал для первой пьесы дзёрури, написанной в Осака. Это была значительная пьеса «Сонэдзаки синдзю» («Двойное самоубийство влюбленных в Сонэдзаки»). Считается, что она написана и поставлена в 1703 г., когда Тикамацу посещал Осака, и так как ее успех превзошел все ожидания, он решил
219
поселиться в Осака. Здесь начался плодотворный период его жизни, когда он почти ежегодно сочинял по пьесе. Это была одна из первых пьес, в основе которых лежало синдзю — двойное самоубийство юных влюбленных, получившее, как мы позже увидим, на какой-то период чрезвычайное распространение среди куртизанок и их поклонников и в то же время превратившееся в популярный сюжет для пьес. В данном случае новизна темы, захватывающее чтение несравненного Гидаю и талант кукольника Тацумацу Хатиробэя в сумме обеспечили пьесе невероятный успех в Осака, где она была поставлена в кукольном театре Такэмото. Иь. протяжении 18 лет пьеса оставалась самой популярной. Для других драматургов она стала образцом, и на эту тему гоявилось вели о множество пьес, в том числе некоторые были написаны ca.i ;М Тикамацу. Сцены «ухода в мир иной» столь характерны тля сэвамоно — бытовых пьес этого периода, что н° сцене жизнь общества отразилась с такой же точностью, с какой современная жизнь отражается в документальных кинофильмах; per contra значительным подтверждением влияния театральной продукции того времени является то, что демонстрация на сцене подобных трагедий и самоубийств должна была стимулировать те же явления в реальной жизни.
В первый год Хоэй (1704 г.), т. е. менее чем через год после своего замечательного успеха в такой «кассовой пьесе», как «Сонэдзаки синдзю», Гидаю решил покинуть сцену и начать жизнь буддийского священника, «дабы обеспечить благополучие своей душе в потустороннем мире». Очевидно, он устал стремиться к новым достижениям в своем искусстве и гоняться за мирскими благами. Он даже принял постриг и получил новое имя — Доки, свидетельство вступления на путь религиозного подвижничества. Однако после настойчивой просьбы учеников оставаться их руководителем и наставником в Такэ-мото-дза он дал торжественную клятву посвятить оставшуюся жизнь искусству. Благодаря помощи Такэда Идзумо, который взял на себя решение всех деловых вопросов и пожертвовал деньги, полученные им от состоятельного родителя, бремя лежащих на Гидаю забот ослабло, и он мог всю свою энергию отдавать кукольному театру. При содействии Тикамацу, который прибыл в Осака в следующем году, популярность Такэмото-дза возросла еще больше и кукольная драма, сопровождаемая дзёрури, достигла вершины успеха.
В течение последующих пятнадцати лет Тикамацу продолжал создавать пьесы для своего коллеги Гидаю, и успех их на сцене способствовал росту популярности театра. Наиболее значительные пьесы этого периода: «Снежная женщина и пять скалок»4, «Благовония куртизанки», «Прекрасные дамы за
220
игрой в поэтические карты», «Календарь любви», «Тамба Ёсаку» 5 и «Гонец в преисподнюю».
В огромной мере Такэмото-дза обязан своим успехом управляющему Такэда Идзумо (1691 —1756). Он сам был драматургом и позднее переехал в Эдо, где прославился своими пьесами. Его отец был владельцем кукольного театра в Осака, где Такэда, конечно, познакомился с технической стороной театрального искусства, в том числе с устройством сцены. Он был значительно моложе Тикамацу, и его первая пьеса, «Алые доспехи князя Дайто», появилась только в 1723 г., в конце жизни Тикамацу. Но эта пьеса уже была переработана великим драматургом, с которым он сотрудничал и у которого учился, и, вероятно, во многих его последующих пьесах, число которых достигает 30, заметно влияние, а возможно, даже непосредственная помощь Тикамацу. Такэда положил начало коллективному написанию пьес, но его произведения, даже созданные при содействии других, не могут сравниться с пьесами его великого предшественника. Он использовал такую же смесь трагедии и комедии, те же чудовищные преступления и элементы чудесного, которые доставляли удовольствие основной массе зрителей, заполнявшей театры, но ему недоставало некоторых поэтических элементов, отточенности языка и остроумия, которыми отличались произведения Тикамацу. К числу наиболее известных произведений Такэда относится версия «Тюсингура» — самая популярная из 60 пьес, написанных о 47 ронинах.
Это длинная пьеса, состоящая из 11 актов, поэтому обычно исполняют только отдельные ее части. Английский поэт Джон Мэсфилд положил этот сюжет в основу своей трехактной драмы «Верноподданный», поставленной в Лондоне в 1935 г. Другая пьеса Такэда, «Секреты каллиграфии дома Сугавара», была поставлена в Германии. Ее 4-й акт, «Тэракоя» («Деревенская школа»), часто шел на американской сцене под названием «Бусидо», а на английской сцене и в других странах — под названием «Мацу» («Сосна»).
«Календарь любви»
Хотя пьеса «Календарь любви», возможно, и не поднимается до высокого уровня большинства других пьес Тикамацу, поскольку она довольно бессодержательна, а ее концовка невыразительна, она тем не менее демонстрирует умение драматурга построить острый сюжет на самом незначительном материале. В основе ее лежит комедия ошибок в духе Шекспира, где происходит путаница с парами любовников, но основное значение придается трагическим последствиям, к которым приводит
221
эта ошибка, в чем Тикамацу и демонстрирует подлинный талант драматурга. Действие происходит в ноябре 1684 г. в семействе официально признанного издателя ежегодных календарей. Издатель Исюн, развратник, любитель гоняться за юбками, имеет особые виды на служанку О-Тама, которая, в свою очередь, испытывает симпатии к ученику издателя Мохэю, симпатичному, но чрезвычайно робкому юноше. О-Сан, молодая и хорошенькая жена Исюна, пребывает в растерянности из-за коварной измены мужа и надеется соединить О-Тама и Мохэя, чтобы вернуть себе расположение супруга. Она задумывает небольшую интригу и решает спрятаться в комнате О-Тама в ту ночь, когда, по ее мнению, Исюн должен покуситься на честь служанки, чтобы поймать его в тот момент и пристыдить. По случайному стечению обстоятельств в тот же самый вечер и Мохэй решил посетить О-Тама, чтобы узнать причину ее былой доброты к нему в те дни, когда он испытывал серьезные денежные затруднения. В темноте он перепутал ее с женой хозяина, о чем узнал только в тот момент, когда они оба оказались полностью скомпрометиро-ванны. Остальная часть посвящена описанию серьезных последствий прелюбодеяния в Японии XVII в., когда публичный позор, пытки и смертная казнь ожидали нарушителей строгого этического и морального кодекса. Мохэй и О-Сан, по ошибке вступившие в незаконную связь, бегут от гнева правосудия, направленного на них ревнивым мужем и опозоренными родителями. После того как они много раз чудом спасаются от преследования, их наконец ловят и арестовывают. Тем временем, надеясь избавить их от неизбежного наказания, дядя О-Тама, узнавший от нее о несчастных злоключениях и о ужасных последствиях, по ее просьбе убивает ее, чтобы спасти честь хозяйки О-Тама и ее возлюбленного Мохэя. Однако, чтобы остановить слуг закона, которым полагается свершить публичную казнь двух преступников, этого недостаточно.
Как обычно, Тикамацу рисует сцену, в которой несчастная пара готовится принять заслуженную смерть. Эта картина полна глубокого пафоса.
«О-Сан и Мохэй, прочно связанные, сидели на двух лошадях, и процессия направилась к месту казни в пригороде Киото. Лошадям, на которых сидели пленники, как и всем живым существам, суждено раньше или позже уйти в царство теней, но двум пленникам, чьи последние минуты приближались столь быстро, казалось, что только они одни исчезнут из этого мира. И хотя лошади шли медленным шагом, им по мере приближения смертного часа казалось, что они движутся быстро, слишком быстро. Девятнадцать лет было одному и всего двадцать пять — другой, из их очей, задумчиво устремленных на покрывающий
222
дорогу иней, катились по щекам горячие слезы, подобно каплям росы. Прохожих и стражников в равной степени тронули их печальные лица и удрученный вид.
„Послушайте, Мохэй-сан", — устало сказала О-Сан слабым, прерывающимся голосом, — „мне очень жаль, что из-за моей глупой ревности вас, ни в чем не виновного, заклеймят как прелюбодея. Мне вас очень жаль, и я прошу у вас прощения".
Мохэй немного приподнял голову. „Вы не должны так говорить, госпожа О-Сан", — ответил он, с трудом сдерживая слезы, — „Сожгут ли меня на костре или утопят, я готов на все. Да, я готов к самому худшему, но, чтобы избежать мучений в следующем рождении, я молча молюсь Амида Будде. Молитесь и вы".
„Спасибо. Так я и поступлю".
Наконец медленное и утомительное путешествие через горы, овраги и равнины подошло к концу. „Смотрите!" Вдалеке сквозь покрытые снегом ветви виднелось ужасное мерцание: обнаженные копья палачей. Когда пленники поняли это, дрожь пробежала по их телам. Хотя они были к этому готовы, тихий шепот сорвался с их губ. Глядя друг на друга, они горько разрыдались; слезы капали на лошадиные гривы. Над сосновой рощей свистел морозный ветер, осыпавший их хлопьями снега.
Руки пленников онемели, и слезы, падавшие на их рукава, замерзли. . .
Вскоре отряд вышел на ровную дорогу и приблизился к месту казни. Толпа зрителей шумно обсуждала осужденных. Додзюн и его супруга с трудом пробрались сквозь толпу и в слезах простерлись перед представителями власти. „Господа, вина нашей дочери ужасна, но тем не менее мы нижайше просим вас пощадить ее. Ради нее. мы готовы быть распятыми на кресте или лишиться головы. Умоляем исполнить нашу нижайшую просьбу — убить нас вместо них.-Сделайте так и спасите жизнь нашей драгоценной дочери. Ах! О-Сан, наша бедная дочь!"
Когда О-Сан снимали с лошади, родители с рыданиями прильнули к ней. Оруженосец отогнал их прочь. . .» [53, с. 104— 105].
Однако, когда приблизилась трагическая минута, знаменитый священник, пользовавшийся огромным влиянием на столичные власти, вступился за них и смог наконец выхлопотать им помилование и добиться освобождения О-Сан и Мохэя. «Эту забавную даже для календаря дайкёдзи историю, — заканчивает драматург, — повторяли из года в год, такой она дошла и до наших дней».
223
«Битвы Коксинга»
В 1714 г. произошло важное событие, поставившее под угрозу немеркнущую популярность Такэмото-дза. Умер мастер-рассказчик Гидаю, основоположник стиля чтения гидаю, популярность которого превзошла все остальные формы дзёрури. Еще в 1704 г. Гидаю, ссылаясь на нездоровье, попытался отойти от театральной деятельности, но, по-видимому, это ни в коей мере не повлияло в течение всех последующих лет на его безраздельное господство в этой сфере. После его смерти в 1714 г. мир дзёрури оказался в растерянности, как это бывает, когда умирает выдающийся лидер. Конечно, у Гидаю были свои соперники, такие, как его ученик Тоётакэ Вакатаю (1680—1764), и много претендентов на то, чтобы считаться его последователями. Одним из его талантливых учеников был Масатаю, и мантия наследника по завещанию Гидаю была вручена этому его ученику и помощнику. Но актеры в очередной раз продемонстрировали свою мелочную ревность, и, так как Масатаю был сравнительно молод, старшие ученики выгнали его из знаменитой труппы и даже очернили в глазах общества. Эти разногласия привели к расколу труппы и едва не к банкротству Такэмото-дза, так как число зрителей уменьшилось, а рассказчики бойкотировали выступления Масатаю. Самое знаменитое и еще так недавно самое популярное развлекательное заведение в Осака оказалось на грани краха, это, конечно, ставило под смертельный удар уникальное искусство кукольного театра, в результате чего многие авторы пьес дзёрури оказались бы в затруднительном положении. Для спасения театра требовались огромные усилия. Разрешить задачу взялся Тикамацу. Он признавал заслуги и талант юного ученика Гидаю, который хотя и не мог сравняться с учителем голосовыми данными, но обладал другими достоинствами, в частности выразительной манерой чтения диалогов. Поэтому Тикамацу с жаром принялся за работу и создал один из своих шедевров на историческую тему — «Битвы Коксинга». По счастливой случайности, первое исполнение пьесы в ноябре 1715 г. прошло с огромным успехом, и она установила удивительный рекорд: не сходила со сцены 17 месяцев. Позднее исполнение этой пьесы возобновлялось на сцене Такэмото-дза несколько раз, и она пользовалась такой же популярностью, как пьесы Кабуки в театрах Киото, Осака и Эдо. Театр Гидаю был спасен. Масатаю мгновенно стал знаменит и популярен, новые лавры выпали на долю и самого Тикамацу. Тогда же Такэмото-дза вернул себе популярность, которая оказалась теперь, может быть, еще большей, а молодой рассказчик, чье положение упрочилось, стал знаменитым сотрудником стареющего Тикамацу.
224
«Битвы Коксинга» — длинная пьеса, и современным зрителям обычно показывают только отдельные части. Даже при кукольном исполнении полное ее представление продолжалось с утра и до позднего вечера. Пьеса сложна и полна драматических эпизодов в той же мере, в какой ими была богата изображенная в ней эпоха — время жизни Коксинга (1624— 1662), несколько лет которой, что следует отметить, приходятся на годы юности Тикамацу.
Исторические записки рассказывают об этих подлинных событиях. Чжэн Цзи-лун, также известный как И-цюань, портной из китайской провинции Фуцзянь, прибыл в Японию, где женился на жительнице Хирадо на Кюсю. Он стал пиратом, торговал, занимался разбоем и накопил огромное состояние. Ставка его находилась на Тайване, и под его началом было более 3000 судов.
Правительство минского Китая предоставило ему должность высокого ранга в провинции Фуцзянь, но, когда династию Мин свергли, он предложил свои услуги новому императору, Тан-вану, и в награду получил княжеский титул. Сын же его Чжан Чэн-гун, или Фукумацу (более известный под именем Го Син-е, или Коксинга), получил титул маркиза. Но Чжэн Цзи-лун, решив, что Тан-вана не стоит поддерживать, организовал против него заговор, который провалился. Его арестовали и бросили в мрачную темницу в Пекине. Коксинга занял место отца и заявил, что восстановит династию Мин. С большим искусством он приобрел огромную власть и после нескольких блистательных успехов столкнулся с маньчжурами, чье вторжение привело к беспорядкам во всей Китайской империи. Наконец, Коксинга пришлось искать безопасного прибежища на Тайване, где ему легко удалось свергнуть голландских завоевателей и объявить себя «королем» острова. В тот момент, когда Коксинга, используя объединенные усилия китайцев Тайваня, в очередной раз готовился к восстановлению в Китае династии Мин, он заболел и, хотя ему было всего тридцать девять лет, не смог оправиться от болезни, от которой и умер в 1662 г. Обладая необычайным мужеством, предприимчивостью и ловкостью, он создал для себя королевство и предоставлял убежище всем сторонникам минской династии, но, к несчастью, не смог использовать своих честолюбивых замыслов на благо империи.
Миямори так пересказывает театральный вариант этого исторического события: «,,Битвы Коксинга" — пьеса, рассказывающая о судьбе Тэй Сэйко, сына Тэй Сирё — китайского подданного династии Мин — от его японской жены. Сирё отправился в Японию по делам и несколько лет жил в Хирадо на Кюсю, где торговал с приезжавшими туда голландцами,
15 Заказ 1438
225
смог накопить большое состояние и, вероятно, снедаемый жаждой военных подвигов, усердно изучал артиллерийское дело. Позднее этот авантюрист перебрался на Тайвань, где вскоре стал главарем пиратов, выстроил укрепленную крепость и пользовался на острове таким влиянием, что минский двор назначил его управляющим не только самого острова, но и большого округа в Южном Китае. В последующие годы, когда китайская столица и Нанкин были захвачены татарскими (маньчжурскими) завоевателями и император был вынужден искать убежища в своем замке в Южном Китае, Сирё мужественно сражался во славу его величества. После гибели императора он счел невозможным противостоять войскам новой династии и сдался в плен, несмотря на все протесты своих родных и приверженцев. Однако армия его сына Сэйко оказала татарам такое упорное сопротивление, что они в отместку убили Сирё. Это побудило Сэйко возобновить сопротивление вражеским войскам. В течение нескольких лет он владел многими городами в Южном Китае, но численность его армии снижалась, и он вынужден был покинуть эти места и перебраться на Тайвань, откуда предпринял последнюю попытку восстановить династию Мин. К несчастью, прежде чем его усилия принесли плоды, он скончался сравнительно молодым от внезапной болезни» [52, с. 61—67].
В пьесе сыном Коксинга, или Сэйко, является Ватонаи, огромный и ужасный, обладающий сверхчеловеческим мужеством и жестокостью. Он пытается восстановить минскую династию, которой служил его отец, прежде чем поселился на Кюсю и женился. Вместе с родителями он отправляется в Китай, где вступает в контакт с китайским генералом Канки, который женат на его сводной сестре. «Прибыв в Львиный Замок, Ватонаи разрешает своей японской сестре оставаться в качестве заложницы, а его китайская сестра Кинсо, которую он впервые увидел, обещает, что она попытается уговорить своего мужа принять предложение Ватонаи. Если ответ будет благоприятным, она бросит белую пудру в ручей, протекающий под окном, если же ответ будет отрицательный — вода окрасится в алый цвет. Генерал не желает признать незнакомого ему японского шурина, тогда Кинсо закалывает себя, и ручей, впадающий в Хуанхэ, окрашивается ее кровью. Ватонаи, стоящий на каменном мосту в ожидании знака, который должна ему подать сестра, узнает, что ответ был отрицательным. После того как в страшной агонии умирают мать и сестра Ватонаи, Канки соглашается помочь ему» [43, с. 261].
В этой пьесе мы видим, насколько театральным было воображение Тикамацу, особенно когда он изображает крайнюю степень сомнения, напряженный момент принятия решения
226
и трагические эпизоды. Известный японский. комментатор замечает, что «ловкость его сценической техники, величественность сцены, пышные костюмы, необычайно красивый стиль и прежде всего патриотические чувства (герой пьесы — полуяпонец, полукитаец — изображается как японский патриот) явились причиной того, что „Битвы Коксинга" очаровали зрителей Осака».
Анализируя эту поэму после подробного пересказа содержания пяти актов, В. Г. Астон замечает: «Чтобы отвлечь внимание читателей (а еще в большей степени зрителей) от фантастичности рассказа, автор обильно использует звучный и живописный язык, демонстрирует проявление благородных чувств и прибегает к нравоучительному красноречию. Герои совершают и произносят много нелепого, но они говорят и ведут себя, как то и подобает трагическим героям. Можно добавить, что даже в самых безумных сценах Тикамацу всегда использует драматизм ситуации и обнаруживает способность создавать яркие диалоги. Скука не входит в число многочисленных недостатков „Кокусэнъя Кассэн"» [2, с. 287].
Если верить словам Гамлета, что «подмостки — веревка для шеи короля», то Тикамацу, возможно, удалось продемонстрировать tour de force 6, хотя трудно сказать каким образом: то ли «взывая к совести», то ли извлекая на свет политические события.
«Похождения Кодзёро из Хаката» 7
На протяжении нескольких последующих лет в сотрудничестве с молодым своим помощником Масатаю, к которому Тикамацу испытывал уважение и симпатию, драматург продолжал создавать для кукольного театра новые пьесы, превосходно отвечающие таланту сказителя. Поскольку последний был более склонен к произнесению драматических диалогов и изображению человеческих характеров, чем к речитативному повествованию, Тикамацу совершенствовал свое мастерство по линии более тонкой передачи человеческой психики преимущественно в области бытовых пьес. Такое приспособление к театральному напарнику породило гармоничный союз, способствовавший росту славы и драматурга, и сказителя, так что в последующие десятилетия были созданы, возможно, величайшие шедевры Тикамацу. В их число входили: «Гондза и Осай», «Похождения Кодзёро из Хаката», «Семейство Тайра и остров Него», «Самоубийство влюбленных на острове Небесных сетей», «Битва лягушек», «Самоубийство влюбленных
15:
227
накануне праздника Косин» и «Конь на привязи». Мы позволим себе сказать несколько слов о некоторых из них.
«Похождения Кодзёро из Хаката» — пьеса, типичная для последнего периода творчества Тикамацу. Она насыщена юмором и изобилует живыми диалогами. Как обычно, в ней сложный, довольно напряженный сюжет и, если не считать одного трагического момента, счастливый и неожиданный конец. Главный герой истории — киотоский торговец Сосити, который во время одной из своих многочисленных поездок по делам в Нагасаки влюбляется в Кодзёро, куртизанку из Хаката. Он обещает выкупить ее из публичного дома, где жизнь для нее ненавистна. Однако по пути в Симоносэки он случайно обнаруживает, что корабль, на котором он едет, везет контрабандный груз, и шайка негодяев, чтобы избавиться от свидетеля, бросает его в море. Лишенный денег и товаров, Сосити пешком отправляется в Хаката, где объясняет миловидной и любящей его Кодзёро тяжесть своего положения. Тем временем в чайном домике появляются контрабандисты и обнаруживают его. Владея легко добытыми деньгами, они в порыве донкихотского великодушия предлагают Кодзёро выкупить ее ради неведомого им любовника. Когда же Сосити признается, что он и есть любовник, они выдвигают условием его вступление в их шайку. В этом случае они помогут Кодзёро выйти за него, ему же придется участвовать в их грязных делах, иначе его ждет смерть, а Кодзёро — страдания на всю жизнь. Сосити, бывший прежде человеком честным и неподкупным, принимает условие. Он становится мошенником, наживает богатство и женится на Кодзёро. Однако его честный старый отец после тщетной попытки что-то изменить доносит на сына и выдает контрабандистов властям. Сосити и Кодзёро вынуждены бежать от правосудия, но их ловят и арестовывают. По дороге им попадаются остальные преступники, которых ведут тоже закованными в кандалы. Не в силах перенести позора, Сосити кончает жизнь самоубийством. Но поступок его излишне поспешен, ибо судебные чиновники зачитывают всем заключенным императорский указ, который гласит: «Хотя сноситься с большими судами и заниматься контрабандой — тяжкое преступление, за которое следует карать смертной казнью, но по случаю радостного события — вступления на престол — его императорское величество милостиво дарует всем преступникам жизнь».
Убитая горем, Кодзёро решает последовать за мужем в Страну Мрака, но старший полицейский чиновник советует ей служить свекру и возносить молитвы за упокой души своего мужа. «А слух о судьбе жестокой Кодзёро из Хаката и Коматия Сосити, — заканчивает драматург, — так недолго
228
живших богато, передавался из уст в уста сперва по ближним местам, а впоследствии далеко-далеко, по северным и по южным округам. . .»
В этой пьесе есть один необычайно веселый эпизод, когда атаман контрабандистов, некий Куэмон, рассказывает в чайном домике, как он приобрел несметное богатство. Это ему удалось, вполне серьезно убеждает он, после того как он ударил в колокол «Мукэн» в одном из храмов, хотя этому должно предшествовать соблюдение многочисленных строгих предписаний из находящейся в этом храме «Книги богача». Куэмон вынимает из-за пазухи листок подозрительного вида и начинает читать. За фантастической историей о происхождении и значении колокола «Мукэн» следуют указания:
«Да в колокол этот ударить не просто. Нужен долгий искус хуже вериг. Тяжелей, чем монашеский постриг. Правил со сто! Первое правило бросит в дрожь, проймет до костей: лучше восемьсот земных страстей, чем потерянный грош! Второе скажу как другу: десять лет не носи ни парчи, ни шелка, ни чесучи, а одну дерюгу. Третье — хорошенько приметь его! — не ложись на мягкий матрац, а если постель жестка, постилай дырявую циновку под бока. Четвертое — кто хочет стать богачом, тому нужда нипочем. Тому поститься не лень! Он не тратит ни масел, ни круп. Два раза в день пьет жидкий чай и ест жидкий суп, как готовят в городе Нара. Он расточителям-мотам не пара! Так-то! Всякую сладость земную поправ, ешь и пей без приправ! Пятое правило: даже и двух праздников не справляй в году. А если случится тебе попасть на праздник, то не задерживайся, не глазей на процессии и на танцы, не толкайся среди зевак, а подоткни подол и — тёко-тёко-тёко-тёко! — беги поскорее домой! Шестое — правило простое: если что на дороге лежит, — остановись, нагнись и поднять не ленись! И седьмое, — если споткнешься и упадешь, если голову ушибешь, если тебя прибили, наземь свалили, — не вставай без прибыли, хоть горсть пыли а захвати в горсти! И еще это правило — не ленись, вставай до рассвета и до поздней ночи трудись. Надо взять в толк раз навсегда: денег не давать в долг без залога. Этому правилу следуй строго, не то — беда! Душа просит: то то купи, купи то, то, — не покупай! Лунная ночь? Не зевай, вставай, не спи, борись с зевотой, работай! На мелкие чурки пили дрова старательней и любовней! Не выгребай золы из жаровни, пусть угли тлеют едва-едва! Котел очищая, неосторожно сажу на свалку бросаем мы. А этой сажей можно брови вычернить вместо сурьмы. Старая солома? Без сожаленья мы кидаем ее на дороге. А солома лечит ноги от лома, от онемения. Колодец засох? В хозяйстве и сухой колодец не плох: в нем поместится старая лестница. Если твой разум не прост,
229
даже крысиный хвост — божий дар! Пригодится и он — для шильца футляр. Дождь вымочит зонт — расправь аккуратно, не то на бумаге выступят пятна. Соседу в долг не давай ни кружки, ни каменной ступки, ни мельницы-вертушки, ни худого горшка, ни точильного круга, и даже для друга — ни сушеной рыбы куска! А когда возвратят, осмотри строго: нет ли щербинки, нет ли зазубринки? Где потерлось немного? Гони гостей: какой от них прок? Дорого стоит каждый гость. Прячь каждый гвоздь. Каждый гнилой шнурок. В работе дорог и день и час. Равняйся по тем, кто беднее нас. Замок, задвижка, болт, засов, мелкие гирьки у весов, укладки, кладовки, обманы, уловки, счета и счеты, списки, отчеты, закладные расписки. . . Терпи и копи! Дай зарок: все, что пожирней, подобротней, — откладывать впрок! Да! Правил не сотня, а сотни! Не выдержишь — останешься ни при чем. А выдержишь — станешь богачом. Выдержишь — брось колебания! Бояться не надо! Прямо поезжай в Саё-но Накаяма и в „колокол вечного ада", в колокол знаменитого храма ударь без содроганья — бом-бом-бом!» 8.
Юмор этого ростовщического «совета Лаэрту» в том, что Куэмон, атаман контрабандистов, подогретый сакэ и добытыми нечестным путем богатствами, излагал весь этот комплекс заповедей на потеху, а не в назидание обитателям публичного дома, где он развлекался и предавался разгулу. Хозяин публичного дома добавляет: «Хорошо, что целый свет веселые затеи не оставил и не идет дорогой строгих правил. Все любят веселиться. А не то б и заведенью моему был гроб и крышка!»
В своем исследовании «Экономические аспекты истории Японии» Такэкоси Есабуро отмечает: «Вождь пиратов Кэдзори Куэмон в пьесе Тикамацу „Хаката Кодзёро намимакура" — не плод фантазии автора, а не кто иной, как Ито Кодзаэмон. . . Он не только ввозил железо, но и вывозил его после переработки, а из-за необходимости приобретать оборудование и инструменты для переработки железа в конце концов стал контрабандистом. Его суда с контрабандным грузом, якобы принадлежащие правительству и являющиеся собственностью князя Мацудайра из провинции Тикудзэн, плавали повсюду и занимались активной деятельностью, которая принесла Ито такие огромные доходы, что он стал одним из богатейших людей на Кюсю. Считается, что у него было около 50 ООО каммэ серебра, сумма, составлявшая половину состояния семейства Коноикэ из Осака, являвшегося тогда самым богатым в Японии. Ито вел в Хаката роскошный и расточительный образ жизни, а его огромное состояние позволяло ему заводить друзей среди знати из окружения местных феодальных князей, хотя его
230
социальный статус простого горожанина не позволил бы занимать того положения, какое принесло ему богатство. В августе 1667 г. один из его кораблей потерпел крушение и зашел в гавань Ваниноура на острове Цусима. Когда портовые чиновники обследовали судно, то обнаружили, что оно нагружено мечами, кинжалами, доспехами и ружьями. Чиновники прекрасно понимали, что если сообщить о случившемся в Нагасаки, то скандал будет замят благодаря крупным взяткам, которые наверняка дадут сообщники Ито. Поэтому они направили посыльного к князю Хаяси Танго-но-ками, дайкану [высокопоставленному чиновнику, представляющему интересы сегуна] ... и испросили его указаний... Наконец крупного торговца удалось арестовать и казнить. К смерти был приговорен также его тесть, который покончил с собой, и девушка по имени Тэйка из квартала Маруяма в Нагасаки, которая бросилась в море. . . Курода и его чиновники прекратили дальнейшее расследование этого дела о контрабанде, но представитель сёгуната — дайкан придерживался иного мнения и после тщательного расследования распял пятерых, обезглавил четырнадцать человек, выставив их головы на воротах тюрьмы, и пятьдесят одного человека отправил в ссылку» [77, т. 2, с. 184].
Как и в других случаях, мы видим, что Тикамацу положил в основу театрального сюжета реальное событие из современной жизни и приспособил его для кукольного театра.
«Самоубийство влюбленных на острове Небесных сетей»
В октябре 1720 г. Тикамацу посетил древний синтоистский храм в Сумиёси, близ Осака, и в тот момент, когда он развлекался с приятелями в ресторане, до него донеслось известие о двойном самоубийстве влюбленных по имени Дзихэй и Кохару. Сопутствующие этому событию обстоятельства показались драматургу интересными, и он немедленно приказал носильщикам как можно скорее доставить себя домой. Дома он сразу же взялся за бумагу и кисть и, не переводя дыхания, начал развивать пришедшие ему в голову мысли пока не закончил пьесу. Так родилась пьеса «Самоубийство влюбленных в Амидзима», которая впервые была исполнена на сцене Такэмото-дза в декабре 1720 г. и была очень тепло встречена зрителями. Снова перед нами запутанный узел любовных отношений, распутать который можно только разрубив его. И снова центральная тема — верность в любви. Герои изображены с такой симпатией, что один критик заявил: «Даже если бы Тикамацу
231
больше ничего и не создал, благодаря таким героям, как Дзихэй и Кохару, его имя осталось бы в веках» [43, с. 303].
У Дзихэя, процветающего молодого торговца бумагой, есть жена, которую ему сосватали родители, и двое детей. Не испытывая никаких чувств к любящей его жене, он влюбляется в Кохару, красавицу из чайного домика «Кинокуния» в квартале наслаждений Осака, и собирается выкупить.ее из кабалы при первой возможности.
Кохару отвечает взаимностью на его любовь и принимает решение: или стать его женой, или умереть вместе с ним. В порыве страсти Дзихэй готов ради этой девушки бросить семью и свое дело. Он приходит в смятение, когда узнает, что у него есть богатый соперник, намеревающийся выкупить Кохару и распространяющий унизительные слухи о том, что легкомысленная красавица его забыла.
Чтобы выяснить правду и спасти Дзихэя, его старший брат, торговец Магоэмон, под видом самурая посещает Кохару.
Дзихэй, спрятавшийся за чайным домиком, подслушивает, как она признается Магоэмону в любви, добавляя, что она скорее умрет, чем позволит кому-либо другому выкупить ее. Такой отказ от былых обещаний убеждает Дзихэя, что Кохару лжива и расчетлива. Его горе и ярость не знают границ. Он возвращается домой и в присутствии брата подписывает обязательство порвать с Кохару и забыть неверную.
Тем временем его жена О-Сан, веря в искренность прежних любовных клятв Кохару и в ее заявление, что она скорее умрет, чем примет другое покровительство, проникается к ней женским состраданием. В тот момент, когда Кохару отрекается от своей любви к Дзихэю, чтобы спасти от позора его семью, О-Сан решает, что Дзихэй должен любой ценой выкупить девушку из чайного дома, чтобы сохранить и чувство собственного достоинства, и репутацию человека слова в деловых кругах. Со слезами она отдает Дзихэю все свои сбережения, дорогое кимоно и прочие вещи, и Дзихэй, который разрывается между признательностью к жене и страстью к девушке, решается заплатить выкуп. В это время в доме Дзихэя появляется разгневанный отец О-Сан, который пришел, чтобы увести ее с собой. Следует трогательная сцена, когда сопротивляющаяся О-Сан нечаянно будит спящих детей, которые начинают плакать: «Гадкий дедка! Куда ты тащишь мамочку? А с кем теперь мы будем спать? . . Не уходи!» И дети, плача, тянутся за ней. «О как мне жаль детей! Ведь никогда без матери, одни, они не спали. Не надо плакать, детки! С этой ночи не с мамой будете вы спать — с отцом. Дзихэй! Вы позаботитесь о детях? Не забывайте поутру давать им по маленькой пилюле Куваяма,
232
еще до сладких лакомств, только-только они проснутся. О, какое горе! . .»9.
Отчаявшийся, раскаявшийся Дзихэй и Кохару, против которых словно бы ополчился весь мир, наконец решают, что они должны умереть вместе. Оплатив счет, Дзихэй выходит из «Кинокуния» и поджидает Кохару на улице. В этот момент разыгрывается патетическая сцена, когда появляется его старший брат, опасающийся, что Дзихэй совершит какое-нибудь безрассудство. Он обращается к маленькому сыну Дзихэя, которого несет на спине, со словами: «Бедный мальчик! Дзихэй — никуда не годный отец. Несчастный Кантаро так замерз, а он подвержен простуде». Дзихэй, скрывающийся в тени, слышит его слова.
Совершающий свой обход ночной сторож кричит: «Осторожней с огнем!» — и стучит в свою колотушку, звук которой разносится по пустынным улицам. Наконец, крадучись, Кохару выходит на свидание.
Взявшись за руки, отчаявшиеся любовники идут, словно в трансе, пока место ее закабаления не остается позади. Они останавливаются, не зная, куда идти. После некоторого колебания они решают пойти в направлении противоположном тому, где луна отражается на глади вод реки Сидзими. Они отправились на восток.
«Они торопятся. . . Так чертят торопливо коноэ-скорописью роли для актеров. Как шапочки у мальчиков-актеров всегда окрашены в пурпурный цвет, так и безумцы, не знающие удержу в любви, всегда к печальному концу приходят.
,,И все же понятно, что человек колеблется и медлит на этом горестном пути, когда он под луной идет туда, где должен он расстаться с жизнью. И он не в силах взглянуть в лицо своей судьбе в пятнадцатую ночь луны, когда осенняя редеет тьма. . . Иней, что падает морозной ночью и поутру опять исчезнет, как все на свете исчезает. Но, прежде чем исчезнет иней, влюбленные должны расстаться с жизнью. . . Их жизнь развеется как нежный аромат узорных рукавов Кохару. . ."
Дзихэй грустит:
— Хотя родился я в приходе мудрого Митидзанэ, но я убью тебя и сам погибну. Так в чем причина нашего несчастья и где его источник? В том, что не было во мне благоразумья настолько, чтоб наполнить до краев хоть маленькую ракушку сидзими! Вот „Мост ракушечный", такой короткий, как наша жизнь. . . Еще короче, чем осенний день. Тебе всего лишь девятнадцать лет, мне — двадцать восемь. Но сегодня ночью с тобою до порога я дойду, где, как изношенную ветошь, мы отбросим прочь земные наши жизни. Мы поклялись до
233
старости прожить, не разлучаясь, в преданной любви. Но вместе прожили всего три года и повстречали гибель. . . „Мост Фу-наири" — и чем быстрее мы его минуем, тем мы быстрей приблизимся к воротам, ведущим в преисподнюю. . .
Так жалуется и скорбит Дзихэй. Кохару прижимается к нему, ища опоры. . . и тихонько шепчет:
— Мы странствуем уже по преисподней?
Они глядят в глаза друг другу. Слезы глаза им застилают. . . Сквозь туман они друг друга видят так неясно. . .
— Если на север мы пойдем, еще хоть раз смогу взглянуть на дом родной. . . Но, нет, не оглянусь! Я отгоняю мысли о грустном будущем моих детей, о скорбной участи моей жены. Не к северу ведет наш путь, а к югу. . .
Кохару печального Дзихэя утешает:
— О чем скорбеть? Мы в этом бытии дороги не могли соединить. Но в будущем рождении, я верю, мы возродимся мужем и женой. О, и не только в будущем рожденье, но в будущем. . . и будущем. . . и дальше — в грядущих возрожденьях, всегда мы будем неразлучны! Так о чем же грустить! Как только наступало лето, красиво переписывала я с молитвой „Сутру лотоса" святую: „Пусть мы за гробом вновь родимся вместе, в едином лотосе. . ." — так я молилась богине Каннон, самой милосердной и самой сострадательной богине. . . О, если б я могла ценою жизни спасти всех брошенных моих подруг, всех преданных, поруганных, забытых, несчастных девушек на всей земле, чтоб от любви они не погибали.
Увы, неисполнимое желанье, мольба простой души, неискушенной в познании возмездия и кармы! . . Но утро близится. В заливе Нода поверхность вод дымится. . .
Дзихэй торопит возлюбленную:
— Скоро утро. Слышишь удары колокола в храме, голос металла гулкого? Пора! Умрем. Мы разве можем дальше жить? . . Идем.
И с яшмовыми четками в руках, сто восемь пересчитывая зерен, нанизанных на нить их бренной жизни, увлажненных жемчужинами слез, они проходят несколько шагов, молясь: „Да охранит нас Амитабха!"
Вот перед нами Амидзима — Остров Сетей Небесных. . . Здесь странствию конец. Здесь суждено остановиться им. Здесь возле рощи бамбуковой, вблизи от храма Дайте, где через гребень шлюзовых ворот, переливаясь, падает струя, — они умрут.
Дзихэй остановился:
— О, если без конца блуждать мы будем, то, верно, мы нигде не скажем: „Вот место нашей смерти!" Пусть место нашей смерти будет здесь» 10.
234
Далее следуют душераздирающие споры о том, каким способом следует им перейти в мир иной. Они опасаются позора, который падет на семью Дзихэя, и возмездия, которое ждет его в следующей жизни в том случае, если они умрут в любовном объятии, потому как у него есть жена и дети.
Срезав мечом волосы, Дзихэй объявляет себя монахом, покинувшим мир, не обремененным ни женой, ни детьми, ни земными богатствами, тем самым избавляя себя от угрызений совести. Кохару следует его примеру, тоже объявив себя монахиней, распрощавшейся с миром и поэтому ни перед кем ни имеющей обязательств. Они совершают грустные и ужасные приготовления. Потом Дзихэй онемевшей от холода рукой закалывает Кохару мечом, совершает соответствующий буддийский ритуал и вешается у реки на пурпурном поясе, взятом у Кохару.
С и н д з ю
Изучая творчество Тикамацу и его эпоху, невозможно не упомянуть о распространенных в то время самоубийствах влюбленных, ставших одной из характерных черт японской действительности.
Мы не будем рассматривать предысторию самоубийств влюбленных, поскольку это уже сделали X. Хаггинс и О. Си-мидзу в «Сокровенных рассказах старой Японии». Впервые в токугавской литературе упоминание о дзёси, или синдзю, появляется в 1640 г. в неприглядной истории из «Мокудзу-моногатари», где причиной самоубийства послужила далеко не платоническая любовь трех юных гомосексуалистов. Затем появились истории о девушках, обычно из квартала Есивара, которые кончают с собой на могилах своих возлюбленных, убитых или казненных. Однако только в эпоху Гэнроку становится популярным заранее подготовленное самоубийство. Таким двойным самоубийством влюбленных — синдзю — обычно завершалась любовная связь, которая с точки зрения семьи и правосудия считалась изначально недопустимой и безнадежной. Это был последний вызов, бросаемый в лицо всегда торжествующей действительности. Подобную ситуацию, когда не остается ничего иного, кроме как покончить с собой, психологи называют «бегством от действительности».
На смену слову дзёси — «смерть во имя любви», использовавшемуся в более возвышенном смысле, пришло слово синдзю, которое, как считают, впервые использовал Сайкаку в заглавии книги «Синдзю-си» («История самоубийств влюбленных»). Первоначально слово синдзю имело смысл «хранить верность
235
одному человеку», но оно считалось вульгарным и было в ходу только в публичных домах. Социальная система Японии требовала строжайшего соблюдения целомудрия всеми уважающими себя женщинами как из самурайского сословия, так и из среды торговцев и крестьян. Радостей же любви более легкого характера волей-неволей приходилось искать в «веселых кварталах». Неизбежно между отдельными посетителями и часто прекрасными, но заключенными в кабалу девушками иногда вспыхивала искренняя любовь. Конечно (за редким исключением), брак был невозможен, и, если любовь брала верх над здравым смыслом, оставалось одно — соединиться в смерти. «Таких синдзю-датэ было много. Женщина могла дать клятву, обязуясь хранить верность как жена мужу. Часто в качестве доказательства любви посылалась прядь волос, сорванный ноготь и даже отрезанный кончик пальца. Женщины татуировали на руке имя возлюбленного. Но величайшим подтверждением искренности и верности была клятва умереть вместе с любимым человеком. Происходило не одновременное, а обычное самоубийство, своего рода принесение жертвы на могиле своего возлюбленного, нечто вроде добровольного „самосожжения вдовы". Подобный обычай не известен больше нигде в мире, ни у каких других народов, которых японцы наивно считают неспособными на проявление чувства подлинной преданности и самопожертвования, в атмосфере которых они сами выросли. Таким образом, смерть стала ассоциироваться с синдзю-датэ, и подобная смерть называлась синдзю-си. Со временем слово си отпало, и синдзю стало означать „верность и преданность даже в смерти", превратившись в синоним слова дзёси» [34, с. 52].
Считается, что первое настоящее самоубийство влюбленных произошло в ночь на 17 мая 1683 г. Это событие настолько всех удивило и потрясло, что немедленно была написана пьеса на этот сюжет, которая шла одновременно в трех театрах Осака. Это была первая в Японии «трагедия синдзю».
Сразу же после того и на протяжении всего периода Гэнроку подобные самоубийства стали почти повальными, хотя касались почти исключительно представителей высших сословий и обитательниц «веселых кварталов», которые относились к жизни и любви с большей серьезностью, чем их сестры из низших слоев общества. Один из авторов того времени, возможно с некоторым преувеличением, отмечал, что «самоубийства влюбленных стали столь же частыми, как смерть от туберкулеза». Опубликованное в период Гэнроку сочинение «Синдзю окагами» представляет собой сборник историй о синдзю, происшедших в одном только Осака за 15 лет. В 1703 г. появилось еще одно сочинение, «Нансуй манъю», в котором приводились
236
имена и возраст всех тех, кто к тому времени совершил синдзю. Очевидно, этот обычай не только стал очень распространенным, но и привлекал к себе внимание хроникеров эпохи.
Тикамацу, Кайон и прочие авторы оставили бесчисленное количество произведений о синдзю. Одна из пьес на этот сюжет, «Синдзю намида-но таманои», написанная Ки-но Кайоном, была поставлена в мае 1702 г. В этой пьесе Охацу, дочь торговца пряжей из Сакаи, влюбляется в приказчика Хисабэя. Их тайная связь раскрывается, и они, спасаясь от гнева ее родителей, вынуждены бежать. Впоследствии отчаявшиеся влюбленные решаются на самоубийство и вместе бросаются в старый колодец.
Немало популярных пьес на этот сюжет написал Тикамацу. Вероятно, наиболее известной из них была драма «Сонэдзаки синдзю», первая пьеса «натуралистической школы» японской драматургии. Считается, что творчество Тикамацу многим обязано распространению моды на самоубийства среди влюбленных. «Описанные им переживания в момент подготовки к смерти были настолько обворожительными, что некоторые недоумки, считая это очередной „забавой", горели желанием лично испытать, что же это такое, ничуть не заботясь о непоправимых последствиях». Какое-то время литература эпохи Токугава просто изобиловала историями о синдзю. Не только Кайон и Тикамацу, но и великий реалист Сайкаку положил их в основу сюжета многих своих эротических рассказов и повестей. Как отмечалось, упоминаниями о синдзю пестрели театральные и общественные хроники.
В период Кёхо (1716—1736), подобно большинству модных поветрий, популярность синдзю стала резко падать. Об этом упоминает и Тикамацу в пьесе «Самоубийство влюбленных в Амидзима», поставленной в декабре 1720 г. Сёгунское правительство в Эдо принимало меры для пресечения этого обычая. Впрочем, он и по сей день иногда встречается в Японии, особенно в период «сливовых дождей» — нюбай в конце весны, когда погода особенно усугубляет состояние депрессии и во многих случаях угнетающе воздействует на психику.
Видимо, сюжеты о самоубийствах представляли для театра особый интерес по двум причинам. С одной стороны, они позволяли развивать такие темы, как экономическая и сословная замкнутость, шаткость или крах материального благополучия, а также рисовать трагедию, вызванную силой обстоятельств. Тикамацу открыто признавал этот аспект, когда в пьесе «Нага-мати онна харакири» говорил: «Никто не умирает только из-за одной любви. Причины синдзю — отсутствие денег и неверность». Такие же материальные причины гибели из-за любви рисует и архиреалист Сайкаку. Однако Тикамацу обладал
237
воображением и поэтически воспринимал действительность, поэтому ему удавалось сгладить столь прямолинейное объяснение причин самоубийства, облагородив и приукрасив эмоциональное содержание душевной трагедии. Даже пьесы, в основе которых лежит жестокая реальность, написаны им столь изящно, а отвратительные аспекты действительности завуалированы столь поэтическим языком, что создавалось впечатление о личных симпатиях автора к синдзю, казавшихся олицетворением беспредельной чести и благородства, а не просто жаждой острых ощущений.
С другой стороны, драматурги не преминули использовать еще один соблазнительный аспект — духовное примиренчество. Жизнь трагична, но трагичность судьбы можно преодолеть, одержав победу над смертью. Это достигалось при помощи трактовки буддийского учения. После пересказа содержания пьесы «Икудама синдзю» Джордж Сэнсом попытался показать этически-философское значение подобных пьес Тикамацу. «Красивый молодой торговец, хотя у него есть невеста, влюбляется в очаровательную девушку из Есивара, которой покровительствует богатый купец. Чтобы расплатиться за свои развлечения и выкупить куртизанку, юноша присваивает деньги своего хозяина, страдая от мысли, что об этом станет известно, и приходит к выводу, что он больше не в силах совмещать свои человеческие чувства — ниндзё с моральным долгом — гири. Любовники решают умереть вместе. Когда он кинжалом закалывает девушку, та кричит: ,,Наму Амида Буцу" (,,0 всемогущий будда Амитабха!"). Девушка со стоном падает, а он в то время, как его любимая корчится в судорогах, продолжает вращать рукоять кинжала. Еще один поворот рукояти — и у нее начинается агония, взгляд мутнеет, наконец она испускает последний вздох и вступает на Темную Тропу.
Следует отметить, что во всем этом нет никакого религиозного содержания. В основе пьесы лежит этический принцип. Поэтому, когда несчастный юноша, покончив со своей возлюбленной, вынимает кинжал и, прежде чем вонзить его в свое тело, намеревается его вытереть, он вспоминает, что этот кинжал подарили ему родители. Воспользоваться им для самоубийства было бы выражением крайней непочтительности, поэтому юноша снимает с девушки пояс и вешается на нем. Но хотя он соблюдает конфуцианские нормы поведения, принимая последнее решение, он руководствуется чисто буддийской установкой: в прежнем рождении и он, и девушка совершили нечто неправедное, за что им и приходится страдать, но в одном из следующих рождений они станут мужем и женой. Это буддийское учение об инга — цепи причин и следствий, которое в популярной, нефилософской форме получило широкое распро
238
странение в Японии и укоренилось в сознании простого народа»
Тот же историк упоминает, что многие похожие истории, как, например, «Умэгава Тюбэй» («Гонец в преисподнюю»), представляли собой просто-напросто идеализированные версии современных событий, нашумевших историй. В то же время, как уже отмечалось, «они столь сильно воздействовали на умы впечатлительных зрителей, что число самоубийств влюбленных, присвоений денег и тайных побегов начало расти с поразительной скоростью, пока, наконец, в 1739 г. сёгун Есимунэ, опасаясь за моральный облик своих самураев, не запретил некоторые наиболее впечатляющие дзёрури. Несомненно, они отвечали народным вкусам, подобно тому как и Кабуки, считавшийся недостойным внимания самураев, вскоре начал привлекать к себе представителей всех сословий. Даже иные строгие ученые-конфуцианцы стали одобрительно отзываться о некоторых пьесах Тикамацу, обладавших, по их мнению, воспитательными качествами. Простому же народу нравились не моральные поучения, облеченные в драматическую форму, а волнение, которое у них вызывали эти пьесы» [66, с. 480].
Пьеса «Конь на привязи» («Кан-хассю цунагиума») была поставлена в Осака в январе 1724 г. Эта полуисторическая, полулегендарная история рассказывает о соперничестве претендентов на место сегуна в 988 г.". Стареющий сёгун Мина-мото Еримицу, у которого не было сына, решил назначить наследником одного из своих младших братьев — Еринобу или Ерихиро. Выбор предполагалось произвести с помощью жребия. В это время бунтовщик Ёсикадо, утверждавший, что происхождение от императора Камму дает ему право претендовать на этот высокий пост, вознамерился захватить власть в свои руки. Его сестра Коте становится фрейлиной при дворе сегуна, где занимается шпионажем в пользу своего брата-мятежника, но влюбляется в наследника Еринобу, которого и желает видеть будущим сегуном. Однако она обнаруживает, что у нее есть соперница — дочь первого министра госпожа Эйка, тоже влюбленная в Еринобу. Коте из ревности к госпоже Эйка
и устраивает им тайное свидание. Охваченный страстью, Ерихиро ночью приходит к госпоже, и она узнает об обмане только на рассвете, когда войска мятежника Ёсикадо нападают на особняк первого министра.
Эйка и Ерихиро спасаются через черный ход и, дабы избе
[66, с. 479].
«Конь на привязи»
убеждает его брата



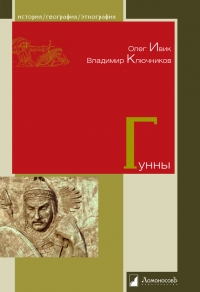
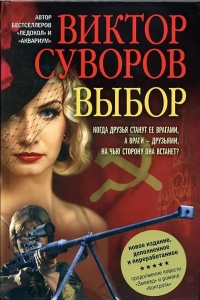
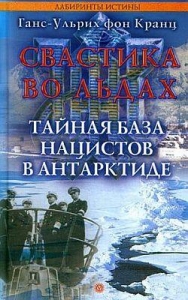
Комментарии к книге «Ренессанс в Японии», Кеннет Портер Кирквуд
Всего 0 комментариев