ВСТУПЛЕНИЕ, в котором автор поясняет историю этой книги, ее некоторые особенности и слегка перестраховывается от критики
Было время, гранили люди драгоценные камни и не знали, что стоит только слегка округлить их грани, чтобы получились оптические линзы, приближающие к нам небеса и на острие иглы открывающие мир невидимого. Сотни лет гляделись люди в зеркальце и не знали, что стоит только слегка его прогнуть, чтобы солнечный зайчик смог плавить металлы. Тысячи лет вертели люди в руках магнит и проволоку и не догадывались, что если этим магнитом над этой проволокой помахать, то рождается в проволоке электрическая энергия — диво нашего века. Тысячи лет имели люди дело с солями урана, как с красивой краской для глиняных горшков, и не соображали, что из солей урана выковываются ключи к воротам атомной энергии.
И вот пробирает человека внезапная дрожь: а что, если и я у себя за столом верчу в руках пустяковые безделушки и не знаю, что это ключ и замок от какого-нибудь технического чуда и что стоит только приладить их друг к другу, повернуть как-нибудь — и появится на свет великое изобретение?
Кровь волною приливает у него к голове, взгляд тревожно ищет по сторонам, шум неведомых машин уже слышится за его спиной. Человек всматривается в упор… и не видит ничего, кроме давно знакомых предметов.
Где же магический кристалл, чтобы приставить его к глазам и различить в туманной дали облик невиданной еще машины?
В чем секрет удачи великих изобретателей?
В чем их сила? Чем они брали?
Раздаются настойчивые голоса: а нельзя ли попробовать обучать техническому творчеству, как уже учат в консерваториях композиторов сочинять музыку, учат в студиях актеров творить на сцене, учат в Литинституте поэтов писать стихи? Учить изобретать!
Так ведь учат же, учат! У нас много втузов и техникумов, технических, курсов и кружков для людей всех возрастов — от пионера до пенсионера. Расширяет свою работу Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов, интересно и творчески работает Госкомитет по делам изобретений и открытий СССР. Даже наши недруги за рубежом, поражаясь мощи советской изобретательской мысли, массовости технического новаторства, объясняют их широтой и качеством нашей сети специального образования.
И все-таки не смолкают настойчивые голоса…
Значит, надо больше еще чего-то. Вероятно, велика потребность в книгах, освещающих общие вопросы изобретательского творчества, вводящих в творческую лабораторию изобретателя. Но ведь и подобных книг издается множество: здесь и книжки по психологии и логике изобретательского творчества, поучительнейшие исследования наших историков техники научные биографии изобретателей и их литературные портреты в сериях типа «Жизнь замечательных людей», мемуары наших конструкторов, брошюры, обобщающие опыт изобретателей, рационализаторов, новаторов, сотни статей в журналах и газетах. Горы отличной литературы, растущие с каждым годом! И все-таки читатель требует — давай, давай!
Ощущение потребности и дало мне смелость возвратиться к моей книжке «Секрет изобретателя», изданной в 1946 году. Я принялся ее править, потом перекраивать, потом дописывать. Незаметно тоненькая книжка растворилась в толстой рукописи, вместе с некоторыми из моих статей. Когда-то критики удивлялись ее названию — «Секрет изобретателя». Почему «Секрет», если книжка не раскрывает никаких секретов? Я принял критику и сменил название на менее обязывающее. Получилось тоже не очень точно. Если это и «трактат», то не чересчур ученый. Причина в том, что опыт жизни позволяет мне называться скорее публицистом, чем философом, скорее изобретателем, чем ученым-инженером. Отсюда — все особенности, все странности, все грехи. Честное слово, не знаю, как правильно назвать это смешение жанров, где рассказ соседствует с очерком, переписка с пьесой, репортаж с рецензией, памфлет с дифирамбом! Просто это занимательная книжка об изобретениях, написанная языком, доступным многим.
Техника в нашей стране перестала быть монопольной принадлежностью инженерной касты, стала делом общенародным. Миллионы приобщаются ныне к специальной технической терминологии, а в специальный словарь техники врывается общенародный язык, просторечие миллионов. О, коллеги мои, ученые-инженеры, не судите меня строго за то, что я часто убегаю от нашей с вами профессиональной терминологии! Согласитесь, что точнейшая фраза «аккумуляция соединения водорода с кислородом в цилиндрическом резервуаре с крупнопористым основанием» так же плохо удерживается в памяти, как вода в решете. Заразитесь либеральным отношением к литераторам хотя бы у врачей! Ведь врачи не требуют строго-настрого, чтоб в литературном портрете милой девушки ее косы назывались «развитым волосяным покровом», веснушки — «пятнистой пигментацией», а родинка — «папилломой». Дозвольте побаловаться кистью, поучиться рисовать наши машины той же самой палитрой красок, какой пишут, скажем, натюрморт. Проигрыш не очень велик, а выиграть можно; разумеется, чертеж точней натюрморта, но зато натюрморт доступней.
Здесь я должен глубоко поклониться памяти моих незабвенных учителей— писателей Ильи Яковлевича Маршака (М. Ильина) и Бориса Степановича Житкова. Я во многом подражаю им и горжусь, когда голос Ильина или голос Житкова воскресает на страницах этой книги. Но я был бы нерадивым учеником, если б ограничился простым подражанием.
В задушевных беседах с нами Илья Яковлевич как бы лучом рентгено-структурного анализа освещал строение, архитектонику своих классических книг. Возникала структура построения по принципу сильных связей. Главки-атомы крепко сцепливались в построение, правильное, как кристалл, и читатель, робея от восхищения, наблюдал, как растет эта алмазная громада.
Мы тогда же обсуждали возможность построения книги по принципу слабых связей, где отдельные главки сочетаются непрочно и прихотливо, словно атомы в затейливо завитой молекуле органического вещества. Где читатель легко разрывает на звенья логические цепи автора и затем соединяет их в иных, возникших в голове сочетаниях. Где движение мысли порождается не только контактом, но и дальней перекличкой и ауканьем главок.
Илья Яковлевич соглашался с возможностью и полезностью подобных книг. Он ссылался на опыт прошлого, где умами владели не только строгие трактаты, но и пестрые, казалось бы, собрания притч. Надо только, чтоб были такие притчи, из которых не возведешь кривой и лживой постройки. А для этого они должны быть правдивыми, взятыми из самой жизни. Ничего, если главки будут погромыхивать в переплете, как детали конструктора в ящике, важно только, чтобы это был такой конструктор, из которого можно собрать нечто полезное.
Сознаюсь, я сделал робкую попытку написать такую книжку, где брожение ума создавалось бы в узорном ходе русской беседы. Дать собрание пестрых притч, призванных будить, беспокоить, тревожить изобретатель-скую мысль и клонить ее к некоторым выводам. Каким? В том-то и сила притчи, что от нее, как иголки на спинке ежа, расходятся во многие стороны стрелки умозаключений.
Это книжка о путях изобретений и о качествах, необходимых изобретателю.
В толстых книгах по истории техники можно изредка встретить рассказы о том, как являлись изобретателям в головы их счастливые идеи. Мы пересказали в этой книжке часть из этих рассказов. Они прямо говорят о качествах, полезных изобретателю. К сожалению, достаточно ярких рассказов тут немного: изобретатели были заняты сильнее придумыванием своих машин, чем размышлениями над тем, как их изобретают.
Но не только по рассказам изобретателей можно догадаться о нужных изобретателю качествах. Можно сообразить кое-что, проследив за тем, как изменяются машины. Поглядишь на нынешнюю машину, мастерящую самые немудреные штуки, вроде спичечных коробков, заглядишься, как ловко и ладно сгибает она фанеру домиком и любовно, без складок оклеивает его пестрой бумагой; заглядишься и забудешь на миг, что нет в этих жирных железных пальцах ни капли живой крови, ни чуточки осязания, ни проблеска разума. Виден разум в машине…
Только не свой в ней виден разум, а того человека-изобретателя, который ее выдумал. Это он измыслил и предначертал пути, по которым проворно, дельно, без промаха мечутся ролики, тяги, эксцентрики и рычаги. Это тень его разума работает в машине, облеченная в железо.
Тень изобретательского разума живет в вещах, и вещи, созданные людьми, на века сохраняют следы их духовных черт, словно камни, хранящие оттиск древних растений. Палеонтологи делают раскопки и находят отпечатки — следы движения исчезнувших существ. Археологи делают раскопки и по найденным вещам восстанавливают духовный облик исчезнувших народов. Тут запечатлелись следы движения мысли людей, изменяющих вещи. Наблюдая вещи в их изменении, развитии, можно сделать кое-какие выводы? о внутренних свойствах людей, изменяющих вещи, о личных качествах изобретателя. Тут запечатлелись следы мыслительных фигур, приводивших изобретателей к изобретениям.
Потому пришлось включить в книжку рассказы, поясняющие некоторые законы изменения вещей.
Повторяю, это не учебник по истории техники и не ученый трактат о творчестве. Это некое собрание занимательных статей. Потому сюда включены и живые впечатления очевидца от его путешествий в Страну изобретений — в мир советской атомной техники, мир лазеров и электронных машин, верфей космических кораблей и цехов искусственных алмазов.
Здесь я должен с глубокой благодарностью упомянуть академиков А. П. Александрова, М. В. Келдыша, И. К. Кикоина, В. А. Кириллина, И. В. Курчатова, членов-корреспондентов Академии наук СССР Н. Г. Басова, Д. И. Блохинцева, Л. Ф. Верещагина, В. С. Емельянова, профессоров, докторов наук Л. Д. Белькинда, И. Н. Головина, Б. Г. Кузнецова, А. А. Хрущева, помогавших мне при написании и редактировании материалов, составивших разделы этой книги.
М. Ильин писал когда-то: для того чтобы человек стал мореплавателем и открыл новые земли, нужен не только учебник навигации, но и «Робинзон Крузо». Если наша книжка подтолкнет молодого человека в далекое и трудное плаванье по морям изобретательства, если эта книжка вселит в него смелую уверенность в том, что машины изменчивы, что они постоянно изменяются к лучшему и что их железные тела могут мякнуть, как воск, в пальцах у тех, кто охвачен горячим желанием их изменять, значит, наша работа не пропала даром.
Нам нужно много изобретателей.
Вот конструкторское бюро с рядами чертежных досок, установленных наклонно, подобно пюпитрам оркестра, и главный конструктор, проходящий между рядами с карандашом в руке, похожим на дирижерскую палочку.
На дворе весна. Распахнуты окна. Шелест шин и шорох шагов проникают в зал, и со стройки, вырастающей вдали, долетают гулкие, как гонг, удары, приглушенные расстоянием. Балка за балкой, линия за линией прибавляются к ее черному силуэту, вчерченному в синее весеннее небо. А в конструкторском бюро идет уже новая созидательная работа. Растет и усложняется серая призрачная паутина линий на листах бумаги, пригвожденной к чертежным столам.
Великая стройка в разгаре. На глазах вырастают новые жилые здания, строятся села, заводы, города. И в разгаре ход иной, незримой стройки — стройки в головах: рождаются новые творческие планы в головах новаторов, изобретателей, ученых. Не уложенные еще кирпичи, не возведенные еще мосты, не построенные еще заводы маячат перед их глазами.
И если слить все то, что чудится миллионам глаз, в одно грандиозное видение, то поверх строительных лесов громадных новостроек, во всю ширь необъятной нашей Родины раскинется образ преображенной страны, еще более сильной и прекрасной, образ страны коммунизма.
ГЛАВА ПЕРВАЯ, где начинается неспешное обсуждение признаков, отличающих всякое изобретение; разговор идет о новизне, но прерывается горькими размышлениями о том, почему приобретатели богатеют, а изобретатели беднеют и разоряются; перед читателем возникают траурные видения пантеона самоубийц, завивается вихрь некоей стихии, но — спокойствие! — рассуждения возвращаются в прежнее русло и в сравнительном сопоставлении шила и шарика доказывается, что важнейшим признаком всякого изобретения является новый, качественно своеобразный эффект
1.1.
Совершенно очевидно, — и с этим никто не станет спорить, — что важнейшая черта настоящего изобретения, отличающая его от других технических выдумок, это новизна. Только та техническая выдумка, которая нова и никому еще не приходила в голову, может считаться изобретением.
Размышляющих над одной и той же технической задачей и старающихся выдумать новую машину можно сравнить со спортсменами на беговой дорожке. Все они бегут к финишу, но изобретателем назовут лишь победителя в беге, того, кто, домчавшись первым, оборвет ленту. И ему вручат, как победный диплом, красивую грамоту с печатями, озаглавленную «Патент на изобретение». Патент — не только документ победы, утверждающий авторство. Это право изобретателя на его изобретение, это власть распоряжаться им, как он захочет. Отныне он хозяин своей выдумки, и, казалось бы, никто на свете без его спроса не вправе ее осуществить. Применение изобретения без согласия изобретателя считается кражей, и виновники должны бы отвечать по суду. Изобретатель может использовать свою выдумку сам, а может и продать патент — свое право на изобретение — любому предпринимателю, получить за это деньги. Тогда изобретение переменит своего хозяина. И с той поры исключительным правом распоряжаться изобретением завладевает предприниматель.
На этой купле и продаже построены все отношения между изобретателями и предпринимателями в капиталистическом мире.
1.2.
Буржуазные правоведы уверяют, что «путем патента имущественная выгода монополизируется в руках обладателя патента — и в этой исключительности все существо патента. Обладатель патента имеет исключительное право пользоваться изобретением в сфере промышленности и запрещать всякому другому это пользование; он один вправе изготовлять предмет изобретения, распространять, продавать и употреблять его для промышленных целей».
«Имущественная выгода», монополизирующаяся «в руках обладателя патента…» «Исключительное право пользоваться изобретением»… «Право запрещать всякому другому пользование изобретением»… «Он один вправе употреблять изобретение для промышленных целей».
Да, должно быть, исключительно большие права и силу приобретает в капиталистическом мире человек, получивший патент на изобретение! Отношения предпринимателя к изобретателю, отраженные в зеркале буржуазного правоведения, имеют почтительный и даже церемонный характер. Что-то вроде такого романа в письмах:
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ — ИЗОБРЕТАТЕЛЮ
Милостивый государь!
Наша фирма, с 1886 года успешно подвизающаяся на ниве отечественной промышленности, рада и горда узнать о Вашем последнем изобретении и льстит себя надеждой, что Вы благоволите принять ее услуги по реализации Вашей счастливой идеи на пользу общества за достойное вознаграждение.
Условия приобретения патента прилагаются.
Примите наши уверения в совершенном к Вам почтении Директор-распорядитель фирмы
Кноп.
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ
Директору-распорядителю фирмы г-ну Кнопу
Милостивый государь!
С величайшим сожалением вынужден решительно отвергнуть Ваше лестное предложение услуг по реализации моего изобретения и обратиться к другим фирмам, так как предлагаемые Вами условия приобретения патента ни в малой степени не соответствуют всей значительности сделанного мною вклада в технический прогресс и моей повсеместно признанной роли в развитии нашего общества.
Примите и проч.
Изобретатель, свободный художник
Такойто.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ — ИЗОБРЕТАТЕЛЮ
Свободному художнику г-ну Такомуто
Милостивый государь!
Наша фирма, существующая с 7886 года, готова на любые убытки и жертвы ради прогресса общества и процветания промышленности и, принося глубокие извинения, сообщает, что примет все Ваши условия переуступки нам патента на Ваше сенсационное изобретение. Пачку денег — скромный аванс—прилагаем.
Ключ от квартиры владельца фирмы препровождается при сем в отдельном пакете.
Заранее благодарный и признательный Вам, с совершенным к Вам почтением.
Директор-распорядитель фирмы
Кноп.
Нам пришлось выдумать из головы эту воображаемую переписку, потому что найти в архиве и процитировать что-нибудь подобное трудно. И не только в архиве, но и в современной действительности такой переписки не существует и быть не может.
Зеркало буржуазного правоведения — кривое, зыбкое зеркало. Отношения между людьми денежными и людьми труда отражаются в нем искаженно.
1.3.
Заглянем для проверки в другое зеркало, в его верную алмазную гладь, отшлифованную рукой великого классика-реалиста.
Внимание! Поднят занавес. Дают действие четвертое драмы А. Островского «Гроза». Выходят купец Дикой и изобретатель Кулигин без шапки. Все кланяются и принимают почтительное положение.
Д и к о й. Ишь ты, замочило всего (Кулигину). Отстань ты от меня! Отстань! (С сердцем.) Глупый человек!
К у л и г и н. Савел Прокофьич, ведь от этого, ваше степенство, для всех вообще обывателей польза.
Д и к о й. Поди ты прочь! Какая польза! Кому нужна эта польза?
К у л и г и н. Да хоть бы для вас, ваше степенство, Савел Прокофьич. Вот бы, сударь, на бульваре, на чистом месте, и поставить. А какой расход? Расход пустой: столбик каменный (показывает жестами размер каждой вещи), дощечку медную, такую круглую, да шпильку, вот шпильку прямую (показывает жестом), простую самую. Уж я все это прилажу, и цифры вырежу, уже все сам. Теперь вы, ваше степенство, когда изволите гулять, или прочие которые гуляющие, сейчас подойдете и видите, который час. А то этакое место прекрасное, и вид, и все, а как будто пусто. У нас тоже, ваше степенство, и проезжие бывают, ходят туда наши виды смотреть, все-таки украшение, — для глаз оно приятней.
Д и к о й. Да что ты ко мне лезешь со всяким вздором! Может, я с тобой и говорить-то не хочу. Ты должен был прежде узнать, в расположении я тебя слушать, дурака, или нет. Что я тебе — ровный, что ли! Ишь ты — какое дело нашел важное! Так прямо с рылом-то и лезет разговаривать.
К у л и г и н. Кабы я со своим делом лез, ну, тогда был бы я виноват. А то я для общей пользы, ваше степенство. Ну, что значит для общества каких-нибудь рублей десять! Больше, сударь, не понадобится.
Д и к о й. А, может, ты украсть хочешь; кто тебя знает!
К у л и г и н. Коли я свои труды хочу даром положить, что же я могу украсть, ваше степенство? Да меня здесь все знают; про меня никто дурно не скажет.
Д и к о й. Ну и пущай знают, а я тебя знать не хочу.
К у л и г и н. За что, сударь, Савел Прокофьич, честного человека обижать изволите?
Д и к о й. Отчет, что ли, я стану тебе давать? Я и поважней тебя никому отчета не даю. Хочу так думать о тебе, так и думаю. Для других ты честный человек, а я думаю, что ты разбойник, вот и все. Хотелось тебе это слышать от меня? Так вот слушай! Говорю, что разбойник, и конец! Что ж ты судиться, что ли, со мной будешь! Так ты знай, что ты червяк. Захочу — помилую, захочу — раздавлю.
К у л и г и н. Бог с вами, Савел Прокофьич! Я, сударь, маленький человек, меня обидеть недолго. А я вам вот что доложу, ваше степенство: «и в рубище почтенна добродетель!»
Д и к о й. Ты у меня грубить не смей! Слышишь ты!
К у л и г и н. Никакой я грубости вам, сударь, не делаю; а говорю вам потому, что, может быть, вы и вздумаете когда что-нибудь для города сделать. Силы у вас, ваше степенство, много; была бы только воля на доброе дело. Вот, хоть бы теперь то возьмем: у нас грозы частые, а не заведем громовых отводов.
Д и к о й (гордо). Все суета!
К у л и г и н. Да какая же суета, когда опыты были!
Д и к о й. Какие-такие там у тебя громовые отводы?
К у л и г и н. Стальные.
Д и к о й (с гневом). Ну, еще что?
К у л и г и н. Шесты стальные.
Д и к о й (сердясь более и более). Слышал, что шесты, аспид ты этакой; да еще-то что? Наладил: шесты! Ну а еще что?
К у л и г и н. Ничего больше.
Д и к о й. Да гроза-то что такое по-твоему? А? Ну, говори!
К у л и г и н. Электричество.
Д и к о й (топнув ногой). Какое еще там электричество! Ну, как же ты не разбойник! Гроза-то нам в наказание посылается, чтобы мы чувствовали, а ты хочешь шестами да рожнами какими-то, прости господи, обороняться. Что ты, татарин, что ли? Татарин ты? А, говори! Татарин?
К у л и г и н. Савел Прокофьич, ваше степенство, Державин сказал:
Я телом в прахе истлеваю, Умом громам повелеваю.
Д и к о й. А за эти слова тебя к городничему отправить, так он тебе задаст! Эй, почтенные! Прислушайте-ко, что он говорит.
К у л и г и н. Нечего делать, надо покориться! А вот когда будет у меня миллион, тогда я поговорю. (Махнув рукой, уходит.)
Д и к о й. Что ж ты, украдешь, что ли, у кого? Держите его! Этакой фальшивый мужичонко! С этим народом какому надо быть человеку? Я уж не знаю.
Так, в глубоком зеркале сцены правдиво отразились действительные отношения между купцом и творцом, изобретателем и приобретателем в обществе, где законы служат богачам, где власть денег еще неправеднее, чем законы. Отразились не как частный случай, но как жизненное обобщение гениального художника-драматурга. Промелькнули во всех поворотах: правовом, экономическом, политическом. Зеркало драматургии оказалось вернее зеркала буржуазного правоведения.
1.4.
Старинный французский ученый писатель и воздухоплаватель Гастон Тисандье собрал вместе биографии многих изобретателей и новаторов прошлых лет и задумался над тем, как озаглавить книгу. Он назвал ее «Мученики науки». Я читал эту книгу давно, но до сих пор стоят в памяти невеселые образы ее героев.
Француз Филипп Лебон бросил горсть древесных опилок в стоявший на огне сосуд. Густой дым повалил из горлышка и, вспыхнув, дал яркое пламя. Так зажегся первый, по сути дела, газовый рожок. Лебон понял, что дерево, каменный уголь под действием жары и без доступа воздуха выделяют светильный газ. Так начались злоключения изобретателя Лебона. Бюрократы Наполеона травили его, мешали опытам, гнали с работы.
И все же счастье улыбнулось изобретателю. В парижском отеле «Сеньеле» ему удалось создать рай газового света. Зелень сада сверкала изумрудом в лучах газовых рожков. Фонтан был так красиво иллюминован, что струи казались огненными. Перед толпами изумленных парижан изобретатель смелыми мазками рисовал богатую судьбу своего детища: газ, струящийся по обширной сети труб, освещает улицы будущих столиц.
Но «успех Лебона, — вздыхает Тисандье, — был непродолжителен. Враги и конкуренты делали ему тысячи неприятностей. Самые стихии, казалось, восстали против него. Скромное жилище его было разрушено бурей, а несколько времени спустя пожар истребил часть завода. Судьба, подобно богине древности, как будто ополчилась на злополучного изобретателя»… Вдруг трагическая и таинственная смерть положила конец его работам… Его труп «нашли на Елисейских полях с 13 кинжальными ранами в груди».
Тисандье видел, что в том мире, в котором он жил, судьба новатора, изобретателя складывается трагически, но причину трагедии различал смутно.
Вот Бернар Палисси, самородок XVI столетия, которого французы почитают с таким же уважением, как мы своего Ломоносова. Простой горшечник, выходец из народа, Палисси стал изобретателем, художником, физиком, химиком, агрономом, одним из основателей современной геологии и палеонтологии. Стихии природы не разрушали его завода, пожар не истреблял его жилища, но он сам сжег свой дом, сам, бывало, разрушал то, что строил. Под тяжелым гнетом нищеты, обремененный семейством, горшечник осваивал гончарное производство и пытался раскрыть неизвестный во Франции секрет изготовления фаянса и эмали, впоследствии обессмертивший его имя.
Он старался «найти способ изготовления эмали ощупью, как человек, блуждающий в потемках». Первые опыты были безуспешны. «Несмотря на постоянные издержки и значительную потерю труда, — писал Палисси, — я тем не менее ежедневно занимался толчением и растиранием новых веществ и строил новые печи, беспрестанно расходуя много денег и убивая материал и время». Он был принужден сам таскать и класть кирпич, обжигать известь, носить из колодца воду. Наконец печь его была готова, оставалось только приготовить и сплавить эмаль. Палисси простоял однажды шесть дней и шесть ночей перед огнем, не переставая подклады-вать дрова. Успех был рядом, но топлива не хватало. Палисси пошвырял в огонь все подпорки плодовых деревьев своего сада, сжег мебель, стал выламывать и подбрасывать в топку доски из пола. Соседи окружили его, потешаясь над тем, как сумасшедший жжет свой дом. Усомнившись в его рассудке, лавочники лишили бедняка кредита. Он очутился на улице с двумя грудными детьми без средств, по уши в долгах… «Но надежда не покидала меня, — писал Палисси, — и я принялся снова работать, силясь сохранить веселый вид, хотя на душе было далеко не весело».
Успех брезжил рядом, но к нему вела дорога страданий.
«Меня постигло новое несчастье, — пишет Палисси, — под влиянием жары, холода, ветра и дождей испортилась большая часть моей работы прежде, нежели она была готова, и мне пришлось раздобыть досок, планок, черепицы и гвоздей и заняться исправлением ее. Я разломал мою печь и сделал ее немного лучше прежнего, что дало повод многим, например чулочникам, башмачникам, сержантам, нотариусам и вообще разному сброду, говорить про меня, что я только тем и занимаюсь, что строю и разрушаю. Они не понимали того, что искусством моим нельзя заниматься в маленьком помещении, и смеялись над тем, что должно было возбудить их участие и сожаление, и порицали меня, когда я, ради приобретения необходимых для моего искусства удобств должен был употреблять вещи, необходимые в домашнем обиходе… В течение нескольких лет, не имея средств сделать навесы над моими печами, я проводил у них ночи под дождем и ветром… никто не пришел ко мне на помощь, никто не оказал мне поддержки, ни от кого не услышал я слова утешения, и только мяуканье кошек да вой собак утешали мой слух по ночам; иногда порывы ветра и бури были столь сильны, что я бросал все, несмотря на потерю труда; иногда случалось, что, промокнув под дождем до костей, я возвращался поздно ночью или на рассвете домой, шатаясь, как пьяный, из стороны в сторону, испачканный, как человек, которого вываляли во всех лужах города».
Биография Палисси жутковата. Он открыл, наконец, секрет фаянса и эмали, сделался выдающимся мыслителем и ученым своего времени. И все-таки его затаскали по тюрьмам, и он кончил жизнь под секирой палача.
Швейцарца Луи Фавра — строителя Сен-Готардского тоннеля, не пронзали кинжалы таинственных убийц, он сам рухнул, сраженный, «словно ударом молнии», под сводами своего тоннеля. Его сердце разорвала злоба и зависть компаньонов, вытеснявших новатора из его дела, не желавших, чтобы он, Фабр, имел успех.
Страницы книги Тисандье порождают хоровод картин бедственной жизни изобретателей.
Вот голодные и нищие племянницы Жакарда — творца автоматического ткацкого станка продают золотую медаль, пожалованную ему правительством за выдающуюся работу.
Вот шарманщик… Нет, это портной Тимонье, изобретатель швейной машины, таскается со своею моделью, как с шарманкой, по дворам, развлекая зевак механическими фортелями, и редкая капель медных монет брызжет в его старую шляпу.
В пантеоне великих изобретателей прошлого неуютно, как на кладбище самоубийц.
Горас Вельс, открыватель одного из видов наркоза, — осмеянный и непризнанный, искал смерти в своем собственном открытии.
Джон Фич кинулся головой в Делавар, реку его изобретательской славы, где впервые проплыл его пароход — судно с веслами, движимыми силой пара.
Рудольф Дизель незаметно шагнул с палубы и канул в океанской пучине под ровный шум дизелей трансатлантического лайнера.
Джон Армстронг — счастливчик, отец нескольких великих принципов современного радиоприема, на студенческой скамье создавший схему обратной связи, а затем изобретший супергетеродин, разбил голову о камни, прыгнув из окна радионебоскреба.
Древние боги недолюбливали новаторов, они приковали к скале Прометея, сбросили в море Икара, помешали возведению Вавилонской башни. Но и в жестокой мифологии древности не было особой богини, призванной специально ополчаться на изобретателей.
А стихии? А стихии всегда обрушивались на открывателей нового, и сильнее всего стихия капиталистической экономики. Она бушевала над их головами грознее бури, разила их коварнее, чем кинжалы тайных убийц.
1.5.
«Собственность священна и неприкосновенна» — записано в конституциях многих буржуазных государств. Но вряд ли кто из собственников спит спокойно, не ворочаясь под пуховой периной и не видя себя во сне карасиком, над которым проплывает тень щуки. Хотя бездна хитрости вложена человечеством в замки, но не меньше хитрости заложено в отмычки. В мире денег, где люди — враги, столько способов напридумано, чтобы собственность оттягать, а владельца ее пустить с сумою. И вот что замечаешь сразу… Если просмотреть биографии знаменитых изобретателей всех времен, убедишься, что многие из них кончили нищетой. Значит, не очень-то крепкой защитой служит для них патент. Что ж они, — простодушные мечтатели, непрактичные выдумщики, простофили? Нет, не скажешь этого! Люди разные, жизни разные, дело разное, а судьба одна. Похоже, какой-то единый закон, словно рок, подчинил одному течению и привел к одному итогу пестрые случайности биографий. Словно ветер, свистящий над рощей, в одну сторону склонил вершины, хоть и различной стойкости были стволы и по-разному прочным было дерево.
Почему же все-таки приобретатели богатеют, а изобретатели беднеют и разоряются?
Вопрос сложный, а ответ простой.
Великий американский ученый и политический деятель Вениамин Франклин, повидавший и бедность и богатство, писал: «Как трудно пустому мешку стоять прямо, так трудно и бедному достичь желаемого».
Вообразите бедняка, который сделал изобретение, скажем, хочет внести революцию в какую-то технологию на заводе. Своего завода у него, разумеется, нет. Он не только не владеет средствами производства, но и не имеет средств к пропитанию. Завод принадлежит предпринимателю, революцию приходится производить на его заводе, ему-то и приходится нести на продажу патент. Патент — грамота гордая, можно бы войти с достоинством, но… полезнее вид искательный. И хотел бы покуражиться, да нельзя. Можно бы поторговаться, но не до бесчувствия… Место строгое, глаза стальные. Если приглянулась твоя выдумка — не ломайся, отдавай добром. А не то возьмут без спросу. Есть сто способов ограбления, отработанных, как приемы джиу-джитсу. Все будет разыграно, как по нотам. Подкинут, никого не спросясь, твою идейку в заводскую лабораторию. Вон в тот корпус в восемь этажей! Сила! Там возьмутся за нее сотни опытных рук. Чуть переиначат, чуть продвинут вперед, чуть подгримируют, и пошла в бюро изобретений встречная контрзаявка на смежный, чуть перелицованный патент. Вроде бы твоя идея, вроде бы и не твоя! А теперь кричи караул, жалуйся! Обивай пороги судов. Фирма респектабельная, адвокаты тертые, эксперты подмазаны. Валяй, воюй!
Допустим и лучшую ситуацию. Изобретение сделал человек состоятельный, денежный. Это, конечно, более редкий случай, как и всякая двойная удача: капиталист и он же изобретатель! Капиталист наш ни к кому не идет кланяться, сам реализует свою машину. Но какое это, оказывается, накладное дело осуществить большое изобретение! Тут и чертежи, и модели, и образцы, и создание необходимых материалов, личные труды и заказы на сторону, и бесплодные опыты с искоркой надежды вдали. За все — плати.
Прибылей, заметьте, пока никаких, одни издержки. Изобретатель ночей не спит от мозгового напряжения. Он так полонен творчеством, что почти забыл, как делать деньги. Начинает подтаивать его состояние, но обратного хода нет, слишком многое прозаложено. Он продал что мог, задолжал всему свету, и все-таки денег не хватает. Еще бы один последний, окончательный образец, еще бы десять тысяч долларов — и твоя взяла!.. Но нет этих денег, и добыть неоткуда.
А сосед его, финансовый туз, с любопытством наблюдает, как мается изобретатель. Он не морщит низкий лоб, не перегружает плоский череп творчеством, он знает одно — наживает деньги. Если б даже он и умел изобретать, так не стал бы утруждаться, не к чему. Он сидит на мешках с золотом и смотрит издали, как барахтается творец, и он знает, что недолог час, когда тот приползет сам, поднесет ему изобретение на блюдце. Он закупит его на корню, почти готовеньким, и заплатит за него подешевле, чем стоит машина, ровно столько, во сколько ценится человеческое отчаяние.
Конечно, бывают исключения. Природа и общество иногда рождают геркулесов. Появляется человек с головой творца и железной рукой дельца и сквозь джунгли капитализма пробивается со своим изобретением к деньгам и славе. Он ведет такое головоломное существование, что напоминает пианиста, исполняющего левой рукой этюд Скрябина (есть такой для одной лишь левой руки), а другой, кулачищем, отбивающегося от негодяев. Уатт, Белл, Эдисон — единицы из тысяч…
В капиталистическом обществе свирепствует закон, по которому приобретатели богатеют, а изобретатели разоряются. Его можно сформулировать почти в математической форме. Дело в том, что первичные — затраты на создание машины много больше, чем затраты на ее воспроизведение, повторение. На это указывал Маркс. Сотворить дороже, чем повторить. Украсть легче, чем создать.
И приобретатели и изобретатели барахтаются в мутных волнах капиталистического моря. Но у изобретателя, у творца, как булыжник на шее, дополнительный груз затрат. И поэтому он первый обессилеет и опустится к ногам приобретателя. В мире, где господствуют приобретатели, изобретателям счастья нет. Не такая уж это гордая грамота — изобретательский патент.
1.6.
В нашей стране, где все наиболее ценное — общая общественность всего народа, изобретатели предпочитают не брать патентов. Они получают авторские свидетельства.
Авторское свидетельство — такая же торжественная грамота, как патент. Она подтверждает, что техническая выдумка автора действительно изобретение, и он имеет право называться изобретателем. Но изобретение, на которое выдано авторское свидетельство, переходит в собственность государства. Любая фабрика, любой завод нашей страны могут, не спрашивая изобретателя, применить у себя его изобретение, но обязаны непременно выплатить изобретателю законную премию, тем крупнее, чем больше от изобретения пользы. Мало того, авторские свидетельства на изобретения, признанные особенно полезными, государственные органы берут под контроль и предписывают жесткие сроки их внедрения. Для работы над своими изобретениями изобретателям предоставляют цехи и лаборатории, прикрепляют помощников-специалистов. Существует Государственный комитет по изобретениям и открытиям СССР, Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов. Изобретателям присваивают почетные звания «Изобретатель РСФСР», их награждают орденами, присуждают им Ленинские премии.
Тут бы можно говорить без конца. Но мы очень увлеклись сравнениями положения изобретателей у нас и в капиталистическом мире. Нам придется их еще и еще раз сравнивать. Не это главная тема книжки. Приглядимся к кроссу изобретателей, поговорим о новизне.
1.7.
Где же финиш, к которому по множеству маршу ртов стремятся изобретатели? Где же судьи, которые отмечают победителей в беге?
Финиш — это здание с вывеской «Бюро изобретений». Судьи — это эксперты, сотрудники бюро. Они работают в залах, заставленных шкафами с ящиками, похожими на каталог обширной библиотеки. В ящиках копии патентов на все изобретения, которые когда-либо были сделаны в любой стране: миллионы патентов! В ящиках сотни тысяч вырезок из журналов и книг с описанием изобретений. Здесь патенты на пароходы и мухоловки, самолеты и зубочистки, экскаваторы и подтяжки.
Здесь — вы слышите, как бьется сердце! Где-то здесь листовка, оттиснутая старым шрифтом с дореформенными «твердым знаком» и «ятью», с прямоугольной схемой на белом поле. Это патент Можайского на первый самолет! Привилегия П. Яблочкову на его «электрическую свечу»; статьи Циолковского; чертежи паровой машины, изобретенной Ползуновым. А не здесь ли привилегия Ломоносову «на делание разноцветного стекла, бисера и стекляруса, дабы он, Ломоносов, якобы первый в России тех вещей сыскатель, за понесенный им труд удовольствие иметь мог». Все это русское, бесспорное, наше… Здесь большие и малые изобретения, сделанные во всех странах мира.
Изобретатели посылают в бюро свои проекты с просьбой выдать им авторское свидетельство или патент. И бюро, как на спортивном финише, регистрирует дату прихода, дату получения проекта.
Пароход, станок, самолет — любая современная машина — это плод выдумки тысяч людей, и почти никогда не бывает так, чтобы изобретатель предложил машину, в которой все, до последней детали, выдумано заново. Чаще всего изобретения отличаются друг от друга какими-нибудь частностями, отстоят от предыдущего на какую-нибудь одну невысокую ступеньку.
Эксперты, с проектом в руках, принимаются шарить по ящикам, забираясь по лесенкам до самых верхних полок. Кропотливо листают патенты и вырезки, роются до тех пор, пока твердо не убедятся, что есть она, эта ступенька, что изобретатель действительно пришел первым и никто до него ничего подобного не предлагал. Только тогда выдают патент или авторское свидетельство.
Описание изобретения в патентной грамоте или в грамоте авторского свидетельства заканчивается маленьким раздельчиком, озаглавленным «Патентная формула» или «Сущность изобретения». Здесь скупыми и точными словами формулируется самая сущность изобретения. Ее силятся выразить по возможности одной фразой. Посредине фразы жирным шрифтом отпечатано слово отличающийся. За ним и упоминается та ступенька нового, на которую поднялся изобретатель.
Патентная формула на автомобиль выглядела бы примерно в этом роде:
«Самодвижущаяся дорожная повозка, отличающаяся применением двигателя внутреннего сгорания».
Но патент с такой широкой формулой вряд ли выдадут. Это означало бы объявить одного человека владельцем идеи всех возможных автомобилей. А ведь разновидностей автомашин может быть тысячи. Коллективное творчество в целой области техники затормозится.
А такая патентная формула наверное допустима:
«Рулевое колесо автомобиля, отличающееся тем, что в целях удобства управления его обод сделан овальным».
Я видел на выставке в Париже модель автомобиля с овальной баранкой. Говорят, действительно удобно.
На широких патентных формулировках люди обжигались. В XVIII веке было так, что английский изобретатель Севери, человек с большими связями в парламенте, под заявку на простейший паровой насос изловчился получить патент на «движущую силу огня». С той поры блюстители закона, обнаружив в какой-либо машине огонь, принимались свистеть в свисток с горошиной, словно бы застукали узелок с краденым. Много лет подряд изобретателей тепловых двигателей принуждали идти на поклон к Севери, отсылать ему богатую дань. Получив кошелек с деньгами, Севери благосклонно разрешал применять в машине огонь. А при малом взносе куражился и тащил конкурента-изобретателя в суд. На сегодняшний взгляд, это выглядит таким же нахальством, как патент на способ дышать носом. Но в то время исключительное право Севери было сильным тормозом на пути развития паровой машины.
Но, конечно, и слишком узкие формулировки для изобретателя невыгодны, потому что не могут, как следует, защитить его авторства.
1.8.
Бывает, что два изобретателя почти одновременно приходят к финишу, почти одновременно присылают в бюро заявки на одинаковые изобретения.
Величайшее изобретение — телефон — пришло в голову одновременно двум незнакомым друг с другом людям: Беллу и Грею. Но Белл подал свою заявку на час раньше Грея. И этот час решил их судьбу. Слава и деньги достались Беллу, имя Грея потонуло в безвестности.
А бывало, говорят, в старину и так… Один монгол в глухом, далеком селенье построил скрипучую машину на колесах, похожую на деревянный велосипед. Он катил на ней между юрт и чувствовал себя великим изобретателем. Но доехав до большого города, он был потрясен, увидев стальные стремительные велосипеды, бесшумно пролетающие мимо!
То же чувствует бегун, отставший в кроссе, завершая свой длительный пробег. Он бежал один, растеряв товарищей. Он не знает еще своего места и с надеждой вбегает на стадион. Пусто. Погашены огни. Сторожа подметают безлюдный амфитеатр.
Если изобретатель движется к цели и не знает работ своих товарищей, ему так же худо, как слепцу без поводыря.
Словно Робинзон на необитаемом острове, такой изобретатель начнет повторять то, что давно уже изобретено. Если просмотреть биографии знаменитых творцов техники, можно заметить, что среди изобретателей были кузнецы и парикмахеры, дипломаты и актеры, хирурги и священники, садоводы и архитекторы, но отшельников среди изобретателей не было.
Наоборот, разобщенность краев и стран вела нередко к гибели изобретений. Энгельс писал, что судьба изобретений неотделима от развития внешних сношений стран и народов. Пока сношения ограничивались ближайшим соседством, всякое изобретение делалось особняком в каждой местности; достаточно было злого случая, вроде вторжения варварских народов, или даже обыкновенной войны, чтобы довести развитую страну до необходимости начинать все сначала. В первоначальной истории каждое изобретение приходилось нередко делать наново, в самых разных местах, независимо друг от друга.
Как мало были гарантированы достижения техники от гибели, даже при обширных торговых связях, показывает печальный опыт финикиян, многие изобретения которых потерялись на долгое время, когда финикияне были вытеснены из торговли и завоеваны Александром Македонским. То же самое можно сказать и о живописи на стекле в средние века. И лишь когда страна общается со всем миром, только тогда долгая жизнь изобретений бывает обеспечена.
1.9.
Мировые связи ширятся, сношения между странами развиваются… Но родятся и тревожат другие причины, по которым все труднее становится вести обмен изобретениями.
Со скоростью цепной реакции распространяется фронт научных работ и изобретений. В патентных библиотеках растут Гималаи бумаги. О горе грандиозного склада идей в несметных картотеках можно судить по темпам его прироста. Утверждают, что каждый год выпускается до 50 тысяч научных и технических книг, публикуется 200 тысяч патентов на изобретения и почти что 3 миллиона журнальных статей на многих языках.
Журналисты, забредавшие в Ленинскую библиотеку, восхищались ее 22-миллионнотомным запасом. А недавно один из литераторов ушел встревоженный.[1] Он впервые узнал, что к половине здешних книг не прикасался ни один читатель. Десять миллионов книг мертвым грузом лежали на библиотечных полках, словно урны с прахом в нишах колумбария. Маяковский писал о «курганах книг, похоронивших стих». Но с гораздо большим правом можно говорить о могильных холмах патентных описаний, под которыми оказываются погребенными ценнейшие технические идеи.
Известный физик Дж. Бернал в своей книге «Наука и развитие общества» бьет тревогу, что «во многих областях создалось такое положение, когда по сути дела легче открыть новый факт и новую теорию, чем удостовериться… что они еще не были открыты или выведены».
Воротила, вице-президент большой американской корпорации, перебрасывает костяшки на счетах:
«Если научное исследование стоит не больше ста тысяч долларов, то корпорации дешевле повторить это исследование, чем выяснять по литературе, не было ли оно выполнено где-нибудь в другом месте».
Бизнесмен стоит перед курганом научной информации, как Магомет перед горой: «Если гора не идет к Магомету, то и черт с ней!» Так подсказывают ему костяшки на счетах. Но какими костяшками можно оправдать холостой пробег мозговых клеток, способных рождать новое? Но как можно примириться с тем, что живое острие ума, как иголка на стертой грампластинке, возвращается на пройденные круги! Гора должна шагнуть к Магомету.
Потому так сильно развивается в нашей стране целая область науки и техники, занимающаяся проблемами информации. Составляются каталоги, классификации патентов, выпускаются патентные библиографии и даже библиографии библиографий. В свет выходят сборники научно-технической информации в таком множестве и такой толщины, что тома их лишь по одному из разделов науки ежегодно занимают полку более широкую, чем для всей Большой советской энциклопедии. Издают их научные институты с тысячами штатных сотрудников и десятками тысяч внештатных активистов.
«Приоритет СССР во многих областях науки и техники (особенно когда дело касается практического использования достижений науки) в значительной степени объясняется наличием мощного информационного центра», — печально замечает один солидный шведский журнал.
Кибернетика создает машины, способные рыться в горах патентной литературы — механизмы, значительно более сложные, чем горнопроходческий комбайн. Мы имеем в виду оперативные и умные электрические информационные машины. Изобретатель просовывает в щелку запрос о том. какие существуют решения мучающей его технической задачи, и машина со страшным проворством начинает шуровать по картотекам, просматривать десятки тысяч карточек в час и, наконец, как из рога изобилия, высыпает на стол пачку карточек, где расписаны все подобные изобретения
Машина, повторяю, умная, устроена сложно. Можно только намекнуть, на ее устройство. Помните электрифицированное наглядное пособие — немую географическую карту с лампочкой? Вы хотите отыскать город Москву, и для этого прижимаете один проводник к медной шляпке против слова «Москва» в списке городов, а другим проводником начинаете шарить пo карте, пока и он не наткнется на такую шляпку, что вспыхнет лампочка. Возле этой шляпки и находится город Москва. Фокус очень простой: шляпка с названием «Москва» в списке городов и шляпка на географической карте соединены за картой проволокой. Можно точно так же сделать и другие информационные карты, скажем, разбросать по картону картинки зверей и поставить рядом таблицу: «Рыбы», «Птицы», «Млекопитающие» и, пошарив по картону проводником, отобрать либо «Рыб», либо «Млекопитающих». Информационная машина устроена, конечно, сложнее. Она хозяйничает не на карте, а в картотеке, и сила ее в том, что она отбирает карточки по многим признакам. На то машина!
Мы обмолвились, что машина просматривает карточки… Как же может машина просматривать, когда она слепа? А она и читает так, как читают слепые. Содержание карточек записано шрифтом, понятным для слепых, зашифровано иероглифами из пробитых по-разному дырочек. Электрический щуп, как пальцами, ощупывает дырочки, а затем механический попугай тащит клювом из ящика все, что имеет подходящий иероглиф. Тащит и тащит, человеку на счастье.
Счастье ли?
Да, на счастье! — подтверждает один изобретатель. — Передо мною, как на плане, предстал лабиринт идей, по которому бродила до меня изобретательская мысль. Я смогу уверенно выбрать неисхоженные направления.
А другой изобретатель мнется. Он и знать не знал, что патенты на автомобильный дворник, скромную щетку, смахивающую дождинки с ветрового стекла, занимают несколько ящиков, набитых натуго. Его творческая фантазия оробела и сникла перед этим многоструйным фонтаном идей. Вроде все, что только можешь себе представить, уже придумано, и толкнуться решительно некуда. Все уже открыто, и не стоит ломиться в открытую дверь.
Может быть, и действительно не стоит… Здесь советовать трудно.
Одной, даже самой всеобъемлющей, эрудиции не достаточно для того, чтобы делать изобретения. Ведь иначе виднейшими изобретателями были бы патентные эксперты и редакторы энциклопедий. Но они, как правило, не изобретают ничего. Изобретения рождаются не в шелесте архивных бумаг, а в живом кипении жизни. Впрочем, мы напрасно забегаем вперед. У нас будет случай вдоволь пофилософствовать на эту спорную тему.
Творчество — дело сугубо индивидуальное. Оно не терпит рецептов и шаблонов. Настоящий изобретатель умеет следить за своей творческой формой, соразмерять дозы, точно чувствовать, когда и сколько и в какой области ему надо информироваться, чтобы опыт других раздувал, а не гасил огонек вдохновения.
Нам же кажется, что развитие техники информации беспримерно вооружает сознание, поднимает человека на новую ступень, и на этой ступени особенно пышно расцветает изобретательское вдохновение. Надо только умело использовать инструмент информации.
1.10.
По причине недостатка информации происходят забавные курьезы.
Один человек хотел прослыть изобретателем, придумывая всякую всячину, и отсылал в бюро изобретений. И всякий раз получал отказы.
«Предлагаемое вами известно давно (см. патенты такие-то, такие-то), а посему в выдаче авторского свидетельства постановлено вам отказать».
Он, быть может, сто раз посылал различные предложения, и все невпопад, неудачно. Получает отказ и грозит кулаком в пустоту: «Доберусь я до этого бюро! Бюрократы! Чернильные души!» Думает, нарочно на него бюро ополчилось. А чем бюро виновато? Что тут отвечать, если он и в самом деле ничего нового придумать не может?
Получает неудачник очередной отказ и говорит:
— Ну, это последний! Раньше вы надо мной шутки шутили, теперь я над вами подшучу. Такое накручу, что уж, наверное, никому не приходило в голову.
И накрутил. Предлагает «гроб с музыкой» — сочетание гроба с патефоном. Когда гроб несут — патефон играет похоронные марши. Шутка, прямо скажем, не остроумная. Но уж очень надоело человеку получать отказы. Обозлился человек.
Вызывают его в бюро изобретений.
— Рассмотрели, — говорят, — ваши материалы. Должны вас огорчить. Предложение ваше не оригинально. Тут и до вас не то что патефоны — радиоприемники помещали в гробы. В 1925 году в Европе радиопохороны были в моде. Там одна из станций постоянно играла похоронные марши. Похоронные процессии двигались под звуки громкоговорителей, установленных на гробах. Применялись и другие изобретения. Помещали в гроб звуковоспроизводящий аппарат. Последнее слово умирающего, записанное на пленку, прокручивали на похоронах после надгробных речей. «До свидания, господа, — говорил покойник. — Благодарю за последний почет». — Теперь сами видите—предложение ваше не ново. А посему в выдаче авторского свидетельства постановлено вам отказать.
Так и ушел неудачник с носом. Даже пропала охота изобретать. Занимается теперь другим делом.
1.11.
Но застенчивое слово «информация» — слишком слабое слово! В начале 20-х годов руководитель Главнефти академик И. М. Губкин посылал Председателю Совета Труда и Обороны В. И. Ленину экземпляры отраслевого журнала «Нефтяное и Сланцевое Хозяйство». Посылал, как признавался впоследствии, для порядку, не надеясь, что у Ленина «может найтись минутка для просмотра нашего чересчур специального журнала».
Но однажды пришла от Ленина сердитая записка:
«ГЛАВНЕФТЬ
тов. Губкину
3. VI. 1921 г.
Просматривая журнал «Нефтяное и Сланцевое Хозяйство», я в № 1–4 (1921) наткнулся на заметку (с. 199) «О замене металлических труб цементным раствором при бурении нефтяных скважин».
Оказывается, что сие применимо при вращательном бурении. А у нас в Баку таковое есть, как я читал в отчете бакинцев.
От недостатка бурения мы гибнем и губим Баку.
Можно заменить железные трубы цементом и пр., что достать все же легче, чем железные трубы, и что стоит, по указанию вашего журнала, «совершенно ничтожную» сумму!
И такого рода известие вы хороните в такой заметке архиученого журнала, понимать который способен, может быть, 1 человек на 1000000 в РСФСР.
Почему не били в большие колокола? Не вынесли в общую прессу? Не назначили комиссии практиков? Не провели поощрительных мер в СТО?
ПРЕД. СТО В. УЛЬЯНОВ (ЛЕНИН)».
Бить в большие колокола! Не хоронить информацию об изобретениях, а пропагандировать технику — вот к чему призывал Ленин.
У нас нынче громадная сеть научно-технической пропаганды — богатырская звонница нашей силы и славы.
Газеты, в изобилии дающие статьи по технике, научно-популярные журналы, выходящие миллионными тиражами, которые читают не один человек из 1000000, а, наверное, каждый десятый житель нашей страны; лекторы на кафедрах общества «Знание» и у микрофонов радио; научно-популярные кинофильмы, раскрывающие внутреннюю жизнь и движение машин; политехнические выставки и музеи; наконец, целый город техники нынешнего и будущего — Всесоюзная выставка достижений народного хозяйства СССР.
Бьют по-ленински большие колокола, созывают изобретателей на незримое вече. Гудят большие колокола!
1.12.
Новизна бывает разная, и по этому поводу происходят в отделах изобретений жаркие споры.
Посетитель приходит и говорит:
— Шило изобрел.
— Ну, показывайте ваше шило.
Вертит эксперт шило в руках, пробует пальцем острие — шило как шило, ничего в нем особенного нет.
— Не пойму, — говорит эксперт, — в чем тут ваше изобретение, в чем тут у вас новизна, что нам ставить после слова «отличающееся»? Обыкновенное шило… Заостренное… Нет, сдаюсь, не могу разгадать. Видно, велик секрет!
— Да, уж тут не без секрета, — ухмыляется изобретатель. На то и изобретение! Новизна тут в длине. Шило моей системы ровно в сорок пять и одну десятую миллиметра длиной. Так и сформулируйте предмет изобретения: «Шило, отличающееся тем, что длина его ровно в 45,1 миллиметра». Не меньше и не больше! Ручаюсь, что до сих пор шила с такой длиной не существовало. Может быть, короче было или чуть длиннее, а с такой вот точно длиной, бьюсь об заклад, не делали!
— Вы мне лучше докажите, что такого шила до вас не было!
— А вы докажите, что было!
— Нет, вы докажите!
— Нет, вы!
Спор у них не по существу. Если даже не было до сих пор шила точно такой длины, то не надо быть изобретателем, чтобы сделать шило любых размеров. Каждый слесарь смастерит его без всяких ухищрений. От того, что сделают шило на миллиметр короче или на миллиметр длиннее, оно не приобретает никаких новых свойств. В предложении этом нет хитрости, а где хитрости нет, там нет и изобретения.
1.13.
Но вот приносит другой изобретатель проект броневика.
У броневика одно отличие — большие колеса.
— Эх, батенька мой, — говорит эксперт, — никого теперь колесами не удивишь. Ни размерами, ни числом. Теперь и на трех, и на двух колесах ездят. А находятся артисты, что и на одном колесе… Не новый ваш броневик.
— Но у меня исключительно большие колеса, — обижается изобретатель. — Вся машина выглядит из-за этого необычно, вроде длинноногого паука.
— Подумаешь, невидаль, — твердит эксперт, — ребятишки так трамваи рисуют. Колеса больше трамвая. Не новый ваш броневик.
Изобретатель в амбицию:
— Поглядите на концертный рояль! И у него есть колеса, колесики, ролики. По паркету он ездит отлично. Но поставьте рояль на булыжную мостовую и впрягите в него хоть тройку лошадей — ножки скорее обломают у инструмента, а не сдвинут его по дороге ни на шаг. А телега катит по булыжнику, как по паркету. Вот что значит размеры колес!
— Причем тут рояль и телега?
— Я к тому про рояль упомянул, что застревают на кочках и рытвинах нынешние броневики. У них слишком маленькие колеса, и среди дорожных колдобин броневик все равно что рояль на булыжной мостовой. Вот я и придумал броневик на большущих колесах, чтобы заставить его катиться по кочкам и ямам, как телегу по булыжнику!
Тут только эксперт понял, какой хитрец был этот изобретатель. Он, казалось, предлагал пустяки — изменить размеры, а в итоге у машины появилось новое могучее свойство!
— Поздравляю вас, — говорит эксперт, — с новым изобретением.
По проекту сделали броневик, и он стал свободно ходить через препятствия, словно танк. Даже называть его стали «колесным танком».
1.14.
Приходит третий изобретатель. Показывает шарик. Обыкновенный шарик. Сплошной.
Изобретатель жарко дышит в ухо эксперта:
— Вот модель моего изобретения. В уменьшении. Шарик будет чуть больше. Впрочем, форма шара даже не обязательна… Прошу выдать патент на кусок металла строго определенного веса… Остерегусь назвать цифру вслух… И у стен есть уши!
Изобретатель озирается вокруг, пишет цифру на клочке бумаги и подносит к самым глазам эксперта:
— Вот, под строжайшим секретом…
Эксперт даже не глядит на бумажку. Он видал чудаков. Он старается сохранить вежливость:
— Боюсь огорчить вас запоздалым известием, но гири, кажется, изобретены…
— Но ведь речь идет не о весе просто, а о строго определенном весе: ни граммом меньше, и ни граммом больше, разумеется…
Эксперт возражает по давно заведенному шаблону, как нотацию читает. Если даже и не было гири именно этой тяжести, то не надо быть изобретателем, чтобы сделать гирю любого веса. Каждый мастер отольет ее без всяких ухищрений. От того, что гиря будет на грамм тяжелее, у нее не объявится небывалых, удивительных свойств.
— Нет, объявятся! — заявляет изобретатель.
— Но какие?
— Вообразите, что мы тут, рядом, довели вес шарика вот до этой величины… Я ее определил путем долгих вычислений… Только лучше остережемся даже воображать себя рядом. Предположим, что сидим от шарика за несколько километров и запрятались в самый наипрочнейший блиндаж. И глядим, прищурившись, через перископ с закопченными стеклами. Мы
увидим на горизонте растущий огненный шар ярче тысячи солнц. Он, бушуя, всплывает в небо, распестренный цветами радуги, и земля закипает окрест. Растет выше облаков исполинский гриб чудовищного взрыва… Извините, что я забыл назвать металл, из которого предлагаю сделать шарик. В нашем случае — это уран-235. Пока вес сравнительно небольшой, шарик будет как шарик, но как только доведем его до цифры, указанной на бумажке, масса его сделается критической. Рост количества породит новое качество. В шарике вспыхнет цепная реакция расщепления атомного ядра… Эксперт вытирает пот со лба. Он, конечно, понял теперь, куда гнет изобретатель.
На бумажке была написана критическая масса заряда атомной бомбы… Впрочем, и атомная бомба, кажется, уже изобретена!
ГЛАВА ВТОРАЯ, где продолжается предыдущее обсуждение, чтобы утвердиться в выводе, что другим обязательным признаком всякого изобретения является его полезность, целесообразность; рассматриваются такие категории, как блажь, вред и польза, и показывается, как высокие думы о благе народа, идеи мира и гуманизма вдохновляют советских изобретателей
2.1.
Выходит, что изобретением может считаться любая хитро задуманная новая вещь.
Вот я и предлагаю совершенно небывалую штуку — велосипед с квадратными колесами. У всех велосипедов круглые колеса, а в моем квадратные, как портретные рамки на спицах. Прочие велосипеды катят по дорогам, а мой не может — у него колеса не катятся. Не беда! Зато — новинка, зато — изобретение!
Таких новинок можно придумать тысячи: подводный утюг; вентилятор к печной трубе, чтобы гнал дым обратно в комнату; хитроумный коготь к дверям кафе, чтобы рвал посетителям брюки.
Можно бездну хитрости вложить в эти затеи. Скажем, такой придумать кибернетический коготь, чтоб никак от него не отвертеться: как ни ловчись— все равно, зацепит и порвет брюки. Но это будет уже не изобретение, а хулиганство.
В бюро изобретений поступают курьезные заявки, вроде пресса для штамповки ямочек на дамских щеках.
В американском журнале описано предложение — маленькие щеточки «дворники», чтобы смахивать дождинки со стекол очков. «Дворники» не имеют самостоятельного мотора и приводятся в действие движением челюстей. Чтобы челюсти двигались непрерывно, обладателю очков рекомендуется жевать резинку.
На страницах научной книги[2] про изобретения напечатано подлинное письмо одной дамы.
«Я имею, — пишет дама, — план для переносного водопровода для спален. Чтобы удобное сочетать с красивым, я хотела бы конструировать эту вещь, как украшение комнаты, в виде женской фигуры. Самый лучший для этого материал — алюминий, который должен быть покрыт лаком, наподобие фарфора. При этом одеяние на фигуре в свободных складках по-восточному, кремового цвета, усеянное звездочками. Голова фигуры должна быть пустой для помещения там горшка с цветами, на груди должно быть отверстие для помещения букета…» Это не изобретение — это блажь!
Для чего городить огород, когда есть обычные умывальники!
2.2.
Один купчина тоже сделал изобретение. Изобрел заменитель меда. В энциклопедии Брокгауз — Ефрон напечатан примерный состав этой новой снеди. Туда входят:
патока
картофельная мука
клей
мел
глина
древесные опилки и др.
Изобретение получило широкое внедрение. Если верить энциклопедии, в те годы на московском рынке все сорта дешевого меда состояли из подобной смеси. Видно, этот рецепт потому и напечатали в энциклопедии, чтобы какой-нибудь простофиля не попался.
А вот современный, буквально сегодняшний случай. Прочитайте, что пишет в газете «Известия» ее боннский корреспондент, большой знаток Западной Германии Евгений Пральников.
«В Западной Германии одна за другой раскрываются крупные аферы в торговле вином. Некоторые из оптовиков наловчились выдавать за чистое вино такое пойло, в котором вообще нет ни капли виноградного сока. Такого «вина» сбыто уже несколько миллионов бутылок.
На днях в Дюссельдорфе начнется самый крупный за последние годы судебный процесс над «фальсификаторами вина». На скамью подсудимых сядут Каспер Гейдеманнс — владелец крупных винных подвалов в городах Мюльгейме и Веленс-на-Мозеле, а также семи филиалов, размещенных в разных частях земли Северный Рейн — Вестфалия.
«Вино» в подвалах Гейдеманнса изготовлялось по такому рецепту: на тысячу литров водопроводной воды брался килограмм глицерина, 2 килограмма винной кислоты, 100 килограммов сахара, 25 килограммов изюма, 50 литров винных дрожжей. Себестоимость одной бутылки этой смеси составляла 20 пфеннигов. Продавалось же «вино», в зависимости от наклеенной этикетки, за 3–5, а то и за 15–20 марок за бутылку. Печати на пробках и надписи на этикетках гарантировали, что это «натуральное вино высшего сорта».
Продукция Гейдеманнса шла не только в магазины, но даже в изысканные рестораны и клубы. Он был поставщиком вин для правительства земли Северный Рейн — Вестфалия. Сейчас некоторые газеты вспоминают, кто из видных лиц был гостем правительства этой земли, а значит, и отведал варева Гейдеманнса. Список получается внушительным. В нем значатся даже коронованные особы — в 1955 году правительство земли Северный Рейн — Вестфалия принимало шаха Ирана и принцессу Сорейю.
Больше всего шокированы завсегдатаи винных погребков и шикарных ресторанов. Они в течение многих лет смаковали «вина от Гейдеманнса», рассуждали о достоинствах или недостатках той или иной марки, об особенностях вин урожая такого-то года. Обладатели «тонкого вкуса» были крупными потребителями этого пойла. В ходе следствия стало известно, что Гейдеманнс приобрел у одного дюссельдорфского аптекаря такое количество глицерина, которого достаточно для производства многих миллионов литров якобы вина.
Наверное, еще долго поднимались бы в Западной Германии бокалы с «вином от Гейдеманнса» и провозглашались при этом традиционные «прозит» — «на здоровье!». Помешала случайность. В подвале Гейдеманнса взорвалась огромная бочка, где бродили четыре тысячи литров «вина». Полиция должна была установить причину взрыва. Так пришел конец бурной деятельности афериста…»
На такие изобретения патентов не выдают. Предложения признают нецелесообразными. Ведь изобретается не способ производства продукта, а путь его фальсификации. Говорят, что ложка дегтя может испортить бочку меда. Небольшая добавка фальсифицированного меда загубила бы бочку хорошего дегтя, если только по старинке рассматривать деготь как смазочный материал. Изобретатель «меда» имел одну-единственную цель — поднабить карманы серебром, а желудки покупателей — мелом и опилками.
На капиталистическом рынке таких фальсификаций ежегодно рождается тысячи. Сам собой сложился специальный раздел науки — товароведение, учащий распознавать фальсифицированный продукт. И если бы все-таки выдан был патент, относящийся к подобным заменителям вина и меда, то, конечно, не на способ их производства — ведь продукты-то вредные! — а на способ разоблачения фальсификации. Скажем, способ распознавания добавки клея к меду. Предлагается такая хитрая реакция: водный раствор меда обрабатывают танином. Если появилась заметная муть, значит, кто-то порезвился — добавил в мед клейку.
Маяковский писал когда-то:
Не уговариваем, но предупреждаем вас: голландское масло — лучшее из масл.Поэт был прав, нет лучше масла, чем коровье, сливочное, так называемое «голландское» масло. Но в 1869 году французский химик Меж-Мурье изобрел заменитель сливочного масла из особенным образом обработанного бычьего сала. То был первый рецепт маргарина. Изобретатели стали совершенствовать маргарин, присоединяя другие добавки: яичный желток, соль, безвредную краску, вовлекая в производство говяжье, свиное сало, растительные масла: хлопковое, кукурузное, соевое, пальмовое, кокосовое. Гак как все ходовые сорта растительных масел — жидкие, то сначала их подвергают отвердению, гидрогенизации. Образуется «саломас» — масса салообразного вида.
Получился, в конце концов, сравнительно дешевый продукт, приобретший широчайшее распространение.
Фабриканты натурального масла нападали на маргарин, и его приходилось проверять и судить в клиниках лечебного питания. Приговоры были благоприятными. Калорийность и усвояемость маргарина признавалась близкой к коровьему маслу. Вкус хороший. Расстройств пищеварения нет. Правда, в маргарине отсутствуют витамины, так что лучше не давать его каждый день больным и детям. Но возможна витаминизация маргарина. Выходит, что те, кто работал над маргарином, помышляли не только о своей выгоде, но заботились о потребителе, человеке. Это — честная, полезная работа. А поэтому на способы совершенствования производства маргарина уже выданы и будут еще выдавать много патентов.
Существуют бесчисленные патенты на заменители. Очень многие из них выданы в тугие времена, большей частью в военные годы, когда требовалось чем-то заменить дефицитный продукт. В самом слове «заменитель» слышалось что-то вынужденное, временное, скудное, словно речь шла о темной заплате на светлом пиджаке. Подождем, мол, потерпим, переменится время, ликвидируется дефицит, заменитель посторонится, натуральный продукт войдет в прежние права.
— Натуральный шелк? — осторожно спрашивает покупатель про красивый материал.
Продавец цедит сквозь зубы:
— Нет, вискоза!
Но вот рождается в лаборатории новый заменитель — искусственное волокно — капрон. Оно искусственное, но с природным и сравнения нет.
Шелк непрочен.
А капрон не рвется.
Шелк стирают с трудом.
А с капрона пятна сходят, как со стеклышка.
Шелк подолгу сохнет, не желая расставаться с водой.
А с капрона вода стекает, как с гуся.
Шелк гладят с предосторожностями.
А капрон и не нуждается в глажении. Он разглаживается сам, когда высыхает.
Недавно во французском медицинском журнале промелькнули две статейки о том, что капроновая одежда от трения о тело электризуется и мельчайшие искорки, покалывая кожу, успешно лечат ревматизм. Впрочем, может быть, это не факт, а реклама!
Современные химики — конструкторы молекул — создают не только заменители природных веществ, но и новые волшебные вещества, небывалые в природе.
И если бы в магазине ответили: «Уже нет капроновых чулок, хотите шелковые?..», покупатель бы отвернулся. Такой заменитель ему не нужен.
Сельское хозяйство у нас на подъеме. Скоро будет много молока, много масла. Но не дремлет и пищевая промышленность. И кто знает, не придется ли скоро вот этаким образом перефразировать слова Маяковского: «Не уговариваем, но предупреждаем вас: голландское масло не лучшее из масл».
Не все, что взбредет в голову, не всякая выдумка, как бы она ни была нова и хитра, может считаться изобретением. Оно должно быть не только ново, но и полезно, целесообразно.
Целесообразность, полезность — это второй важнейший признак всякого изобретения.
И поэтому эксперты, перед тем как выдать патент, проверяют, целесообразно ли изобретение, не является ли оно затеей вредной или просто бесполезной блажью чьей-нибудь досужей головы.
2.3.
Есть, однако, на свете лаборатории, где не хулиганы и умалишенные, а почтенные ученые-изобретатели разрабатывают вредные изобретения. Всю свою хитрость, выдумку, знания употребляют они для того, чтобы как-нибудь отравить, исковеркать, испакостить полезные, нужные людям вещи. И не против врагов своей страны приходится им вести эту разрушительную работу, а против своих же соотечественников, тех, что мирно проходят под окнами их лабораторий и играют с ними в гольф после трудного рабочего дня. Эти дикие изыскания ведутся в капиталистических странах. Изобретателей, состоящих на службе у капиталистов, толкает к ним гнетущая сила денег, порождающая уродливые отношения между людьми и уродливое отношение человека к вещи.
Заокеанская химическая фирма выпустила новую краску. Фирменные химики порядком потрудились над тем, чтобы сделать ее яркой, стойкой, безвредной, пригодной всюду. Краска понравилась, и ее мешками стали раскупать со складов фирмы.
Но доходы от мешков показались недостаточными фирменным воротилам. Они стали раскидывать умом.
«А нельзя ли на этом деле, — соображали они, — организовать еще одну денежную струйку, текущую в наш карман? Что, если взять да расфасовать сверх того наш товар по маленьким пакетикам с этикеткой «Специально для текстиля»? Отпечатаем этикетки покрасивее, пустим пакеты в отдельную продажу и начнем за них драть втридорога!»
Так и сделали: появились на прилавках пестрые пакеты.
Покупатели вначале поддались на обман и поверили, что в пакетах специальная краска для тканей. Они стали охотно переплачивать за пестрые пакетики, не догадываясь о том, что отлично можно красить ткани краской из мешка, запасенного для окраски забора.
Постепенно обман раскрылся. Пестрые пакетики начали сохнуть на прилавках. Фабриканты текстильных фабрик покупали краску в мешках и подсмеивались над драгоценными пакетами.
«Ах, вы так, — рассердились воротилы фирмы, — ну так мы вас проучим, джентльмены!»
Они вызвали фирменных химиков и сказали:
— Ваша краска слишком хороша для этих людей. Вам придется ее немного подпортить. Надо сделать так, чтобы все, что идет на рынок в мешках, не годилось для окраски тканей. Надо сделать так, чтобы им навеки запомнились наши мешки. Подмешайте в краску такое зелье, чтобы она им разъела валы ситцепечатных машин!
Химики вернулись в лабораторию портить свою краску. После долгих трудов получили продукт, безусловно вредный для ситцепечатных машин.
Воротилы по-прежнему в тревоге:
— Ведь остались, наверное, негодяи, которые сами красят, распускают краску в тазу. Небось, тоже покупают мешки! Надо и их отучить от этой манеры. Сделайте так, чтобы краска линяла отвратительным образом: пятнами, полосами, подтеками… Пусть и этим навеки запомнятся наши мешки.
Снова вернулись химики в лаборатории портить свою краску. После длительных опытов получили безусловно линючий продукт.
Воротилы говорят:
— А все-таки мы не спокойны. Все-таки кто-нибудь да покупает наши мешки для того, чтобы красить ткани! Подмешайте, к краске такую отраву, чтобы она раздражала тело, чтобы тело от крашеной одежды стало чесаться и зудеть. Тогда наше сердце успокоится.
В третий раз вернулись химики в лабораторию портить свою краску. Отмобилизовали всю свою выдумку, весь свой научный опыт. Наконец, получили не только линючий и едкий, но и безусловно ядовитый продукт.
По проектам инженеров на заводах достроили специальные цехи, чтобы портить краску.
Только в пестрые пакетики пошла отныне безвредная стойкая краска.
А в больших тяжелых мешках продается краска порченая, отравленная, испакощенная по последним правилам науки.
Кроме краски, эта фирма производит пластмассу. Из нее делают шестерни, радиоприемники, части самолетов. И еще она замечательно подходит для искусственных зубов. Ее также фасуют в красивые коробочки, специально для зубных врачей. И заламывают за них баснословные цены. Остальную же пластмассу — сотни тонн — портят тем же высокоученым образом, что и краску. Кто отважится сделать себе из этой дешевой пластмассы челюсть, тот получит флюс во всю щеку!
Так в буржуазных странах, где изобретательство служит предпринимателям-капиталистам, изобретатели уродуют полезные вещи, вооружают их против людей.
2.4.
Изобретатели нашей страны избавлены от унизительной нужды делать вредными полезные вещи, созданные своими руками. Наши изобретатели служат народу, и в их преданных руках даже вредные явления превращаются в полезные, начинают помогать народу.
— Нет в природе совершенно вредных явлений! — рассуждают изобретатели. — Если и считают явление вредным, то это только потому, что его еще не освоили, не нашли ему подходящего места в технике, не сумели подчинить себе. Докопайтесь до причины вредности, изучите явление, и отыщутся в нем ценные стороны: вредное обернется полезным и начнет служить народу.
Десять лет назад инженеры, супруги Б. Р. и Н. И. Лазаренко занялись борьбой с бедой современной электротехники — разрушением электрических контактов.
Электрические контакты работают всюду, где включается и выключается электрический ток.
От исправности контактов зависит надежность почти всех электрических установок. Но при замыканиях и размыканиях контакты искрят, и поверхность их быстро изгрызают электрические искры.
Воспротивиться искрам-грызунам показалось вначале не очень трудным делом. Надо было только подобрать специальный стойкий материал.
На пластинки, подключенные к проводам и стучащие друг о друга, словно зуб, не попадающий на зуб, напаивали кусочки различных металлов.
Между ними метались искорки. Серебро, платина, никель, медь, железо, вольфрам, молибден в разные сроки разрушались, и лишь сплав серебра, меди и никеля неожиданно устоял после сотен тысяч замыканий. Из чудесного сплава тут же сделали контакты одного заводского прибора. Но из цеха вскоре донесли, что искры и этот хваленый металл гложут как ни в чем не бывало.
Дело запутывалось. Получалось, что контакты, стойкие в одних условиях, сдавали в других.
Стали исследовать влияние окружающих условий. Помещали контакты в жидкость, газы, разреженный воздух. Все это по-своему влияло на разрушения, но не могло их устранить. Дело окончательно запутывалось.
Лазаренко поняли, что идти дальше вслепую нельзя. Надо было как-то подглядеть за тайной грызней искр в узкой щели между контактами. Что там делалось, толком никто не знал. Замечали, что вспышки при размыкании и замыкании разные: при размыкании получается яркий всполох — электрическая дуга, а при замыкании мелкий просверк — искра. Но считалось, что характер изъянов из искр и от дуги одинаков: разница только в том, что большая дуга сильнее расплавляет металл, маленькая искра слабее.
Чтобы совладать с дугой, подключали к контактам конденсатор. При размыкании он заряжался и на первый момент вбирал в себя электрическую энергию, готовую хлынуть дугой, и она потом разряжалась через промежуток между контактами серией мелких искр. Внешность искр изменялась с изменением емкости конденсатора.
Лазаренко решили глазом заглянуть в узкий промежуток между контактами и проследить, как меняются разрушения при изменении характера искр.
Они сделали волшебный фонарь, и на место диапозитива поставили пару дрожащих контактов. Мутный луч фонаря отбросил на экран громадное изображение щели. Между контактами вспыхивали сильные дуги. На контакте, соединенном с отрицательным полюсом тока, — катоде, — быстро углублялся кратер, а на противоположном — аноде — рос остроконечный пик. От катода к аноду летела туча мельчайших капель металла и застывала на аноде бугром. На катоде появилась глубокая язвочка, а на аноде — растущая бородавка.
К контактам подключили конденсатор переменной емкости и начали плавно увеличивать его емкость. Дуга стала хиреть. Дождь капель редел. Наконец наступил момент, когда дуга исчезла, а рост бородавки на аноде прекратился.
Контакты перестали разрушаться!
Лазаренко повернул чуть дальше ручку конденсатора. Вспышки преобразились. Вместо слабой тихой дуги брызнули частые искры. Дождь мелких капель металла, летящих с катода на анод, прекратился, и началось обратное переселение металла. С анода вдруг сорвалась вершинка бородавки и с силой врезалась в изъязвленную поверхность катода. Катод становился похожим на стенку, в которую чья-то невидимая рука влепляет один за другим снежки. На аноде появились лунки в тех местах, откуда эта рука снежки загребала. Искры перебрасывали металл с анода обратно на катод. Возвращение металла шло гораздо быстрее. Теперь на катоде рос бугор, а на аноде углублялась ямка.
Оказалось, что разрушительные действия искр и дуг противоположны. И что где-то между искрой и дугой есть такие формы разряда, при которых эти разрушения взаимно уничтожают друг друга. Частички металла мечутся взад и вперед между контактами, и контакты не только не разрушаются, но, наоборот, со временем как бы притираются друг к другу: соприкосновение между ними становится надежнее, плотнее. Оказалось, что от разрушения контактов можно избавиться, подобрав к ним конденсатор подходящей емкости.
Причина предательства чудесного сплава серебра, меди и никеля была разгадана. Очевидно, при опытах в лаборатории к контактам случайно подключили подходящий конденсатор. А в заводском приборе конденсатор был другой, и контакты начали разрушаться.
Нет в природе материала, могущего сопротивляться искрам-грызунам. Искать его бесполезно. Только приручая и укрощая сами искры, можно избавиться от разрушений.
Таковы были научные выводы из исследования вредного явления — разрушения электрических контактов.
Лазаренко были советскими учеными, и наука была для них неразрывно связана с практикой, с практическими нуждами народа. «А нельзя ли извлечь из этого пользу?» — беспокойно спрашивали они себя, сталкиваясь с каждым, даже пустячным на вид, явлением.
В ходе кропотливой лабораторной работы из, казалось бы, мелких наблюдений и маловажных замет сложилось в головах исследователей большое изобретение, сворачивающее целую область техники с ее многовековой колеи.
Когда пробовали погружать контакты в жидкость, чтобы спасти их от разрушения, замечали, что жидкость мутнеет. Пока шли испытания с маслами, это никого не удивляло: думали, что пригорает масло. Но когда помутнела чистая вода, исследователи заинтересовались мутью.
«А нельзя ли пустить ее в прок?» — подумали они.
Воду вылили в стаканчик и поднесли к нему магнит. Облачко мути потянулось к магниту. Это были частички железа, распыленного искрами в воде, — тончайший железный порошок.
Значит, можно так получать железные порошки, до зарезу нужные металлургам и химикам!
Лазаренко, без отрыва от научных исследований, построили «искровую мельницу», распыляющую в порошок металлы. Над железной пластинкой, утопленной в масле и служившей анодом, танцевал железный стержень, служивший катодом. При подскоках стерженька в масле брызгали искры. Муть осаждалась в отстойнике слоем железной пудры. Чтобы меньше железной пыли попадало на стержень и побольше рассеивалось в масле, стержень сделали тонким.
Изобретатели испытывали свою «искровую мельницу» и не подозревали, что в эти часы под слоем масла свершается в ней негаданное чудо, которое вдруг преобразит ее в новую, еще более удивительную машину, и эта машина затмит своей волшебной силой все их начальные замыслы и мечты.
Когда электроды под конец работы вытащили из масла, оказалось, что стержень чудесным образом врезался в толщу пластинки, прошел ее насквозь, нисколько не пострадав. А отверстие в точности повторило очертания шестигранного стержня.
Поразительно было то, что стержень не долбил пластинки, он слегка лишь подтанцовывал на ней. И все-таки он вошел в пластинку из твердой стали, как конец карандаша в пластилин.
Изобретатели закрепили стержень над самой пластинкой неподвижно, так, чтобы искры могли пробивать тонкий слой масла. И все-таки в пластинке появилось аккуратное углубление. Стержень медленно опускали вниз, и он прошел пластинку насквозь.
На конец стержня насадили часовую шестеренку, и шестеренка пронизала пластинку насквозь, оставив отверстие с зубчатыми краями. Монета, укрепленная на стержне, дала глубокий оттиск на стали, как печать на мягком сургуче.
На пластинку положили стальной подшипниковый шарик, а на стержень нацепили медную проволочку толщиной с волосок. И тончайшая проволочка пронизала закаленный шарик, как иголка кусок хлебного мякиша. Электрические искры, брызгавшие со стержня, с шестеренки, с монеты, с проволок, выгрызали металл, распыляя его в масле, расчищали путь в теле металла.
Изобретатели поняли, что считать свою машину аппаратом для производства металлических порошков — это все равно, что считать токарный станок машиной для производства железных стружек.
Маленькая «искровая мельница», приютившаяся на краю лабораторного стола, с ее слабыми, жидковатыми частями была металлообрабатывающим станком будущего, более сильным, чем все современные станки с их могучими мускулистыми телами.
«Нет и не может быть таких металлов, которые устояли бы против разрушительной работы искр!» — шептал неутешительный голос исследователей контактов. — «Значит, нет и не может быть металлов, которые не поддавались бы обработке искрой!» — заглушал его ликующий голос изобретателей.
Искра — это тот инструмент, которым можно обрабатывать любой металл.
В каменном веке инструментом человека был камень. Он дошел до наших дней в виде точильных брусков. К нему прибавились инструменты из других металлов, более крепких, чем обрабатываемый металл. Сжимая в руках инструмент более твердый, чем металл, человек срезал, откалывал частички металла. А потом появились станки — металлические руки, держащие инструменты. Появились железные мускулы — двигатели к станкам. Новая сила — электричество — завертела станки.
Но и электричество не нарушило иерархии металлов, установленных законами механики. Металлы, стоявшие у подножья лестницы твердости, легко подчинялись вышестоящим, а с теми, которые стояли на высшей ступени, сладу не было: сверхтвердые сплавы обработке не поддавались.
Вращение было душой станков и душой электромоторов, и поэтому только круглые детали обрабатывались естественно и просто, а любую более сложной формы деталь можно было сделать только вручную или на станке такого мудреного устройства, которое и встретишь не часто.
Электромоторы покорно вращали тяжелые маховики и жужжащие семейства зубчатых колес, хитроумные сплетения рычагов преобразовывали вращение в более сложные движения, суетливо метались взад и вперед и терлись друг о друга многотонные массы металла, и со страшной силой врезались в металл резцы и сверла так, что замирали от напряжения могучие станины станков.
И, как тысячи лет назад, раздавался в цехах первобытный скрежет металла, обдирающего металл.
Электричество — самая совершенная сила природы — оставалось в станках слугой грубой механической силы.
И вот Лазаренко заставили электричество не только двигать обрабатывающие станки, но и непосредственно обрабатывать металлы. И тогда оказалось, что двигать-то почти ничего не нужно.
Не нужно вращать шарошки и сверла или двигать резцы по фигурным путям. Надо было лишь тихо сближать под слоем масла инструменты и детали. И при слабом шелесте искр рождались в масляных ваннах детали таких затейливых форм, о которых станкостроители не смели и думать.
Ненужными стали могучие станины станков: ведь они не передавали теперь почти никаких усилий. Ведь металл обрабатывается легчайшими прикосновениями искр.
Ненужными стали инструменты несокрушимой твердости. Ведь металлы не вступают теперь в единоборство. Иерархия металлов поколеблена. И мягчайшие металлы, вооруженные щеткой искр, торжествуют над металлами рекордной твердости. И мягчайшими инструментами впервые в истории техники из сверхтвердых сплавов изготовляются рабочие детали машины, не знающие износу.
Изобретение Лазаренко поставило технику металлообработки с головы на ноги: механика сделалась робкой служанкой электричества.
В лаборатории появились станочки-карлики, выполняющие работу гигантов. На большом столе размещается целый цех.
Искровая пила без зубьев. Она пилит, не касаясь металла. Лишь в том месте, где она приближается к металлу, вспыхивают искры, словно огненные зубцы. Их заливает масляная струйка, льющаяся из крана в распил.
Электрическое точило. Не бесчисленные острые песчинки точильного камня затачивают лезвие, а бесчисленные острые искорки гложут резец из сверхтвердого сплава.
Электрошлифовальный станок…
Но пока я дописываю эти строки, новые неописуемые чудеса успела натворить волшебница искра в руках изобретателей, разгадавших ее повадки, подчинившихся ее тихой силе и тем самым целиком подчинивших ее себе.
2.5.
В досоциалистические эпохи ученые ставились в такое положение, что великие их открытия начинали служить прежде всего целям войны и уничтожения.
Галилей, великий гуманист Галилей, представляя свой телескоп венецианскому сенату, в сопроводительной бумаге подчеркивал прежде всего его военное применение: «Изобретение это может принести большую пользу для всякого предприятия, морского и сухопутного. Оно позволяет открывать на море корабли врагов на большом расстоянии так, что мы их заметим раньше, чем они нас, на два часа и даже больше. Открыв же число и размеры судов, можно, судя по своим силам, приготовиться либо к преследованию врага, либо к битве, либо к отступлению. Точно так же и на суше эта труба может во всякой местности открыть расположение и приготовления врага».
О телескопе докладывалось примерно так, как в наши дни сообщалось по секрету об изобретении радиолокатора. Лишь гораздо позже, обнародовав свои астрономические наблюдения, Галилей раскрыл величественные мирные применения своего изобретения. Мы знаем, что советские ученые показали человечеству вершину мирного использования радиолокатора. Они локировали Венеру, поймав радиоэхо, отраженное от далекой планеты.
2.6.
Если спросят, какое слово начертать на дверях лабораторий советских изобретателей, ученых, не колеблясь ответим: «Жизнь!»
Пусть как в сказке, словно по волшебству, вдруг раздвинутся стены наших лабораторий и станут видны происходящие там дела.
«Жизнь!» — произносит выдающийся агроном, зорко всматриваясь в початок кукурузы, и тонкие пальцы руки осторожно прикасаются к золотистым зернам, словно пальцы ваятеля к уступчивой глине.
«Жизнь!»—произносят под марлевой чадрой хирурги из лаборатории профессора Неговского, творящие чудо воскрешения. При посредстве нагнетательных приборов и дыхательных машин они возвращают жизнь холодеющему телу; приходит в движение остановившаяся кровь, оживает замершее дыхание. И вот уже мутнеет блестящий скальпель, поднесенный к губам умершего, и зрачки, расширенные мраком смерти, начинают сужаться, вновь почувствовав солнечный луч. Попрана смерть, жизнь торжествует!
Мы видим изобретателей, создающих электрические приборы, возвращающие слух глухим и зрение слепым…
Всюду мы слышим слово «жизнь», повторяемое в едином громогласном хоре.
И еще один девиз можно с полным правом начертать на дверях советских лабораторий: «Истина!»
Под высоким звездным небом нашей Родины стоит крепость с башнями, и плавно поворачиваются на башнях купола с бойницами, из которых глядят орудия главного калибра.
С замиранием сердца заглядываем в отверстое дуло. В глубине мы видим зеркало, которое, как вода на дне колодца, отражает густую черноту неба и сверкающую россыпь звезд. Мы видим диск, зыблющийся в очертаниях, как монета на дне ручья, и узнаем в нем далекую планету. Так это телескоп, а не орудие, обсерватория, а не крепость!
А вот и астроном, прильнувший глазом к окуляру микроскопа. Астрономы нынче редко заглядывают в телескоп. Современный телескоп — это прежде всего фотоаппарат, а не зрительная труба. Щелкает затвор, проявляется стеклянная пластинка — групповая фотография звезд. Эту самую пластинку астроном рассматривает в микроскоп.
Накапливается громадная стеклянная картотека — сотни тысяч фактов из жизни неба. Факты — воздух ученого. Они держат теорию, как воздух крылья птицы. И отважно взлетает ввысь, опираясь на факты, новая космогоническая теория, утверждающая правду о Вселенной.
С рассветом замирает вращение куполов. Ночь уходит на западное полушарие. На чужой стороне в совершенно такой же башне появляется чужой астроном. Щелкает затвор, вынимается стеклянная пластинка. Астроном раскладывает перед собой свои стекляшки, как гадалка колоду карт. Он гадает над тем, как ему побороть неопровержимые факты. «Доказать» еще одним способом, что мир создан богом, а поэтому неизменен в своем существе. И что люди не властны изменить этот мир и… бессильны нарушить жестокий порядок, при котором один человек эксплуатирует другого! Есть еще, встречаются в наше время и такие астрономы.
Щелкают затворы в башнях на далеких друг от друга материках планеты. И не случайно нам показалось, что в стальных механизмах, вращающих купола, намечается сходство с автоматикой артиллерийских орудий. Да, это дуэль! На различных полушариях Земли орудия науки ведут беззвучный бой. Мы ведем бой за истину, за правду науки, против мракобесия и суеверия. И опять начинаешь видеть в нашей обсерватории крепость — цитадель истины, крепость материализма.
Какой громадный арсенал борьбы за истину заключен в советских лабораториях с их электронными микроскопами, рентгеновскими установками, радиолокационными экранами, ультразвуковыми приборами, безмерно расширяющими зрение человека, позволяющими видеть воочию вирус и молекулу, и метеорит за покровом облаков, и крохотную раковину в толще стальной колонны; со всеми мощными инструментами, с помощью которых передовая наука укрепляет веру в торжество разума, в познаваемость мира!
Какое бессилие и страх перед истиной царят в лабораториях некоторых американских психологов, широко рекламируемых в журналах и имеющих целью доказать, что все наши знания о мире — обман!
В темных комнатах среди черных бархатных полотен инсценированы раздутые до гигантских масштабов наивные «обманы зрения» из детских книжек. Немудреными приемами фокусников, нарочитой игрой света и теней человеческий глаз здесь сбивают с толку, провоцируют на неверные оценки. Не верь глазам своим! — твердит посетителю этот дом световых иллюзий и оптической маскировки. Не верь глазам своим! — ибо взгляд твой не в Силах подчас определить — даже размеры предметов и их истинную форму! А поэтому мир, открывающийся твоему взору, — это призрак, химера, мираж. Как хотелось бы устроителям этих музеев, чтобы, выйдя на улицу и щурясь от света дня, посетитель посчитал бы роскошный авто миллиардера «обманом зрения», а свою полунищую лачугу воспринял бы, как дворец.
Миллионеры и миллиардеры не щадят затрат на то, чтобы скрыть от народа истину. Ибо истина, правда жизни оборачиваются против них. Максимальные прибыли в стане империализма добываются ныне ценой таких чудовищных преступлений, против которых восстают и разум, и совесть. Торговля смертью в этом мире становится самым выгодным торгом, и те лаборатории процветают за океаном, на которых начертано «Смерть» и «Ложь».
Сто лет назад полубезумный фантаст Гофман изобразил в одном из своих произведений ученого, дрессирующего блох, облачившего в мантию короля-блоху и устраивавшего перед ним блошиные парады.
Кто мог думать тогда, что действительность наших дней превзойдет своим безумием кошмар фантаста! Толстосумы Уолл-стрита присягают ныне королю-блохе, и легионы чумных блох посылаются ныне не на парад, а готовятся хлынуть на поля сражений.
За стальными дверями секретных лабораторий ведутся научные дискуссии о том, что дешевле для массового умерщвления людей — чумная блоха или тифозная вошь. Людоеды в белых халатах спорят о том, как сподручнее сбрасывать блох и вшей на головы мирного населения: в липких ли ампулах, тающих на снегу, или в тонкостенных бомбах, раскрывающихся при падении, как бутон цветка.
Все больше и больше создается за океаном вещей, изготовленных из странного сплава, где на каждые десять процентов металла приходится девяносто процентов подлости.
Но все меньше находится в мире простых людей, не умеющих еще в этой подлости разобраться. Надежды очумевших от золота миллиардеров не оправдаются. Им не придется пировать во время чумы. Чумные блохи не воцарятся в мире. Короля-блоху приведут к ногтю, а заодно с ним и всех его вассалов и покровителей.
Страх леденит миллионеров в их роскошных дворцах, и с ростом страха возрастают их подозрительность и жестокость.
Мы видим за океаном лабораторию и узнаем в ней знакомые приборы. Вот стоит кардиограф, записывающий биение сердца, — инструмент, помогающий нашим врачам. Но недобрым веет от этой лаборатории… Это не лаборатория — это застенок!
Сюда вводят жертву, человека, заподозренного только в том, что он начинает добираться до истины в ложью отравленном капиталистическом мире. Кардиограф, помогающий лечить сердце, в этой комнате помогает чинить допрос. Нам известно это по свидетельствам американских журналов. Следователь произносит фразу за фразой и следит по прибору за ударами сердца своей жертвы. Произнесены слова, вменяемые здесь в состав преступления! Может быть, среди них находится слово «мир», и на звук его сердце отзывается радостным биением. Преступник уличен! Ему грозит осуждение! За легчайшую тень свободной мысли, за биение сердца!
И тогда, быть может, его введут в другую лабораторию. На стене ее — мраморные доски с амперметрами и рубильниками. Посредине стоит кресло с медными пластинками и проводами, тянущимися к ним. Это не электролечебница — это плаха. Электричество здесь — орудие палача. Щелкает рубильник на щите, и сердце прекращает биться.
Но не перестанут биться в мире гневные сердца!
Горят рубины на башнях Кремля, как поднятые ввысь светильники разума, и с рассветом разгораются все сильнее, побеждая блеск солнечного дня. К ним с надеждой обращаются взоры тысяч и тысяч прогрессивных ученых земного шара, не желающих отдать свой ум интересам истребления человечества, не желающих менять докторскую мантию на рубаху палача.
Если спросят, какое еще слово начертать в майский праздничный день на дверях советских лабораторий, не колеблясь, ответим: «Мир!»
Советские ученые, изобретатели стоят за мир, вдохновляются идеями гуманизма, потому что с мирной жизнью, с заботой о благе людей тесно связаны их сегодняшние дела и еще теснее сплетены замыслы и загады.
Тут уместно поделиться впечатлениями очевидца от великих и мирных советских изобретений, историческое и бесспорное первенство в которых принадлежит нашей стране. Это как бы вершины целесообразности, полезности воплощенных в творчестве изобретателей. Они увенчаны Ленинскими премиями. В качестве корреспондента «Правды», «Известий», журнала «Огонек» мне посчастливилось присутствовать, выражаясь образно, при открытии века мирного атома. Постепенно спадал занавес секретности, и гигантские объекты советской мирной атомной техники представали перед глазами изумленного человечества как свидетельство величайшего гуманизма советского строя. Я был в числе первых журналистов, посетивших эти объекты. Вот лишь несколько страничек из моей журналистской тетради, где набросаны впечатления, проникнутые удивлением и восторгом первого видения.
2.7.
Журналист, впервые приглашенный посетить атомную электростанцию, ощущает вполне понятное волнение. С колотящимся сердцем готовится он перешагнуть ее порог, сознавая, что вступает на рубеж атомного века.
По-особому внимательным взглядом пробегает он страницы учебника физики, и деталь за деталью возникает в его воображении сложнейшая модель атома, неисчерпаемая в каждой своей частице, как еще на заре атомной теории гениально предвидел Ленин. Через облако электронных оболочек проступает атомное ядро — калейдоскопический сгусток частиц материи, затаивший в себе энергию колоссальной мощи.
В наше время проблемы атомного ядра неразрывно связались с насущными вопросами человеческого существования. Потому, быть может, ни один учебник физики, как бы ни был он полон и какое бы количество терминов, явлений, законов, ученых имен ни пестрело на его страницах, никакой учебник физики не способен вместить картину того, что представляет собой сегодня атом. Не одни электроны, протоны и нейтроны образуют современный атом. Вокруг сердца атома, у самого его ядра обращаются герои и мученики, купцы и творцы, изобретатели и приобретатели, дипломаты — трубадуры «холодной войны» и фельдмаршалы — глашатаи войны атомной. Через сердце атома, у самого его ядра пролегает линия борьбы за мир.
В наше время атом не только поле действия ядерных сил, но и, выражаясь образно, поле борьбы сил общественных. От игры ядерных сил зависит поток энергии, исторгаемой из атомных недр; от исхода борьбы общественных сил зависит большее — куда хлынет эта энергия: на поля войны или на стройки мира; чем окажется она для людей — проклятьем или благом?
…Великая догадка Демокрита, наблюдавшего, как худеют золотые руки статуй в храме от прикосновения множества уст, и пришедшего к мысли о существовании мельчайших незримых частичек — атомов, на которые делится все вещественное, по прошествии столетий привела человечество к открытию атомной энергии, подвела его к рубежу атомного века.
«Как трагедия и комедия, — учил Демокрит, — могут быть написаны одними и теми же буквами, так и все разнообразие случающегося в мире осуществляется одинаковыми атомами, поскольку они имеют различное положение и выполняют различные движения».
Советские ученые вместе с прогрессивными учеными других стран борются сегодня за то, чтобы атомы не стали буквами величайшей трагедии человечества. Ученые борются за то, чтобы многовековая история атомистики завершилась счастливой развязкой.
В лабораториях современных «алхимиков» получены элементы, позволяющие освобождать энергию такой ошеломительной мощи, о которой прежде не смели думать. Человечество подбрасывает на ладони небольшой заряд, с бильярдный шар размером: он способен обрушить гору или разрушить город.
И вот в громовом просверке возникает над горизонтом ослепительный и жгучий диск, и к нему, пронизывая все этажи облаков, поднимается ввысь, достигая главою стратосферы, грандиозная башня атомного взрыва.
Грибовидное облако встает над миром, как гигантский вопросительный знак: чему станет служить этот величайший дар науки — разрушению или созиданию? Сокрушать ли ему лишь дикие скалы, пролагая путь реке в пустыне, или падать на города, где в течение веков, как известь в сталактитах, отлагались труд и талант поколений?
Человечество ныне решает этот вопрос. Сотни миллионов людей поставили подписи под призывом о запрещении атомной бомбы. Много, много раз обернется вокруг экватора неразрывная цепь, составленная из подписей сторонников мира. Злую силу останавливают силой. Нужно много сил, чтобы задержать войну. И такие силы есть. Они в воле народов к миру.
Сооружение первой атомной электростанции знаменует собой не только победу нашей научно-технической мысли, но и торжество высоких и гуманных общественных идей. Потому так велико ее историческое значение.
…Мы садимся в автомашину с таким же трепетом, как садились бы, наверное, в машину времени. Ведь она должна перенести нас в будущее, на почти фантастический островок завтрашнего дня, существующий уже сегодня.
Атомная электростанция Академии наук СССР открывается нам средь пленительной простоты русского леса. Все в округе дышит миром и тишиной. Клубы черного дыма не оскверняют свежести лесной чащи. Поездов, подвозящих топливо, нет. Потому, наверное, так и расхрабрились деревья, подступившие близко к станции, что ни им, ни их далеким предкам, обращенным в каменный уголь, не грозит исчезновение в ненасытной топке парового котла.
Здание станции стоит чистенькое и светлое, как здание школы. Никакие заметные глазу грузы не поступают внутрь. Но струится изнутри наружу непрерывный поток электроэнергии, растекаясь по окрестным предприятиям и колхозам.
Ход умозаключений и опытов, приведших к открытию атомной энергии, головокружительно сложен, но конечные выводы просты, как венец любого великого дела. Человеческий гений умеет подбирать простые ключи к самым сложным замкам природы.
Если нас не удивляет, что чудо огня вызывается таким простым способом, как трение двух деревяшек, а чудо электричества — такими несложными манипуляциями, как махание магнитом над мотком проволок, то не будем удивляться и тому, что великое чудо атомной энергии вызывается также в результате простых в принципе действий.
Старинный философ Бекон Верлуамский сказал когда-то: «Человек ни чего другого не может делать, как сближать или удалять тела; остальное делает природа». Со времен Ф. Бекона могущество человека безмерно возросло, но таинство получения атомной энергии укладывается в его вещую фразу. Для того чтобы вызвать к жизни атомную энергию, надо попросту сблизить друг с другом, уложив в особую, строго рассчитанную кладку куски урана, разделенные кусками графита. Остальное будет делать природа. Если правильно будут соблюдены размеры и пропорции, то урановые бруски начнут самопроизвольно нагреваться. Образуется атомная топка, атомный реактор, атомный источник тепла. Это — волшебно экономическая топка: на получение десятка тысяч киловатт-часов энергии тратится несколько десятков граммов ядерного горючего — урана-235.
Не будем вдаваться в тонкости протекающих здесь реакций. Заметим только, что уран-графитовая кладка окажется пронизанной роем мятущихся нейтронов, этих «запалов», вызывающих взрыв атомного ядра. Куски графита замедлят в нужной степени их стремительное движение. Под ударами нейтронов разлетаются на осколки ядра атомов изотопа урана-235, содержащегося в незначительном количестве в естественном уране. Мириады атомных микровзрывов происходят в толще урановых кусков. Колоссальные количества энергии исторгаются из атомных недр, и в числе осколков рождаются попутно новые нейтроны, новые «запалы». Возникает, как говорится, цепная реакция деления ядер урана—наиболее доступный процесс получения атомной энергии.
Волнующие подробности пуска первого советского уран-графитового реактора, первого атомного котла в Европе, рассказывал В. Фурсов на сессии Академии наук СССР. На экране демонстрировались фотографии этапов его строительства. Это были старые, выцветшие небрежные фотографии десятилетней давности. Герои, открывавшие секрет атомной энергии в те трудные для нашего государства годы, видимо, не заботились о личной славе.
На фотографии видно, как на дне глубокой бетонной ямы, в особом помещении началось сооружение уран-графитового массива, как росла из отдельных дырчатых блоков уран-графитовая кладка. Вот почти завершена внушительная черная куча графита и урана высотой в двухэтажный дом. Счетчики радиоактивных частиц, подключенные к громкоговорителям, приготовились щелчками объявлять о вступлении в бой полчищ нейтронов. Слой за слоем, кирпич за кирпичом продолжала наращиваться кладка. Но цепная реакция не начиналась. Громкоговорители молчали, лишь стучали сердца участников испытаний. Предполагалось теоретически, что цепная реакция возникнет при укладке пятьдесят пятого слоя, но никто не мог в то время ручаться за полную правильность теоретических предположений.
Наконец, при укладке пятьдесят четвертого слоя, когда масса урана достигла сорока пяти тонн, зазвучали первые гулкие щелчки. Атом пробудился, и, казалось, забилось в графитовой куче его большое сердце. Совершилось величайшее событие в истории европейской науки — цепная ядерная реакция началась. Удары учащались, и ученые поспешили укрыться в подземный коридор. Нелишняя предосторожность! Атомный реактор вырабатывает не только тепло, но и незримые опасные радиоактивные излучения огромной проникающей способности.
Так родился дальний предшественник реактора первой в мире атомной электростанции.
Нам пришлось приготовиться к тому, что конструкцию его современного потомка — атомной топки электростанции Академии наук СССР, как и всякого действующего реактора, рассмотреть как следует не удастся. Он, конечно, тоже испускает смертоносные радиоактивные излучения и поэтому должен быть прикрыт надежной защитой.
Внутренние помещения атомной электростанции подтверждают тезис, что архитектура фабрик энергии во многом зависит от свойств самой энергии. Как бы ни мудрили архитекторы, гидросиловую станцию никогда не спутаешь с ветряком.
Пафос внутренней архитектуры атомной электростанции — это пафос лучевой защиты. Верным и дешевым заслоном от радиоактивных излучений, как известно, служит массивный бетон, и поэтому здесь часто попадаются бетонные, конструкции такой мощности, которые даже строителям старых крепостей показались бы конструктивным излишеством.
Перед нами растворялись тяжелые двери, словно дверцы сейфа-великана, открывались зигзагом идущие коридорчики, вроде тех, что проходят в толще крепостных стен. Как на поле зигзаг окопа защищает от прямо летящей пули, так и здесь зигзаг коридоров защищает от прямого удара луча.
Коридорчики приводят нас к святая святых — залу, где расположен атомный реактор. Мы довольно робко заглядываем туда сверху, через оптические иллюминаторы из тяжелого желтоватого стекла, защищающего от радиоактивных излучений. Как в бинокле с обратной стороны, открывается уменьшенная в размерах, но и расширившаяся в границах панорама зала. Она озадачивает нас своей пустынностью. Лишь в одном из углов зала виднеется в полу круглая крышка, опоясанная толстым кольцом бетонной защиты, обнесенная легкой цепной балюстрадой.
Красные световые сигналы, предостерегающие об опасной радиоактивности, не горят на стенах зала, значит, можно спокойно спуститься вниз, подойти вплотную к балюстраде. Мы стоим теперь над самой колыбелью, где рождается атомная энергия, ощущая ее могучее тепло. Там, под нашими ногами, за бетонной броней протекают бесшумные процессы, имеющие величественный и гордый смысл.
Есть античный миф о титане Прометее, похитившем небесный огонь для того, чтобы подарить его людям. Но тот земной огонь, у которого тысячелетия грелись люди, был всего лишь бледным призраком небесного огня. Он рождался в ходе сравнительно вялых химических реакций, протекавших в самых внешних оболочках атомов. А огонь, пылавший в небе, — нестерпимый жар и блеск небесных светил, — был итогом реакций ядерных, совершавшихся в самых недрах атомного ядра. Астрофизика учит, что звезды и наше солнце, с точки зрения энергетической, — это колоссальные природные атомные реакторы, сияющие в безднах неба. И выходит, что только совсем недавно, с открытием атомной энергии, человечество свело огонь с небес на землю, совершив тем самым подвиг Прометея.
С уважением смотрим мы на круглую крышку атомного реактора, прикрывающую бетонный ларец, где бушует прометеев пламень. По крышке видно, что реактор атомной электростанции совсем небольших размеров.
Разумеется, современная конструкция атомного реактора во столько раз сложнее кучи урана и графита, во сколько раз реальный электрический генератор, например, сложнее магнита и мотка проволоки. Усложнения мыслимы не только во внешнем оформлении и в деталях внутреннего устройства, но и в типе атомного горючего, в веществе замедлителя, если он, конечно, необходим, и даже в самом характере использования нейтронов.
Общая масса атомного топлива, загружаемая в реактор атомной электростанции, составляет ныне не десятки тонн, как это было в первом уран-графитовом реакторе, а всего лишь немногим больше полутонны. Несмотря на это, реактор развивает номинальную тепловую мощность в тридцать тысяч киловатт. Это объясняется тем, что в качестве атомного топлива принят не природный уран, а искусственно обогащенный, содержащий пять процентов изотопа урана-235. Всего тридцать граммов горючего расходуется в реакторе за сутки. Такого куска металла не хватило бы на чеканку и трех пятикопеечных монет! Не мешает вспомнить, что угольная станция такой же мощности потребляет за этот срок более семи вагонов каменного угля.
Реактор заключен в герметический цилиндрический кожух, выполненный из нержавеющей стали и покоящийся на бетонном основании. Кожух заполнен графитовой кладкой с тщательно рассчитанными зазорами. Чтобы графит, раскаляющийся местами докрасна, не выгорел, кожух заполняется гелием или азотом. Так предохраняют от перегорания нити полуваттных электрических ламп.
Сто двадцать восемь вертикальных рабочих каналов пронизывают центральную часть графитовой кладки. Каждый рабочий канал представляет собой длинный графитовый цилиндр; внутри него находятся тонкостенные стальные трубки, по которым идет вода. Здесь она омывает трубчатые же тепловыделяющие элементы из специального сплава, содержащего обогащенный уран, и отбирает от них тепло, необходимое для образования пара. Трехметровая толща бетона и метровая толща воды, окружающая реактор, служат надежным экраном, заслоняющим радиоактивные излучения.
Эта мощная атомная топка нуждается в более чутком обращении, чем спичка, горящая на ветру. Процесс приходится вести на тонкой грани; рой мятущихся нейтронов готов сойти на нет или, наоборот, возрасти лавиной. И тогда-то может произойти авария.
Но как управлять процессом, если реактор испускает смертоносные лучи и к нему не смеет прикоснуться ничто живое?
Телемеханика протягивает тут на помощь свои стальные руки. Управляемые на расстоянии механические руки берутся здесь за самые рискованные операции, например очистку атомной топки от отработанного ядерного горючего, весьма радиоактивного и опасного для окружающих. Вот в чем заключалась разгадка пустынности зала, озадачившей нас: ничто здесь не должно мешать манипуляциям стальных рук!
Присутствие телемеханики замечается всюду. Мы увидели в одном из боксов станции целое семейство гибких тросов, пронизывающих бетон. Они соединили регулировочные органы реактора с электромоторами управления. Это были вожжи, которыми управлялся атомный исполин.
Но электромоторами управляют аппараты, более проворные, чем руки возницы. Около атомного реактора встретились хитроумные приборы электроники, появление которых было подготовлено всем развитием науки и техники последних лет. Конструкторы станции объединили их в надежные системы автоматики, самостоятельно управляющие реактором. Они извещают персонал о назревающих неполадках, страхуют и перестраховывают самую ничтожную вероятность аварии на любом участке. Целый хор этих устройств или их полномочных представителей выстроился полукругом на центральном пульте станции. Хором управляет человек.
Еще очень молодой человек, вероятно, комсомольского возраста, занимает кресло дежурного инженера, острым глазом косится на стрелки приборов, нажимает изредка кнопки, отдает негромкие команды в телефонную трубку. Он несет свою вахту под взыскательным руководством старшего инженера, впрочем, старшего только по должности, но никак не по годам. Трудовые книжки этих молодых людей с отметками с места начала работы, надо думать, со временем попадут в музей. Невозможно даже представить, с какими чудесами техники еще придется встретиться этим ребятам, если со службы на атомной электростанции началась их трудовая комсомольская жизнь.
Добродушно согласившись испытать перед нами бдительность автоматики, молодые люди внезапно и резко нарушили режим реактора. Как переполошились, как захлопотали автоматы, кинувшись выправлять положение! Замигали на пульте лампочки и световые транспаранты, закачались стрелки приборов. Но одна из стрелок не шелохнулась. Это была стрелка прибора, измеряющего выходную мощность установки. Автоматы совместными усилиями удержали на прежнем уровне режим процесса. Инженеры пояснили, что при нарушении более грубом аварийное устройство, решительно вмешавшись в дело, погасило бы атомную топку, остановило бы атомный реактор, исключив тем самым возможность несчастья.
Что же это за могущественные органы, которые позволяют держать в узде нарастающую лавину цепной реакции расщепления ядер урана? Они выглядят очень прозаически. Это несколько стержней из карбида бора, погружаемых в рабочую зону реактора. Глубиной погружения стержней и управляет автоматика. Карбид бора обладает замечательным свойством поглощать нейтроны. Он как бы отсасывает их из атомной топки, разрежая их нарастающий рой. Есть особые стержни для аварийной защиты. Их головки заметны над крышкой реактора. Эти стержни при аварийном сигнале свободно падают в активную зону атомной топки и гасят цепную реакцию.
Вскоре после войны два не очень осведомленных и не очень доброжелательных американца опубликовали брошюру, где доказывали, что советские ученые долго не сумеют овладеть секретом атомной энергии лишь потому, что не смогут получить достаточного количества приборов. Ведь общая длина измерительных шкал на атомном предприятии Америки, говорили они, достигает нескольких километров!
«Поживем — увидим»! — отвечали мы в предисловии к русскому переводу этой американской брошюры.
Приятно видеть по атомной электростанции, что наше приборостроение тут не подвело, но еще приятнее сознавать, что от многих приборов здесь в дальнейшем можно отказаться. Их так много сегодня потому, что электростанция, помимо промышленных, еще служит исследовательским целям. А исследователям важно знать, что творится в каждом узле.
Все технологические звенья станции просматриваются с командного пульта. Здесь начертана ее электрифицированная мнемоническая схема. Эта схема замечательно проста. Пар, нагреваемый атомным реактором, движет паровую турбину, турбина вращает электрический генератор мощностью в пять тысяч киловатт.
Отвод тепла от атомной топки составляет довольно хитрую техническую задачу. Одна из трудностей здесь заключается в том, что теплоноситель, поступающий в реактор, заражается радиоактивностью и становится опасным для окружающих.
Схема советской атомной электростанции поразила нас своей простотой. Атомный реактор охлаждается нагретой водой — такой горячей, что она смогла бы плавить олово. И хотя вода эта раза в три горячее кипятка, она все-таки не вскипает. Не кипит она потому, что сжата под давлением 100 атмосфер. Насосы прогоняют эту воду через парогенераторы, где она своим теплом превращает в пар обычную, нерадиоактивную воду. Парогенератор отдаленно напоминает самовар, по трубе которого идут не раскаленные газы, а горячая вода из реактора. В результате в парогенераторе получается пар, не опасный для окружающих.
Таким образом, в технологической схеме станции образуются два контура, сцепленные друг с другом, как звенья цепи. По первичному контуру обращается горячая радиоактивная вода под высоким давлением и передает свое тепло воде вторичного контура, превращает ее в пар, движущий турбину.
И вот в машинном зале гудит большая, серая, как слон, турбина. Она вертит электрический генератор и не подозревает даже, что пар, приводящий ее в движение, порождается энергией атомного ядра.
Агрегаты обслуживает не слишком многочисленный персонал в снежно-белых халатах и шапочках, похожий на медработников. Эта белая спецовка не щегольство, а производственная необходимость. В помещениях станции должна быть такая чистота, какая бывает на молочных заводах. Атомная техника — это техника предельно чистых материалов. Ничтожные примеси, например миллионная доля такого химического элемента, как бор, делают графит непригодным для атомных реакторов.
Высоченная труба без дыма, возвышающаяся за зданием станции, — не отмерший пережиток угольных электростанций, а вполне необходимая и в атомном веке вещь. Через нее выпускают в верхние слои атмосферы чуть-чуть тронутый радиоактивностью воздух из помещений станции, где под действием слабых излучений становится радиоактивным присутствующий в его составе аргон.
Специальные приборы — дозиметры радиоактивных излучений, размещенные по всем углам станции и объединенные в едином центре, позволяют постоянно проверять помещение на случай заражения радиоактивными веществами.
Каждый работник носит в кармане кассету с кусочком фотографической пленки, которую техники-дозиметристики проявляют в конце работы. Густота почернения пленки служит мерой общей дозы радиоактивных излучений, воспринятой работником в течение смены. Эти дозы совершенно ничтожны. Однако дозиметристики строги и бдительны, как медсестры на хорошем санитарном пляже. Улыбаясь, они сообщили нам, что за все существование станции никто из персонала не имел ни малейших неприятностей от радиоактивности.
При разработке, пуске и эксплуатации первой атомной электростанции общее научное руководство осуществляли Д. Блохинцев и А. Красин, конструкторские работы возглавляли Н. Доллежаль и П. Алещенков, физические и тепловые расчеты — М. Минашин и Д. Зарецкий, технологические работы — Б. Малых, физические исследования реактора — Б. Дубовский, Е. Доильницын, А. Григорьянц и Ю. Архангельский. Они опирались на обширный опыт по проектированию и расчету атомных реакторов, созданных трудами выдающихся советских физиков старшего поколения.
Простота инженерных решений — признак зрелости научно-технической мысли. Эта зрелость — итог большого пути. Будет время, когда историки техники осветят нам все его славное протяжение. А пока только слабые отголоски титанической борьбы с трудностями в овладении атомной энергией донеслись до нас с трибуны сессии Академии наук СССР, где впервые обсуждались эти проблемы.
Мы узнали, между прочим, о том, какие поразительные изменения происходят в конструктивных материалах под действием радиоактивных излучений. Урановые пластинки заметно вытягиваются в длину, а бруски графита распухают. В органических изоляторах происходят распад и сшивание молекул: резина твердеет, а пластмассы разрушаются с обильным выделением газа. Протекают потрясающие по своей глубине процессы коррозии, порожденные алхимическими превращениями элементов. Чем измерить громадность конструкторского труда, торжествующего ныне над этим невиданным бунтом материи?
Восходящие линии прогресса советской физики, химии, геологии, технологии, горного дела, металлургии, электроники, теплоэнергетики, автоматики, машиностроения пересеклись на первой атомной электростанции, образуя одну из вершин современной техники. Она создана социалистической кооперацией самых разных областей промышленности, сомкнувших здесь свои передовые фронты. В ней запечатлелся героический трудовой подвиг советского народа. Она величава и проста, как любая горная вершина.
Атомная техника вносит в энергетику мира не только количественные, но и качественные изменения. Их, конечно, нельзя сбрасывать со счетов. Атомным станциям не нужны ни огромные массы топлива, ни воздух для горения. Они могут быть построены во льдах и пустыне, под землей и даже на дне океана. Они будут нести свет, тепло, жизнь туда, где было раньше царство смерти.
Жаль, не дожил нескольких лет и не может приехать в гости к нам знаменитый писатель-фантаст Герберт Уэллс. Мы не стали бы, пожалуй, из деликатности вспоминать историю, когда Уэллс, чье имя — синоним самой фантазии, не сумел вознестись в воображении до высот гениального ленинского плана, разглядеть сквозь развалины старой России сегодняшний электрифицированный Советский Союз. Мы не стали бы утомлять старика и водить его по гребням плотин великих наших гидроэлектростанций: рев весенних водосбросов без того гремит на весь свет. Мы бы только пригласили писателя лишь в одно это, ничем не примечательное с виду здание — первую в мире атомную электростанцию Академии наук СССР. Писатель, не веривший в электрическую Россию, здесь увидел бы начало России атомной.
2.8.
Вековое соревнование пароходов и парусников завершилось бесспорной победой пароходов. Пароходы ныне посмеиваются над бедными парусниками. Но по всем ли решительно пунктам состоялась эта победа?
Несомненно, что парусник был игрушкой ветров и узником штилей. В одном он оставался свободным и независимым: он использовал вечно живую, даровую энергию ветра и не думал о грузе топлива и о топливных базах. Пароход обрел независимость от капризов стихий, но стал пленником топливных баз, рабом угольной ямы.
Неизвестно, когда началась бы эпоха великих географических открытий, если бы муза техники, фантастической шутки ради, подсказала человечеству схему парохода раньше, чем идею парусника. Согласился бы Колумб пересечь на малютке-пароходишке Атлантический океан и пустился бы Магеллан в кругосветное плавание, озираясь на тающий угольный бункер?
Проблема автономности плавания, насущная для прошлых времен, остается жизненной и сегодня. И особенно остро ощущают ее моряки-полярники, покорители северных морей.
Шестьдесят шесть лет прошло с того дня, когда, возвращаясь с заседания Географического общества, адмирал С. О. Макаров доверительно сообщил Ф. Ф. Врангелю: «Я знаю, как можно достигнуть Северного полюса, но прошу вас об этом пока никому не говорить: надо построить ледокол такой системы, чтобы он мог ломать полярные льды… Это потребует миллионов, но это выполнимо».
Адмирал Макаров осуществил свой гениальный замысел: был построен «Ермак», положивший начало дружине русских ледоколов богатырской силы. При их помощи советские люди освоили Северный морской путь, сочетая в единой героической эпопее романтические подвиги моряков, ученых, авиаторов…
И все же современные ледоколы и транспортные суда ледокольного типа, работающие на угольном и нефтяном топливе, не могут плавать по всему арктическому бассейну. Их стесняет неусыпная забота о пополнении топливом. Они вынуждены держаться прибрежной полосы. К техническим факторам прибавляется фактор моральный: непрестанная угроза застрять во льдах без топлива заставляет капитанов осторожно расходовать его запасы. Очень часто поэтому ледоколы работают не на полную мощность.
Между тем развитие производительных сил Советского Союза поставило задачу создания нового, могучего, совершенного ледокольного флота, который проводил бы ускоренно караваны судов по трассе Северного морского пути и позволил бы продлить период навигации, расширить трассу в сторону более высоких широт.
В идеале мыслился мощный ледокол с неограниченной автономностью плавания, способный преодолеть любую зону Арктики. Никакими обычными средствами невозможно было соорудить такое судно. Оно могло быть построено лишь на основе всесильной техники атомного века. Поэтому директивами XX съезда КПСС, определившими развертывание работ по созданию атомных силовых установок для транспортных целей, было предусмотрено также строительство ледокола с атомным двигателем.
Ледокол был заложен на Ленинградской верфи 25 августа 1956 года и спущен на воду 5 декабря 1957 года. В честь великого вождя он был назван «Ленин». В могучем облике корабля мир увидел не только флагмана советской ледокольной флотилии — открывателя новых районов Арктики, но и флагмана грядущего всемирного флота атомных кораблей, открывателя новых возможностей мирного применения атомной энергии.
Выражаясь языком моряков, атомный ледокол представляет собой гладкопалубное судно с умеренной седловатостью, удлиненной надстройкой и двумя мачтами. Он имеет четыре непрерывные палубы и две платформы. На открытой части шлюпочной палубы размещены катера и спасательные шлюпки, а в кормовой части — взлетная площадка для вертолета и ангар.
Морской волк, привыкший оценивать взыскательным глазом форму кораблей, вероятно, останется удовлетворен этим судном. Его крепко слаженный корпус хорошо защищен от волн, захлестывающих судно на ходу; при длине в 134 метра ледокол имеет почти 30-метровую ширину, что способствует лучшей маневренности во льдах; гармоничная, продуманная форма носовой части позволяет значительно увеличить давление на лед; предусмотрительно заваленный борт у мидель-шпангоута защитит надстройки во время швартовки и когда придется обкалывать затертые льдами суда.
Судостроители опирались на богатую многолетнюю практику ледового плавания, на натурные испытания одного из существующих ледоколов, на исследование малых моделей в опытном бассейне, на новейшие теоретические изыскания. В результате получился отличный oбpaзец корабельного зодчества. Кораблестроители, вступая в атомный век, не посрамили своего древнего искусства.
Быстролетные яхты сравниваются с альбатросом, но ледокол по сложности своих движений, быть может, более, чем другое судно, напоминает живое существо.
Он энергично владеет передним и задним ходом, совершает крутые развороты-циркуляции в нешироких разводьях. Но ему удаются и некоторые другие маневры, которые моряки ледокольного флота шутливо именуют «фигурами высшего пилотажа».
Пробираясь через ледяное поле, он продавливает лед. Носовая часть скошена. Корабль на полном ходу взбирается на льдину и проламывает ее своей тяжестью. Но бывает, что льдина не поддается. И тогда начинают действовать мощные пропеллерные насосы производительностью по 4 тысячи тонн в час. Они нагнетают в носовые цистерны морскую воду, и лед проламывается. Случается, что нос судна застревает во льду, как колун в колоде. Тогда воду из носовых резервуаров стремительно перекачивают в кормовые. Нос судна поднимается, но, возможно, и могучие усилия заднего хода окажутся недостаточными, чтобы освободить корабль. Его надо раскачать. Предусмотрено и это: попеременно наполняют водой цистерны, расположенные по бокам, так называемые креновые цистерны. Судно кренится с борта на борт. Выражаясь образно, оно протискивается сквозь льды, работая «головой и боками».
Три винта ледокола — «коренник» и два «пристяжных» (половинной мощности) — составляют буйную подводную тройку. Их суммарная мощность 44 тысячи лошадиных сил.
«Пробивное действие» ледокола, способность преодолевать льды, связывают обычно с его энерговооруженностью — отношением мощности двигателя к водоизмещению судна. Водоизмещение ледокола—16 тысяч тонн. Значит, на тонну приходится 2,75 лошадиной силы! Эта цифра намного превосходит показатели сильнейших ледоколов мира, в том числе и крупнейшего американского судна «Глетчер». Она достаточна для того, чтобы ледокол продвигался непрерывным ходом через лед толщиной в полтора человеческих роста с завидной скоростью в два узла.
В новом ледоколе все эти сложные маневры осуществляются посредством энергии атомного ядра.
Некоторые думают, что винты и другие механизмы ледокола приводятся в движение каким-то особым, не похожим на предшествующие, атомным двигателем. На самом деле это не так. Винты и механизмы ледокола вращаются от обычных электромоторов. Но питаются эти моторы от атомной электростанции, установленной на корабле.
Атомная электростанция на корабле! Далеко шагнула ядерная энергетика, если реактор атомной электростанции — громоздкое сооружение, размещавшееся на первых порах в здании крепостного типа, — перешел на зыбкий борт корабля! И не один, а три реактора установлены на ледоколе, и каждый из них почти в четыре раза мощнее, чем прославленный ныне реактор первой атомной электростанции Академии наук СССР.
Примечательной технической особенностью, упростившей дело, явилось то, что в реакторах ледокола в качестве замедлителей нейтронов применен не графит, как на первой атомной электростанции, и не сравнительно дорогая тяжелая вода, а обычная, самая простая вода. Она же служит и теплоносителем, передатчиком тепла от урана к генераторам пара. Это водоводяные реакторы.
Оказалось, что основа древней гидроэнергетики, основа паровой энергетики— простая вода — исправно служит и энергетике атомной!
Но каким путем удалось применить в реакторе простую воду? Нам ответят: подбором размеров, пропорций ураново-водяной решетки, путем целесообразного расположения в воде стержней обогащенного урана.
Ответ разочаровывает. Уж очень все просто.
Но разве открытие целесообразных размеров и пропорций не способно вызвать чудо? Гениально найденные пропорции бессмертны. Не случайно, что в советском павильоне на последней Всемирной выставке в Брюсселе, как бы воскреснув через тысячи лет, торжествовали пропорции Парфенона.
Над размерами и пропорциями решеток реакторов работают сильные научные коллективы. О них думают в нейтронных лабораториях, где потоки нейтронов исследуют на механических установках с непринужденностью баллистиков, изучающих полет пуль; о них думали экспериментаторы, работавшие на универсальных моделях — призмах, напоминающих огромные детские кубики, позволяющие гибко составлять из них разнообразные решетки. О них думают теоретики, анализирующие системы уравнений столь громоздкие, что при виде их впало бы в отчаяние любое математическое общество прошлых лет, тех недавних лет, когда не было возможности призвать на помощь грандиозные электронные счетные машины. Но вот уже проведена громадная работа. Размеры и пропорции найдены. И на вооружение атомной энергетики принята простая вода.
Трудность атомного реакторостроения заключается в том, что надо создать надежные, стойкие, долго действующие тепловыделяющие элементы. Можно утверждать, что ни в одном из существующих аппаратов конструкционным материалам не приходится работать в столь невыносимо тяжелых условиях. Технологам на помощь приходят испытательные «петли» в исследовательских реакторах — устройства, столь же важные для технолога-атомника, как аэродинамические трубы для авиаконструктора, приходят на выручку горячие лаборатории, приходят на помощь исключительные по остроумию металлургические печи по выплавке сверхчистых металлов. Технологи, участвовавшие в строительстве ледокола, укротили строптивые материалы. Несмотря на то, что физика подсказывала: тепловыделяющие элементы выгоднее делать металлическими, технология приказала выполнить их из керамики, из прессованного черно-бурого порошка двуокиси урана, заключенного в циркониевую оболочку. Они получились надежными и стойкими.
Итак, реактор ледокола представляет собой стальной толстостенный котел, где стержни из окиси урана, обогащенного 5-процентным ураном-235, окружены чистейшей, дважды дистиллированной водой. Она нагревается здесь до температуры, при которой плавится свинец. И хотя эта вода в три раза горячее кипятка, она все-таки не вскипает, потому что сжата под давлением в 200 атмосфер.
Как известно, отвод тепла от атомной топки — сложная, хитроумная задача. Одна из трудностей в том, что вода в реакторе становится радиоактивной, опасной для окружающих. Приходится прогонять ее через специальные аппараты — парогенераторы, где она своим теплом превращает в пар обычную нерадиоактивную воду, который приводит в движение турбины.
Разумеется, все оборудование первичных контуров — реакторы, парогенераторы, циркуляционные насосы — должно находиться под надежной лучевой защитой.
Атомным реактором управляют автоматические приборы. В чем особенность этих тончайших и умных приборов? На ледоколе шутливо отвечают на этот вопрос: «Главная особенность заключается в том, что каждым из этих приборов можно без всяких опасений забивать гвозди».
Тут мы подходим к решающей проблеме, к проблеме безопасности ледокола, его надежности в условиях качки, прочности при столкновениях со льдами, к ответам на десятки вопросов, начинающихся словами «а если…»
А если ледокол столкнется с другим судном, сядет на мель, будет стиснут льдами?
Вероятнее всего, с ледоколом не произойдет ничего плохого. Обычные морские опасности ему не страшны. Гарантией является его необычайно прочный корпус, построенный из стали специальной марки, корпус, опоясанный мощным стальным «ледовым поясом». Но если и произойдет невероятное и ледокол получит пробоину, даже две пробоины, на худой конец, то разумная система отсеков, опирающаяся на теорию непотопляемости кораблей, разработанную академиком А. Н. Крыловым, все равно позволит удержать корабль на плаву.
А если выйдет из строя реактор?
Надо полагать, что и это не такая уж большая беда. В самой схеме механизмов ледокола заложены богатейшие возможности аварийного резервирования, страховки, подмены. Как правило, одну и ту же работу выполняют здесь несколько одинаковых, дружно действующих машин. На корабле три атомных реактора по 90 тысяч киловатт, и при каждом реакторе два независимых парогенератора; в машинном зале — четыре паровые турбины, вращающие восемь одинаковых динамомашин, питающих током три гребных электродвигателя. Выражаясь образно, оркестр корабельных механизмов составлен из октетов, квартетов и трио, играющих в унисон, где все готовы в любую минуту поддержать и заменить друг друга. Этим принципом глубоко пронизана вся конструкция ледокола.
Все детали атомной установки ледокола, смертельно опасные своей радиоактивностью, объединены в одном отсеке и ограждены надежными стенами лучевой защиты. Это почти двухметровой толщины перегородки, где листы нержавеющей стали перемежаются водой, как в слоеном пироге; внушительные стальные плиты; блоки специального лимонитового бетона, где в качестве наполнителя используется железная руда.
Атомная установка должна быть сконцентрирована в минимальном объеме, защита должна быть легкой и мощной, дешевой и надежной. Очень много остроумнейших компоновок перебрали и отбросили строители ледокола, пока остановились на лучшей.
А если радиоактивность все-таки проникнет в жилые помещения ледокола?
Это будет, пожалуй, опаснее, чем пожар на «Луизитании». Дымок и язык пламени заметен каждому. А вот «второй огонь», открытый человеком, поражает незримо.
Они вовсе неприметны, струйки радиоактивной жидкости или газа. Но если случится авария и они просочатся к вам, произойдет нечто непоправимое. Поэтому на ледоколе существует система дренажей, уводящая при аварии опасные жидкости на дно специальных цистерн; поэтому здесь предусмотрена специальная система очистки воздуха от следов радиоактивности. Ледокол совершенно безопасен и для морских портов и для судов, следующих за ним караваном: ведь воздух проходит через специальные фильтры, где задерживаются радиоактивные пылинки.
Многочисленные чувствительные приборы — дозиметры, размещенные по всем углам, готовы известить о повышенной радиоактивности тревожно-красным огнем или звуковым сигналом. Весь персонал ледокола снабжен индивидуальными дозиметрами. Красные огни не мигают, сигналы молчат. Радиоактивность в помещениях ледокола ниже допустимой нормы! Советским морякам не грозит судьба Фаэтона.
Запас ядерного топлива на ледоколе фантастичен. Его хватит на год для всех машин, непрерывно работающих на полную мощность. В нормальных условиях ледокол может находиться в плавании несколько лет без возобновления топливных запасов.
Ледокол «Ленин» построен под научным руководством одного из создателей советской атомной техники, прославленного физика академика А. П. Александрова. Ученые старшего поколения изобретали, исследовали, строили в союзе с молодыми учеными. Их высокое, самоотверженное служение науке вдохновляло молодых. Атомный ледокол, носящий имя Ленина, — результат этого творческого союза.
Хорошо, должно быть, плавать на атомном ледоколе! Экипаж размещен в одно- и двухместных каютах. Каюты командного состава состоят из кабинета и спальни. На судне — искусственный климат и водяное отопление, холодная и горячая вода в умывальниках, лампы дневного света, столь нужные в пору полярной ночи, ванны, бани и душевые. На ледоколе имеются клуб, библиотека, читальня, курительный и музыкальный салоны. В медицинском блоке — амбулатория, объединенная с физиотерапевтическим кабинетом, операционная, зубоврачебный, рентгеновский кабинеты, аптека и лаборатория.
Архитектурная отделка ледокола прекрасна.
…Но на человека, влюбленного в технику, машинное отделение производит, быть может, наиболее сильное впечатление. Он любуется жемчужинами изобретательского творчества, разбросанными щедрой и свободной рукой, он заворожен могучими сплетениями механизмов, сопряженных с почти микеланджеловской смелостью и силой. Он еще раз, спустя полвека, повторяет про себя слова адмирала Макарова, создателя первого русского ледокола: «У нас есть корабль, который дает возможность сделать то, что не под силу ни одной нации и к чему нас нравственно обязывают старые традиции, географическое положение и величие самой России…»
Американские электросварщики еще копошились в корпусе своего атомохода «Саванна», а советский атомный ледокол «Ленин» уже был в строю и перед исторической поездкой Н. С. Хрущева в Америку стал на Неве рядом с легендарным крейсером «Аврора».
«Пуск ледокола «Ленин», двигатель которого сейчас приводится в движение атомной энергией, — писал Никита Сергеевич в своем ответе на письма и телеграммы, поступившие в связи с поездкой в США, — также имеет символическое значение. Не случайно именно советские люди, которые первыми в мире запустили электростанцию на атомной энергии, первыми ввели в строй и атомный ледокол. Тем самым мы вновь наглядно показали, что советские люди полны решимости использовать энергию атома в мирных целях.
Наш атомный ледокол «Ленин» будет ломать не только льды океанов, но и льды «холодной войны». Он будет прокладывать путь к умам и сердцам народов, призывая их совершить поворот от соревнования государств в гонке вооружений к соревнованию в использовании атомной энергии на благо человека, на согревание его души и тела, на создание всего необходимого, в чем нуждаются люди».
2.9.
Каждый раз, посещая Дубну, благородный город науки, столь прекрасный, что порой он кажется овеществленной мечтой социальных утопистов, город, тонущий сегодня в прозрачном облаке молодой зеленой листвы, оглашаемый вдохновенным щелканьем соловьев, каждый раз вы встречаетесь с каким-нибудь новым, небывалым и порой удивительно смелым техническим решением, позволяющим ученым продвинуться в глубь микромира.
Речь идет о так называемом импульсном быстром реакторе (ИБР), разработанном в Институте Государственного комитета по использованию атомной энергии и осуществленном в лаборатории нейтронной физики Объединенного института ядерных исследований.
Совершенно закономерно, что в научном учреждении, занимающемся ядерной физикой, существует самостоятельная нейтронная лаборатория. Ведь нейтрон, мельчайшая частица атомного ядра, обладающая массой и лишенная электрического заряда, является ключиком ко многим тайнам микромира. Именно нейтрону приходится играть роль своеобразного «космонавта» в микрокосмосе — беспрепятственно вторгаться в атомные ядра, совершенно перекраивая свойства атомов и ядер и даже вызывая их деление.
Между нейтроном и ядром существуют довольно странные, на поверхностный взгляд, взаимоотношения, напоминающие чем-то отношения ветра и струны, колонны пехотинцев, шагающих в ногу, и вибрирующих ферм моста. Лишь при определенной скорости дуновения зазвучит струна, и мост может обрушиться, если ритм шагов повторит такт его резонанса. Лишь при определенной скорости полета нейтрон будет захвачен ядром и произведет его разрушение. Во взаимоотношениях нейтрона и ядра существуют явления резонанса. Это обстоятельство жизненно важно не только для ядерной теории, но и для ядерной техники. С резонансными явлениями приходится считаться при строительстве реакторов атомных электростанций с их обычными урановыми стержнями, погруженными в замедлитель.
С Д. И. Блохинцевым, директором Объединенного института ядерных исследований и руководителем строительства первой в мире атомной электростанции, мы беседовали на темы науки и искусства. Д. И. Блохинцев набрасывал схему работы над реактором на обратной стороне собственной акварели. Мы пришли к совместному заключению, что конструктор реакторов должен быть не только ядерщиком, технологом, теплотехником, электриком, механиком, но и чем-то вроде музыкального мастера, создающего Эолову арфу — благозвучный строй струн, поющих на ветру. Опираясь на обширные экспериментальные данные, на громоздкие системы уравнений, побеждаемые с помощью электронных машин, конструктор так располагает решетку урановых стержней среди блоков замедлителя, чтобы наилучшим образом использовать полезные резонансы ядер в потоке нейтронов, погасив вредные, чтобы реактор работал гармонично, как Эолова арфа в воздушном вихре.
Когда мы приближались к корпусам лаборатории нейтронной физики, исключительная важность нейтронных исследований была для нас совершенно очевидной.
Популяризаторы сравнивают элементарные частицы со снарядами и пулями. Это, конечно, грубое сравнение. Но, пожалуй, больше других похож на пулю нейтрон, не обладающий электрическим зарядом. Не случайно, что и архитектура нейтронной лаборатории чем-то напоминала архитектуру стрелкового тира. От центрального каземата, огражденного почти крепостными стенами биологической защиты, где таился пока не известный нам нейтронный источник, расходились внушительные жерла коллиматоров, через которые велась стрельба нейтронами. Они были нацелены в коридоры, где помещались мишени. Протяженность одного из коридоров оказалась бы рекордной для любого закрытого стрелкового тира. Он тянулся на целый километр. Вдоль него проходила стальная труба толщиной в два обхвата и в туманной перспективе казалась сходящей в паутинку. Сквозь трубу и пролегали траектории нейтронов. Чтобы ничто не мешало их полету, из трубы выкачивался воздух: мы заметили группу могучих и прилежных насосов, присосавшихся к трубе.
При знакомстве с существом дела аналогия со стрелковым тиром или полигоном для баллистических испытаний лишь усилилась, а не ослабла. Вдоль трубы были расставлены датчики, реагирующие на нейтроны, соединенные в схемы, которыми измеряют обычно скорость снарядов и пуль. Но задача экспериментаторов-физиков была много сложнее задачи артиллеристов. Надо было измерить одновременно скорости многих тысяч снарядов, многих тысяч нейтронов. Вдоль трубы были установлены «тысячеканальные» датчики. Многожильные, похожие на девичьи косы, кабели сообщали их с пересчетными устройствами, сконцентрированными в особом зале.
Любопытно — и в этом знамение времени, — что содружество сложных приборов, счетчики, напоминающие элементы электронных математических машин, быстропечатающие механизмы, оттискивающие цифры на бумажной ленте со скоростью авиационного пулемета, телемеханическая аппаратура, позволяющая управлять огромным хозяйством на расстоянии с единого пульта, — все, что поразило бы наше воображение лет пять назад, сегодня почти не удивляло. В век космических ракет и спутников автоматизация кажется естественным помощником ученых. Не смутило нас и то обстоятельство, что столь щедрый водопад экспериментальных данных не способен был, казалось бы, уложиться в одной человеческой голове. Мы приняли как должное, что прямо со счетчиков прокладывался кабель напрямую к электронно-счетной машине, на которую возлагалось предварительное обобщение опытных данных.
Глядя на самые разнообразные индикаторы, которыми были обложены мишени, состоящие из испытуемых материалов, можно было не сомневаться, что поведение материала в потоке нейтронов самых разных скоростей будет изучено с полной обстоятельностью.
Избалованным столькими чудесами глазом мы прильнули к желтым стеклам перископа, устремленного в блиндаж, где таилась святая святых установки, источник нейтронов — импульсный быстрый реактор (ИБР). Машина выглядела оригинально. Установленный на высоком постаменте электромотор вращал нечто похожее на самую невинную воздуходувку. Сходство создавали трубопроводы воздушного охлаждения…
Беглым взором мы скользнули по схеме устройства ИБР…
У нас пресеклось дыхание!
Мы узнали в ней принципиальную схему атомной бомбы.
Да, не удивляйтесь, примитивную схему атомной бомбы, известную каждому по книжкам издательства ДОСААФ.
К грозной щели, образованной двумя кусками плутония (разумеется, не составляющими критической массы!), устремлялся кусок урана-235! Он был укреплен на периферии вращающегося диска и готов был влететь в щель.
Масса сразу станет выше критической! Что тогда?!
— Успокойтесь, взрыва не будет, — произнес уверенный голос. — Диск вращается со скоростью пяти тысяч оборотов в минуту, и кусок урана покинет щель, цепная реакция погаснет. Но до этого грянет вспышка быстрых нейтронов интенсивностью в несколько тысяч киловатт. Наш реактор— безопасное ядерное огниво…
— Ну, а если уран по какой-нибудь дикой случайности все-таки застрянет в щели?
— Взрыв и тут исключается. Ведь куски плутония не цельные, а составлены из отдельных стержней, словно пачка карандашей. Тут вмешивается автоматика. Неизбежно сработает устройство, похожее на детское пружинное ружье. Пружина выстрелит одним «карандашиком». В результате общая масса расщепляющихся материалов уменьшится, станет ниже критической, и цепная реакция заглохнет. Все перестраховано дважды и трижды! Кроме того, сама физика реактора такова, что ядерный взрыв во всех решительно случаях исключается.
— Если хотите, — продолжают сотрудники лаборатории, — наш реактор в некоторых отношениях безопаснее обычного постоянно действующего реактора. Его импульс силен, но короток — длится несколько микросекунд. Импульс мощный, а средняя мощность мала — что-то вроде одного киловатта. А раз так, то и остаточная радиоактивность незначительна и система воздушного охлаждения самая безобидная.
Через желтые стекла перископа с уважением рассматриваем мы уникальную машину — порождение отважной изобретательской мысли. Серый ребристый электромотор стремительно вращал метровый диск, защищенный массивным кожухом.
Само создание этого диска явилось венцом современной технологии. Трудно приходится дискам турбин, вращающимся в жару и пламени реактивного потока, но еще труднее работать подвижным деталям, опаляемым дыханием «второго огня» — излучением ядерного распада. Ведь под действием ядерного излучения глубоко перерождается структура металла, алхимически изменяется его состав. Но все трудности технологии преодолены. Машина работает.
Ядерное огниво неустанно высекает «второй огонь» — гордый Прометеев пламень.
Идут нейтронные исследования. Изучаются спектры нейтронного излучения и явления нейтронного резонанса, и контуры реакторов будущих атомных электростанций, как арфа Эола, приобретают все более и более гармоничные рациональные пропорции.
Поведение тел в нейтронном потоке заставляет отгадывать новое в самой структуре тел, получать поистине фундаментальные знания. Материя приоткрывает недоступные ранее тайны.
Пять тысяч раз в минуту рука человека развязывает злую цепную реакцию, грозившую ранее уничтожением! Пять тысяч раз в минуту могучая рука человека хватает ее за горло, смиряет, заставляет подчиниться себе.
Ученые шутливо называют импульсный реактор «дразнилкой» и действительно дерзко дразнят цепную реакцию, но она у них на надежной цепи.
Свершилось важное научное событие, завоевана новая ступень свободы в обращении с великими и грозными силами природы!
Импульсный быстрый реактор работает вспышками, проблесками, как маяк в ночи, указывающий путь в глубину микромира.
2.10.
Две высокие метафоры возникают в воображении, когда пробуешь выразить главное назначение зала Дворца съездов в Кремле с его исторической трибуной, с удивительно удобной для всех и каждого плани-ровной многих тысяч мест, в которой как бы отразился демократический дух бесклассового общества, планировкой, воинственно не похожей на помпезный интерьер «императорских» театров, где в надменной иерархии ярусов и лож запечатлелись социальные неравенства минувших общественных формаций. Зал в Кремле — это форум человеческой мысли, дворец человеческого голоса.
Не будем противопоставлять наши сравнения: они родственны. Мысль выражается словом, слово изрекается голосом, и нет более могучего носителя мысли, чем изреченное слово, звучащий человеческий голос. В нем кипит и пламенеет то, что гаснет в типографской строке, — непосредственная страсть и душевность интонации, придающая сверкание граням мысли, умножающая действенную силу слова. Нас ведут вперед не только сверкающие ленинские строки, но и пламенный ораторский ленинский жест на трибуне миллионов.
…Помещения, где голос звучит хорошо, в мире редки. Главная трудность, с которой борются архитекторы, и борются нередко безуспешно, — это спутник наших лесных прогулок, обыкновенное эхо. Представьте, строят большую аудиторию для лекций. «Ау!» — говорит лектор в пустынный зал. «У-гу-гу!» — кричит зал на лектора, как расшумевшийся класс. Кричат стулья, кричат колонны, кричат стены — все они дают эхо, отражают звуки голоса, как бы кричат в ответ. Голос лектора тонет в нестройном хоре ответных голосов. Надо выяснить, кто кричит, где кричит и почему кричит, а затем заставить замолчать горлана. Если «кричит» стул, ему делают мягкую спинку, пусть звуки глохнут в подушке. Если «кричит» колонна, ее делают ребристой, и она начинает рассеивать звуки по сторонам. Если «кричит» кусок стены, его можно наклонить и пустить эхо в стороны, словно зеркальцем, отклоняющим солнечный луч, или заглушить звукопоглощающим материалом. Короче, приходится менять архитектуру. Зримые формы архитектуры приходится подчинять незримым процессам, протекающим в зале, законам и требованиям звучащего голоса.
Многовековый практический опыт зодчих затвердил геометрию подлинных дворцов голоса, гениальную, как пропорции скрипок Страдивариуса. Архитекторы боязливо копировали удачные залы, опасаясь вольничать даже в мелочах, — когда дело касалось звука, конструктивное значение имели даже детали драпировки лож и лепные финтифлюшки барокко. Акустика становилась оковами на руках архитектуры.
Архитектурный произвол нередко приводил к анекдотическим последствиям: природа жестоко смеялась над теми, кто нарушал ее законы. Мне доводилось читать отчаянные письма актеров некоторых театров, получивших новые здания. Не для всех из них новоселье оказывалось праздником. Звуку было неуютно в украшенных колоннадами залах. Здесь существовали «зоны молчания» — целые области, где речь звучала тихо или неразборчиво. Чтобы донести слово до каждого зрителя, актеру приходилось форсировать голос, ломать музыку речи, рвать художественную ткань, драмы. Не секрет, что существуют театральные залы, где по чисто акустическим причинам нельзя ставить чеховские пьесы.
Стало ясно вместе с тем, что обширный «дворец голоса» невозможно построить одними архитектурными средствами: нежная вибрация голосовых связок не может раскачать громадных воздушных объемов зала. Легенды о чудесной, неповторимой акустике грандиозных древних театров сомнительны. Я сам слышал, сидя на верхней ступени знаменитого древнегреческого амфитеатра Диониса, как внизу на арене разрывали клочок бумаги. Но союзником опыта было безмолвие руин. В переполненном народом амфитеатре опыт не удается. Анекдотам об акустике древних театров противоречат музейные трагедийные маски с рупорами перед отверстыми ртами да, пожалуй, и сама драматургия греческой трагедии, при которой хор повторяет и комментирует реплики героев, выполняя роль усилителя звука.
Только современная электроника ослабила цепи, сковывающие архитектуру и акустику и стеснявшие движения их обеих. Творчество зодчего стало свободнее, независимее. Грядущим историкам искусств предстоит обобщить преобразующее влияние электроники на развитие архитектурных стилей. Нам уже довелось проследить этот процесс на единственном, но ярком примере Кремлевского Дворца съездов.
Электроника не только помогла разрешить все затруднения, но и участвовала в проектировании помещения. Мы имеем в виду миниатюрную плексигласовую модель зала, уменьшенного в сорок раз. Там внутри металась, испытывая разнообразные отражения, миниатюрная модель будущих звуков, звуковая волна, уменьшенная также в сорок раз и поэтому не слышимая ухом, — ультразвуковая волна. Электроника замеряла ультразвуковое неслышное эхо, и экспериментаторы могли отработать на модели, систему заглушения зала.
Стены зала и его потолок одеты, как рыцарь, в старинные доспехи. Под сквозной дюралюминиевой кольчугой скрывается мягкое одеяние — рационально скроенный ватник из капроновой ваты и пористых пластмасс. Достигается глубокое заглушение, необходимое для нормального звучания ораторской речи. Это звучание прекрасно.
Но естественная слышимость речи достигается широчайшим и незримым вмешательством электроники. Зритель даже не подозревает, что на стенах, на потолке за дюралюминиевой облицовкой и в других укромных местах скрывается целый оркестр громкоговорителей, намного превосходящий численностью шеститысячную аудиторию зала. При таких громадных объемах воздух — не слишком надежный передатчик звука. Звук предпочитают доносить со сцены до слушателя по проводам. Шесть тысяч громкоговорителей скрыты в спинках кресел, и каждый зритель окружен их согласно шепчущим хором. Специальный «звуковой прожектор» бросает свой острый луч на стол президиума. Когда оратор начинает говорить, невозможно преодолеть ощущения, что зал уменьшился в размерах. Вы слышите оратора где-то рядом с собой и перестаете доверять оптической перспективе.
Если язык, на котором говорит оратор, вам незнаком, то вы можете воспользоваться наушниками и услышать голос переводчика, повторяющего речь оратора на одном из известных вам языков. Вы сами выбираете подходящий язык при помощи переключателя, вмонтированного в ручку кресла.
Беспримерным в истории архитектурной акустики является то, что построен, наконец, обширный, идеально звучащий зал многоцелевого назначения.
В нем естественно звучат и спектакль, и опера, и оркестр, и хор, и фонограмма кинофильма. Зритель слушает, забывая о громадных расстояниях, отделяющих его от сцены, забывая о том, что в таком отдалении голос самой сильной певицы был бы слышен не громче комариного писка.
Электроника создает здесь звуковую иллюзию, называемую стереофонией. На сцене более ста микрофонов, из них двадцать могут работать одновременно. Двадцать микрофонов разбиты на пять групп, соединенных с пятью громкоговорителями, искусно замаскированными над порталом сцены. Это очень большие громкоговорители, высотой с двухэтажный дом. Там, наверху, над громадным зеркалом сцены, они создают грандиозную незримую звучащую фреску, повторяющую звуковую картину сценического действия. Звуковые центры этой фрески перемещаются вместе с. переходом актеров, и наше ухо, неизменно ошибающееся в оценке высоты, продолжает считать, что звуки доносятся со сцены. Звуковая копия совершенно подобна оригиналу, и это совершенство достигается немалой ценой.
Для того чтобы хор и оркестр натурально и красиво звучали, необходимо, чтобы зал обладал известной гулкостью. Композиторы пишут и оркеструют свои произведения в расчете на торжественную гулкость концертного помещения. Например, стиль инструментовки моцартовских серенад учитывает скромную акустику аристократических гостиных, а загадки партитуры его «Реквиема» объясняются тем, что он написан с учетом величественного отзвука готических сводов собора Сан-Стефана.
Концерты и оперы требуют, чтобы эхо, столь тщательно изгнанное, было вновь возвращено в Кремлевский зал. Для архитектуры это оказалось бы задачей непосильной. Пришлось бы менять на громадной площади отделку стен, потребовались бы радикальная передвижка и пластическое изменение архитектурных форм: зал пришлось бы перестраивать. Лишь с помощью электроники удалось решить эту задачу. Марк Твен, улыбаясь, рассказывал о коллекционере, который скупал участки земли, где звучало превосходное эхо. Наука относится к этой идее без всякой иронии. Она учит, что эхо бывает полезно «прикупить» на стороне. В подземельях Дворца съездов построен особый безлюдный зал — настоящее царство эха. Здесь звуки обогащаются отзвуками эха. Здесь их улавливают микрофонами и в красивом обрамлении эха возвращают по проводам, обратно в зрительный зал. Параллельно работают еще две хитроумные машины—два станка, на которых эхо вырабатывается электронным путем. Простым поворотом нескольких рукояток на пульте управления можно организовать в зале эхо в соответствии с самыми сложными требованиями партитуры.
Недостаток места позволяет лишь бегло намекнуть на принцип устройства аппаратов «электронного эха». Представьте себе замкнутое кольцо магнитной ленты, обегающей, как бесконечная цепь, систему шестерен, ряд записывающих магнитных головок. Все эти головки подключены к магнитофону. Звук записывается на ленту как бы в несколько строчек, сдвинутых друг относительно друга, отстающих от первой «строки», как эхо отстает от слова. Эта запись воспроизводится еще одной головкой, подключенной через усилитель к громкоговорителям.
Киноэкран Дворца съездов, выполненный из сварного перфорированного пластиката, как известно, самый большой в мире. Он сделан вогнутым подобно большому цилиндрическому зеркалу. Телемеханическое устройство позволяет выкатывать исполинский экран из глубины сценической коробки на авансцену. Экран озвучен пятью громкоговорителями высотой в четырехэтажный дом каждый. Эти звучащие колонны построены сложно, как кафедральный орган, и содержат многие десятки колеблющихся диффузоров, создающих палитру тембровых окрасок, необходимых для сочной передачи звука. На экран можно проецировать обычные широкоэкранные и широкоформатные фильмы на 70-миллиметровой пленке, проецировать киноизображения даже во время театрального действия, вторгаясь в него. В кинопроекторах зала, похожих на слона средних размеров, пылает электрическая дуга высокой интенсивности. Конструкторы кинопроекторов заставили дугу академика Петрова еще на несколько ступенек приблизиться к Солнцу.
Можно долго описывать технические особенности этих замечательных кинопроекторов, позволяющих получить высокую яркость кинопроекции на экранах площадью от 300 до 500 квадратных метров. Дело здесь в конструкции и химическом составе углей дуговой лампы и в особых физических условиях, при которых дуга обдувается воздушным потоком. Внимание оптиков несомненно прикует многослойный интерференционный отражатель, концентрирующий на пленке лишь световые лучи и рассеивающий в пространстве невидимые излучения, лишь напрасно нагревающие пленку. Кинопроекционные установки такого масштаба осуществлены впервые в мире.
Управление всем хозяйством ведется из единой аппаратной, пожалуй, столь же сложной, как пульт атомного реактора. Отсюда исходят радиотелевизионные каналы, здесь ведется управление кинопроекторами, магнитофонами, фильмофонографами, стереофоническими электропроигрывателями, ротой микрофонов и дивизией громкоговорителей.
Вся эта техника создана большим коллективом предприятий и научно-исследовательских учреждений под руководством головной организации — Научно-исследовательского кинофотоинститута.
Правительство высоко оценило этот шедевр научного, инженерного творчества, удостоив Ленинской премии 1962 года руководителя работ А. А. Хрущева, а также И. М. Болотникова, В. Г. Белкина, В. В. Фурдуева, Н. Т. Гордиенко, Р. М. Кашерининова и А. Р. Пригожина.
…Мы пришли в аппаратную после новогоднего концерта, и в уже померкшем, безлюдном зале конструкторы продолжали показывать нам его фантастические возможности. Звук был «пущен в зал»! Это значит, что звуки оркестра, записанные на магнитной пленке, разбрасывались по громкоговорителям, скрытым в потолке и стенах зала. Невидимые инструменты оркестра как бы закружились в сумрачном пространстве. Я услышал, как прямо на меня зашагал барабан и, приблизившись, миновал меня и замолк, пробарабанив сзади… Порхали флейты… Стремительно спикировала виолончель… Какие-то могучие незримые звуковые великаны бушевали в зале, мечась от стены к стене, словно силясь вырваться на простор.
Новой технике, как всегда, тесновато в старых рамках. В ней живет пафос будущего, она манит к творческим озарениям, ждет, быть может, художника-творца, чтоб прибрал ее к рукам микеланджеловской страстью и силой.
Сегодня все уже убедились в том, что художественное освоение новой техники проходит успешно. В зале Дворца съездов отлично прозвучали выступления самых разных представителей всех родов артистического оружия. Великолепно звучал прославленный венский оркестр под художественным руководством фон Караяна, гремел и пел рояль Вана Клиберна. Руководство Большого театра СССР пошло на смелый эксперимент. На сцену Дворца съездов были перенесены оперы Бородина «Князь Игорь» и Глинки «Иван Сусанин». Впервые в истории осуществились мечты Берлиоза, Вагнера, Мусоргского — оперный спектакль был показан в многотысячной народной аудитории. Теперь можно признаться, что рядом с дерзкими новаторами можно было видеть и скептиков. Они сомневались, что микрофоны будут способны передать голос певца, перемещающегося по сцене, поющего спиной к зрителю. Но эти опасения оказались несостоятельными. Сеть микрофонов надежно улавливала голоса певцов и несла их в зал. Впервые в истории оперы каждый зритель в зале слышал каждое слово солистов и хора.
Как-то раз, разговаривая с композитором Д. Д. Шостаковичем, мы коснулись совершенно новых возможностей, открываемых удивительным оборудованием Дворца съездов. Речь зашла об исполнении симфонических произведений. Ведь семнадцать вариаций темы нашествия в его знаменитой Седьмой симфонии теперь могут развиваться не только во времени, но и в пространстве. Стереофонические громкоговорители пронесут эту тему через зал, над головами зрителей, в незримом марше. «Интересно, написать совершенно новую партитуру, — сказал Дмитрий Дмитриевич, — где партии были бы распределены не только между группами инструментов, но и между группами громкоговорителей, перекликающимися через зал». Да, очень интересно! Электроника дает новые краски палитре художника.
Изобретения в электронике преобразуют архитектуру. Электроника открывает пути строительства общественных зданий многоцелевого назначения — дворцов искусства и слова.
Что может дать изобретение, дать техника, не производящая ничего, ни энергии, ни продуктов, ни других материальных ценностей? Очень, многое, если она служит слову. Слово выражает мысль, мысль несет идею, а идеи, овладевая массами, превращаются в материальную силу, непобедимую силу борьбы за Мир, Труд, Свободу Равенство, Братство и Счастье всех народов земли.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ, где предыдущее обсуждение завершается выводом, что третьей непременной особенностью всякого изобретения является его техническая осуществимость; здесь ведутся пространные рассуждения о мечтах, вдохновляющих изобретателей, о фантазиях реальных и нереальных, об уменье и неуменье видеть будущее; предлагается к осмотру коллекция разных видов человеческой косности; в заключение говорится о волшебном телевизоре, позволяющем заглянуть в грядущее
3.1.
Если бы действительно все, что ново и полезно, могло называться изобретением, то, пожалуй, наибольшим изобретателем в мире оказался бы Иванушка из сказки.
Кто верхом на печи по лесу ездил? Иванушка. А чем вам самодвижущаяся печь не паровоз? Движется. Труба. Из трубы дым. Может быть, это Иванушка изобрел первый паровоз?
Кто, добыв перо жар-птицы, освещал им темный покой? Опять Иванушка. На перо жар-птицы похожи наши электрические лампы — тот же свет без огня. Может быть, это Иванушка изобрел электрическую лампочку?
Кто летал по воздуху на ковре-самолете? И тут Иванушка. Может быть, это Иванушка изобрел самолет?
В самом деле, почему бы не посчитать эти чудеса за изобретения? Новы? Новы! Полезны? Очень!
Паровоз, самолет, лампочка! Один человек — и три величайших изобретения! Где еще найдешь такого?
И все-таки нет Иванушке настоящего уважения и почета. Не поставлен ему памятник, не висят его портреты в аудиториях, не справляют его юбилеев. Почему такая несправедливость?
Причина не только в том, что Иван личность сказочная, но и в том, что выдумки его сказочные и что так, как в сказке сказывается, дела сделать нельзя.
Возьмите штабель наилучшего кирпича, самый красивый персидский ковер, какие хотите перья, а не сделать из них ни лампочки, ни паровоза, ни самолета.
А раз сделать этих вещей нельзя, значит, это не изобретения! Это только мечты об изобретениях.
Часто путают изобретение я мечту. Говорят, что изобретателем самолета был тот, кто придумал легенду о Дедале и Икаре.
Старый мастер Дедал сделал себе и сыну Икару большие птичьи крылья. Он слепил их воском из множества птичьих перьев. Окрыленные люди полетели над морем. Но Икар слишком близко подлетел к солнцу. Солнечный жар растопил воск, и перья рассыпались, закружились в воздухе, как опавшие листья, а Икар упал в море.
Эту сказку придумал поэт, а не изобретатель. Птичьих крыльев не сделать из воска и перьев, и на птичьих крыльях человеку не полететь. Эта сказка — тоже одна мечта.
Говорят, что самолет изобрел гениальный художник Леонардо-да-Вин-чи, живший четыреста лет назад. Я был в Амбуазе во Франции, в домике, где умер Леонардо. Постоял у его смертного ложа. И дотронулся до креста, который он целовал перед смертью. В комнатах выставлены копии его чертежей, целый лес моделей, воспроизводящих его идеи. Тут были наброски ранообразных летательных машин, крылья и пропеллеры, аэропланы и геликоптеры.
Наброски так и остались набросками. Леонардо машину не построил. Но если бы и сделать машину по его рисункам, она все равно бы не полетела. Леонардо был прекрасным инженером, но в этих набросках он проявил себя как художник и мечтатель. Наброски были не изобретением, а мечтой. Мечтой художника о летучей машине.
3.2.
Страницы книги «Новая Атлантида», вышедшей из-под пера английского государственного деятеля и философа Френсиса Бекона в 1624 году, как бы высвечены молниями прозрений. Это роман-утопия. Потерпевшие кораблекрушение попадают на таинственный остров, в столицу Новой
Атлантиды — некий город науки, где жрецы-исследователи ставят на службу человечеству скрытые силы природы.
Посылая в грядущее стрелы научно-фантастических пророчеств, Бекон то и дело попадает в мишень. Что ни выстрел — то в яблочко! Вот лишь несколько прямых попаданий Бекона:
«Использовали скалы, находящиеся среди моря, а также солнечные места на морском берегу для таких работ, для которых требуется морской ветер».
«Мы использовали также быстрые водовороты и пороги, чтобы вызвать разные движения, требующие большой затраты сил…» «Есть приборы, создающие теплоту своим движением…» «…военные орудия и машины всякого рода. Порох по новым рецептам и греческий огонь, горящий в воде и неугасимый…»
«Мы имеем корабли, лодки, которые могут плавать под водой и лучше обыкновенных переносить ураганы…»
«Мы знаем свойства и пропорции, необходимые для полета по воздуху, наподобие крылатых животных…»
«…печи, легко регулируемые и даже дающие теплоту солнца и небесных тел…»
«…добились различного усиления лучей, так что нам удается отбрасывать свет на огромные расстояния…»
«Нашли приспособление, приближающее вплотную к нашим глазам отдаленнейшие предметы…»
«Приборы, имитирующие все членораздельные звуки, речи, слова и пение как людей, так зверей и птиц…» «…приборы для усиления… звука…»
«Нашли способ переносить звуки на большое расстояние в трубах и других полых предметах…» «…пояса для плавания…»
«Удалось воспроизвести всяческие иллюзии и обманы зрения, появление всякого рода теней и летающих изображений…» «…искусственные драгоценные камни…»
«При помощи освещенных прозрачных тел мы получаем изображения отдельных простых цветов…»
«В садах делаем опыты засева и прививки деревьев лесных и фруктовых. Мы делаем деревья больше, плоды их крупнее и приятнее, отличные от обычного вида…»
«Животных можем выводить больше обычных размеров или делать карликами, скрещивая их…»
«…комнаты здоровья, где воздух по желанию делается более влажным или сухим…»
Шелестя страницами «Новой Атлантиды», англичане стараются представить Бекона изобретателем всех вещей, желая утвердить английское первенство во всех открытиях. Сгоряча ему приписываются изобретения:
а) современных ветродвигателей;
б) гидравлических турбин со спиральной камерой;
в) электрических генераторов;
г) современных порохов;
д) подводных лодок;
е) самолетов;
ж) электропечей;
з) прожекторов;
и) телескопов;
к) патефонов и магнитофонов; л) громкоговорителей; м) грампластинок; н) спасательных кругов; о) кинематографа;
п) искусственных рубинов и алмазов; р) спектроскопов с призмой; с) мичуринских методов в биологии;
т) кондиционирования воздуха и даже сверхсовременных лечебных палат — биотронов…
а также и множества других предметов, для которых не хватило бы даже у, ф, х, ц, ч, ш, щ, э, ю, я. Под одну из этих букв алфавита англичане когда-то ставили даже все произведения Вильяма Шекспира. Сочинения величайшего поэта и драматурга одно время также пытались приписать Бекону. Теперь считают ошибкой стремление изобразить Бекона великим поэтом. А это было, пожалуй, справедливое стремление. Хотя произведения Шекспира не принадлежали Бекону, но английский философ был скорее уж поэтом, чем изобретателем. Он не реализовал своих идей и ни словом не подсказал потомкам, каким способом его выдумки можно осуществить.
Поэты слагают легенды, художники пишут картины. Они прославляют новые, нужные людям вещи, не заботясь о том, как их осуществить. Иная забота гложет изобретателей. Изобретатель не только должен придумать новую, нужную людям вещь, но и сделать ее осуществимой, показать ее реальность. Только то, что осуществимо, может считаться изобретением. И в этом разница между вымыслом поэта и художника и домыслом изобретателя.
3.3.
Муравьи возводят муравейники с запутанными лабиринтами ходов, пауки плетут затейливое кружево паутины, пчелы удивляют архитекторов правильностью своих сотов и экономией строительного материала. Но в том и отличие человека-изобретателя от пчелы, паука и муравья, что пчела, паук и муравей строят механически миллионы лет подряд одно и то же, а изобретатель-'человек каждый раз строит новое и перед тем, как построить свои машины, строит их в своей голове, в своем воображении.
Изобретения создаются силой человеческой фантазии, человеческого воображения. Без уменья мечтать, фантазировать, нельзя было бы создать ничего из того, что создали люди в технике. И не так легко фантазировать, не легко даже краешком глаза заглянуть в будущее.
Лет сто назад американский писатель Эдгар По, шутки ради, написал тысячу вторую сказку Шехеразады. Он заставил Шехеразаду рассказать калифу о пароходе и паровозе, телефоне и телеграфе, фотографическом аппарате. О совсем не чудесных, обыденных для нас вещах.
И калиф, который верил всему, что рассказывала ему Шехеразада, и щадил ей жизнь, в этот раз усомнился, разгневался и велел казнить Шехеразаду. Калиф жил тысячу лет назад. Он глубоко верил в чудеса, но не мог поверить будущей яви.
Так Эдгар По подтрунил над неспособностью людей вообразить, что будет через тысячелетие. Подтрунил, и сам попал впросак. Попытался сам предсказать, что будет через тысячу лет.
Печатаем отрывок из «Писем с воздушного шара» Эдгара По.
«Воздушный шар «Жаворонок». 1 апреля 2848 г.
Я изнываю на грязном воздушном шаре с компанией человек в сто или двести… Мы делаем не более ста миль в час… Сегодня переговаривались со станцией плавучего телеграфа. Говорят… никто не верил в возможность положить проволоку по морю. А теперь… Что бы мы стали делать без атлантического телеграфа!»
Телеграфная проволока через океан!
Писатель считал это дерзкой мечтой, исполнение откладывал на тысячу лет и не в силах был предвидеть, что трех лет еще не пройдет, как уже проложат подводный кабель из Европы в Америку, через Атлантический океан. И что за семь лет до того, как писатель взялся за перо, уже лежал под водой в Европе первый телеграфный кабель.
Вот как бывает: хотел шагнуть за тысячу лет, а отстал на семь![3]
Аэростаты величаво проплывали над головой Эдгара По. Современники задирали голову и поругивали пузатых летунов за медлительность, неуклюжесть, за плохое управление. Их ворчанье жужжало в ушах Эдгара По, когда он пророчил будущее. Эдгар По не расстался с воздушными шарами, но исправил их по желанию современников, сделал быстрыми и управляемыми.
А будущее возьмет да и посмеется над пророками. Возьмет да и не пойдет по назначенным путям. Возьмет да и огорошит людей нежданным, негаданным, небывалым.
Появляется в небе самолет, и — по боку воздушные шары. Открывается летному делу новая дорога. Поди, угадай ее!
Не в нарядных воздушных шарах было будущее летного дела, а в матерчатой бабочке с пропеллером на резинке, детской игрушке, появившейся десять лет спустя. Эдгар По полагал, что смотрит вперед, а на самом деле глядел назад.
3.4.
Предлагается вашему вниманию грамота из воображаемого архива — докладная записка царю Гороху о ревизии научно-исследовательского учреждения, почтовый ящик № 3333.
Царь государь!
По твоему веленью, по твоему хотенью, заслуженным деятелем науки, профессором генералом Рукосуевым произведена ревизия научно-исследовательского учреждения, почтовый ящик № 3333.
Докладываю, что учеными, конструкторами, изобретателями здесь проводится большая, плодотворная работа. Под твоим испытанным руководством еще теснее стала связь науки с производством. Успешно решаются важные задачи, продиктованные сложными требованиями сегодняшней международной обстановки.
Есть, однако, и отдельные недостатки. Немалый вред науке приносят бездельники, уводящие исследования в область пустопорожних проблем.
Особо выдающихся результатов добилась лаборатория артиллерийских систем. Здесь сооружается катапульта с рычагами из прочнейшего столетнего дуба, в которой будут впервые применены особенно тугие жгуты из сухожилий специально выведенной крепчайшей породы быков. Имеются все основания предполагать, что это уникальное орудие окажется способным метать камни на целый пуд тяжелее и на сто шагов дальше, чем все существовавшие ранее мощнейшие системы. Вхожу, государь, с просьбой наградить этих смелых и дерзких конструкторов полшапкой серебра.
Только попустительством и беспринципностью руководства лаборатории можно объяснить, что в данном творческом коллективе длительное время подвизался бездельник. Не называю его имени, потому что он уволен с запрещением занимать должности в научно-исследовательских учреждениях. Проходимец занимался тем, что из серы, селитры и угля пытался составить какой-то порошок, пригодный разве в качестве слабительного для желудка, и пытался втереть очки доверчивой администра-ции, утверждая, что в нем будто бы и заключается «будущее» (??) артиллерии.
Крупнейшие результаты достигнуты в лаборатории навигационных приборов. Здесь построена новая астролябия для определения положения кораблей по звездам, отличающаяся от прочих применением бронзовых шарниров и поэтому обладающая повышенной точностью. Коллектив ее создателей также достоин, государь, награждения полшапкой серебра.
Но и тут, в этом здоровом коллективе, благодаря слепоте руководства, затесался бездельник. Боюсь прослыть лжецом, государь, докладывая, что один из здешних «работников» целый год убил на игру с кусочком руды, притягивающим железные предметы. Когда я не без горечи спросил дармоеда, какова его программа на будущий год, наглец цинично ответил, что намерен подвесить кусок руды на нитке (???) и глядеть, что получится. Разумеется, что финансирование работ было мною сейчас же прекращено, а дармоед сдан в пехоту. Полезно было бы судить его показательным судом, чтоб другим было неповадно пускать по ветру государственную казну. Вот, великий государь, лишь несколько примеров нашей неустанной заботы по дальнейшему укреплению связи науки с производством, по борьбе с бездельем и бесплодьем в науке.
К сему руку приложил
профессор генерал Рукосуев.
Разумеется, царь Горох, полагавший, что командование и администрирование есть лучший способ руководства наукой, наложил на докладную записку резолюцию: «Одобряю».
Но не очень потешайтесь над царем Горохом.
Ну как, скажите, древнему полководцу представить себе нашу пушку, если он и будет знать, что появятся грозные орудия, которые мечут снаряды за десятки километров, вдребезги разбивают крепчайшие стены? Как ему представить эту пушку, если (говоря не слишком серьезно) древние армии были вооружены примерно так, как нынче мальчишки-озорники: луками и рогатками? Огромные рогатки — баллисты и катапульты возили на колесах, как орудия. Натягивали их пятнадцать человек, и пускали они камни в четверть тонны весом.
И как бы ни силились древние полководцы представить себе наши пушки с их разрушительной силой, все бы им мерещились ремни, рычаги и колеса старинных баллист, и никто бы не подумал о порохе, о мгновенном порыве расширяющегося огненного газа.
Ну как, скажите, древнему мореплавателю представить себе компас, если он и будет знать, что изобретен чудесный инструмент, показывающий страны света? В те времена моряки вели корабли по звездам и, конечно, искали бы новый прибор среди астрономических инструментов. А на самом деле — это магнитная стрелка. Совершенно особенная вещь.
Кто мог думать, что не в сложных инструментах таится решение задачи вождения кораблей, а в чудном прилипчивом камне — магните?
Ход событий, опыт жизни подсказывают нам, что будущее не за тем, что сегодня кажется главным и всесильным, но уже отживает свой век, а за тем, что, родившись, развивается, если даже выглядит оно сегодня ничтожной мелочью.
Потому так трудно предсказывать будущее, воображать себе облик будущей машины. Потому так трудно стать изобретателем.
3.5.
Считают, что одним из самых удачливых провидцев развития техники был замечательный французский писатель Жюль Верн. Утверждают, что ему принадлежат самые реальные фантазии. Намекают даже, что именно его, по справедливости, следует считать действительным автором многих великих изобретений. Эти тонкие намеки делают в первую очередь сами французы, стараясь утвердить французское первенство во всех изобретениях и открытиях.
Когда наша ракета достигла Луны, французский журнал «Пари Матч» поместил фотографии советского лунного вымпела, а перед этим закатил целую серию иллюстраций из романа Жюля Верна «От Земли до Луны». Журнал как бы говорил читателям: «Ракету на Луну запустили советские люди, но и мы, французы, не лыком шиты. Наш Жюль Верн додумался до этого дела раньше всех».
Особенно часто слышно утверждение, что Жюль Верн в своем «Наутилусе» предвосхитил появление подводной лодки.
Но советский публицист Кирилл Андреев в своей книге «Три жизни Жюля Верна»[4] опровергает это. Он подробно рассказывает о том, как Жюль Верн рылся в книгах Национальной библиотеки, ища предков своего подводного корабля, который медленно строился в его воображении.
В старом морском журнале еще за 1820 год Жюль Верн раскопал статью лейтенанта Монжери, описавшего первые подводные лодки. Французский иезуит Фурнье, побывавший на Запорожской Сечи, докладывал о хитрой военной выдумке земляков Тараса Бульбы, о «подводных пирогах», на которых запорожцы двигались под водой. То был просмоленный челнок, перевернутый вверх дном. К бортам его для погружения привязывались мешки с песком. Дыша воздухом под ее подводной крышей, несколько казаков могли подобраться незаметно к противнику. В пожелтелых отчетах английского Королевского общества за 1620 год сохранилось сообщение о подводной лодке голландца Дреббеля — длинной бочке с веслами, обтянутой кожей, на которой команда в пятнадцать человек опускалась под воды Темзы.
Жюль Верн читал, оказывается, и об огромном подводном железном яйце — «Черепахе» американца Башнелла, воевавшего за освобождение родины от английского владычества. От подводной лодки Фультона, которую недооценил генерал Бонапарт, романист позаимствовал знаменитое название «Наутилус». Полуподводные торпедные лодки «двиды» участвовали в американской гражданской войне, и одна из них, «Ханли», 17 февраля 1864 года, за шесть лет до выхода романа Жюля Верна, взорвала двенадцатипушечный шлюп «Хаузатоник» с командой в триста человек. «Жюлю Верну, — замечает К. Андреев, — особенно запомнилась деталь: маленький подводный корабль, пожертвовавший своей жизнью, был втянут хлынувшей водой в пробоину, и, словно протаранив корпус гиганта, вместе с ним опустился на дно морское».
Можно добавить еще историю подводной лодки русского генерала К. Шильдера, построенной лет за тридцать до романа Жюля Верна и в известном отношении более совершенной, чем его «Наутилус» — она была оснащена ракетным оружием.
Разумеется, и мысль о полете на Луну не принадлежит Жюлю Верну. Она разгоралась и гасла в книгах целого тысячелетия — от сочинения Лукиана Самосатского, озаглавленного «Истинное повествование. Путешествие на Луну, Солнце…», написанного во II веке, до веселого романа Сирано де-Бержерака, где герой путешествует в межпланетном пространстве, обвязавшись склянками с росой, поднимающейся к Солнцу, в магнитных кораблях, подбрасывая вверх железный шар, увлекающий магнит, в хрустальном корабле, который толкает «сила сгустившегося света», и, наконец, — вероятно, верх нелепости с точки зрения самого Сирано! — в колеснице, начиненной ракетами и приводимой в движение силой фейерверка.
Так свидетельствует биограф, влюбленный в своего Жюля Верна.
Столь стремительно развивается техника завтрашнего дня, что нередко туго приходится писателям-фантастам, и все чаще попадают иные из них в такое же трудное положение, как всадник с флагом, пожелавший скакать впереди первого паровоза. У нас будет еще много возможностей убедиться, что изобретения не высасываются из пальцев романистов, а рождаются в реальной схватке с природой, на заводах, в лабораториях. Тут возникают самые смелые фантазии, самые смелые мечты, тут они становятся явью. Жюль Верн был велик потому, что хорошо понимал это. Он глубоко верил в науку, технику. Он умел подсмотреть ростки нового, реального, что развивается в теплицах лабораторий, и силой художественного воображения показать его грядущий расцвет. Потому так реальны фантазии Жюля Верна.
Потому он и стал бессмертным писателем-фантастом.
3.6.
Гениальный сатирик Свифт решил посмеяться над учеными и заставил своего Гулливера описать Академию прожектеров в городе Лагадо в фантастической стране Лапуту. Утонченно-язвительным пером набросал он портретную галерею абстрактных фантазеров, беспочвенных упрямых мечтателей, повернувшихся затылком к жизни.
Но сатира в этой части удалась не совсем. Ход событий, диалектика жизни таковы, что несбыточное становится возможным, несуразное — целесообразным, непрактичное — практичным, фантастическое — реальным. И явись Свифт сегодня, опираясь на плечо своего Гулливера, в институты современных академий, он в смущении убедился бы в том, что немалое число научных проблем, осмеянных им как нелепость, стало ныне центральными научными проблемами века.
Так раскроем же томик «Путешествий в некоторые отдаленные страны света Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, а потом капитана нескольких кораблей». Перед нами часть третья, глава пятая. Автору дозволяют осмотреть Великую Академию в Лагадо. Подробное описание Академии искусств, изучением которых занимаются профессора.
«Первый ученый, которого я посетил, — иронизирует Свифт устами своего Гулливера, — был тощий человечек с закопченным лицом и руками, с длинными, всклокоченными и местами опаленными волосами и бородой. Его платье, рубаха и кожа были такого же цвета. Восемь лет он разрабатывал проект извлечения солнечных лучей из огурцов; добытые таким образом лучи он собирался заключить в герметически закупоренные* склянки, чтобы затем пользоваться ими для согревания воздуха в случае холодного и дождливого лета».
Полтораста лет спустя с этим свифтовским безумцем горделиво и весело сравнил себя великий русский ученый Климент Аркадьевич Тимирязев. Свою знаменитую Крунианскую лекцию в Лондонском королевском обществе он начал так:
«Когда Гулливер в первый раз осматривал академию в Лагадо, ему прежде всего бросился в глаза человек сухопарого вида, сидевший, — уставив глаза на огурец, запаянный в стеклянном сосуде. На вопрос Гулливера диковинный человек пояснил ему, что вот уже восемь лет, как он погружен в созерцание этого предмета в надежде разрешить задачу улавливания солнечных лучей и их дальнейшего применения. Для первого знакомства я должен откровенно признаться, что перед вами именно такой чудак. Более тридцати пяти лет провел я, уставившись если не на зеленый огурец, закупоренный в стеклянную посудину, то на нечто вполне равнозначащее — на зеленый лист в стеклянной трубке, ломая себе голову над разрешением вопроса о запасании впрок солнечных лучей…»
Тимирязев прославился тем, что свершил бессмертный научный подвиг, приоткрыв завесу над тайной накопления солнечной энергии в живом зеленом листе — тайной фотосинтеза. Под воздействием света негорючие вещества неорганической природы превращаются в растениях в топливо, несъедобные элементы почвы и воздуха превращаются здесь в продукты питания — белки и углеводы. Работы современных ученых убеждают, что полное раскрытие тайны фотосинтеза произойдет в недалеком будущем. И тогда начнется эра, еще более щедрая, чем век атомной энергии. Мы сегодня со сложным чувством вспоминаем свифтовского чудака, когда думаем о заводах «растительного горючего», поставляющего топливо вместо лесов, скудеющих ныне под пилой дровосека; когда мечтаем о заводах растительных продуктов питания, в которых аппаратура солнечной синтетической химии заменит сельскохозяйственные культуры на полях, поливаемых потом земледельца.
«Войдя в другую комнату, — продолжает Свифт от имени Гулливера, — я чуть было не выскочил тотчас же вон, потому что едва не задохся от ужасного зловония. Однако мой спутник удержал меня, шепотом сказав, что необходимо войти, иначе мы нанесем большую обиду; таким образом, я принужден был следовать за ним, не затыкая даже носа. Изобретатель, сидевший в этой комнате, был одним из старейших членов Академии. Лицо и борода ученого были бледно-желтые; его руки и платье были испачканы нечистотами. Когда я был представлен, он крепко обнял меня (любезность, без которой я мог обойтись). С первого дня своего вступления в Академию он занимается превращением человеческих экскрементов в те питательные вещества, из которых они образовались, путем отделения от них нескольких составных частей, удаления краски, сообщаемой им желчью, выпаривания зловония и выделения слюны. Город ежедневно отпускал ученому посудину, наполненную человеческими нечистотами, величиной с бристольскую бочку».
Да, пожалуй, уж слишком жестоко, беспощадно изобразил сатирик ученого, занимающегося, по нашим понятиям, нужным, благородным делом. Если б персонаж сатиры Свифта не был выдуман, а существовал в действительности, мы сочли бы его предтечей тех ученых, которые открывают пути к звездам. Не бывает нынче ни одной космонавтической конференции, на которой не стояли бы доклады по проблемам, которые тщетно пытался решить свифтовский персонаж.
Помню, в детстве мне пришлось быть в гостях у великого соратника К. Э. Циолковского, замечательного инженера Ф. Цандера, разрабатывавшего идеи космических кораблей. У него в горшочках со стеклянными опилками, пропитанными отбросами, выращивались различные растения. Здесь, в этих горшочках, решалась проблема облегчения веса космических кораблей. Ведь при дальних звездных рейсах, как при дальних морских путешествиях, на борту корабля должен быть громадный запас питьевой воды и пищи. Лишний груз перегружал бы корабль. А поэтому ученые работают над «замкнутым экологическим циклом», при котором возникает круговорот воды и пищи и сухих и жидких шлаков организма. С помощью химической аппаратуры очищается моча, превращаясь снова в хрустально прозрачную питьевую воду, экскременты же превращаются в плодоносную среду, на которой выращиваются растения. Так выплыла на свет знакомая ныне каждому водоросль — хлорелла. А проблемам регенерации мочи посвящена сегодня громадная научная литература. Перефразируя гордую строчку Маяковского, скажу, что создатель космических кораблей это поэт и мечтатель, инженер и ученый, ассенизатор и водовоз.
«Там же, — продолжает подшучивать Свифт, — я увидел другого ученого, занимавшегося пережиганием льда в порох. Он показал мне написанное им исследование о ковкости пламени, которое он собирается опубликовать».
Теперь видно всем, что шутить надо было осторожнее. Лед сегодня пережжен в порох. Это сделали люди, с которыми шутки плохи. Мы имеем в виду создателей водородной бомбы. Ядра атомов дейтерия, содержащегося в воде, слились в ядра гелия, образуя термоядерную реакцию в виде грандиозного взрыва. Мы найдем еще случай рассказать о том, как изобретатели работают над мирным применением термоядерных реакций, силясь научиться управлять ими. Ироническая фраза Свифта звучит как пророчество. Ученый, что стремился превратить лед в порох, написал исследование о «ковкости пламени». Какой странный намек! Ведь и многие из тех, кто работает нынче над созданием управляемых термоядерных реакций, точно так же как бы «куют» пламя. Они силятся стиснуть высокотемпературное пламя — плазму ударными сжатиями магнитных полей. Похвально, что свифтовский персонаж собирался опубликовать свое исследование. Мы тоже стоим за то, чтобы работы по мирному использованию термоядерных реакций широко публиковались и не составляли секрета! Но обо всем этом речь пойдет впереди.
«Там был также, — язвит Свифт, — весьма изобретательный архитектор, разрабатывавший способ постройки домов, начиная с крыши и кончая фундаментом. Он оправдывал этот способ ссылкой на приемы двух мудрых насекомых — пчелы и паука».
Сегодня не нужно привлекать пчелу и паука для оправдания этого нового прогрессивного метода строительства. Можно сослаться на прекрасный опыт постройки советского павильона на Всемирной выставке в Брюсселе. В основе его — стальной каркас, подвешенный на стальных же колоннах. Такую конструкцию можно строить, начиная только с крыши.
«Я вошел, — пишет Свифт, — в следующую комнату, где стены и потолок были сплошь затянуты паутиной, за исключением узкого прохода для изобретателя. Едва я оказался в дверях, как последний громко закричал мне, чтобы я был осторожнее и не порвал его паутины». Изобретатель предлагал использовать паутину в качестве нити для тканей. Он искал какую-то пищу для мух, поедаемых пауками, в виде камеди, масла и других клейких веществ, чтобы придать таким образом большую плотность и прочность нитям паутины.
Свифту было невдомек, что проблемой упрочения и использования паутины занимались выдающиеся ученые его времени, среди них знаменитый Реомюр. Свифт рассматривал подобные поиски как непроходимую глупость и не подозревал, что это направление мыслей восторжествует, что наступит время, когда будут созданы ткани из синтетических волокон, получение которых во многом похоже на паутину, выпускаемую пауком.
Свифт рассказывает об универсальном искуснике, в распоряжении которого две большие комнаты, наполненные удивительными диковинками, и пятьдесят помощников. Одни сгущ|ают воздух в вещество сухое и осязаемое, извлекая из него селитру и процеживая водянистые и текучие его частицы; другие размягчают мрамор для подушек и подушечек для булавок. Как бы был смущен сатирик, узнав, что селитру нынче, без всяких шуток, производят из воздуха и умеют, кроме того, отлично сжижать воздух и «процеживать» разные его текучие частицы!
У нас будет случай рассказать подробнее о логической машине, над попыткой создать которую всласть поиздевался Свифт. Он не смог предвидеть появления электронных машин, способных писать хоть и примитивные, но все же стихи и сочинять музыку, пусть и нехитрую, не смог предвидеть рождения кибернетики — повелительницы будущего.
Свифт бессмертен там, где бичует пороки человечества, порожденные уродством эксплуататорского строя. Бич сатирика сломался, когда он замахнулся на мечтателей. Да, неблагодарна участь того, кто хоть шутки ради попытается усомниться в безграничных возможностях человечества!
3.7.
То, что кажется сегодня мечтой, фантазией, завтра может осуществиться — стать изобретением.
Но бывают все-таки бесплодные фантазии, бесплодные мечты.
В один из дней 1775 года ученый секретарь Парижской академии наук, почти не глядя, отстранил пачку изобретательских предложений.
— Сожгите этот бред, — приказал он канцеляристу.
Канцелярист всплеснул руками. Он служил в Академии сорок лет и не знал таких порядков, чтобы изобретения, не рассматривая, сжигали.
— Отныне Академия будет молчать, — отрезал секретарь и перешел к очередным делам.
Так начался знаменитый в истории изобретений «заговор молчания». Он возник в Парижской академии наук и охватил постепенно все ученые учреждения мира. Академики порешили единодушно не принимать и не рассматривать проектов «перпетуум мобиле» и авторам их ничего не отвечать.
Что такое «перпетуум мобиле?» Это спрашивает Мартин в пушкинских «Сценах из рыцарских времен». И Бертольд отвечает:
«Perpetuum mobile, то есть вечное движение. Если найду вечное движение, то я не вижу границ творчеству человеческому… видишь ли, добрый мой Мартин: делать золото задача заманчивая, открытие может быть любопытное — но найти perpetuum mobile… о!»
Это «О!» восхищенно повторяли изобретатели в течение нескольких веков. Изобретатели мечтали о машине вечного движения. Чудесной безостановочной машине, которая бы вечно двигала себя сама, не нуждаясь ни в топливе, ни в ветре, ни в потоке воды, ни в электрическом токе. Вечном двигателе для любых полезных человеку машин.
Изобретатели старались придумать вечный двигатель так же упорно и безуспешно, как алхимики искали секрет делать золото. Эта мысль кружила головы людям. Задача казалась близкой, решимой. Машина уже вертелась в их головах, стояла перед глазами. Казалось, руку протяни, и вот она, машина!
Но тщетно! Ошибка. Просчет. Обман…
И бывало с ума сходили люди от неотступного думанья. Разорялись дотла. По миру шли с сумой. И все перед ними маячила безостановочная машина без угля, без ветра, без потока воды…
Изобретателей этих был, и тысячи, и одного из них, Александра Щеглова, описал Салтыков-Щедрин под именем мещанина Презентова в повести «Современная идиллия».
«Мещанин Презентов… был человек лет тридцати пяти, худой, бледный, с большими задумчивыми глазами и длинными волосами, которые прямыми прядями спускались к шее. Изба у него была достаточно просторная, но целая половина ее была занята большим маховым колесом, так, что наше общество с трудом в ней разместилось. Колесо было сквозное со спицами. Обод его, довольно объемистый, сколочен был из тесин, наподобие ящика, внутри которого была пустота. В этой-то пустоте и помещался механизм, составлявший секрет изобретателя. Секрет, конечно, не особенно мудрый, вроде мешков, наполненных песком, которым представлялось взаимно друг друга уравновешивать. Сквозь одну из спиц колеса продета была палка, которая удерживала его в состоянии неподвижности.
— Слышали мы, что вы закон вечного движения к практике применили? — начал я.
— Не знаю, как доложить, — ответил он сконфуженно, — кажется, словно бы…
— Можно взглянуть?
— Помилуйте! За счастье…
Он подвел нас к колесу, потом обвел кругом. Оказалось, что и спереди, и сзади — колесо.
— Вертится? — спросил Глумов.
— Должно бы, кажется, вертеться… Капризится, будто…
— Можно отнять запорку?
Презентов вынул палку — колесо не шелохнулось.
— Капризится! — повторил он. — Надо импет дать.
Он обеими руками схватился за обод, несколько раз повернул его вверх и вниз и, наконец, с силой раскачал и пустил — колесо завертелось. Несколько оборотов оно сделало довольно быстро и плавно — слышно было, однако ж, как внутри обода мешки с песком то напирают на перегородки, то отваливаются от них — потом начало вертеться тише, тише; послышался треск, скрип, и, наконец, колесо совсем остановилось.
— Зацепочка, стало быть, есть, — сконфуженно объяснил изобретатель, и опять напрягся и размахал колесо.
Но во второй раз повторилось то же самое.
— Трения, может быть, в расчет не приняли?
— И трение в расчете было… Что трение? Не от трения это, а так… Иной раз словно порадует, а потом вдруг… закапризничает, заупрямится— и шабаш!».
Зацепочка!
И чем больше проектов вечного двигателя рассматривали ученые, тем тверже убеждались, что в каждом проекте где-нибудь да таится какая-нибудь «зацепочка», которая все сводит насмарку. Еще выяснилось, что проекты вечных двигателей похожи друг на друга и из сотен проектов не наберется и десятка различных систем. Год из года, на разных концах земли, изобретателям приходят в голову одни и те же мысли.
Изобретатели вечного двигателя напоминают белку в колесе. Они кружатся в замкнутом круге идей.
И если выхватить из камина Парижской академии наук ежедневную обгорелую папку изобретений, то окажется в ней примерно вот что.
Проект первый. Мотор и генератор сидят на одном валу. Мотор должен вертеть генератор, а генератор давать ток, который двигает мотор. Так они и будут крутить друг друга, и, быть может, удастся прицепить к ним еще какую-нибудь машину, чтобы крутилась даром.
Это сравнительно хитрый проект, но и тут сидит зацепочка. А чтобы разобрать, какая, взглянем на второй проект — попроще и поглупее.
Вот насос и водяное колесо. Вода, вытекая из бака, кружит колесо, а колесо двигает насос, который гонит воду обратно в бак. Изобретатель полагает, что машина будет вертеться вечно. Кажется, это вполне своеобразный проект, не похожий на первый. Тут вода, а там электричество. Но в учебниках физики принято приравнивать электрический ток к потоку воды, электромотор — водяному колесу, а генератор — к насосу. Если взять да и приравнять так и наши оба проекта, то окажется, что они близнецы.
Чтобы вода в баке не убывала, насосу надо подкачивать в бак ровно столько воды, сколько ее вытекает на колесо. Вода в машине должна двигаться, как бесконечная цепь, перекинутая через блок: сколько звеньев спускается вниз, столько звеньев поднимается кверху.
Бесконечная цепь, свисающая с блока, — вот вам третий проект!
Но уже тут все видят, что машина получилась дурацкая.
Цепь уравновешена с обеих сторон и, конечно, не будет двигаться сама, да еще вечно, без особого на то щучьего веления. А раз не будет двигаться цепь, значит, не пойдут и колесо с насосом и динамо с электромотором— это все похожие машины. Дурацкая цепь! — вот где зацепочка.
Изобретатели начинают беспокойной мыслью сгоряча перебирать в голове всевозможные комбинации, какие только могут выдумать и представить, в надежде перехитрить дурацкую цепь.
Предлагают четвертый проект.
Левую сторону цепи оставляют свободно свисать вниз, а правую пускают по роликам.
Изобретатели смотрят на чертеж и соображают:
— Та сторона цепи, что идет по роликам, всегда длиннее висящей свободно, а следовательно, и тяжелее. Значит, она все время будет перевешивать, и цепь пойдет вращаться, сползая по роликам вниз, и никогда не остановится!
Смотрят изобретатели на чертеж и не замечают, что разные звенья цепи на длинной стороне тянут вниз по-разному. Некоторые звенья спо
койно лежат на роликах и вообще не тянут, часть звеньев лениво соскальзывает с роликов и тянет не всей своей тяжестью. И если сложить силы тяги всех звеньев, то окажется, что общая их тяга на длинной стороне такая же, как и на короткой. Обе стороны будут уравновешивать друг друга, и цепь не шелохнется.
Опять зацепочка!
Снова бессонная забота: как перехитрить дурацкую цепь?
И вот блестящий, пятый проект! Сделать цепь из плавучих шаров да и пропустить одну сторону сквозь трубу с водой. Те шары, что сидят в воде, постоянно будут стремиться всплыть и тянуть за собой вверх всю цепь. Тут уж наверное цепь завертится.
Завертится, непременно завертится! Но — в обратную сторону. Как ни будут стараться шары всплыть вверх, а все равно им не вытянуть цепи. Столб воды в трубе всей своей тяжестью давит на нижний шар, затыкающий дырку, и это давление пересилит. Столб воды выпихнет нижний шар, трубка пойдет выплевывать в дырку шар за шаром, цепь начнет продвигаться вниз, в обратную сторону, пока не выплещется вся вода!
Стоп машина! И здесь зацепочка! Невозможно перехитрить дурацкую цепь!
Изобретатели призывают на помощь неиссякаемую силу магнита. Перед вами шестой старинный проект. На красивом постаменте, похожем на памятник, поставлен большой шар. Это сильный магнит. На вершину постамента ведет наклонная дорожка. У подножия дорожки лежит железный шарик. Магнит притягивает шарик, и он вкатывается вверх по наклонному пути. Но тут изобретатели подстраивают шару каверзу — на пути пробивают дырку. Ожидают, что шар юркнет в дыру, скатится обратно к подножию, а там его снова подхватит магнит. Получится вечное движение.
Ничего из этой затеи не выйдет! Если уж осилил магнит, смог вкатить шарик по наклонной дорожке, то уж — будьте спокойны! — он его не упустит в дырку. Он протащит его мимо дырки, прилепит к себе и будет держать, как на припае. Не так он прост, этот магнит.
Где еще искать? За что хвататься?
Может быть, фитиль? Тот фитиль, что в настольной лампе непрерывно сосет керосин, подымая его вверх, к огню. Взять большой, как простыня, фитиль, окунуть его в пруд, а другой конец забросить вверх, в желоб водяного колеса. И пускай этот фитиль подсасывает воду к верхнему концу, а оттуда она будет капать в желоб и стекать обратно в пруд, покрутив колесо по дороге.
Все напрасно! Все без толку!
Если уж сумел фитиль подтянуть воду к желобу вверх, то уж он сумеет ее и удержать, и ни капли не пустит в желоб. Тот же грех, что в предыдущем проекте.
Зацепочка! Зацепочка! Везде зацепочка!
И выходит, что и до того, как созрел и оформился знаменитый «заговор молчания» Парижской академии наук, уже окружал изобретателей вечного движения иной упорный глухой заговор — заговор вещей.
Люди работали над изобретением паровых машин — паровые машины у них выходили. Люди работали над изобретением электрических моторов — и электромоторы у них выходили. Люди работали над изобретением водяных двигателей — и они у них тоже выходили. И людям помогали в этом и цепи, и магниты, и плавучие шары.
Вечные же двигатели у изобретателей не выходили, не выходят и не выйдут никогда.
Вещи вставали здесь людям наперекор. Все протестовало и сопротивлялось: от звена железной цепочки до магнита и лампового фитиля.
Дело в том, что люди, которые изобретали паровые машины и электромоторы, изучали законы природы, считались с этими законами и, подчиняясь этим законам, подчиняли природу себе. А изобретатели вечных двигателей не присматривались к законам природы, не изучали этих законов, они держали в голове одну свою упрямую идею и старались ее осуществить, не считаясь ни с чем.
Они бросались на штурм природы слепо, словно Дон-Кихот на штурм ветряных мельниц. А природа жила, работала, двигалась по своим законам, и она с размаху тяжко ударяла оземь горе-изобретателей, рушила их надежды, развеивала мечты.
Если бы изобретатели присмотрелись к законам природы, они бы поняли, что всякие двигатели, какие только есть на земле, обязательно работают за счет чего-то: за счет ли энергии топлива, сгорающего в топке, энергии ветра, энергии падающей воды; этого требует закон сохранения энергии — всемогущий закон природы, правящий миром. А изобретатель, желающий построить машину, одна часть которой работает за счет другой, похож на барона Мюнхгаузена, который верхом на коне увяз в болоте и старается вытащить себя и коня, ухватившись рукой за собственные волосы.
3.8.
И все-таки… Представьте себе костер, где могучим, почти неугасаемым огнем горит горстка топлива. Проходят годы, и топливо не только не иссякает в костре, но, наоборот, прибавляется, накопляется, и вот 'уже два костра можно разжечь там, где пылал один. Вообразите теперь целую россыпь волшебных костров и задумайтесь над возможными темпами их размножения, и тогда вы придете к выводу, что число их нарастает в геометрической прогрессии, как растет колония микроорганизмов, размножающихся посредством деления. Так, возможно, и будет расти энергетика грядущего мира.
Когда пишут о костре, где могучим и почти неугасаемым огнем горит горстка топлива, то читатель уже догадывается, что рассказ ведется не о простом, а о ядерном топливе, не об обычном, а о «втором огне», порождаемом реакцией ядерного распада, не о костре, а о ядерном реакторе, освобождающем атомную энергию. И что искать этот костер надо не в лесу, а в одном из наших атомных институтов.
Читатель не ошибся. Мы нашли этот чудесный реактор в одном из громадных институтов Государственного комитета по использованию атомной энергии, в здании по соседству с первой в мире атомной электростанцией. Его марка БР-5. Инициалы расшифровываются как «быстрый реактор», цифра 5 — как тепловая мощность в 5 мегаватт. Он успешно работает несколько лет. Он построен под руководством лауреатов Ленинской премии академика А. И. Лейпунского и профессора О. Д. Казачковского, а также инженера М. С. Пинхасика. Мы пришли сюда тогда, когда исход эксперимента был безупречно ясен, когда с торного пути исследователей рассеялись многие призраки, порожденные недостаточным знанием, — «призраки пещеры», как назвал их в старину философ Бекон.
Помещения атомных реакторов похожи друг на друга, в особенности для непосвященного глаза; крепостной характер их архитектуры определяется бетонными массивами биологической защиты; всюду множество панелей контроля и управления, иногда не умещающихся на стенах залов и поэтому расположенных рядами, как шкафы в библиотеке; за тяжелыми, как в сейфе, дверцами — могучие сплетения трубопроводов, массивные тела электромоторов, насосов. Но, быть может, ни в одной области энергетической техники инженерная фантазия не рождала столько принципиально разнообразных конструкций, как в семье атомных реакторов.
Как устроен реактор первой в мире атомной электростанции, мы знаем. Он построен из стержней из недеятельного, нерасщепляющегося урана-238, обогащенного до 5 процентов деятельным расщепляющимся ураном- 235. Таким образом, 95 процентов всей массы урана служит здесь ненужным балластом. Реактор работает на медленных нейтронах. Замедлителем нейтронов здесь служат графит и вода.
БР-5 отличается тем, что работает на быстрых нейтронах. Он составлен из тепловыделяющих стержней, заполненных концентрированным ядерным горючим — плутонием, элементом, не существующим в природе и искусственно созданным современной «алхимией». Реактор не нуждается ни в каком замедлителе. Просто надо строжайше рассчитанным образом сблизить стержни, чтобы в их строю возникла цепная реакция, нарастающий вихрь нейтронов, расщепляющих ядра плутония.
Автоматические регуляторы придают ей мирное течение.
Регулирующие органы реактора оригинальны: это пара никелевых браслетов общим весом в тонну, охватывающих рабочую зону, где идет цепная реакция. Они выполняют роль отражателя или, грубо говоря, роль пастухов, возвращающих заблудшие нейтроны обратно в зону. Органы управления сложны, они расчленены на более мелкие подвижные детали, как крыло самолета на закрылки. Всем этим хозяйством управляет при помощи тросов автоматическое устройство, которое ведет цепную реакцию, как автопилот ведет самолет. В аварийных случаях браслеты срываются вниз, нейтроны утекают из зоны, цепная реакция угасает.
Рабочая зона БР-5, где бушует цепная реакция, по объему не превышает ведра и раз в сто меньше объема рабочей зоны реактора атомной электростанции. Мегаватты тепловой энергии освобождаются в ничтожном объеме. А отсюда возникает сложнейшая проблема теплосъема — отвода полезного тепла. Даже ураганный поток газа, обтекающего стержни, не способен отвести выделяющееся тепло. О воде же и думать нечего. Ведь вода — замедлитель нейтронов, и поэтому нарушит самый принцип реактора. Расчет показывает, что с отводом тепла здесь управится лишь быстрый ручей из расплавленного металла; наиболее подходящий — легкий и легкоплавкий — натрий.
Даже самый далекий от техники человек посочувствует конструкторам, услышав это слово. Он, конечно, помнит по школьным опытам беспокойное поведение этого своеобразного вещества. Натрий мирно хранится в банке под слоем керосина — пособника поджигателей, но воспламеняется в воздухе и красиво взрывается в воде — пособнице пожарных.
И все-таки натрий приручен и впряжен в работу. Он прогоняется насосами через рабочую зону по замкнутой трубе. Его температура достигает 500 °C. От воспламенения его предохраняет инертный газ аргон. Через иллюминатор, остекленный защитным зеленоватым стеклом, мы глядим на могучие трубы натриевого контура, заключенные в замкнутом наглухо железобетонном каземате. Приблизиться к контуру опасно — он несет в себе радиоактивность, равную нескольким килограммам радия. Конечно, никому не пришло в голову направить трубу натриевого контура прямо в паровой котел. Он обогревает лишь промежуточный контур, в котором циркулирует эвтектический сплав натрия и калия, остающийся жидким даже при комнатной температуре. Промежуточный контур нерадиоактивен. Он подогревает парогенератор, в котором образуется пар средних параметров, способный вращать турбину.
Эти замкнутые контуры, сцепленные, как звенья цепи, образуют как бы кровеносную систему реактора. Только идеально чистый натрий циркулирует в ней безупречно. Примесь в нем кислорода в пять тысячных процента порождает окислы, вызывающие коррозию и закупорку труб, наподобие атеросклероза. Поэтому в помещении реактора находится перегонный аппарат для дистилляции натрия. Поэтому конструкторы включили в натриевый контур холодильник со стальными опилками, поглощающий окислы. В «организме» реактора он выполняет функции почки, очищающей кровь от вредных примесей.
На какой бы узел реактора ни падал взор, всюду видишь следы огромных трудностей, преодоленных с такой естественной простотой, какая встречается лишь в классических инженерных решениях.
Вот цепочка контуров аварийного теплосъема. Ясно каждому, что аварийная остановка насосов, гонящих металлы по контурам, приведет к гораздо более серьезным последствиям, чем внезапная остановка воды в горящей газовой ванной колонке. Ведь тепловыделение в реакторе не прекращается сразу. На этот случай ученые предусмотрели цепочку контуров, в которой тепло из рабочей зоны отбирается системой естественных восходящих течений: восходящим течением нагретого натрия, восходящим течением нагретого эвтектического сплава, наконец, восходящим током нагретого воздуха в высоченной фабричной трубе.
Остроумно загрузочное устройство реактора, позволяющее заменить любой стержень рабочей зоны и при этом не потерять аргон, и не спустить воздух, и не вызвать возгорания натрия, налипшего на стержне, и не пострадать самому от излучения. По шутливому выражению изобретателя, создававшего эту пробку, надежно закупоривающую «духа в бутылке», тут пришлось решать логическую задачу, подобную той, как переправить через реку одновременно волка, козу и капусту. Но боюсь, что обилие технических деталей утомит читателя.
Перейдем к выводам. Они серьезны и значительны.
Советские ученые развеяли призраки, порожденные недостаточным знанием, пугавшие мировую науку, заставлявшие сомневаться в скорейшем осуществлении идеи быстрых реакторов.
Они показали, что натрий не так страшен, как его малюют. Он даже надежнее и удобнее воды, потому что работает под нормальным давлением и не так разъедает трубы.
Они прогнали еще более грозный призрак, пророчивший, что под бомбардировкой неслыханно плотного потока нейтронов и ударами бесчисленных атомных микровзрывов в металле будет создаваться наклеп, чудовищно уродующий конструктивные элементы. По счастью, оказалось, что в высокотемпературной рабочей зоне реактора происходят одновременно и наклеп и отжиг, отчасти ликвидирующий наклеп. Керамические стержни из окиси плутония показали себя достаточно стойкими. Поставлен даже своеобразный мировой рекорд полноты выжигания ядерного горючего, достигшей после двух с половиной лет работы пяти процентов.
Была доказана в промышленных условиях возможность построения надежного и экономически выгодного реактора на быстрых нейтронах.
Что это даст людям?
Уже сейчас вокруг реактора, словно вокруг костра, прогоняющего мрак, собрались ученые самых разных интересов, проводящие ядерно-физические и материаловедческие исследования в потоках быстрых нейтронов небыва лой плотности. Но это — польза для науки. Что полезного даст реактор жизни?
Реактор на быстрых нейтронах замечателен тем, что может работать с расширенным воспроизводством ядерного горючего. Это значит, что запас горючего в атомной топке в ходе ее «горенья» будет возрастать. Разъясним, в чем дело.
Напомним, что каждый килограмм природного урана содержит только семь граммов изотопа урана-235, пригодного как ядерное горючее. Остальные девятьсот девяносто три грамма составляет недеятельный уран-238, уходящий в золу атомной топки.
Чудо техники заключается в том, что уран-238, помещенный в рабочую зону быстрого реактора, под воздействием быстрых нейтронов алхимически превращается в ценнейшее ядерное топливо — плутоний. Происходит более драгоценная метаморфоза, чем та, которую искали древние алхимики. Там старались добиться превращения мертвой ртути в мертвое золото. Здесь же мертвое вещество превращается в источник животворной энергии.
Если поместить в рабочую зону реактора уран-238, сделав из него, например, дополнительные стержни или отражатель нейтронов, можно добиться больших коэффициентов воспроизводства плутония, достигающих ста пятидесяти процентов.
Популяризаторы сравнивают реактор с птицей Феникс, сжигающей себя и затем возрождающейся из пепла. Размышляя глубже, еще раз убеждаешься, что законы поэзии не всегда совпадают с законами физики. Поэтические образы далеко не точно изображают сущность дела.
Реактор не во всем подобен сказочной птице. Все-таки сгоревшего не вернешь. Ни энергия, ни новые вещества в реакторе не рождаются из ничего. Просто происходят процессы, при которых «негорючие» в ядерном смысле элементы превращаются в горючие. Грубо сравнивая реактор с обычной печкой, можно сказать, что в дрова здесь превращается часть негорючих примесей и обмуровка самой топки. Огорчим еще раз неудачливых изобретателей «вечных двигателей»! Закон сохранения энергии не поколеблен, как не поколеблен и закон сохранения вещества.
3.9.
Долговечные машины нужны, но нужны ли вечные машины? Можно не гадать — есть возможность проверить. Правда, вечных машин у нас нет и быть не может, но остались кое-где почтенного возраста машины, которым от роду сто лет и больше.
В Малом театре в Москве была машина для подъема занавеса. Ей значительно больше ста лет, но она исправно работала, пока театр не попортила фашистская бомба.
Но при всем уважении к заслугам машины режиссеры ею давно не пользовались. Дело в том, что машина упрямо держалась старинной пословицы «Поспешишь — людей насмешишь!» и тащила занавес добрую четверть минуты. Для теперешних темпов театрального действия это был бы форменный зарез. Актеры просто не знали бы, что им делать на сцене и как им себя держать, пока, не спеша, управляется с занавесом нерасторопный механизм. Потому режиссеры избегали работать со старым занавесом, а использовали новый, раздвижной.
В городе Вязниках Ивановской области лет тридцать назад заглянула какая-то столичная комиссия в старый корпус фабрики, бывшей купца Елизарова. Заглянули в цех и обомлели, словно мамонта встретили. Перед ними стояла паровая машина типа Уатта — прапрабабушка паровых машин. Было машине верных сто лет, но она была готова к действию, словно еще сто лет собиралась проработать на своем посту.
Конечно, машину тотчас отправили в музей. И не только как техническую диковинку. Машина занимала здание размером с провинциальную электростанцию, а была не мощнее автомобильного мотора.
Теперь представьте, что все машины бессмертны. Что машины не изнашиваются, не разрушаются, не стареют и не умирают, как люди. И что все машины, какие только строили в этом мире, преспокойно продолжают жить на земле.
Что бы тут творилось!
Городские площади запрудили бы кареты, запряженные цугом, римские колесницы, первобытные сани-волокуши. Среди окриков возниц и хлопанья бичей верещали бы смердящие автомобильчики, похожие на экипажи, от которых сбежала лошадь, оскорбленно урчали бы новейшие лакированные автомобили. На железной дороге обтекаемый сверхтепловоз в нетерпении бил бы парами, ожидая, пока откроют светофор. Это занял перегон паровозик с длинной трубой, вылезающей из-под котла и изогнутой, как верблюжья шея. Он с достоинством тащит за собой состав, похожий на очередь из извозчичьих пролеток.
И смех и горе!
Но, наверное, люди не допустили бы такой кутерьмы, сами пошли бы с ломами наперевес и разбили бы старинные постылые машины, пустили бы их в переплавку.
Постоянно, ненасытно жаждет техника обновления! Обновление! Я пишу это слово в канун Первомая, праздника весны, праздника дружбы людей труда.
Веской обновляется природа, первый дождь смывает палые листья, распускается свежая, молодая листва. В первомайском праздничном обрамлении еще краше становится все, что вызвано к жизни дружбой тружеников, — мир заводов, машин, вещей, зданий — вся «вторая природа», создаваемая человеком, как однажды образно назвал этот мир К. Маркс. Эта «вторая природа» обновляется ежечасно: непрерывно цветет в цехах и лабораториях вечная весна труда. Тут работают обновители жизни — ученые, рационализаторы, передовики производства, изобретатели процессов и вещей.
Бывает, колдуешь, склонясь над станком, над туманной, как струйка дыма, стружкой и не замечаешь, как из наших каждодневных усилий уже вырос горный пик нового, и под праздник, внезапно подняв глаза, изумляешься его сверкающей вершине.
С каждым годом все круче поднимаются вершины технического прогресса, все больше труда сберегают машины обществу, все легче становится труд рабочих.
Наш народ — творец великих изобретений. Наша русская земля была колыбелью радио, здесь впервые замигала электрическая лампочка и впервые взлетел самолет. Здесь впервые заставили богатырский атом служить делу мира и прогресса. Здесь впервые звездный корабль взлетел в космос. Имена и дела замечательных отечественных изобретателей служат знаменем технического прогресса и вселяют патриотическую гордость в наши сердца, укрепляют уверенность в грядущих победах.
Но советский патриотизм кончается там, где гордость переходит в гордыню, где высокомерие становится шорами на глазах творца и мешает оценить соседний опыт. Консерваторами клеймят у нас тех, кто чурается, как якобы «чуждых» нам, зарубежных технических достижений, отвергает лучшее, сделанное другим, руководствуясь гиблым принципом: «Хоть паршивенькое, да свое». Нет, не так рассуждает и действует наш народ, советские патриоты!
Полезно еще раз глянуть на весеннюю, обнажившуюся от снега землю, на зеленые ростки, на палые прошлогодние листья, не прибранные на этой земле. В той «второй природе», создаваемой человеком, в мире техники, в мире машин, окружающих нас, среди мощной поросли нового есть немало и старого, отмирающего, задержавшегося с давних времен. Далеко не все оно выглядит так плачевно, как прошлогодняя листва. Оно часто щегольски сверкает никелем и надменно блестит зеркальным лаком, покрывающим молодой металл.
Но подлинная старость машины не в том, что проржавела сталь, облезла краска, разболтались сочленения, а в том, что состарилась ее идея, ее конструкция, состарилась и утратила жизненный смысл. Как говорят, машина морально устарела, износилась морально. Мысль, заложенная в ней, закостенела. Омертвело, застыло самое подвижное на свете — живая человеческая мысль.
Тот конструктор, что создает эту машину, пусть с тревогой заглянет в самого себя, нет ли там самоуспокоенности, равнодушия, консерватизма — этих палых листьев души? Не пора ли их вымести оттуда, как сметают зимний сор с весенней улицы, по которой должна пройти первомайская колонна?
Техника не может застыть на месте, старое заменяется в ней новым, новое — новейшим, она так же движется вперед и выше, как летящая мысль, в непрерывном процессе обновления.
Пожелаем достижения новых вершин ученым, изобретателям, передовикам производства, идущим в первых рядах первомайских колонн, в первых рядах строителей коммунизма. Пусть весенний свежий ветер новизны раздувает наши знамена — эти алые паруса человеческого счастья! Пусть гремит веселее праздник молодости — молодости листвы, машин и сердец!
3.10.
Простодушие и доверчивость — не лучшее качество экспертов по изобретениям, и поэтому люди эти могут показаться придирами. А иначе нельзя. Ведь история знает лжеизобретателей, похвалявшихся осуществлением неосуществимых технических выдумок.
Когда-то немецкий ученый Орфиреус морочил голову русскому послу, предлагая продать Петру I вечный двигатель.
Это было большое колесо на двух стойках, которое вращалось само, без посторонней силы. В те времена в невозможности построения вечного двигателя не были убеждены окончательно, и поэтому колесо подвергли испытаниям. Машину запустили в пустой комнате, и дверь в нее наглухо запечатали. Через двое суток, когда сняли печи, колесо вертелось, как ни в чем ни бывало.
Орфиреуса погубила жадность: он уж слишком упорно торговался и жалел платить жалованье своей служанке. В ней же заключался весь секрет. Эта самая служанка и крутила колесо из соседней комнаты за шнурки, продетые сквозь стойки и протянутые под полом. Она и выдала проходимца Орфиреуса.
Заграничный изобретатель барон де-Шевремон предлагал в 1741 году Анне Иоанновне уступить секрет на некий порошок, исцеляющий от всех болезней и к тому же, между прочим, могущий «превращать свинец в золото».
Объявив, что владеет секретом делать золото, дипломатичный барон постеснялся пойти против логики и потребовать золото за своей секрет. Он просил Анну рассчитаться за изобретение чинами и орденами.
Он желал:
во-первых, производства в графы;
во-вторых, награждения орденом св. Андрея;
в-третьих, чтобы брат его был произведен в графы;
в-четвертых, чтобы брат его был награжден орденом св. Андрея;
в-пятых, чтобы ему был выдан паспорт, в котором он значился бы действительным камергером и действительным статским советником, и т. п.
На это русское правительство не согласилось. И потомки не очень осуждают правительство за такое невнимание к изобретательским предложениям.
Но как много, однако, присасывалось к России всяких этих вымогателей — шевремонов!
Рассказывают, что в двадцатые годы один изобретатель носился с особым секретным сверхмощным порохом. Заряд размером с гомеопатическую крупинку был способен вызвать огромные разрушения. Изобретатель показывал опыт. Под стальную болванку, лежащую на столе, подкладывал свою пилюльку и производил взрыв. Болванка подпрыгивала к потолку и в туче штукатурки валилась обратно, разбивая стол в щепки. Кто-то разгадал обман. Над потолком у изобретателя стоял большой электромагнит от подъемного крана. Он притягивал болванку и отпускал ее, а крупинка, оказывается, была ни при чем. Все это рассказано в одной из хороших научных книжек по магнетизму.
Не изгладилась еще в памяти недавняя слава Гринделла Метьюза, «изобретшего» в 1924 году аппарат «лучей смерти».
Весной 1924 года в одном из бесчисленных кабинетов генерального штаба одного из иностранных государств молодой капитан разбирал утреннюю почту.
Капитан ведал приемкой военных изобретений. Он вскрывал толстые конверты, бегло просматривал содержимое, раскладывал в папки описания и чертежи. Заключения по изобретениям дадут специалисты-эксперты, но капитан, не первый год сидевший на этой работе, заранее предсказывал результаты.
— Опять «лучи смерти»! — объявлял он вслух своему соседу по комнате. — Предлагается применить ультразвуки… Снова «смертоносные лучи»: предлагается применить ультракороткие радиоволны. Все—ерунда!.. Один профессор действительно ухитрился оглушить ультразвуками золотых рыбок в своем аквариуме, а другой уморил тараканов в пробирке с помощью ультракоротких радиоволн. На войне ни то, ни другое не применимо, если, конечно, не придется воевать с тараканами. Чтобы убить на расстоянии таракана, пришлось затратить уйму энергии. Стрельба из пушек по воробьям была бы более рациональным занятием! А чтобы убить на расстоянии человека, нужны такие мощности, о которых мы и мечтать не в состоянии…
Гора проектов росла. В этот день «лучи смерти» доняли капитана. Изобретателей смертоносных лучей объявилось раза в два больше, чем обычно.
Капитан хорошо представлял себе этих изобретателей. В большинстве своем это были честные люди, искренне пытавшиеся принести пользу армии, но не разобравшиеся как следует в предмете. Но встречались и мошенники, стремившиеся сорвать с военного министерства сумму покрупнее на «реализацию» заманчивого проекта. Меньшинство представляли сумасшедшие. Этих можно было сразу узнать по напыщенным, иногда стихотворным описаниям, бессвязным чертежам и фантастическому почерку.
Капитан заскучал и отодвинул бумаги. Оставался последний маленький конверт. Письмецо заставило его привскочить от изумления. В пятый раз,
протирая глаза, капитан перечитывал белый листок. Он был написан ясным и четким почерком. Изобретатель не требовал ни денег, ни орденов. Он просил лишь одного — приехать и посмотреть изобретенный им аппарат смертоносных лучей. Безвестное имя Гринделла Метьюза скромно стояло в конце.
С письмом в руках, позабыв об уставе, капитан, не стучась, ворвался в кабинет своего начальника. Полковник был явно заинтересован.
Солнечным утром 7 апреля 1924 года поезд уносил их в маленький приморский городок, где жил и работал необычный изобретатель.
Изобретатель встретил гостей у порога. Несколько человек с карандашами и блокнотами в руках поджидали офицеров. Это были корреспонденты крупнейших газет страны.
Лаборатория Метьюза поражала своим оборудованием. Мощные электромагниты уживались рядом с насосами, ретортами и змеевиками; толстые электрические кабели извивались по полу, как исполинские удавы; гирлянды изоляторов свисали с потолка, точно связки огромных грибов. В клетке в углу пищали белые крысы.
У стены на массивной треноге стоял таинственный прожектор, полузакрытый черным глухим покрывалом.
— Не будем тратить времени на разговоры, — сказал изобретатель. — Приступим сразу к опытам.
Маленький мотоциклетный мотор бешено затрясся в углу. Изобретатель, приподняв покрывало, взялся за прожектор. Узкий голубой луч пересек лабораторию. Изобретатель подвел его к мотору. Мотор кашлянул и заглох.
— Наши лучи, — сказал изобретатель, — останавливают на расстоянии моторы танков и самолетов.
Демонстрация продолжалась.
На высокий табурет положили чугунную доску. Сверху насыпали горку пороха. Снова голубой луч скользнул по лаборатории. Порох с грохотом взорвался.
— А теперь, — сказал изобретатель, отодвигая в сторону оробевших корреспондентов, — познакомимся с действием лучей на живые организмы.
Белую крысу привязали за лапку к табурету. Она испуганно заметалась на привязи. Беспощадный голубой луч настиг зверька. Крыса дернулась и замерла. Луч убил ее.
Эффект был чрезвычайный. Корреспонденты обалдело строчили в блокнотах. Потрясенный капитан подошел к полковнику:
— Мы стоим накануне революции в военной технике… Нельзя допустить, чтобы сообщения о лучах проникли в печать… Разрешите дать указания цензуре?
— Я сам обо всем позабочусь, — сухо ответил полковник.
Капитан плохо спал ночь. Мысль о смертоносных лучах не давала сомкнуть глаза. Утром все казалось фантастическим сном.
Свежие газеты ужаснули капитана.
Огромные заголовки извещали мир о «лучах Метьюза», крупнейшем изобретении нашей эпохи. Это был беспримерный факт разглашения военной тайны.
Перепуганный капитан позвонил полковнику. Тот отвечал сдержанно:-
— Да, недосмотр досадный… Но сейчас меры приняты… С изобретателем ведутся переговоры.
Так началась всемирная слава Гринделла Метьюза. Непроницаемое лицо таинственного изобретателя глядело со страниц десятков газет и журналов. Шли слухи о том, что недавно Метьюз в присутствии высшего командования взорвал на расстоянии плавучую мину. О «лучах Метьюза»-было написано несколько толстых романов.
— Наш полковник достоин виселицы, — возмущенно шептал капитан своему соседу по комнате. — Надо быть попугаем, чтобы так проболтаться.
Мало-помалу наступило затишье. Ежедневно, докладывая утреннюю почту, капитан ожидал, что полковник заговорит о лучах. Но полковник молчал. Наконец, капитан не утерпел и спросил первый.
— Переговоры с Метьюзом ведем, — зевнул полкозник, — но пока не сходимся в цене. Слишком дорого просит Метьюз за свой прожектор.
Капитан продолжал жаловаться своему соседу по комнате:
— Рутинеры и крохоборы типа нашего полковника способны загубить любое живое дело! Подумать только: до сих пор не суметь договориться с Метьюзом!..
А в это время академик Поль Ланжевен, один из крупнейших физиков современности, давал гневное интервью корреспонденту газеты «Эвр».
— Что касается Метьюза, то этот субъект никогда не был никем иным, как рецидивистом — мошенником. При демонстрации действий своего изобретения на подводную мину ему удалось взорвать ее, направив на нее луч. Лишь впоследствии обнаружили, что Метьюз на демонстрации обманул комиссию, так как до испытания он пристроил к мине фотоэлемент, на который направлял луч света, вследствие чего включился взрывающий механизм мины. Ловко придумано, но в этом нет ничего оригинального.
— Ну, конечно, фотоэлемент! — хлопнул себя по лбу капитан, припоминая подробности поразительных опытов. — Это хитро спрятанный фотоэлемент— электрический глаз — включил смертельный ток в проволочку, к которой была привязана белая крыса!
Схватив газету, капитан отправился к полковнику. Тот хладнокровно принял известие.
— Наша разведка донесла нам уже кое-что по этому поводу. Я и раньше догадывался, что Метьюз фокусник, поэтому-то и не задержал газетных корреспонденций.
Капитан волновался.
— Надо немедленно дать официальное опровержение. Надо рассеять, этот обман.
— Не надо! — махнул рукой полковник.
— Ничего не понимаю! — возмутился капитан.
Полковник сурово сдвинул брови:
— Я мог бы и не давать вам отчета в своих действиях и должен бы строго взыскать с вас за горячность, но ваша молодость служит оправданием. Если бы даже и не оказалось мошенника Метьюза, что-нибудь подобное следовало проделать нам самим. Обман — это тоже оружие… Сообщение о лучах Метьюза воодушевит наши войска и, быть может, припугнет наших соседей. Может быть, найдутся где-нибудь дураки, которые и деньги начнут тратить на что-нибудь подобное. Это нам на руку. Вот и все, господин капитан. Вы свободны.
Так закончилась история с лучами Метьюза.
Обман — оружие наших врагов. Каждый раз, когда гитлеровцам во время войны приходилось туго, они пытались деморализовать наш народ всякими баснями о вновь изобретенном таинственном оружии, обладающем сокрушительным действием. Но нас не удавалось и не удастся запугать.
Никакое действительно новое оружие не будет для нас неожиданностью.
3.11.
Вот одна из моих заметок в газете «Известия», напечатанная в 1955 году. Еще Салтыков-Щедрин отмечал, что пуганый обыватель покладистее непуганого. Дрожащие руки некрепко держат кошелек, а покрытая мурашками спина послушней изгибается дугою.
Эти в высшей степени благоприятные для каждого грабителя психологические особенности испуганного обывателя и стремится использовать американская империалистическая пропаганда, разжигая военный психоз.
Одним из модных пугал американской пропаганды стала версия о таинственных «летающих тарелках». С 1947 года по сегодняшний день буржуазная печать и радио опубликовали ряд сообщений о «тарелках», «блюдцах», «цветных колесах», «плюшках», «сковородках», «огненных шарах», проносящихся в воздухе с фантастической скоростью. Зрительные наблюдения подкреплялись сообщениями о загадочных знаках, будто бы возникавших на радиолокационных экранах. Подчеркивалось особо, что странные летающие предметы появлялись по большей части над атомными и танковыми заводами. Намекалось, что эти таинственные изобретения направлялись «рукой Москвы».
И хотя очевидцев появления «летающих тарелок» было много меньше, чем ясновидцев, обладающих способностью видеть воочию зеленых змиев, мелких чертиков и танцующие скелеты, все же, по свидетельству журнала «Лук», в Пентагоне была создана секретная комиссия под шифрованным названием «Проджект Блю Бук», занимающаяся изучением небесных привидений.
На работу комиссии было израсходовано 34 ООО долларов. Эти деньги были потрачены не зря. Сообщения о «летающих тарелках» повалили со всех концов земного шара: из Бразилии и Турции, Норвегии и Эритреи, Японии и Монте-Карло, Португалии и Мексики.
Корреспондент агентства Франс Пресс сообщил о появлении «летающих тарелок» над городом Иерихоном, получившим, как утверждают, во время оно серьезные разрушения от трубного гласа. Против ожидания, новая опасность, нависшая над многострадальным городом, не взволновала общественного мнения. Охотники за «летающими тарелками» перестарались. Нарастающая лавина сверхъестественных, противоречащих друг другу фактов производила обратный, шутовской эффект. Грозное пугало превращалось в потешное чучело. Страшная версия о «руке Москвы» становилась анекдотом. Американская пропаганда забила отбой.
Офицеру американской разведки полковнику Уотсону пришлось объявить, что неясные контуры таинственного аппарата, запечатленные в сенсационном кинофильме, представляют собой фотографии отраженной в пруду водонапорной башни.
Тщетно профессор астрофизики Мензелл объяснял, что «летающие тарелки» — это мираж и электрические разряды в атмосфере. Он разъяснил, что странные фигуры на экранах радиолокаторов являются обычными радиопомехами, столь знакомыми любителям телевизионных передач. Механизм возникновения «летающих тарелок» он пытался раскрыть на домашних опытах в тазу с водой и даже в чашке кофе.
Рассуждения профессора астрофизики не устраивали офицеров Пентагона. Не устраивали их и бури в тазу с водой, и эксперименты на кофейной гуще. Ведь с позиции профессора вся их прежняя деятельность представлялась в обидном свете и отдавала духом Форрестола.
В Пентагоне решили попросту прихлопнуть всю эту историю, потерявшую отныне политический смысл. Всю вину свалили на наблюдателей, отнеся появление «летающих тарелок» за счет «массовой истерии, нервных заболеваний, мистификации, гипноза, головокружения, сенсационных трюков и особенностей восприятия психически ненормальных людей».
Но недавно работа упомянутой выше комиссии по материализации привидений возродилась на новой основе. Застучали машинистки, заполняющие бланки карточек. Выразителем новых веяний оказался майор в отставке Дональд Кихоу.
В американском журнале «Лук» появились отрывки из книги Кихоу, носящей интригующее название «Летающие тарелки из мировых глубин».
По мнению Дональда Кихоу, «летающие тарелки» — это межпланетные машины, пилотируемые жителями других планет. Он считает, что «летающие тарелки» — это островки, удерживаемые над землей отталкивающей силой магнита!..
Тем не менее Дональду Кихоу охотно выписывают пропуск в Пентагон. Простодушные записки отставного майора любопытны в том отношении, что показывают, как офицеры Пентагона дразнят Кихоу, разжигая его навязчивую идею. Офицер Пентагона Чоп подзуживает Кихоу, заверяя устно, что министерство авиации полностью поддерживает его самобытные идеи. А затем министерство авиации официально сообщает в редакцию, что это заключение является частным мнением Чопа.
И Кихоу мечется между Пентагоном и редакциями газет, накаляясь все сильнее и сильнее. Его сбивчивые, нервные высказывания начинают наматывать на ус чуткие к конъюнктуре американские бизнесмены. Журнал «Ньюсуик» напечатал фотоснимок ресторана во Флориде с расторопной надписью на крыше: «Добро пожаловать, пассажиры летающих тарелок!»
Но майор Кихоу слишком хорошо знает американскую действительность, чтобы верить всерьез доброжелательным лозунгам. Он считает особо необходимым предупредить, что, «независимо от их внешнего вида, мы должны проявлять к каким бы то ни было пришельцам из мирового пространства не менее дружественные отношения, чем они к нам». Кихоу справедливо опасается, что завсегдатаи гостеприимного ресторана могут для порядка «подправить» челюсть выходцам с Марса.
Отставной майор справедливо учитывает при этом и неуживчивый характер государственного департамента, и печальную практику американской внешней политики последних лет. Предвидя возможность очередных, в данном случае межпланетных, конфликтов, он пишет:
«Мы должны не допускать насилия со стороны нашего народа, с тем чтобы не совершить трагической ошибки, которая превратит мирных пришельцев в смертельных врагов».
Так резвится и кувыркается майор Кихоу на страницах журнала «Лук» под сочувственным взглядом Пентагона. Миллионеры, перегоняющие военную историю в звонкий чистоган, выжидают, когда дрогнет рука у обывателя и он уронит лишний цент под залог войны с Марсом!
Между тем объективный клинический анализ сочинений отставного майора Кихоу заставляет вспомнить опубликованные Гоголем записки титулярного советника Аксентия Иванова Поприщина.
На страницах упомянутых записок, помеченных «февруарием тридцатым», Аксентий Иванов также предупреждает человечество об опасности межпланетных конфликтов: «… я, надевши чулки и башмаки, поспешил в залу государственного совета с тем, чтоб дать приказ полиции не допустить земле сесть на луну». Титулярный советник надеялся, что при возгласе: «Господа, спасем луну…», многие полезут на стену, чтобы выполнить его «монаршее желание»… Но надежды его не оправдались, как не оправдаются надежды Дональда Кихоу. Никто не вздрогнул, никто не полез на стену вслед за полоумным майором.
В цитируемых выше записках титулярный советник Поприщин полагает, что делал луну «…хромой бочар, и видно, что дурак, никакого понятия не имеет о луне. Он положил смоляной канат и часть деревянного масла; и оттого по всей земле вонь страшная, так что нужно затыкать нос».
Возникает вопрос: не из тех ли дурно пахнущих материалов и не теми ли бездарными руками фабрикуются «летающие тарелки» — скудоумное пугало американской пропаганды?»
3.12.
Изобретатель нередко вступает в спор с экспертом, оценивающим полезность изобретения. Очень плохо, если эксперт окажется крючкотвором и казуистом. Самый древний портрет эксперта-крючкотвора сохранился в свитках «Федры» античного философа Платона. Здесь Платон заставляет Сократа рассказать следующее:
«Мне рассказывали, что в Египте близ Наукратиса был бог, один из древнейших в стране, тот, кому посвящена птица, именуемая египетским Ибисом. Бог назывался Февс. Он первый изобрел числа, счет, геометрию, астрономию, а также игру в камешки и кости и, наконец, письмо. Царь Фамус царствовал тогда во всей стране и жил в большом городе Верхнего Египта, который эллины называют египетскими Фивами, именуя царя богом Аммоном, Февс посетил царя, показал ему изобретенные искусства и советовал распространить их между египтянами. Царь спросил, какая польза от каждого из этих искусств. Февс в подробностях изъяснил их употребление. Дошли до письма.
— О, царь, — воскликнул Февс, — это изобретение сделает египтян ученее и облегчит их память: я нашел средство против трудностей изучения и запоминания. — Проницательный Февс, — отвечал царь, — гений, изобретающий искусство, есть иное, чем мудрость, оценивающая выгоды и невыгоды, проистекающие из их применения. Как отец письма, прельщенный своим изобретением, ты приписываешь ему последствия прямо противные действительным. Оно породит забвение в умах, которые с ним познакомятся, побудив их пренебрегать памятью. Полагаясь на стороннюю помощь, они предоставят материальным знакам заботу о том, чтобы возобновлять воспоминания, след которых потерян умом. Ты изобрел не средство разрабатывать память, но средство будить воспоминания. Ты даешь твоим ученикам тень науки, а не саму науку. Когда они узнают много вещей без учителя, будут мнить себя очень учеными, оставаясь в большинстве невеждами и ложными мудрецами, нестерпимыми в жизни».
Этим витиеватым отзывом бог Фамус, очевидный покровитель всех экспертов-крючкотворов, пытался похоронить величайшее изобретение — письменность, величайшую драгоценность — грамотность. Не от имени ли Фамуса произвел Грибоедов фамилию своего Фамусова — воплотителя всего консервативного, косного?
Изобретателям противостоят консерваторы, люди, не умеющие мечтать. Консерваторы потому и называются консерваторами, что их не берет время. Они твердо придерживаются двух аксиом, не изменяющихся веками. Назовем их условно аксиомами «конского копыта» и «кремневого топора».
Аксиома номер один состоит в утверждении того, что колесо никогда не заменит конского копыта. Аксиома номер два состоит в утверждении того, что кремневый топор предпочтительней бронзового потому, что дешевле и проще и не требует создания металлургической базы.
Остроумно написал о консерваторах поэт Николай Глазков:
Всем смелым начинаньям человека Они дают отпор. Так бюрократы каменного века Встречали первый бронзовый топор.В 1934 году английские правительственные чиновники так ответили основателю Английского межпланетного общества: «Научные исследования возможностей реактивных двигателей не приводят к выводам, что они могут стать серьезными конкурентами винтомоторной силовой установке».
Колесо никогда не сможет стать конкурентом конскому копыту! Так не в каменном веке, а в нашем двадцатом столетии консерваторы встречали великое изобретение.
Впрочем, стоит ли подробно рассказывать о тупицах, людях отсталых и равнодушных, не умевших понять, не желавших принять, затиравших, душивших изобретения?
Бюрократы — что о них говорить!
В конце прошлого века немец Макс Кеммерих выпустил двухтомную книгу «Курьезы из истории науки, техники и культуры». Он собрал в ней коллекцию человеческой косности. На страничках, как бы под стеклом, булавочками были приколоты на посмешище грядущим поколениям близорукие тугодумы: астрономы, не верившие в метеориты, географы, сомневающиеся в сплющенности земного шара, профессора, уверявшие в невозможности построить автомобиль, музыканты, ругавшие симфонии Бетховена, критики, усомнившиеся в бессмертии Гёте.
Есть тут свои рекорды… Выражение «Волга впадает в Каспийское море» служит нынче символом чего-то давно известного, само собой разумеющегося. Но известный географ XVI века Франческо де Колло пытался опровергнуть это: «Волга не может впадать в Каспийское море, так как в этом случае она была бы пересечена Доном и неизбежно слилась бы с ним. В Каспийское море не впадает никаких рек».
Да, случалось, передовые разумные люди попадали в положение косных людей.
Астроном Тивелий в 1673 году писал: «Хотя зрительные трубы изобретены и усовершенствованы, но немало есть неверующих, утверждающих, что нельзя доверять этим трубам, ибо они, порождая иллюзии, обманывают».
Сам Ньютон, гениальный оптик Ньютон, клялся, что никогда и никому не удастся устранить пеструю радужную каемку вокруг оптического изображения, создаваемую хроматической аберрацией. Но петербургский академик Эйлер изобрел способ ее устранить. А сейчас не существует вовсе биноклей и фотографических объективов, грешащих хроматической аберрацией.
Прославленный физик Деви умел понимать и ценить новое. Он сам сделал несколько удивительных открытий. И даже рисковал при этом жизнью. Но этот же Деви с усмешкой спрашивал одного из изобретателей газового освещения Мердоха, уж не хочет ли он в качестве резервуара для своего газа приспособить купол собора святого Павла? Ста лет не прошло с тех пор, а уж были построены газовые резервуары намного большие, чем весь собор целиком.
Петербургский котлостроитель профессор Г. Ф. Дьепп, двинувший вперед технику паровых котлов, изобретший такую великолепную штуку, как сжигание в топке пылевидного топлива, с недоверием поглядывал на новорожденную паровую турбину Лаваля. Он писал, что у этой турбины слишком «большой расход пара. Поэтому паровые турбины вытеснить других паровых машин не могут, а являются необходимыми только в некоторых частных случаях, когда по местным условиям их действительные, хотя и второстепенные качества являются существенными».
Профессор оглядывал горизонт будущего, взобравшись на невысокую спину паровых котлов своего времени, и считал, что грядущая техника все время будет подлаживаться под возможности его паровых котлов. Но маленькая турбинка вызвала полный переворот в котлостроении, заставила котлы безмерно расширить объем и мощь своих легких, породила конструкции высотой в пятиэтажный дом, в которых бочки воды испаряются с такой же стремительной быстротой, как капля на шипящей сковородке.
Казалось бы, бесспорная вещь пулемет, но прочтите, какой отзыв о пулемете дал в начале прошлого столетия известный русский генерал Драгомиров:
«Если бы одного и того же человека нужно было убивать по нескольку раз, то это было бы чудесное оружие, так как при 600 выстрелах в минуту их приходится по 10 в секунду. На беду для поклонников столь быстрого выпускания пуль, человека довольно подстрелить один раз и расстреливать его затем вдогонку, пока он будет падать, надобности, сколько мне известно, нет. Правда, есть рассеивающие пули приспособления, но, опять-таки на беду, не народились еще такие музыканты, которые были бы в состоянии переменить направление стволов 10 раз в секунду. Да если бы и народились, то они могли бы только пускать пули наудачу. Правда, в толпу годится, но какой дурак теперь подставит толпу?! «Но могут быть случаи». Но и картечницы могут оказаться не там, где будут эти случаи. А разгорячение ствола… «Да, но охлаждение». Оно конечно, охлаждение; но, на беду, колодца с собой возить нельзя, а иногда бывает, что и сам рад бы напиться, да воды нет.
Всякая скорострелка, называть ли ее картечницей или вновь придуманным красивым словом — пулемет (и избави нас от лукавого и метафоры), все же есть не более, как автоматический стрелок, то есть самостоятельного вида поражения не дает; и если дать на выбор человеку, не одержимому предубеждениями, застилающими здравый смысл, то, конечно, он предпочтет живого стрелка автоматическому, уж хотя бы за одно, что у него лафета нет, лошадей ему не нужно, и можно его употребить на всякую солдатскую работу».
Удивительно! Передовой генерал. Выдающийся военный мыслитель, чьи высказывания до сих пор сохранили свою ценность, а вот не понял, не оценил значения пулемета! Каменный топор предпочел бронзовому!
А порой и сам изобретатель не может оценить важности своей работы.
Так было с Эдисоном, решительно отрицавшим, что с помощью его телефона когда-нибудь можно будет говорить через Атлантический океан.
Так было с физиком Герцем, открывшим радиоволны. Он никак не хотел согласиться, что его открытие найдет применение в технике связи.
— И не спорьте, — отмахивался Герц, — я сам открыл эти волны. Мне лучше знать.
Это продолжалось до тех пор, пока А. С. Попов, не споря с Герцем, построил первую радиостанцию.
Выходит, не только тупицы и рутинеры, но и передовые, умные люди попадали впросак: не всегда умели заметить пользу в том, чему принадлежит будущее, в том, чему суждено осуществиться и победить, если даже выглядит оно сегодня бесполезным и несбыточным.
Не так-то просто понять изобретение, дать ему верную оценку.
Генерал Драгомиров выполнял свой долг. Ему по должности было положено давать отзывы на военные изобретения. А известного итальянского поэта XVI века Ариосто никто об этом не просил. И все-таки в поэме «Неистовый Роланд» Ариосто не может удержаться, чтобы не проехаться по адресу тогдашней военной новинки — огнестрельного оружия.
Созданье адское. С тех пор, Как стало ты известно, Война не славу, а позор Разносит повсеместно. Теперь уж не цвести в боях Военному искусству; Не жить у воинов в сердцах Возвышенному чувству. Теперь ни доблести в войне, Ни мужества не видно; В ней торжествует наравне Герой и трус бесстыдный.Что заставило Ариосто пойти на специальное поэтическое отступление, чтобы всей силой звучных стихов обрушиться на новое изобретение? Только ли неуменье глядеть вперед и чувствовать новое? Нет, за этим кроется нечто большее. Повод, видно, гораздо важней.
Английские ткачи зачастую были неграмотными и заключений по изобретениям не писали вовсе. Но когда изобретатель ткацкого станка Картрайт начал строить первую крупную фабрику, ткачи собрались вместе, наняли писаря и послали изобретателю письмо.
«Мы поклялись поддерживать друг друга, чтобы разрушить вашу фабрику, хотя бы нам пришлось поплатиться за это своей жизнью, мы поклялись снять вашу голову за то зло, которое вы причиняете нашему ремеслу. Если вы будете дальше продолжать свое дело, то вам известно теперь, что вас ожидает».
И ткачи исполнили свою угрозу. Они сожгли фабрику и поломали все станки. Что заставляло толпы ткачей бесноваться, вдребезги кроша ненавистные машины? Только ли неуменье глядеть вперед и чувствовать новое? Видно, что-то большое и неумолимое, что сильнее смерти, взяло ткачей за горло, превратило их в косных людей.
Изобретения — дело нешуточное. Они властно врываются в жизнь, придавая могущество одним, других уничтожая. И кто знает, как отзовется в веках незаметное сегодня изобретение?
Когда арабы научились гнать спирт, им и в голову не приходило, что они этим создали одно из главных орудий, которое истребит, заставит спиться местных жителей еще даже не открытой Америки.
Когда порох проник от арабов в Европу, он устроил переворот не только в военном деле. Он подорвал весь тогдашний общественный строй. Порох, ружья и пистолеты были на стороне того, кто владел промышленностью и деньгами, а ими владели горожане. Огнестрельное оружие стало с самого начала оружием горожан. Каменные твердыни рыцарских замков пали перед пушками горожан, пули горожан пробили рыцарские латы. Вместе с рыцарской броней была разбита феодальная дворянская власть.
Ариосто был поэт и дворянин. Он воспевал доблесть рыцарей, братьев своих по классу, и набросился на порох не сослепу, а потому, что увидел в нем вражескую силу. Жизнь Ариосто, его творчество всеми корнями вросли в дворянство, и косным человеком он стал потому, что учуял в новом изобретении свою гибель.
Гибель видели ткачи-кустари, когда крошили станки Картрайта, быстролетные механические руки, заменившие сотню людских рук. Безработица и смерть стояли перед ткачами. Они верили, что стоит только сломать машины, как снова вернется былая, милая сердцу жизнь. Они видели зло в машинах, а не в фабрикантах, угнетавших их с помощью этих машин. Так израненный лев, в пылу первой ярости, грызет железное копье.
Ткачи, разрушавшие машины и фабрики, были темными людьми, им простительны самые глубокие заблуждения. Но все чаще и чаще в современном капиталистическом мире просвещеннейшие мыслители уподобляются темным ткачам, брызжа яростью против прогресса техники, против науки.
Американцы построили город Нью-Йорк со стоэтажными небоскребами, подпирающими небо, и они же сконструировали ядерную бомбу. В своей книге «Атомное оружие и внешняя политика» американец Г. Киссингер попытался примерить на глаз американскую водородную бомбу к Нью-Йорку. Оказалось, что одна водородная бомба способна смахнуть нью-йоркские небоскребы, как фигуры с шахматной доски. Автор подробно разбирает страшные последствия этого воображаемого взрыва. Академик И. В. Курчатов с трибуны XXI съезда партии в основном подтвердил справедливость выводов Киссингера. Это очень авторитетное подтверждение: мы-то раньше американцев создали водородную бомбу!
В смятении Киссингер готов оправдать бессердечную расправу древних богов, приковавших Прометея к кавказской скале: Прометей похитил с небес простой огонь, но ведь он мог похитить огонь ядерный! В оковы Прометея! В оковы человеческий разум!
Киссингер обвиняет науку, технику, творческий разум и не видит, что виной всему капиталистический строй, при котором величайшие достижения науки и техники подчиняются целям уничтожения человека. Он стал косным консерватором потому, что не смог осудить безумие капиталистического строя.
Мы живем в таком государстве, где любое полезное изобретение не грозит человеку бедой и уничтожением. Каждый новый шаг в технике облегчает нашу жизнь, отдаляет тяжелое прошлое. Всякая косность нам враждебна. И тупая косность от слепоты, и другая, злая косность, от зоркости. Оттого мы с такой тревогой всматриваемся в лицо бюрократа, затирающего новое изобретение. Не скрывается ли под тупой и равнодушной личиной ненавистный пронзительный взгляд ущемленного ревнителя прошлого, осознавшего свое поражение?
3.13.
Два древних римских писателя— Петроний и Плиний Младший рассказывают одну и ту же легенду: изобретатель принес императору Тиберию кубок из неразбиваемого стекла.[5] Принес и ждет награды.
А император повелел отрубить изобретателю голову и похоронить вместе с ним его кубок. Император боялся, что стекло окажется дороже золота его казны. И если дать изобретению ход, казна обесценится — цена золота упадет до цены песка.
Вот как встретил в легенде изобретение богач и тиран. Сгинь, рассыпься даже самая гениальная идея, если она угрожает его деньгам, его власти над людьми.
Такими тиранами, большими и поменьше, кишит и капиталистический мир. Пусть не тысячу лет назад, а недавно, быть может, вчера, является к императору новый изобретатель. Император сидит в кабинете, похожем на тронный зал. Он богаче любого римского императора, хотя лично ему и не подвластна ни одна страна. Это император Стеклянного мира, всемогущий король Графинов, царь Бутылок, великий князь Оконных Стекол и прочая, и прочая. Имя ему — директор стекольной компании.
Изобретатель начинает издалека:
— Я шел к вам и приглядывался к окнам бедняков. Стекла всюду были расколоты и сквозь щели дуло. За окном плакала девочка над осколками разбитого графина…
— Ближе к делу, ближе к делу! — ласково подгоняет директор.
Изобретатель извлекает из газетной обертки стеклянный стакан.
— Вот стекло моего изобретения. Оно крепче стали.
Изобретатель с размаху швыряет стакан в угол. Стакан цел. Директор поражен. Он выходит из-за стола, позабыв о своем величии. Они вновь по очереди швыряют стакан. Стакан цел. Они бьют по нему мраморным пресс-папье и раскалывают только мрамор. Они загоняют стаканом в стену гвоздь. Они топают, прыгают по стакану: изобретатель, надсаживаясь из последних сил, и директор, всею тушей.
Опыты кончены. Сомнений нет.
Наконец они снова садятся друг против друга — изобретатель, рдея от гордости, и директор, запыхавшись.
Изобретатель лезет в карман, расправляет свои бумажки.
— Вот состав моего стекла. А это мои патенты… Давайте заключим союз. Я отдам вам свое изобретение в полное владение, а вы внедрите его во все области жизни! Мы осчастливим человечество, и оно прославит нас в веках. Мы окружим людей вещами нержавеющими, небьющимися, неразрушаемыми — вечными вещами… Мы построим над реками хрустальные мосты… Здания, дворцы с прозрачными стенами и прозрачными потолками… Небо снова будет окружать людей со всех сторон.
Директор слушает благосклонно. Он даже поддакивает изобретателю в особенно сильных местах, но глаза его бегают в беспокойстве.
Директор прикидывает в уме: «Небьющиеся стекла… Неразбиваемые стаканы… вечные вещи… постой, постой, любезный. Да ведь я живу на том, что стекла бьются! И пока мы тут колотили твой дурацкий стакан, тысячи других стаканов в мире раскололись от удара, тысячи стекол треснули в окнах. Тысячи людей побежали в лавку искать новое стекло. А с каждого купленного стеклышка мне доход. Для того и все мои предприятия, чтоб днем и ночью восполнять эту постоянную убыль. Понимаешь ли, что ты предлагаешь мне, такой сякой?.. Загрузить мои печи небьющимся стеклом, наводнить магазины, жилища вечными вещами? Чтоб люди, купив, перестали покупать? Чтобы загасли мои заводы и потухли витрины, чтоб иссяк источник моих миллионов?.. Чтобы я в трубу вылетел из-за твоей затеи? Пропади они пропадом, твои хрустальные мосты, только бы по-прежнему бились мои стаканы!»
Директор с опаской косится на стакан, словно это не стакан, а бомба. Страх и ненависть завихрились в его сердце. Будь он древним императором, он, не дрогнув, похоронил бы живым изобретателя с его стаканом. К сожалению, лично ему не подвластна ни одна страна. Похоронить он может только изобретение.
Директор по-прежнему слушает благосклонно. Он готов купить патенты по сходной цене. Он готов даже поделиться с изобретателем долей будущей прибыли.
Он не привык откладывать дела. Сделку заключают немедленно. Он еще раз успокаивает изобретателя, провожая его до дверей. Мосты? Будем строить мосты. Города? Города тоже.
Изобретатель шагает домой, не чувствуя под собой ног. Деньги? Вот они! Слава? Крылья славы шумят за плечами.
А директор прячет патенты в несгораемый шкаф. Замыкает на все ключи тяжелые двери. И тогда только вздыхает спокойно:
— Спите, спите, бумажки, в стальном гробу. Я теперь ваш хозяин.
И пускай теперь изобретатель ждет не дождется первой опытной варки. И пускай он толчется всюду со своей неотвязной мечтой о прозрачных жилищах и о небе, окружающем людей со всех сторон. Каждый день проволочки, отписки, отказы. Что вам нужно, наконец? Вы получили деньги. Остальное наше дело.
Спит изобретение в стальном гробу. И сколько так похоронено изобретений! Нам это кажется диким, нелепым, безумным.
Но вот не легенда, не притча, не фантазия сатирика, а отрывок из выступления американского сенатора Макмагона.
«Предположим, что кто-нибудь объявит об изобретении локомотива с атомным двигателем, который за время пробега между Нью-Йорком и
Вашингтоном поглощал бы всего лишь на несколько долларов атомной энергии. В результате акции всех железнодорожных и угольных компаний обесценились бы. Страховые компании, связанные с капиталовложениями железных дорог, обанкротились бы, и все это привело бы к общему финансовому хаосу».
Сенатор Макмагон жестикулирует на трибуне, то расставив руки, как шлагбаум на путях мирного атома, то сложив их в предупредительный жест, открывающий «зеленую улицу» атомной бомбе. Он, сказавший «да» атомной бомбе, говорит «нет» мирному атому. Он спокойно допускает сожжение сотен тысяч людей, но не может допустить снижения акций железнодорожных и угольных компаний. Он бестрепетно глядел на огненный хаос Хиросимы и Нагасаки, но страшится финансового хаоса в сейфах Уолл-стрита. Пусть полсвета расколется, как стеклянный стакан, и сенатор будет счастлив, потому что в убыли — его прибыль. Так считают и действуют богачи и властители всех времен — Тиберии и Макмагоны — императоры и империалисты.
3.14.
Бывает, что свежий, незастоявшийся человек получает клеймо консерватора, гуляет с этим клеймом и отмыть его не в состоянии. Тут возможны разнообразные житейские ситуации. Вот одна из них, позаимствованная из центральных газет.
Изобретатель предлагает усовершенствование — изменение конструкции перекидного календаря. У всех календарей дата напечатана на правой страничке, а левая страница оставлена чистой для заметок на память. Изобретателю это кажется несовершенным. Он считает, что при таком расположении даты неудобно делать заметки. И поэтому вносится предложение печатать дату на левой страничке разворота, а правую страничку оставить чистенькой, чтоб ловчее делать записи.
У изобретателя сильное моральное преимущество, как у всех изобретателей в нашей стране. Он выдумал новое, несет его в жизнь и заранее рассчитывает на всяческое внимание. У директора фабрики календарей позиция более щекотливая: он обязан чутко отнестись ко всякому полезному новшеству, но, конечно, объективно разобравшись в деле. И набраться мужества решительно отклонить предложение, если оно не приносит пользы. Он рискует дважды, если ошибется в оценке — может нанести ущерб предприятию, увлекшись какой-нибудь ерундой, или схлопотать клеймо консерватора, не почуяв ценного, нового.
Изобретатель нажимает. Директор мнется…
Директора прорабатывают на собраниях, протягивают в печати. Главное, внедрение-то этого предложения легче легкого и не требует никаких расходов. Подписал распоряжение, и начнут печатать даты на левой страничке.
И все-таки директор мнется. Тут мерцают как бы две стороны медали..
С одной стороны, людей с детства в школе учат начинать писать на левой странице развернутой тетради, а не с правой, так что людям будет неохота расставаться с привычкой. С другой стороны, перекидной календарик— не тетрадка: посредине торчат две дужки и, возможно, действительно мешают некоторым делать заметки на левой странице. Но как быть с вековой традицией печатных изданий, когда текст, напечатанный на одной странице листа, непременно появляется на правой странице. С одной стороны… С другой стороны… Орел почти неотличим от решки.
А изобретатель продолжает нажимать. Он готов созвать новгородское вече, чтобы обсудить свое предложение, воображая, что откроется убийственная дискуссия и что спорщики, передравшись, разобьются на партии, как в свифтовской Лилипутии, где смертельно враждовали между собой сторонники разбивания яиц с тупого конца и приверженцы разбивания яиц с конца острого.
Но Лилипутия существует только в книжках. И у нас не разгораются лилипутские конфликты. В лучшем случае собравшиеся, прослушав пять минут, постараются бочком выбраться из зала: аллах с вами! Как хотите, так и печатайте.
Директор знает, что одним лишь росчерком пера он может внедрить предложение и стереть с себя клеймо консерватора. И не спешит браться за перо. Перед ним не изобретение, а каприз. Где гарантия, что завтра не объявится другой привередник, не потребует вернуть дату на прежнее место.
Как все чаще случается у нас, новатор победил. У некоторых календарей дата перебралась на левую страницу.
Но консерватор ли директор? Нет, конечно! Так клеймят того, кто затирает изобретения. Ну, а если изобретения нет, можно ли винить человека в консерватизме?
3.15.
Но вот есть оно, бесспорное, большое изобретение! Изобретатель предлагает заменить колесо шаром. Предложение неожиданное, дерзкое, ослепительное. Можно целый вагон — да что там! — целый поезд пустить по желобу на двух вращающихся шарах. Шары выдержат, ведь они соприкасаются с желобом не точкой, как колесо, а вытянутой полоской. Значит, и давление на желоб не выйдет из допустимых пределов. Получится на редкость устойчивый быстрый безопасный поезд.
Машинисты с осторожностью ведут обычный железнодорожный состав, ведь колеса удерживаются на рельсах лишь жалким венчиком реборд. Шаропоезду в желобе спокойно, как в люльке. Серебристая цепь вагонов проструится, просвищет в желобе, как столбик ртути. Повышение скорости не опасно, шар не выскочит из желоба даже на крутых поворотах.
Предложение пахнет революцией на транспорте. Схема быстро облекается в реальную плоть. Мощные электродвигатели умещаются во внутренней полости шаров. Уже видится железобетонный желоб, обнимающий цилиндрический вагон. Быстролетная модель в одну пятую натуральной величины проходит испытания на опытной трассе.
Но на пути изобретения появляется консерватор. Не уснулый бюрократ водружает очки-велосипед на грубой переносице, молодой приветливый большелобый эксперт крутит арифмометр. Он глубоко восхищен дарованием изобретателя и любуется втайне красотой его технического решения. Но у них, у двоих — есть различие. Изобретатель все силы ума, все усилия воображения сосредоточил на одном своем изобретении, свел их в точку, в ярчайшее пятнышко, как хрустальная чечевица солнечный луч. Эксперт же видит шире, перед взором его вся железнодорожная сеть страны.
Арифмометр серьезно, как кузнечик, поет свою трескучую песенку. Он подсчитывает потери. Грандиозные, ошеломительные потери как бы в результате всеобщей катастрофы, охватившей весь простор железнодорожной державы. Сбиты все костыли, разобраны все рельсы, растащены все шпалы. Вырастают хеопсовы пирамиды земляных работ. Экскаваторы надсадно трудятся, уширяя насыпи и выемки, взорваны, изрезаны автогеном мосты, на их месте воздвигаются новые, более мощные устои. И по всем этим разрушениям пролагаются железобетонные желоба шаропоездов будущего. Арифмометр поет и поет свою песенку. Это грустная песенка. Под такие песни хоронят изобретения.
Подведена черта. Расчет закончен.
Перед экспертом две цифры. Одна — огромная, с такой гирляндой нулей, что ее с трудом охватывает воображение. Это сумма всех затрат на реализацию изобретения.
Другая цифра маленькая. Но обнять ее воображением еще труднее. Эта цифра дороже денег, дороже всех затрат. Это — время. Тут указан наикратчайший срок внедрения изобретения в жизнь, повсеместной замены рельсов желобами, а колес шарами.
Если не ошибся арифмометр, на внедрение изобретения уйдет столетие. Эксперт напрягает воображение, чтобы умственным взором увидеть, как будет выглядеть транспорт через сто лет. Он глядит через окно в небо, где оставил росчерк реактивный самолет. Он вспоминает очертания кругосветного космического корабля «Восток». В голове возникает картинка из научно-фантастического романа. Небо похоже на оживленную площадь, где толкутся, как рой мошкары, летательные аппараты стреловидной формы. Только ли стреловидной? Эксперт стремится преодолеть шаблон и косность воображения. Ему кажется теперь, что стреловидная форма — это нищенский наряд энергетики и материаловедения. Только в век слабых тепловых двигателей и хрупких материалов самолету приходилось упрощать свои формы, для того чтобы униженно протискиваться через атмосферу, превращаться в подобие иголки, прошивающей кожаную подошву. Фантазер почти углядел, как плавно и быстро проносится в небе нечто щедро и свободно скроенное, изукрашенное веселыми финтифлюшками, нарядное, как театр. А сопротивление воздуха? Стоит ли считаться! Ведь имеются атомные двигатели неисчерпаемой мощи. А сопротивление материалов? Выдержат! Ведь имеются материалы в сто раз прочнее прежних…
Эксперт чувствует, что увлекся… Он сейчас понимает, как никогда, что почти невозможно вообразить, куда завернет транспортная техника через сто лет. Он уверился, однако, что шары и желоба будут выглядеть в ту эпоху устарелыми. Правда, шаропоезд — быстрее обычного поезда. Но ведь это наземные скорости, земные масштабы. Может быть, восторжествует одна из гениальных идей Циолковского, и появятся поезда вообще без всяких колес—на подушке из воздуха, поддуваемого под вагоны? Шаропоезд сегодня современнее других поездов, но пока дождешься его внедрения, он устареет морально. Шаропоезд не может опередить время.
Часто — увы — случается, что за время, пока реализуется изобретение, само изобретение успевает устареть. А поэтому большой изобретатель непременно должен быть похож на охотника, бьющего по движущимся целям. Он обязан прицеливаться с опережением. Только тогда можно угодить в цель. А если опережение недостаточно, то изобретение неизбежно встретит сопротивление. Между изобретателем и экспертом разгорится спор. Он не будет мелкой стычкой между новатором и консерватором. Это будет высокий спор о будущем.
Изобретатель считает изобретение жизненным, если оно не противоречит законам природы. Но изобретатели творят не под стеклянным колпаком, откуда выкачан воздух, а в обществе, в системе народного хозяйства. А в системе народного хозяйства действуют не только законы природы, но и экономические законы. Это властные законы, не считаться с ними нельзя. Вот о них-то и думает эксперт-хозяйственник, вступая с изобретателем в жаркий спор о грядущем.
3.16.
Люди живут в железобетонном мире, а о памятнике изобретателю железобетона не думает никто.
Был век каменный, был век бронзовый, был век железный, и находятся бетонщики-патриоты, которые нынешний век называют веком железобетона.
Железобетон — основа нашего строительства.
Вырос новый дом-небоскреб — железобетон.
Исполинский мост шагнул через реку — железобетон.
Богатырская крепость вросла в землю — опять железобетон.
Доки, туннели, плотины, дворцы — всюду, везде железобетон.
Небывалые каменные корабли выходят в море — железобетонные суда.
У любого материала в мире есть своя ахиллесова пята. Неподатлив камень сжатию, но у него есть уязвимое свойство — слаб на разрыв.
Прочно железо на разрыв, но у него есть слабая жилка. Под нажимом Железный стержень уступчив. Гнется стержень под нажимом.
Железобетон отлично работает и на сжатие и на разрыв. Каркас из гнутых стальных прутьев залит окаменелым бетоном. Несжимаемое каменное тело стягивает неразрывный железный скелет. Тут разгадка секрета прочности железобетона.
Кто же этот гений, создавший железобетон — несокрушимый союз железа и камня?
В ряду изобретателей железобетона значится французский садовод Монье.
Он выращивал в теплице пальмы и продавал их в кадках в Англию. Дела его шли неважно, так неважно, что, когда пришла пора отправлять товар, не хватило денег на кадки.
С тоской слонялся Монье по оранжерее, не зная, что тут придумать. И ничего умнее не пришло ему в голову, как слепить кадку из глины на манер цветочных горшков, кучей валявшихся в оранжерее. Глины под рукой не оказалось, но в сарае нашелся цемент.
Монье стал лепить кадку из цемента. Взял две деревянные бочки, одну побольше, другую поменьше, поставил одну в другую, а промежуток залил цементом. Когда цемент затвердел, Монье сбил обручи, разобрал доски. Обнажился гигантский цветочный горшок с цементными стенками, толщиной сантиметра в четыре.
Кадка вышла тяжелой и громоздкой, но все это было бы полбеды, если бы не сказалась здесь слабая жилка цемента — непрочность на разрыв. У пальмы могучие корни, и когда они разрослись, то уперлись в цементные стенки и разорвали кадку изнутри.
И опять ничего умнее не смог придумать незадачливый садовод, как надеть на кадку железные обручи, по обычному примеру бочаров. Но и обручи оказались слабы.
Пришлось пустить вдоль стенок продольные железные стержни. Поверх цемента оказалась железная клетка. От поливок она ржавела и портила внешний вид. Аккуратный Монье, чтобы замазать уродство, положил поверх клетки еще один цементный слой. Клетка утонула в бетоне. Получилась на редкость прочная кадка. Стал Монье делать стенки все тоньше и тоньше, но кадка выдерживала напор корней. Монье понял, что сделал изобретение, и взял патент.
Но изобретательство Монье не привлекало, пальмы были милей. Монье продал патент и дожил свой век, продолжая копаться в оранжерее.
А русские инженеры Н. Пятницкий и А. Барышников построили в городе Николаеве железобетонный маяк — первое крупное сооружение из железобетона.
И вот, спрашивается, кому ставить памятник? Садоводу, продавшему ненужный патент, или тем смелым инженерам, которые сумели разглядеть в цементной кадке облик будущих зданий маяков, плотин и пароходов?
Монье сделал великое изобретение, но великим изобретателем не был. Мир Монье был узок и не простирался дальше садовой кадки.
А великим изобретателем может слыть лишь тот, кто сквозь даль времен видит будущее своего изобретения и умеет показать его людям. Тот, кто видит за горами грядущего время, которое не видит никто.
3.17.
Изобретатели работают на сегодняшний день человеческого общества, а большие изобретатели — на его грядущий день. Очень часто в капиталистическом обществе изобретатели творили на ощупь, вслепую, потому что грядущий день был скрыт от них непроницаемой темнотой. Драгоценные идеи омертвлялись и гибли в бесплодных спорах о грядущем. Гениальные мыслители Маркс и Ленин пронзили мрак прожектором научного знания, высветили дали грядущего, и на горизонте засиял коммунизм. Изобретателю стало легче понять смысл и перспективу своего изобретения, ведь он мысленно примеряет свой камешек к уже строящемуся фундаменту коммунизма.
У любого советского изобретателя как бы дивный телевизор в кармане, сквозь окошко которого видно будущее. Телевизор выглядит в виде книжки. На обложке его напечатано «Программа Коммунистической партии Советского Союза». Она создана коллективным мозгом партии, рождена не одной мечтой, но и точным научным знанием. Миллионы советских людей участвовали в ее обсуждении, и страницы ее озарены миллионами прозрений. В ней картина грядущего человеческого общества, каким видят его сегодня миллионы глаз! В ней источник вдохновенья советских изобретателей.
Но об этом будет особый рассказ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ, где рассказывается об изобретениях, сделанных по счастливой случайности, и об изобретениях, сделанных на заказ; зов народа, зов родины вдохновляет изобретателей, и вот приходит оно — счастливое вдохновенье…
4.1.
Назовите имя величайшего изобретателя? — спросил один знаменитый писатель. И ответил: случай!
Кое-кто считает, что вообще все великие изобретения и открытия сделаны только по счастливой случайности, по счастливому вдохновенью. И приводят, как яркий пример, знаменитое ньютоново яблоко. Будто бы только благодаря яблоку Ньютон открыл свой закон всемирного тяготения. Великий ученый лежал на скамейке в саду. Рядом с яблони хлопнулось яблоко. Тут-то и сошло на Ньютона вдохновенье, он сообразил, что земля притягивает тела.
Историю этой случайности передал нам остроумный французский писатель Вольтер. Он ее услышал от племянницы Ньютона, госпожи де Кондуит — блестящей светской дамы.
Крылатая эта история облетела многие книги. Но если просмотреть сочинения самого Ньютона, все толстенные тома до последней страницы, все его письма, все бумаги, которых касалось его перо (их теперь хранят, как драгоценность), нигде, ни в одной бумаге не найти ни слова о яблоке.
Зато там найдется другое. Сам Ньютон пишет, что не он догадался первым, что существует всемирное тяготение. И не в этом его заслуга. Это еще до него заметили астрономы. Величайшая заслуга Ньютона состояла в том, что он первый догадался, по какому закону изменяется сила земного притяжения на огромных расстояниях от Земли. Яблоко, которое хлопнулось наземь с яблони высотой в сажень, конечно, никак не могло его надоумить. Могли тут помочь лишь упорные, неотступные наблюдения и размышления над движением небесных светил. Этим и занимался Ньютон почти всю свою жизнь.
Несколько раз он пытался брать задачу приступом, но каждый раз неудачно. Мешала неточность тогдашних астрономических измерений. И лишь когда были сделаны более точные измерения, закон был найден. Так говорят рукописи.
Ядовито проехался по «истории с яблоком» знаменитый немецкий ученый Гаусс:
«Не понимаю, как можно предполагать, что этот случай мог замедлить или ускорить такое открытие. Вероятно, дело было так: пристал к Ньютону глупый, нахальный человек с вопросом о том, каким образом он мог прийти к своему великому открытию. Ньютон, увидев, с кем имеет дело и желая отвязаться, ответил, что ему упало на нос яблоко. Это совершенно удовлетворило любознательность того господина».
4.2.
Если просмотреть, однако, книги и рукописи старинных ученых об открытиях и изобретениях, то во многих из них прочтешь такое начало: «Случай помог мне…» и дальше идет описание открытия и изобретения. Даже завидно делается, когда читаешь эти книги—везло людям!
Но чем больше приближаешься к нашим временам, тем все меньше и меньше встречаешь этих счастливых случайностей. Будто счастье, которое раньше улыбалось людям, понемногу начинает им изменять.
Получается странное противоречие. Счастье начинает изменять людям, а число открытий и изобретений не только не уменьшается, а, наоборот, с каждым днем все больше и больше возрастает. В чем тут дело?
Дело, разумеется, не в особом каком-то везении, существовавшем только в старину, а сейчас, мол, почти утраченном, а в особых существовавших тогда взглядах. Люди считали себя игрушками небесных сверхъестественных сил — божественного провидения. Думали, что божественное провидение подсовывает людям находки, посылая свыше счастливые случаи.
Потому и было так много разговоров о счастливых случайностях. Даже «ячеством» считалось начинать описание изобретения словами: «Я придумал, я изобрел…» Лучше уж начать скромнее: «Случай помог мне…»
4.3.
Над «счастливыми случайностями» смеялись историки и сатирики, математики и памфлетисты. Очень зло поиздевался над приверженцами «счастливых случайностей» известный французский математик Борель. Если действительно все изобретения и открытия приходят случайно, то и незачем работать академиям, тратить силы на научное творчество. Работай ты или не работай — все равно, успех зависит от случая. Может быть, лучше поймать десяток обезьян, привязать их за хвосты у пишущих машинок и пускай себе стучат по целым дням всеми четырьмя руками. Вдруг по счастливой случайности, счастливым совпадениям литер отпечатается на листе бумаги какая-нибудь гениальная мысль!
В сказочной стране Лапута, куда попал капитан Гулливер, как мы знаем, была почти такая же академия. Там, в просторной комнате, заседал почтенный профессор, окруженный сорока учениками. Он изобрел машину, производящую случайности. Даже круглый невежда мог бы делать с ее помощью важные открытия, изобретения, писать трактаты, романы, стихи. Для этого не требовалось ни знаний, ни таланта.
Профессор подвел Гулливера к раме, по бокам которой стояли рядом его ученики. Она занимала большую часть комнаты. По всей раме, от края до края, были натянуты проволоки с нанизанными на них кубиками величиной в игральную кость. На сторонах каждого кубика были написаны слова лапутского языка во всех падежах, наклонениях, временах, но без всякого порядка.
По команде профессора сорок студентов взялись за сорок рукояток по краям рамы, повернули их на один оборот — и расположение слов совершенно изменилось.
Профессор приказал 36 студентам прочесть про себя все слова, появившиеся в раме, и, когда из них составлялась осмысленная фраза, диктовать ее четырем остальным студентам. Эту операцию проделали раза четыре, — и всякий раз в раме получалось новое сочетание слов.
Студенты занимались этой работой по шести часов в день, и профессор показал Гулливеру несколько толстых томов, составленных из фраз, которые появлялись на деревяшках. Он намеревался рассортировать этот богатый материал, подобрать по предметам, чтоб обогатить мир полной библиотекой книг по всем отраслям знания.
Но работа, кажется, двигалась не очень успешно. И профессор жаловался Гулливеру, что работа пошла бы на лад, если бы имелись средства на сооружение пятисот таких машин и все заведующие машинами работали бы сообща.
Шутки шутками, а ученый-популяризатор Я. И. Перельман всерьез решил подсчитать, какой величины должна получиться библиотека, отпечатанная в типографии, в которой хозяйничает Случай. Это будет очень большая библиотека. Здесь будет собрано как будто бы все, что только может выдумать человеческая голова. По крайней мере, все, что может быть выражено словами.
Рассуждал он так: даже самый сложный вопрос можно осветить в книге объемом в пятьсот страниц печатного текста — в толстом томе в миллион печатных знаков.
Что такое печатный текст? Это сочетание из тридцати двух различных значков — букв алфавита. Пожалуй, больше, чем из тридцати двух. Прибавим к ним знаки препинания, математические значки. Наберется от силы сотня различных знаков. Из них и составлены все наши книги, любая наша мысль, изложенная на бумаге.
Если повторить наши сто значков как попало миллион раз, так, чтобы составился том в миллион букв, получим какую-то книгу. Ее можно доверить набирать даже дрессированной обезьяне: нам не важно, как станут значки.
Станут значки как попало, и получится несусветная тарабарщина и неразбериха. Но и толковая книга — это тоже одно из возможных сочетаний тех же ста значков.
И если взять все возможные сочетания, какие только могут случиться из ста различных значков, повторенных миллион раз, то получится огромная библиотека. В ней среди тьмы тарабарщины и неразберихи окажутся и все толковые книги, которые только возможны, — все сочинения, которые были написаны в прошлом и могут появиться в будущем.
Тут будет все: сочинения классиков, собрания медицинских рецептов, комплекты всех газет за прошлые и будущие времена, еще неизвестные гениальные стихи, курсы всех наук во всех изложениях, даже в стихах, математические таблицы, телефонные книги, шахматные партии, описание всех изобретений и прочее, и прочее, и прочее.
Будут и такие книги: листаешь страницы — вроде все в порядке, глубокомысленный научный труд, а на пятой странице — «У попа была собака». Или просто «у, у, у, у…» на пятистах страницах.
Будет и такая замаскированная чепуха, что не сразу и поймешь, что это чепуха. И пришлось бы сочинять специальную толстую книгу, чтобы разоблачить это. Впрочем, и эта книга найдется в библиотеке.
Большая, вероятно, получится библиотека! Ученый называет цифру:
102 000 000 томов.
Так сокращенно записывают число с двумя миллионами нулей. К сожалению, приходится писать его сокращенно. Нужно тысячу страниц, чтобы записать его полностью. Тысячу страниц одних нулей. Это число всех возможных сочетаний из ста различных знаков, повторенных миллион раз.
Много времени надо, чтобы обежать эту библиотеку. Свет распространяется со скоростью 300 ООО километров в секунду. И если найдется шальной библиотекарь, который, забравшись в фотонную ракету, рванет вдоль полок со скоростью света, то лететь ему лет — число с 1 999 982 нулями, пока долетит до последней книги.
Немыслимо представить себе эту межзвездную библиотеку. И все-таки она будет неполной. Я. И. Перельман преувеличил ее энциклопедичность. В ней не будет всего того, что может выдумать человеческая голова.
Ученый считал, что всякий вопрос можно изложить на пятистах страницах. Но иной вопрос и в пятьсот страниц не уложишь. Подсчитано, что нужно десять тысяч страниц, чтобы описать свойства всех возможных сплавов, полученных из трех составных частей. А для более сложных проблем и десяти тысяч страниц мало. Значит, наша библиотека еще и еще неизмеримо вырастет.
Нет ни конца ни края полке с книгами, которые может написать человек. Нет границ человеческому познанию!
Я для того пересказал эту историю, чтобы показать, какая редкая штука счастливый случай. Он так же редок и так же теряется в бездне никчемных случайностей, как толковый том рожденной случаем межзвездной библиотеки. И тот, кто всерьез полагается на счастливый случай, тот похож на слепого, который тянет руку к ее бескрайним полкам и надеется вытащить то, что нужно.
4.4.
Но, однако, ни расчеты математиков, ни свидетельства историков, ни даже смех, который все убивает, не способны развеять легенду об изобретательском счастье.
Все-таки есть оно, изобретательское счастье, и никак его скинуть со счета нельзя.
Вот к примеру рассказ о подбитом глазе.
Тридцать с чем-то лет назад летчики ездили большей частью в поездах, а свои самолеты возили с собой в багаже. На аэродромы в те времена ходили не так, как ходят на вокзал, а так, как ходят в цирк. Самолеты далеко не летали, они делали над аэродромом круг и сейчас же садились под аплодисменты публики. Полеты считались удивительным делом, и почтенная публика нарасхват раскупала билеты, чтобы поглазеть на летчика-акробата.
Гастроли знаменитого русского авиатора Уточкина имели колоссальный успех. Авиатор торжественно вылезал из машины, принимал цветы, раскланивался с дамами. Авиатор жал руки господам с усами и в брелоках и, конечно, внимания не обращал на немого от восторга реалиста, затерявшегося в толпе.
Фамилия ученика реального училища была Микулин. Он не ел завтраков и копил гривенники на билет, чтобы не пропустить ни одного полета. Он во сне видел Уточкина… Вырезал его портреты. Он следил за Уточкиным большими, преданными глазами. И если бы Уточкин сказал ему: «Микулин! Пойди за меня в огонь». Он пошел бы.
Однажды на аэродроме едва не случилось несчастье. В полете мотор отказал, и машина резко пошла вниз. У Микулина сжалось сердце. Публика ахнула.
— Магнето сдало! — бросил механик на бегу.
Но летчик выравнял машину и счастливо сел на землю.
Публика, волнуясь, расходилась по домам.
Меньше всех расстроился Уточкин. Проклятое магнето постоянно сдавало, и отказы мотора были обычным делом.
Но Микулин был потрясен. Он был бледен, сердце его колотилось. Он шагал, не чувствуя ног, не видя ничего кругом. Мечта о крылатом герое подхватывала его, качала, уносила прочь в высоту. Вот они летят на необычной машине: Уточкин и Микулин-реалист…
Реалист Микулин изобрел чудесное магнето, которое не сдает. Он подносит его Уточкину при огромном стечении народа, и герой при всех трясет его руку, как тем господам в брелоках…
За поворотом раздался рев. Микулин отпрянул в сторону. Огромный верзила шатнулся из-за угла. Один глаз его был подбит и заплыл синяком, другой смотрел свирепо и весело.
И тогда Микулин побежал назад. Он бежал не от страха. Внезапная мысль, пронзившая мозг, гнала его со всех ног.
Вот она, площадь, извозчики, подъезд, освещенный огнями, гостиница «Англетер».
— Где живет Уточкин? — спросил он швейцара.
Вверх по лестнице! Коридор. Номер.
Он приоткрыл дверь и задохнулся. Великий человек стоял от него в двух шагах.
— У людей по два глаза, — пролепетал реалист, — подбейте левый, правый будет смотреть…
Реалист был как сумасшедший.
— Я никому не собираюсь подбивать глаза, — строго сказал Уточкин.
— Не то… — закричал реалист. — Не то я хотел сказать! На вашей машине одно магнето… Поставьте два! Одно сдаст — другое будет работать.
Авиатор взял мальчугана за плечи и взглянул ему в глаза.
— Прекрасная мысль! — сказал он.
И он поставил на машину два магнето.
Полеты пошли успешнее. Уточкин ездил по городам и не забывал реалиста: после каждого полета высылал ему по почте премию — немалые деньги, десять рублей. Это была первая премия за первое изобретение в авиации академика Микулина — Героя Социалистического Труда.
Так, казалось бы, случайная встреча — лицо с синяком под глазом — дала идею изобретения.[6]
4.5.
В старой книге Смайлса «Самодеятельность» я вычитал еще одну такую историю.
Инженер-мостовик Броун корпел у себя на веранде над проектом моста через реку Твид. Бумага перед ним была чиста, работа не клеилась, мост не получался. Отчаявшись, Броун оставил чертежную доску и пошел освежиться в сад.
Был конец лета. Цепкие, серебряные на солнце нити путались в кустах, плыли по ветру, и Броун снимал их с губ и ресниц. Стояло «бабье лето», и много паутины появилось в саду. Броун прилег под кустом, но сейчас же вскочил, моргая глазами. Он увидел в небе подсказку.
Он увидел в небе чертеж, ясно вычерченный серебряными линиями по голубому. Броун невольно прочел его так, как инженеры читают чертежи: маленький мост сиял в ветвях, удивительно легкий, простой и смелый. То был мост, а не просто паутина в ветвях. Ветер раскачивал ветви, но паутина не рвалась. И чем пристальней вглядывался Броун в эту паутину, тем все больше удлинялись и утолщались упругие нити, тяжелея у него на глазах. И уже не хрупкие ветви растягивали паутину, словно пряжу в распяленных руках, — серые скалы держали железный мост, ржавые цепи колыхались над ущельем.
Теперь Броун знал, с чего ему начинать, к чему стремиться. Он опять засел за чертежи и расчеты и вскоре сделал изобретение: он стал строить висячие мосты без дорогих и сложных устоев, подпирающих мост снизу.
Опять счастье, опять везенье! Паутинка на кусте — и вот блестящее изобретение! Почему не посчастливилось мне или вам? Сколько раз цеплялись мы за паутину! А Броун заметил. Углядел в незаметной подсказке большую техническую идею.
4.6.
Новичков подлавливают на вопросе: как заметить слабую звезду на ночном небосводе? Это, кажется, такой простой вопрос, словно бы и нет вопроса. Гляди во все глаза и найдешь ее! Но бывалые искатели звезд дают более сложные рекомендации. Существует даже такой совет: «Если хочешь заметить слабую звездочку, не смотри на нее!» И его оставил не какой-нибудь колдун-звездочет, наводящий тень на ясный день, а великий французский ученый Араго. Совет странный, но верный. Если хочешь заметить еле видную звездочку на ночном небосводе, то, действительно, никогда не гляди в упор, а старайся уловить ее искоса, как бы краем глаза. Тогда найдешь.
Физиологи, изучившие строение глаза, подведут под эту рекомендацию железобетонный научный фундамент. Они скажут, что иначе и быть не может, и порукой тому особенности строения сетчатки глаза — лилипутской мозаики из светочувствительных клеток. Два типа клеток составляют мозаику — колбочки и палочки. Колбочки работают днем, а с приходом сумерек выключаются, и тогда всю власть забирают палочки — инструмент ночного зрения. Палочки в мозаике разбросаны неравномерно — реже к центру поля зрения, гуще к краям. В сумерки, когда власть переходит к палочкам, наиболее зоркими становятся края сетчатки, где чувствительные к свету клетки разбросаны гуще. Вот почему в сумерках еле видная звездочка лучше ловится именно краем глаза!
Да, не так легко дать простой ответ на вопрос из области, где действуют законы физиологии, но еще труднее отвечать на вопросы психологии — науки, изучающей психику человека.
Вот опять тот же самый неотвязный вопрос: где же все-таки чаще всего приходят идеи? И ответ как будто простой: конечно, за рабочим столом, конечно, за листом чертежной бумаги, затянутой серой паутинкой карандашных линий, из которой постепенно проступают черты невиданной, небывалой еще машины. Считают, что изобретения делаются так. День сидит изобретатель, согнувшись за рабочим столом, два сидит, три сидит, десять дней сидит, год сидит, наконец-то рождается изобретение как итог неотступного, прямого, логичного думания. Словно изобретатель — это курица, высиживающая золотое яичко.
Но как, однако, много в истории техники примеров, противоречащих этому, свидетельств, что самые счастливые идеи приходили к изобретателю как раз не за рабочим столом, а в самой неподходящей обстановке, в саду, в кафе, в поезде, в бане, озаряли его в тот момент, когда он и думать забывал о своей изобретательской задаче. И при этом не маячило перед его глазами ничего подобного броуновской паутине, действительно напоминающей мост. Великий физик и изобретатель Герман Гельмгольц подтверждает: «Счастливые проблески мысли нередко вторгаются в голову так тихо, что не сразу заметишь их значение… Насколько могу судить по личному опыту, они никогда не рождаются в усталом мозгу и за письменным столом. Часто они являлись утром при пробуждении. Особенно охотно приходили они в часы неторопливого подъема по лесистым горам в солнечный день».
Но сильнее доказывает это не пространная цепь исторических анекдотов, а бессмертие старой притчи об Архимеде. Говорят, что знаменитый закон пришел Архимеду в голову, когда он сидел в ванне, и с такою оглушительной неожиданностью, что старик, как был голый, выскочил на улицу с возгласом: «Эврика!» — «Нашел!».
Притче больше тысячи лет, и за столь протяженный период человечество имело все возможности миллионы раз посмеяться над этой историей и миллионы раз ее позабыть, но, как видно, находилось что-то, что еще и еще раз подновляло ее в народном воображении, воскрешало вновь. Видимо, не раз еще в беззвучном восторге рождался архимедов возглас в душе многих изобретателей, осеняемых счастливой идеей. Видимо, не раз еще новая идея, укрывавшаяся от прямого взора, словно звездочка вдали, открывалась внезапно боковому умственному зрению, появлялась в мозгу изобретателя в тот момент, когда мысли его, казалось бы, блуждали в стороне. Но можно ли сказать об изобретении, как о дальней звезде: «Если хочешь увидеть звезду, не гляди на нее». «Если хочешь сделать изобретение, не думай о нем»? Не думай о нем. Живи. Жди вдохновенья. И вдохновенье снизойдет на тебя… Снизойдет ли?
4.7.
Психолог Я. А. Пономарев попытался опытным путем подобраться к особенностям работы ума при решении творческой задачи. Он решился построить простейшую грубую модель изобретения и открытия и на опытах с этой моделью подсмотреть психологические механизмы изобретательства. Результаты экспериментов он изложил в своей книжке «Психология творческого мышления». На обложке ее — веселая головоломка, но заметим сразу же, что это специальная сугубо научная книжка, написанная строгим профессиональным языком. Повторим оговорку автора, что мышление и творчество не исчерпываются наблюдениями и закономерностями, описанными в книжке. Но читатель — уверен! — полистает ее с интересом и пользой. Я не буду пытаться ее перелагать, а коснусь лишь нескольких любопытных страничек.
Пономарев пропустил через свои опыты десятки и сотни человек и каждому из них, в строжайших условиях лаборатории, предложил решить одну и ту же творческую задачу. Не следует думать, что Пономарев усадил их всех за парты и каждому дал задание изобрести паровоз. Нет, была поставлена гораздо более простенькая задачка, но задачка на чистую смекалку — головоломка под названием: «Четыре точки».
Условие головоломки таково: даны четыре точки
требуется провести через них три прямые линии, не отрывая карандаш от бумаги, так, чтобы карандаш вернулся в исходную точку.
На решение давалось десять минут. Казалось бы, для последовательного логического ума анализ этой задачки представляет плевое дело.
— Ну-с, так, — железно рассуждает последовательно-логический ум, — четыре точки можно рассмотреть как вершины воображаемого квадрата… Чтобы вернуться карандашом в исходную точку, надлежит описать замкнутую фигуру… Замкнутая фигура из трех прямых — обязательно треугольник… Решение заключается, стало быть, в том, чтобы описать около квадрата треугольник… Хм!.. Например, вот так, пожалуйста:
Но самое забавное заключается в том, что, как пишет Пономарев, для более чем 600 испытуемых задачка оказалась довольно твердым орешком. Протоколы испытаний Пономарева хранят следы бесплодных потуг ищущей мысли:
А решение лежало под носом. Надо было только вырваться за пределы участка, отгороженного точками. Но такая простая штука никому не приходила в голову — все шестьсот человек танцевали внутри участка, как заколдованные.
Десятки и сотни людей сменяли друг друга, но решение не приходило за рабочим столом.
Пономарев стал готовить испытуемых заранее, предлагая им другие дела. Но старался поставить дело таким образом, чтобы в ходе его возникла откровенно прозрачная подсказка.
Испытуемому объяснили игру в хальму, а затем по правилам игры он был должен перескочить на шахматной доске одним ходом белой фишки через три черных так, чтоб белая фишка возвратилась на свое место:
Предлагался и шахматный этюд.
Испытуемый играет черными. Он обязан тремя ответными ходами съесть три белые пешки. Первыми ходят, конечно, белые — экспериментаторы.
Игра развертывается так:
1. с7 — с8Ф Фа8: с8
2. а5 — а6 Фс8: а6
3. а7 — а8Ф Фа6: а8
Только после этих подсказок на шахматную доску накладывалась калька с четырьмя злополучными точками, расположенными в центре четырех полей доски. Испытуемому торжественно давали в руку карандаш и просили решить головоломку «четыре точки».
Казалось бы, решение должно прийти немедленно. Ведь недавно та же самая рука двигалась по верному маршруту. И вот что странно: подсказка не помогала. Когда в хальму и шахматы играли перед головоломкой, решение не приходило.
Тогда Пономарев переменил порядок игры. Предлагал вначале поломать напрасно голову над четырьмя своими точками, а затем засаживал за шахматы и за хальму. Подсказка помогала. Половина испытуемых почти мгновенно сладила с неподдающимися точками, успешно решила головоломку.
И если бы в некоем царстве, в некоем государстве, по примеру «Истории замечательных изобретений», создавалась бы «История замечательных головоломок» и в ней тоже, как водится, содержались бы и притчи и анекдоты, то одна из притч прозвучала бы примерно так:
«Не могу не поделиться с потомками тем, — сообщает в своих мемуарах Великий Головолом, — как мне удалось разрешить знаменитую проблему четырех точек.
Много дней я трудился над ней за рабочим столом, не разгибая спины, и извел рулон папируса. Как-то раз, совсем уже отказавшись от непосильной задачи, я зашел в кофейню поиграть с приятелем в шахматы. Партия складывалась неудачно. Безуспешно пытался я провести свои пешки в ферзя.
И тут нашло наитие. Как сверкнуло что-то… Я увидел головоломку решенной. Треугольник из прямых линий соединял четыре точки. С криком «эврика» я выбежал из кофейни».
Счастливец бежал по улице, крича «эврика», полагая, что в кофейне на него нахлынуло вдохновенье. А ведь это клетчатая доска прошептала ему подсказку, но он даже не заметил, кто шептал.
4.8.
Подумаешь, пожалуй, что изобретения делаются так: изобретатель взглянул, увидел и изобрел.
И в самом деле, некоторые ученые пишут: первые изобретения люди сделали, созерцая происходящее вокруг.
Скажем, лежал человек на берегу реки, увидел — плывет древесный ствол. Дай, думает, прицеплюсь к стволу, поплыву вместе с ним. А тут удача — подвернулся ствол с дуплом. Пловец залег в дупло, плывет по воде сухим. А потом и сам стал долбить стволы, выжигать дупла; надоело мокнуть в воде. Так, говорят, была изобретена лодка.
Или вот порох. Теперь порохов тысячи. Но как был найден самый первый порох?
Ученые опять говорят: путем наблюдения.
Но где отыщешь порох? Пороха не лежат под землей в залежах, как железо и каменный уголь.
Полагают, дело было так. Где-то в Индии или в Китае имеется земля, очень богатая селитрой. Люди разводили на этой земле костры. Дожди вымывали из земли селитру на поверхность. Селитра смешивалась с золой и углем пепелищ. Смесь высыхала на солнце — получался взрывчатый состав, порох. Возможно, пишет ученый, люди вначале и не подозревали о военном применении пороха, а использовали эту смесь только для развлечения.
Не правда ли, занятно?
А вот еще занятнее!
В серьезном, даже академическом журнале недавно была высказана такая история изобретения мыла. В дни праздников, рассуждает историк, древние люди умащивали свои волосы благовонными маслами, а в дни скорби посыпали главу пеплом. Так как в те беспокойные времена ситуации «за здравие» довольно часто чередовались с ситуациями «за упокой», а люди не имели привычки мыться, то в первобытных шевелюрах оседали и соединялись жир и щелок — эти две необходимые составные части мыла. Прическа какой-нибудь тогдашней модницы, если верить солидному автору, представляла собой небольшой мыловаренный завод — только не зевай, соскребай мыло и фасуй в нарядные пакетики!
Тут уж, как говорится, хоть стой, хоть падай!
Но забавнее всего одна из историй изобретения способа добывания огня трением. И его, утверждает кое-кто, человек открыл, созерцая.
Человек, писал один ученый, наблюдал во время бурного ветра, что ветви деревьев так сильно терлись друг о друга, что загорались от трения. Это, мол, и надоумило человека самому потереть друг о друга кусочки дерева, чтобы получить огонь.
Мы нарочно не даем здесь имени и портрета того ученого, кто придумал эту историю. Его облик ясен без портрета. Это кабинетный ученый, не видящий дальше своего носа.
Замечали ли вы когда-нибудь, даже в самую сильную бурю, чтобы ветки на деревьях загорались? Конечно, нет. И никто не замечал. Было бы, однако, неправильным считать, что подобные анекдоты из истории техники родились по простодушию или недомыслию авторов. В них отразились пережитки аристократических взглядов на человеческий труд, сложившихся в рабовладельческую эпоху.
Еще древний ученый Плиний уверял, что изобретатель пилы нашел свой инструмент в готовом виде, прогуливаясь по пляжу на морском берегу. Там валялась большая зубастая рыбья челюсть. Плиний никак не мог допустить, что такая выдающаяся личность, как изобретатель пилы, когда-нибудь трудился. В его время физический труд считался позорным уделом рабов, а приличным занятием людей свободных считалось размышление и созерцание, и, конечно, к большим изобретениям, по Плинию, свободные люди должны были приходить умозрительным путем, не замарав руки. С отголосками таких взглядов надо считаться, когда читаешь историю изобретений.
Это ошибочные взгляды. Наблюдательность только тогда помогает делать изобретения, когда она не праздна и не бесстрастна.[7]
Люди действительно многое заимствовали, многому учились у природы, только делали это, наверное, по-иному.
Представьте, работает в древней пещере первобытный оружейник-каменотес. Он вытесывает себе из кремня каменный топор.
Тяжелый труд. Оружейник старается изо всех сил. И с таким азартом бьет камнем по камню, что искры летят кругом.
Искры!
Попадает искра в подстилку, сухую траву — дымок, огонь. Вот вам— первобытное огниво.
Или так. Сидит первобытный мастер, сверлит что-нибудь деревянное. В руках у него сверло, вроде лука со стрелкой. Стрелка захлестнута тетивой. Мастер водит луком взад и вперед, как скрипач смычком. Стрелка-сверло вертится. Пробует мастер пальцем сверло — горячо! — разогрелось от трения. Нажимает мастер — всей силой налегает на сверло. Вырастает гора опилок. Так раскалилось сверло — прикоснуться больно.
Вдруг — пых! — задымили опилки, затеплился огонек.
Вот вам прибор для добывания огня трением. Он до самых недавних дней оставался таким у отсталых народов. По виду не отличишь от сверла.
Представьте теперь осаду древнего города. Город окружен высочайшей каменной стеной: не город — крепость.
Обложил неприятель город круговой осадой — подает сигнал к штурму.
Грозно покачиваясь, движутся к городу осадные башни. Похоже, снялись со своих мест и бредут к городским стенам величественные водокачки.
Башни подступают к башням городской стены. Внутри башен — лестницы. По ним вбегают наверх неприятельские воины. И пока развертывается бой на высоте крепостной стены, толпы врагов бросаются к ее подножию.
Но и горожане не зевают. Сбрасывают вниз на вражьи головы все, что только может устрашить и отвратить врага.
Летят, кувыркаясь, бревна, утыканные гвоздями, словно иглами ежа. Сползает, зловеще шурша, раскаленный жгучий песок. Огненными струями растекается горящая смола.
Но удваивает натиск враг. Дикий вой стоит у подножия.
Тут уж не разбирают, валят все, что идет под руки.
Тащат к стене какую-то падаль.
Кидай!
Улья, осиные гнезда, горшки с ядовитыми змеями.
Кидай!
Крокодил из зверинца.
Кидай!
— Огня! — кричат со стены. — Больше огня!
Открывается адская кухня.
Горожане лихорадочно готовят горючие смеси.
Нефть, асфальт, смола, уголь — все идет в ход, — все горючее, все зловонное, все едкое. Одна мысль стучит в головах: как бы позлее составить варево, как бы покрепче донять врагов.
Вот тут, из этих горючих смесей, в головах, раскаленных ненавистью, в упоительном азарте боя, тут и родилось, нам кажется, величайшее военное изобретение — порох!
Изобретений не делали глазеющие лежебоки. Изобретения делали те, кто сходился с природой в рукопашную.
Изобретения родятся в труде, в борьбе, в бою. Настоящий изобретатель— это борец и труженик.
4.9.
Семюэль Броун был тоже охвачен азартом боя, когда он вышел в сад. Одна страсть жгла его сердце — выстроить мост! А когда большая страсть зажигает человека, человек как бы прозревает. Каждый пустяк озарен и на виду, в каждом закоулке светло, будто бы огонь, полыхающий в груди, освещает их ярче солнечного света. Краем глаза замечаются самые тайные подсказки, ум стремительно делает заключения, и человек, сам не зная как, приходит к необыкновенным решениям.
Снег подолгу накапливается в горах, но быстра его лавина. Трудно даже представить себе, сколь стремительно вспыхивают в мозгу творческие озарения.
Поэт Луи Арагон показывал в дружеском кругу кинофильм о том, как работал знаменитый французский художник Матисс. То была наспех снятая, почти любительская лента, но конец ее забыть невозможно.
После многих проб и эскизов художник писал окончательный вариант картины. Он работал вдохновенно и самоуверенно, молниеносными бросками кисти, и штрихи ложились на холст беспрекословно, будто росчерки дирижерской палочки.
Но вот магией кино притормозилось время, и сквозь «лупу времени» мы увидели повторенные снова, и уже в замедленном темпе, все подробности стремительного рождения штриха. Перед нами улиткой поползла та же самая кисть, но в каком-то нерешительном, беспокойном движении. Она тихо влекла за собой штрих, сомневаясь и робея, замирая в раздумье, возвращаясь в тревоге на пройденные места. С комком, застывшим в горле, мы следили за этим трогательным движением кисти, осторожным и трепетным, как движение руки слепого, узнающей дорогое лицо. Мы увидели разницу между взмахом руки мастера и взмахом руки простака. Перед нами, словно в поле зрения микроскопа, раскрывался механизм вдохновенья. Все, оказывается, живет во взмахе творческой кисти — поиск, сомнения, выбор, тревоги, колебания — все! Так и гром, и блеск, и росчерк молнии стеснены в одно слепящее мгновение!
Так же двигалось перо изобретательской фантазии Броуна, рисуя в воображении его удивительный мост.
Броун был болельщик мостов. А когда человек болеет за любимое дело, то глядит вокруг по-особенному.
Вот сидит семейство за чаем и не догадывается, почему внучонок на стуле ерзает, почему он зыркает по сторонам, почему он ест глазами деда, словно проглотить его хочет. А внучонок прекрасно болен, он болеет шахматной горячкой, он болельщик шахмат, распропащий шахматист. Для него фигуры вокруг стола — это шахматные фигуры. Дед — король, бабка — ферзь, дядя — слон, тетя — ладья. Ванька с Манькой — мелочь, пешки. Попытаюсь, думает, сходить потихоньку тетей… Да ведь бабка сообразит, заслонит деда. А я ее дядей, дядей, слоном, то бишь. Ох, и плохи ваши дела, товарищи! Шах — дедушке! Никак, мат!
Когда Броун вышел в сад, перед ним раскинулся целый сонм мостов.
Шест лежит поперек канавки — мост.
Муравей ползет по соломенной травинке. Травинка — мост. По мосту движение.
Садовая скамейка на столбиках — настоящий мост. Великан сидит на нем, свесив ноги.
Деревья сплетают ветви над дорожкой — зеленый мост.
Девочки несут ребенка на скрещенных руках—живой ходячий мост…
Ворота раскрывают свои створки — тоже мост мерещится, да еще разводной!
Крышка на колодце — он, проклятый! — подъемный мост.
Немудрено, что и в паутине он поймал небывалый, не виданный никем висячий мост.
Вот он, счастливый случай, изобретательское счастье. Но в том ли счастье, что попалась на краешек глаза какая-нибудь случайная подсказка, или в том, что маячит и манит и ведет за собой изобретателя заветная цель, раскрывающая ему глаза и отворяющая уши?
4.10.
Некоторые изобретатели сами не прочь напустить туман вокруг своей работы. Они не прочь представить изобретение как чудесное откровение свыше. Такие изобретатели очень обижаются, когда им говорят про изобретения на заказ.
— По команде не изобретают, — горячатся некоторые. — Изобретения — плод высокого вдохновения. Это вам не валенки валять.
Настоящие же изобретатели почти всегда работают на заказ.
Первая французская буржуазная революция создала огромную нужду в бумаге. Современники писали:
«Каждый час появляется новая брошюра. Сегодня их вышло тринадцать, вчера шестнадцать, а на прошлой неделе — девяносто две! Девятнадцать из двадцати говорят в пользу свободы».
В одном только Париже было основано около трехсот газет. Их читали взахлеб. На покупку революционной литературы тратили последние гроши. Булочники жаловались, что страсть к чтению подрывает их дела. Вместо хлеба люди пожирали газету.
В обращении к народу Конвент писал:
«Чтобы победить королей, собирающихся против нас, бумага так же необходима, как железо. С нашими сочинениями так же, как и с нашей армией, мы принесем ужас в их развращенные души. Наши сочинения разожгут огонь свободы и жажду восстания…»
Производство требует рабочих рук.
«…Необходимо, чтобы молодые граждане посвятили себя полезной профессии бумажников».
Несмотря на значение бумаги для успеха революции, несмотря на то, что рабочие были закреплены на бумажных фабриках, бумаги не хватало. Бумагу делали вручную искусники-мастера. Надо было убить годы труда, чтобы освоить это ремесло. Фабрики не могли удовлетворить спроса.
Чтобы дать бумагу для революции, нужна была революция в способах производства бумаги.
Эту революцию произвел француз Николай Луи Робер. Он был из тех, кто по призыву Конвента переменил свою специальность. Робер был корректором, а стал бумажником. Он изобрел бумагоделательную машину.
С виду машина походила на гигантскую банную шайку. Бросался в глаза большой деревянный чан с бумажной массой. Внутри вертелся барабан с лопатками, похожий на широкое водоподъемное колесо. Лопатки зачерпывали массу и подавали ее вверх на сетку. Сетка походила на широкий бесконечный ремень и шла по валикам, как конвейерная лента. Сетка медленно двигалась мимо неподвижной дощечки, и дощечка размазывала массу по сетке тонким слоем, словно масло ножом по бутерброду.
Сетка была длинная, а слой тонкий, и пока сетка двигалась, вода успевала стечь и масса подсохнуть. У последнего валика с сетки сходил сырой бумажный лист.
Позже стали подогревать валики изнутри, загружая их раскаленным углем, как лежачие самоварные трубы. Сушка пошла быстрее, движение ленты ускорилось.
Два великих новшества воплощались в этой машине.
Машина делала бумагу сама, без участия искусных рук человека.
Машина перерабатывала сырье непрерывно, без остановок, а значит без промедлений. Сырье входило с одного конца, а с другого конца, с невиданной дотоле быстротой, выползал широкий, как простыня, нескончаемый бумажный лист.
Так Николай Луи Робер выполнил заказ революции.
А если б не было Николая Луи Робера?
Революция не пострадала бы. Явился бы другой какой-нибудь Робер и придумал бы машину не хуже. Если бумага нужна народу, как хлеб, будьте уверены — народ сумеет добыть бумагу.
— Больше бумаги! — звучит наказ народа. И тысячи голов начинают работать на заказ. Тысячи рук начинают искать, подгонять, прилаживать. В тысячах ушей звучит заказ народа. Как маяк, разгорается великая цель, начинающая манить изобретателей.
И является вскоре счастливая голова, ясный глаз, искусные руки.
— Вот вам, глядите, изобрел! Вот она, машина!
Впрочем, не часто бывало в истории прошлых социальных формаций, чтобы заказ народа прозвучал так явно.
Негласные, неписаные заказы нашептывает изобретателю сама жизнь. И они настойчивее и неотклонимее, чем любой призыв Конвента.
Появление множества новых станков на капиталистических фабриках дало негласный заказ на двигатели. И в ответ на заказ изобрели паровую машину.
Появление паровых машин, сосредоточение заводов в промышленных городах дало негласный заказ на машины для подвоза сырья и топлива. И в ответ на заказ появились паровозы и пароходы.
Появление двигателей и транспортных машин выставило новый негласный заказ на станки для обработки металла. И в ответ на заказ появилось новое множество металлообрабатывающих станков.
Разгорается маяк социального заказа, и в ответ ему сверкают вспышки случайных изобретательских озарений.
И если так взглянуть на историю изобретений, то выходит, что всякое большое изобретение было сделано на заказ.
4.11.
В начале 1962 года в «Правде» напечатана моя статья «Размышления над годовым кольцом». Она имеет прямое отношение к теме наших рассуждений. А поэтому я подмонтировал ее в заключение цепочки размышлений об изобретениях случайных и изобретениях на заказ.
Вот она:
«Год минувший оставляет кольцо не только в срезе дерева, но и в плане разрастающихся городов. Как растительные клетки, множатся на окраинах прямоугольники домов, кварталов и районов. Чем щедрее год, тем кольцо мощнее. Ежегодно с гордостью ощущаем мы эти кольца роста, этот прирост всего лучшего, что развивается в нашей стране: на могучем стволе промышленности, на культуре, на сельском хозяйстве, на ветвистом древе науки.
Рост советской науки — ее годовое кольцо — ежегодно отражается зеркалом газетных страниц в виде списка работ по науке и технике, представленных на соискание Ленинских премий. Он наводит на многие размышления.
Еще полстолетия тому назад ежегодный список отечественных открытий был похож на перечень нежданных находок, на календарь случайностей, где оттиснулись следы падения пресловутых «ньютоновых яблок». То были плоды стихийного развития общества, возникавшие под воздействием обстоятельств, не зависимых от воли людей.
А теперь? А теперь и не очень близкий к науке человек, не видя списка лучших научных работ и изобретений года, может предсказать его содержание, стать пророком и провидцем.
Давайте попробуем! Развернем газетный лист, где перечислены научные работы, представленные на Ленинскую премию, й раскроем популярную книгу, озаглавленную «Программа Коммунистической партии Советского Союза». Не заглядывая в список работ, раскроем одну из страниц Программы, где записаны задачи по созданию материально-технической базы коммунизма. Вот страница 69 — проблемы электрификации, являющейся стержнем строительства экономики коммунистического общества. Волей партии здесь провозглашено, что будет создана единая энергетическая система СССР, располагающая достаточными резервами мощностей, позволяющая перебрасывать электроэнергию из восточных районов в Европейскую часть страны и связанная с энергосистемами других социалистических стран. Можете уверенно предсказывать теперь, что в списке наиболее ценных научных достижений года будут открытия и изобретения, ускоряющие решение поставленной партией проблемы. Вы не ошиблись, глядите, их множество: линии сверхдальних электропередач и гиганты энергетического машиностроения.
Вот страница 71—проблемы строительства. Партия ставит задачу максимального сокращения сроков, снижения стоимости и улучшения качества строительства путем его последовательной индустриализации. Можно безошибочно предсказать, что открытия и изобретения в этой области непременно имеются в опубликованном списке. Предсказание, конечно, сбывается. Перед нами интереснейшие новые методы строительства, по сравнению с которыми старые приемы представляются столь же мудреными, как мотоциклетные гонки на вертикальной стене. Даже странным кажется, что в вековой истории строительного дела все технологические процессы возведения здания производились в труднейшем отвесном положении. А теперь строительное дело ставится с головы на ноги: крупные элементы здания производятся на земле, в естественной заводской обстановке, и могучие краны пилотируют их по вертикали в высоту лишь для окончательной сборки.
Когда держишь в руках Программу партии, не трудно быть провидцем и пророком! Мы проглядываем список лучших изобретений и открытий, ищем чудеса науки и техники и внезапно замечаем, что сам список является небывалым чудом. Он свидетельствует о том, что впервые в истории человеческого общества на основе философии диалектического материализма, координации и планирования научных работ достигнута такая организация научного творчества, при которой важнейшие научные открытия неизбежно рождаются на заранее предначертанных партией главных программных направлениях строительства коммунизма. Впервые социальный заказ реализуется в столь прямой и явной форме!
Скоростные суда на подводных крыльях и гигантские доменные печи; методы селекции гибридов кукурузы и открытие новых месторождений нефти; изобретение новых методов автоматической сварки и исследования в области аэродинамики сверхвысоких скоростей; экскаватор и счетная электронная машина как две стороны процесса механизации тяжелых и трудоемких работ — вот лишь несколько позиций разнообразного списка.
Человек, пробегающий взыскательным взором список, заподозрит, что, пожалуй, он шире действительных достижений, что в него включены работы не первостепенной важности. Да, такие работы представлены. Но не все ведь получат Ленинские премии! Комитет, опираясь на широкое общественное обсуждение, отметет все менее значительное и отметит достойное.
Но несправедливо считать список чрезмерно широким, он гораздо более узок, чем реальный объем достижений науки и техники. Присмотритесь, в нем нет, например, выдающихся работ по химии. А такие работы в жизни есть. И залог тому — огромное внимание партии к развитию химии. Возможно, сказались дефекты выдвижения, не сработала как следует общественность, ученые советы и научные общества, призванные отбирать и представлять на соискание премий крупнейшие изобретения и открытия.
Нет работ по освоению космоса. Впрочем, в прошлом году уже было широчайшее награждение за великие достижения в области космических полетов. Советский народ увенчал высокими наградами участников покорения Вселенной.
Общественные науки… Великие идеи XX съезда партии животворно сказались на развитии этих наук. Наши историки, философы, экономисты, правоведы потрудились немало, хотя мы ожидаем большего. Но может ли список научных работ в полной мере отразить победоносное шествие ленинской теории?
Марксизм-ленинизм развивается триумфально. Созидательная мысль Центрального Комитета партии, творчество широких масс, принявших участие во всенародном обсуждении, коллективный мозг XXII съезда КПСС дали в этом году гениальный документ научного коммунизма, справедливо именуемый Коммунистическим манифестом XX века. «Программа Коммунистической партии Советского Союза» — так называется маленькая книжка эта, томов премногих тяжелей. Устремленный в грядущее ленинский профиль отчетливо проступает на каждой ее странице.
Великие научные свершения года гораздо богаче нашего списка.
Представление на Ленинскую премию — это толстая папка, набитая натуго книгами, чертежами, оттисками печатных работ, отзывами организаций. Таких папок в Комитете около полутораста. Журналисту, конечно, не под силу все просмотреть. Но мы взяли несколько папок наудачу и не разочаровались в выборе. Мы попали в гуманную созидательную атмосферу советской науки.
Правительство и партия, опираясь на преимущества социалистической системы, непрерывно ищут и находят новые, наиболее эффективные системы руководства промышленностью и сельским хозяйством, повышающие мощь нашей экономической системы. Проблемы руководства и управления становятся ведущими идеями наших дней. Отрадно знать, что эти идеи по-своему преломляются в различных отраслях знания, что они завладели мыслью и партийных работников, и хозяйственников, и абстрактным воображением математиков, которых несправедливо рисуют людьми «не от мира сего».
Доказательством служат интереснейшие работы, заключенные в одной из папок. Математики вносят новый вклад в теорию оптимального управления. Уравнения их, конечно, не относятся к человеческому обществу, но касаются довольно сложных систем, таких, как летящая ракета. Новый метод позволяет рассчитать самый выгодный способ управления ракетой и решать в самой общей форме и другие разнообразные вопросы управления, на которые не давали ответа существующие математические средства.
Мы перелистываем работы в области биологических и сельскохозяйственных наук, являющиеся живым примером диалектики в действии. Какая, казалось бы, имеется связь между крупнейшими инженерными сооружениями и тончайшими физиологическими процессами в зеленом ростке? Но такая связь существует и нередко оказывается определяющей. И структура, и действие, и эффективность ирригационной сети зависят в конечном счете от физиологической потребности орошаемых растений. Потребности и склонности маленького зеленого ростка определяют и облик, и работу оросительных сооружений. Поэтому с таким уважением обнаруживаешь в папке научное исследование физиологии орошаемой пшеницы, кукурузы и других главнейших сельскохозяйственных культур, позволяющее разумно вести дело орошения, добиться высоких урожаев.
Пролетая над тайгой, иногда замечаешь мертвое царство — усыхание лесных массивов, простирающееся на громадных площадях. Лес погублен грозной силой — гусеницей сибирского шелкопряда, поедающей хвою. Против этого опасного вредителя не было действенных средств борьбы: ни наземные методы, ни печальный опыт авиаэкспедиций, распылявших ядохимикаты с воздуха, не приводили к успеху. Советская наука нашла средство столь же необычное, как незримая сила, победившая нашествие злобных марсиан в фантастическом романе Уэллса «Борьба миров». Ученые применили бациллу, вызывающую у гусениц сибирского шелкопряда инфекционную болезнь — гнилокровие. В лесах, как это пишут ученые, удавалось создать устойчивые очаги заражения, действующие только на вредителя. Широко распространяющаяся эпизоотия приводила к массовой гибели беспощадного врага драгоценных лесов. Ученые ввели в, казалось бы, неумолимо сложившуюся биологическую цепь еще одно диалектическое звено и добились победы.
В одной из папок Комитета мы нашли материалы, посвященные физическим явлениям проникающего излучения ядерного взрыва. Тут не содержалось никаких секретов. Монографии, собранные здесь, можно приобрести в любом книжном магазине. Это математические рассказы о процессах разрушения вещества под влиянием проникающих гамма-излучений и потоков нейтронов, приводящих к поражениям всего живого, и вызванных ими явлениях электризации атмосферы, порождающих магнитные бури, превращающих гриб атомного взрыва в подобие радиобашни, излучающей электромагнитные волны. Формулы рисуют грозную картину, но пером теоретика водила гуманная рука. Совокупность выводов составляет физическую основу для защиты от атомных взрывов, принципиальную базу для их дальнего обнаружения. Защититься от атомного взрыва можно, хотя и не легко. Советские ученые не скрывают от человечества этих возможностей. В этом — гуманизм советской науки.
Ломоносов писал:
Когда бы смертным толь высоко Возможно было возлететь, Чтоб к солнцу бренно наше око Могло, приближившись, воззреть, Тогда б со всех открылся стран Горящий вечно океан.С особым вниманием перелистываем мы работы людей, пристально вглядывающихся в «горящий вечно океан», — астрофизиков, исследующих Солнце. Теперь ясно, что перед сегодняшней наукой стоят проблемы, в известной степени обратные поставленной Ломоносовым. Для того чтобы осуществить мечту поэта, чтобы «смертным толь высоко возможно было возлететь», ученым необходимо предварительно с Земли и в больших подробностях изучить «горящий вечно океан». Ведь коварные неожиданности солнечного излучения составляют одну из главных опасностей космических полетов. Нестационарные процессы, происходящие на Солнце, порождают потоки невидимых лучей и частиц, угрожающих космонавту. На примере работ по изучению Солнца видно, как велика и действенна помощь, которую науке оказывают правительство и партия. Замечательных открытий не было бы без громадной превосходно оборудованной обсерватории, где зрачки исполинских телескопов совмещаются с киноглазом. Астрофизик имеет все возможности проявить дерзновение героя стихотворения Маяковского, пригласившего дневное светило в гости, в дом, на чашку чая. Невольно ощущаешь, что проблемы изучения Солнца были звеном грандиозного плана покорения космоса, проводимого в нашей стране. Изучение «горящего океана» принесло плоды и позволило «смертному взлететь высоко».
Наука связывает ширину колец в срезе дерева с солнечной активностью. В концентрическом их узоре, в изменчивой их ширине отражается переменчивость солнечных годов. Кольца роста, годовые кольца нового в нашей жизни не сужаются, а становятся все шире и шире. Потому что все ярче и ярче светит солнце коммунизма, поднимающееся над горизонтом истории».
ГЛАВА ПЯТАЯ, где высказываются некоторые соображения об изобретательской славе и показывается, сколь сложно выглядит иногда монумент великому изобретателю
5.1.
Вот изобретатель почти у цели. Он уже столько передумал, перевоображал, столько измарал карандашом бумаги, что отчетливо представляет в уме, как движется каждой своей деталью его выдумка.
Но в этой горячке творчества, в этой жажде достигнуть цели не обмануло ли его воображение? Да и как показать другим то, что он так явственно и неоспоримо видит перед собой?
Надо испробовать изобретение на деле — строить модель, опытный образец, проводить испытания.
История знает много случаев, когда изобретатель, испытывая свои изобретения, жертвовал здоровьем и даже жизнью.
Создатель планера Лилиенталь много раз бросался с обрыва вниз с парой крыльев за плечами. Но однажды порыв ветра оборвал счастливое паренье, и Лилиенталь разбился.
Френсису Бекону — великому ученому и большому вельможе — блеснула в пути идея, что вареная курица дольше сохраняется, если обложить ее снегом. То была такая счастливая мысль, что он решил подтвердить ее опытом немедленно. Крикнул «Стой!» кучеру, вылез из кареты, прыгнул с курицей в свежий снег и стал голыми руками подгребать его под вареную тушку. Простой опыт оказался опасным. Изобретатель простудился, заболел и вскоре умер.
Лилиенталь погиб с небесной мечтой о полете, Бекон умер с земною мыслью о сохранении курицы. Но смерть Бекона столь же прекрасна, как и гибель Лилиенталя. Бекон заботился о хранении пищи для людей на земле. Это благородная забота. Перечисляя крупнейшие изобретения, Фридрих Энгельс недаром рядом с изобретением компаса упомянул об изобретении соления селедок. И без компаса, и без соленой селедки — этой пищи дальних каравелл — невозможны были бы длинные морские путешествия, грандиозные открытия неведомых земель…
Нынче шприц для инъекций для нас нечто заурядное. Но когда в середине XVII века немец Пурман изобрел этот шприц, то впервые решился его испробовать только на самом себе. Он призвал помощника собрать все мужество и велел вспрыснуть лекарство себе в вену. При уколе Пурман потерял сознание. На руке, в месте укола, возникло тяжелое воспаление. Историки до сих пор гадают: почему? То ли не было средства обеззаразить шприц, то ли так чудовищно было старинное лекарство, то ли сдали нервы смелого изобретателя. В том, что Пурман был человеком смелым, сомнений нет. Лишь в 1910 году—двести сорок лет спустя, с легкой руки Эрлиха, внутривенные вливания осмелились распространить повсеместно.
Тридцать пять лет назад немецкий врач Форсман загорелся героической мыслью — сделать тонкую трубку — катетер и ввести ее через вену руки прямо в собственное сердце. Он хотел узнать, что творится в его предсердиях и желудочках. Друзья отговаривали Форсмана, но изобретатель стоял на своем. Он сделал небольшой надрез на руке у локтевого сгиба, ввел туда свой длинный и гибкий катетер и стал медленно продвигать его по направлению к сердцу, по течению крови в вене. Изобретатель продвинул катетер на глубину в 35 сантиметров, но опыт пришлось оборвать, потому что, охваченный паническим ужасом, сбежал ассистент. Он представил, что дрогнет, затрепещет, а быть может, и остановится сердце, когда гибкая резиновая трубка прикоснется к его стенке изнутри.
Через неделю Форсман повторил опыт сам, уже без участия слабонервного коллеги. Он проделал над собой операцию в одиночестве, в темном рентгеновском кабинете, через зеркальце глядя на экран, как ползет от локтя к плечу и как тихо вползает в сердце тень резиновой змейки.
И многие изобретатели в мире, испытывая новую модель, переживают такое стеснение в груди, словно тихая змейка вползает в их нетерпеливое сердце!
Изобретатель крутит маленькую модель и радуется — восхищается легким ходом:
— Модель моей машины легко вращается от руки.
Рано радоваться! Ведь рука для малой модельки — это двигатель непомерной силы. Все равно, что для большой настоящей машины мотор в 500 лошадиных сил.
Изобретатель построил на столе модель моста и считает, что дело сделано. Прикажу, мол, увеличить его в сто раз, и мост выдержит самый тяжелый поезд. А мост рухнет под собственной тяжестью. Изобретатель не учел, что объем растет быстрее длины. Когда мост увеличат в сто раз, его масса возрастет в кубе — вес конструкции станет в миллион раз больше! Вот лишь самые простенькие неожиданности модели.
Существует наука о моделировании. Это такая тонкая, такая разнообразная наука, что простая популярная книжка, посвященная ей, получается не тоньше нашей книги.[8]
От модели, от замысла до законченной, действующей машины—долгая дорога. Забот еще целый короб. Работа только начинается. Бывает, годами сидят конструкторы, перекраивают машину на тысячный манер, пока не «доведут» — не сделают простой, надежной и дешевой.
Простое дело носить очки. И если и были здесь у кого-нибудь затруднения, то, казалось бы, только у крыловской мартышки. Но триста лет подряд маялись конструкторы: никак не могли приладить очки к глазам.
Сначала очки прикрепляли к шляпе. Очки без шляпы — никуда. Если хочешь читать — нахлобучивай шляпу.
Затем очковые стекла вшивали в ременный поясок. Его завязывали на затылке узлом, словно карнавальную маску.
Потом оправляли стекла в железные кольца и соединяли их перемычкой. Получалось как бы пенсне, но без зажима. Приходилось быть немножко циркачом, чтобы читать в таких очках. При малейшем неверном движении они сползали с носа.
Наконец, в XVI веке нашлась хитроумная голова, догадалась цеплять их за уши. Получились современные очки.
С тех пор прошло еще 400 лет, но поиски продолжаются.
Очки прикрепляют к палочке, как маленький флаг. Получается лорнет.
Очки с зажимом сажают на нос, и они держатся на нем, как всадник на лошади. Получается пенсне.
К очкам приделывают пару пружин, словно пару рук. Этими пружинками очки удерживаются за виски.
Очковое стекло зажимают в глазнице — получается монокль.
А недавно придумали новые очки, которые не сажают на нос. Маленькие хрустальные линзы, похожие на росинки, берут пипеткой с присосочкой и закладывают прямо в глаза под веки, как закапывают глазные капли. Очковые стеклышки прилегают к глазному яблоку и со стороны почти не заметны. Словно вовсе нет очков. Это замечательные очки. Они не беспокоят человека, не запотевают, не могут упасть и разбиться.
Простая машина велосипед: пара колес и рама. Ее знает каждый, до последнего винта. Она нам такой же надежный и верный друг, как собака или лошадь. И потому, быть может, так верна, так близка нам эта машина, что ее десятки лет «доводили»: шлифовали, приглаживали, подгоняли к мельчайшим нашим нуждам. Но об этом будет дальше рассказ.
5.2.
Вообразите, тащит человек в квартиру гардероб. Тащит так: приподнял от земли — переставил, приподнял—переставил. Так весь путь. Лезут глаза на лоб у человека от натуги — уф, тяжело! И смеются люди над недотепой: от дурной головы ногам мученье — надо бы волоком или на тележке! Смеются люди, а не знают, что сами они таким же манером день-деньской напролет таскают четырехпудовую тяжесть.
Именно так передвигают люди свое тело при ходьбе. Пешеходов теперь снимают в кино. Можно, взяв киноленту, проследить на просвет кадр за кадром, как совершается каждый шаг. Пешеход приподнимает свое тело на одной ноге, и дает ему падать вперед, и тотчас же предупреждает падение, выставляя вторую ногу. Так повторяется при каждом шаге.
Много мускульной силы тратится зря. Шутка сказать: за день тысячи раз приподнять свое тело, тысячи раз его уронить, тысячи раз удержать на лету четырехпудовую тяжесть! Недурно бы было возить ее на тележке! Но вот задача: как самому поместить свое тело на тележку и самому же ее толкать?
Принято думать, что задачу эту впервые решил в 1813 году лесничий князя Баденского, офицер и камергер барон Дрез. У этого дворянина была пагубная страсть — он слишком увлекался механикой. С некоторых пор князю стали доносить, что Дрез пренебрегает обязанностями лесничего и придворного. Лесное хозяйство было запущено. Браконьеры рубили леса его высочества. Неприятности посыпались на голову злополучного камергера.
Однажды князь, разгневанный очередным происшествием, в окно увидел Дреза. Барон и камергер безмятежно ехал по улице верхом на узкой деревянной скамеечке с двумя неуклюжими тележными колесами. Носками сапог он отпихивался от земли. Величайшее наслаждение изображалось на его лице. Нелепо перебирая ногами, он разгонялся изо всех сил, и тогда наступало упоительное мгновение — можно было задрать ноги кверху и катиться так с разгону, в течение нескольких секунд. Дрез был счастлив. Он чувствовал себя победителем пространства.
Князю представились лесные угодья и браконьеры, пилящие леса. Он сел и подписал приказ о лишении Дреза звания камергера и княжеского лесничего. Но Дрез только обрадовался. Теперь он мог вплотную заняться механикой и своей «беговой машиной».
Года два спустя князь прочел в газете, что механик Дрез ездит на своей машине в четыре раза быстрее, чем всадник на лошади, что он демонстрировал свое изобретение Александру I и русский император его весьма одобрил. Пришлось сменить гнев на милость. Дрезу присвоили звание профессора механики.
Под конец жизни Дрез придумал железнодорожную тележку с ручным приводом—дрезину. В ее названии содержится имя Дреза. Он умер в славе и бедности.
Если глубже копнуть историю техники, то и до Дреза найдутся изобретатели самоходных тележек, движимых человеческой силой.
После гениального русского изобретателя Кулибина остались чертежи самоходного экипажа. Даже в более старых бумагах сохранился рассказ о лютой судьбе крепостного изобретателя Леонтия Шамшуренкова, который сделал самодвижущуюся тележку и на ней ездил.
Шамшуренков был человек толковый и беспокойный. Некогда он построил «снаряд», чтобы поднять на колокольню Ивана Великого Царь-колокол. Но мы знаем, что пожар спалил деревянную машину, колокол свалился в яму, треснул.
Шамшуренков вернулся на родину в город Яранск Нижегородской губернии. Местный воевода с купцами за компанию воровали спирт с казенного завода, спекулировали им в «тайных кабаках». Имея «характер беспокойный», Шамшуренков послал на воров челобитную в Санкт-Петербург.
Коварный воевода бросил его в тюрьму не как обвиняемого, а как «свидетеля» по какому-то делу. Годы шли, Шамшуренков сидел в тюрьме, о нем забыли. Каменный мешок не заглушил его беспокойной мысли. На четвертом году заключения узник подал прошение «о сделании им коляски самобеглой».
«И такую коляску, он, Леонтий, сделать может подлинно так, что она будет бегать без лошади, только правима будет через инструменты двумя человеками, стоящими на той же коляске, кроме сидящих в ней праздных людей, а бегать будет хотя чрез какое дальное расстояние, и не только по ровному местоположению, но и к горе, буде где не весьма крутое место». Одновременно «объявил он прежнее свое художество» — сослался на удостоверение, что изобретенный им способ поднятия Царь-колокола был одобрен, и поклялся, «что ежели то его показание явится ложным, за то повинен смертной казни».
Только через несколько месяцев Шамшуренкова вызвали к следователю и в ответ прочитали мрачную бумагу о возбуждении против него обвинения «в помарании титла царского».
Дело в том, что изобретатель был неграмотен. Заявление о «коляске самобеглой» записал с его слов сосед по камере, и переписал начисто племянник Шамшуренкова. Переписывая начисто полный титул императрицы, племянник неосторожно перечеркнул его в черновике. Но сосед по ошибке и черновик переслал по начальству.
Лишь в 1742 году дело о помарании титула было прекращено. Склеротическая царская Фемида разобралась, что племянник «учинил то от неисправного писания крестьянской своей простотою, а умыслу никакого к тому не было». Но Шамшуренков остался сидеть за решеткой. Только на четырнадцатом году заключения Москва запросила Санкт-Петербург, «не повелено ль будет показанную куриозную коляску реченному крестьянину Шамшуренкову для апробазии делать и на нее предъявленную сумму из казны денег употребить».
Ответа из Санкт-Петербурга не пришло. Бюрократическая машина работала медленно. Через восемь месяцев запросили вторично. В феврале 1752 года вышел указ: «Крестьянина Шамшуренкова прислать в правительствующий сенат».
В мае 1752 года Шамшуренков прибыл в Петербург. Ему отвели квартиру «при канцелярии от строений», дали подмастерьев, материал, инструменты и положили кормовых денег по десяти копеек в день. Для надзора приставили офицера с пистолетом.
В ноябре готовая коляска пошла. «Канцелярия от строений» доносила сенату, что:
«Действует оная под закрытием, людьми, двумя человеками. Шамшуренков со сделанною им коляскою при сем представляется».
Сенат определил: «Самобеглую коляску принять, а его, Шамшуренкова, обязать подпискою, чтобы он без указа из Санкт-Петербурга никуда не отлучался».
Шамшуренков оказался в пиковом положении— выехать запрещают, кормовых денег не платят — помирай с голоду. Он слал челобитные, умоляя выдать ему «для пропитания кормовых денег, откуда будет собла-
говолено, чтобы в пище не мог претерпевать нужды». Только в декабре ему разрешили вернуться на родину. Коляской его забавлялись баре, изобретатель шел пешком. Вести о нем затерялись…
Пятьдесят лет спустя, за десять лет до Дреза, уральский мастер Артамонов сделал «самобеглую машину» не по образу коляски, а по образу коня. Оседлав ее, докатил он от Урала до Москвы. Но и его труды канули в забвенье…
Над созданием беговой машины потрудились русские изобретатели, но история ведется от Дреза. Царская отсталая Россия душила народные таланты.
«Беговые машины» входили в моду. Великосветские франты катались наперегонки, стараясь отталкиваться от земли с возможным изяществом.
За постройку машин взялись специальные мастерские. В 1840 году один механик чинил старую «беговую машину». Его сын колесил на ней по двору мастерской. Парнишка приставал к отцу: нельзя ли продлить удовольствие ехать с разгону с поднятыми ногами, если как-нибудь ухитриться подвертеть на ходу ногами переднее колесо? Отец подумал и решил, что можно. Он приделал к переднему колесу пару педалей, точно так, как сейчас устраивают педали в трехколесных детских велосипедах.
Сразу обнаружилось много новых возможностей. Оказалось, что можно и вовсе не касаться земли ногами на ходу. Машина не падала и не опрокидывалась. Седок легко поддерживал равновесие: колеса вертелись, как гигантские волчки. Новая машина оказалась куда быстроходнее машины Дреза. За один неширокий оборот педалями большое колесо проделывало длинный путь. Азартные гонщики мигом раскусили эту хитрость. Они старались делать колеса побольше, тогда один оборот педалей уводил их машину далеко вперед.
В 1845 году француз Мишо придумал к машине тормоз и окрестил ее велосипедом. Но американцы величали ее по-иному. Они называли велосипед «костотрясом».
Машина была тряской, тяжелой и имела непомерно тугой ход. Велосипедисты возвращались с поездок больными. Не спасали и литые резиновые шины, введенные в 1865 году. Они только увеличили вес колес.
Изобретатели принялись облегчать велосипед. Но прошло почти пять лет, пока тяжелые, почти тележные, деревянные колеса удалось заменить металлическими колесами. Легкий стальной обод охватывал сверкающий венчик тонких, как вязальные, стальных спиц.
Наконец-то азартные гонщики смогли размахнуться во всю ширь; увеличить до пределов диаметр ведущего колеса. Появились чудовищные велосипеды. Над величественным, в рост человека, ведущим колесом возвышалось узенькое сиденье. Маленькое заднее колесо мельтешилось сзади, словно паж за шлейфом принцессы. У прохожих захватывало дух при встрече с велосипедистом, мчавшим во весь опор, на огромном колесе-хо-дулях. Не всякий решался влезть на такой велосипед. Не всякий мог бы катиться быстро. Надо было иметь ноги футболиста, чтобы крутить тугие педали. И при каждом обороте раздавался торжествующий скрежет и визг трения в подшипниках, одолевавшего велосипедиста. Велосипед стал забавой спортсменов-храбрецов. Изобретатели объявили войну трению. Вспомнили трудовой подвиг русских людей — передвижку из Финляндии в Петербург каменной скалы — основания «Медного всадника» Фальконета. Тысячетонную скалу передвинули на расстояние свыше шести километров на руках, под «Дубинушку». Скалу прикатили на чугунных пушечных ядрах, уложенных в деревянные желоба, обитые медью.
Так в России родился катящийся шарик, помогающий людям в течение столетий побеждать враждебную силу трения. В 1869 году догадались—заложили шарики в подшипники велосипедных колес, и ход колес стал легчайшим.
Оставалось сделать велосипед безопасным: снизить его высоту и при этом не потерять в скорости. Это сделали в 1884 году, устроив всем известную цепную ускоряющую передачу. Педали вертели большое зубчатое колесо. Цепь вела маленькую зубчатку у заднего колеса. Ведущим пришлось сделать заднее колесо, иначе цепь мешала бы рулить. За один оборот педалями ведущее колесо делало несколько оборотов. Можно было уменьшить диаметр велосипедных колес, не проигрывая в скорости. Велосипед сбавил рост. Заводы стали выпускать приземистые безопасные машины, доступные всем.
Велосипед становился вещью массовой. Но над ним по-прежнему тяготела обидная кличка «костотряс».
Наконец, велосипед обули. Это сделал в 1890 году английский ветеринар Денлоп. Денлоп лечил коров и лошадей и знать не знал, что изобретет воздушные шины и войдет в историю техники.
Случилось это так: Денлоп на досуге попробовал улучшить велосипед своего сына и подверг его маленькой хирургической операции. Денлоп разрезал садовую кишку, свернул ее в два кольца и искусно срастил ее концы. Затем он уложил ее по ободу велосипедных колес и надежно там укрепил, обмотав бинтами. С кишками и бинтами ветеринар отлично умел обращаться.
Железная лошадка пошла на резиновых подковах. Мальчишка с комфортом стал ездить по городу, не подозревая, что катает в дорожной пыли одно из крупнейших изобретений конца прошлого века. Велосипедисты пробовали велосипед Денлопа-сына и восхищались мягкостью хода. Денлоп взял патент.
Производство велосипедов развернулось в мировом масштабе. В те времена уже успел накопиться немалый опыт массового производства. Массово производилось оружие, массово производились сельскохозяйственные машины. Фабриканты велосипедов широко использовали этот опыт.
Армия изобретателей и конструкторов взялась за велосипед. В 1896 году только в одной Англии из 30 тысяч патентов на изобретения 5 тысяч касались велосипеда! Русские, англичане, американцы, французы трудились над велосипедом, как муравьи: отрабатывали, доводили до совершенства каждый винтик, каждую гайку. В 1897 году велосипед снабдили последним серьезным усовершенствованием — механизмом свободного хода.
Так велосипед стал велосипедом.
Слов нет, долгий путь. Но зато изобретение получилось на славу. С тихим шелестом пролетает мимо нас блестящая машина — зависть мальчишек, гордость конструкторов.
Деталей в ней немного, но каждая деталь — жемчужина конструкторского искусства. Спросите у конструкторов мнение о велосипеде, и каждый ответит: клад! Они многое взяли из этого клада и многое возьмут еще. Машиностроители взяли от велосипеда подшипники, автомобилисты — шины, авиастроители — раму.
Когда Герой Социалистического Труда конструктор Шпитальный построил свой сверхпулемет, его крепко подвели пружины. Пулемет работал с такой сумасшедшей скоростью, что пружины вдребезги разлетались, как стеклянные. Меняли закалку, меняли металл — ничто не могло помочь. Изобретатель ночи напролет работал в мастерской, решая мудреную «пружинную» задачу.
А решение лежало тут же, в хламе. Шпитальный рылся в куче металлического старья и наткнулся на велосипедное седло. Оно честно закончило свою трудовую жизнь: обивка была вся стерта, но пружины жили, сохраняли свою упругость. Пружины были витые. Они были свиты из многих отдельных стальных волосков, как стальной канат, и в этом таился секрет бессмертия пружин. Шпитальный поставил такие пружины в свой пулемет, и они выстояли. Когда бил пулемет Шпитального, вспышки выстрелов сливались в одно негаснущее пламя, словно жало паяльной лампы. Звуки выстрелов сливались в один победный рев, словно дробные капли ливня в гремящую струю. Так работает пулемет. И велосипед помогает ему в его тяжелой работе.
5.3.
Славно имя знаменитого изобретателя Эдисона!
Эдисона, который поставил на ноги телефон и динамомашину, многократный телеграф и гигантские печи для обжигания цемента.
Томаса Эдисона, изобретшего фонограф, и аккумулятор, и магнитную сортировку руд.
Томаса Альвы Эдисона, автора тысячи девяноста девяти изобретений, одного из создателей электрической лампочки накаливания и вощеной бумаги, в которую завертывают шоколад.
Когда Эдисон умер, ему спроектировали памятник — исполинский обелиск-небоскреб. На вершине, в честь величайшего изобретения Эдисона, предложили поставить электрическую лампу, большую, как церковный купол из прозрачного стекла. По ночам она должна была загораться и светить ослепительно, как маяк.
А сейчас мы вам покажем такие рисунки, от которых зародится сомнение, а не зря ли Эдисону ставят памятник — Эдисон лампы не изобрел!
Вот рисунки (на стр. 156), которые выглядят как разоблачение. Внизу справа — угольная лампа Эдисона, а вокруг — электрические лампы, изобретенные до него, множество похожих ламп. Под рисунками имена изобретателей, рядом — даты…
Что говорят рисунки?
Не Эдисон научился первый накаливать проволочку электрическим током, — умели и до него. Физик Вольта, едва открыв электрический ток, тут же раскалил им проволочку до ослепительного свечения.
Не Эдисон дошел и до главной хитрости — накаливать нить без доступа кислорода, чтоб она светилась, не сгорая, как небесные светила в космосе. На картинке неоспоримое доказательство — старый опыт изобре-
тателя Грове: под стаканом, опрокинутым в тарелку с водой, раскаливается током проволочная спираль.
От рисунков никуда не денешься. Все твердят, как сговорились, что не Эдисон догадался первым запаять волосок в пустую стеклянную колбу. Это все было, было…
Глаз пробегает рисунок за рисунком, силясь схватить изюминку, стараясь уловить отличительную черту, которая возвысила эдисоновскую лампу над другими и прославила Эдисона как великого изобретателя. Может быть, уголь — тугоплавкий материал, выносящий жар ослепительного накала, может быть, уголь — находка Эдисона?
Нет, и уголь не его находка! Перед вами четыре лампы — гениальные работы русских изобретателей Лодыгина, Дидрихсона, Булыгина, Кона. В них светились в пустой стеклянной колбе угольные стерженьки.
В лампе Эдисона не стержень, а угольная нить. Но и нить уже предлагалась кем-то! Вот рисунок — лампа Гебеля: в маленьком стеклянном пузырьке угольная нить.
Даже мелкая, казалось бы, задача: впайка проводов в стекло, так, чтобы оно не лопалось при нагревании, — и та решена другим изобретателем, Адамсом.
Преемственность Эдисона от Лодыгина несомненна, хотя в этой истории много неясного.
Еще на школьной скамье зародилась в голове Лодыгина мечта о летательной машине, увлекшая его на долгие годы. Ради этой идеи Лодыгин нарушил обычай семьи — снял офицерский мундир и, уйдя из дому, поступил на тульский завод молотобойцем. Здесь он всей душой привязался к технике и в 1869 году представил в Главное инженерное управление проект самолета-геликоптера с электрическим двигателем. То был необыкновенно смелый проект, всеми своими деталями устремленный в будущее. Остроумнейшее устройство — прадед современных автопилотов — регулировало силу тока в моторах при кренах «электролета» и должно было автоматически поддерживать устойчивость машины в полете.
Царские чиновники не приняли проекта. Лодыгину разрешили передать свое изобретение в помощь воюющей Франции, уступавшей натиску пруссаков. Но пруссаки разгромили Францию раньше, чем машина была готова. Идею применения электричества в летном деле позаимствовали французы — братья Тисандье и Шарль Ренар — и четырнадцать лет спустя добились с ее помощью решающих успехов в превращении воздушных шаров из безвольных поплавков воздушного океана в хозяев своего маршрута.
А Лодыгин, вернувшись в Петербург, нанялся на работу техником в Общество газового освещения. Электролет ускользнул от него, и лишь маленькая деталь осталась в руках — электрическая лампа накаливания, предназначавшаяся для освещения машины. В этой лампе еще не было угольного волоска, а раскаливался током тонкий угольный стержень.
В 1873 году в Петербурге Лодыгин впервые в мире показывал лампы, пригодные для уличного и комнатного освещения, для железнодорожной сигнализации, для освещения подземных и подводных работ. Слава русского изобретения прокатилась по всему миру. В 1877 году в Америке лейтенант Хотинский показал электрическую лампу Эдисону как русское диво.
Теперь, казалось бы, Лодыгину должны были дать средства для постановки производства ламп. Но правители царской России не поддержали изобретателя. Уволенный газовой компанией, учуявшей в его изобретении соперника газа, Лодыгин поступил в петербургский Арсенал слесарем. Одно время, казалось, счастье улыбнулось изобретателю. Петербургский банкир Козлов организовал акционерное общество по производству электрических ламп. Но акционеры видели в электрической лампе лишь повод для разных денежных махинаций, на совершенствование лампы денег не давали. В результате общество прогорело.
А тем временем Эдисон в Америке жадно принялся совершенствовать русскую работу. Один из финансовых владык США, Пирпонт Морган, оказал ему полную поддержку. Вскоре фирма «Эдисоновское общество освещения» получила громадные капиталы. Но только через семь лет после Лодыгина Эдисону удалось сделать годную лампу накаливания и поставить ее производство.
И когда американские газеты принялись безудержно восхвалять Эдисона как единственного творца электрического освещения, ведущий электротехнический журнал того времени «La lumiere electrique» («Электрическое освещение») дал гневный отпор американским фальсификаторам: «А Лодыгин? А его лампа? Почему не сказать, что и солнечный свет изобретен в Америке?»
Однако российские капиталисты по-прежнему тормозили в России производство электрических ламп, предпочитая ввозить их из-за границы.
Лодыгин решает дать бой Эдисону в самой Америке. Американские предприниматели были не прочь загрести жар талантливыми русскими руками. Фирма Вестингауз дала Лодыгину возможность построить большой завод электрических ламп. Здесь он еще раз опередил Эдисона, изобретя в 1890 году лампу с нитью из вольфрама, молибдена, осмия.
Заграничные успехи не тешат Лодыгина. Он пытается возвратиться на родину. Но в тогдашние тугие для русских изобретателей времена человек огромного технического размаха, Лодыгин, получает в России лишь должность заведующего подстанцией петербургского трамвая.
Что же сделал Эдисон? В чем его заслуга? Рисунки молчат.
И чем пристальнее вглядываешься в эти рисунки, тем все больше крепчает подозрение: может быть, и в самом деле Эдисон ничего не изобрел?
Но история упрямо говорит другое. Гений Эдисона растворил электрической лампе двери в большой мир. Но достался этому гению только последний шаг. Он упрочнил угольную нить, сделал ее более стойкой.
Нити прежних ламп были слабыми и хрупкими. Они рассыпались от толчков и легко перегорали. Эдисон сделал гибкую, прочную, упругую угольную нить, она не боялась сотрясений и могла гореть хоть тысячу часов подряд.
Гений русских изобретателей вывел лампу из лаборатории на улицы городов.
Но Эдисон заставил ее удержаться там. В этом заслуга Эдисона.
Какой маленький шаг! Соразмерна ли ему всемирная слава Эдисона? Соразмерен ли ему обелиск-небоскреб с электрической лампой на вершине?
Чем измерить цену шага?
5.4.
Был когда-то в Америке пловец-рекордсмен Джон Вейсмюллер. Тот на одно мгновение ока, на одну десятую секунды обставил своих конкурентов. И десять лет подряд вот этой десятой доли секунды не мог у него отвоевать никто. Одна десятая секунды прославила его на весь мир. Одна десятая секунды — какой маленький шаг! А вот не маленький!
Не случайно досталась Вейсмюллеру победа. Были у него прекрасные природные данные, прекрасное сложение. Он взял первую премию на всеамериканском конкурсе красоты. Примитивные устроители затеяли измерять красоту циркулем и линейкой. Они смерили статую Аполлона, определили ее пропорции и приняли их за образец. Кто точнее подходил к этим пропорциям, того и решили считать красивее. Когда стали мерять Вейсмюллера и подсчитывать пропорции, комиссия ахнула — сложен в точности, как. Аполлон. Только выше ростом раза в полтора… Джон Вейсмюллер был рослый парень, он снимался в фильме «Тарзан».
Но природных данных мало для рекорда, нужна тренировка, работа. И здесь Вейсмюллеру повезло. Он мальчишкой попал в ученики знаменитому тренеру. Дни его начинались турником и заканчивались бассейном. Так проходили годы. Он буквально жил и рос в воде, пока не завоевал своей одной десятой секунды.
Велика цена шага, если этот шаг рекордный.
Так и Эдисон. Он прекрасно был одарен от природы. Лет пятнадцати он уже издавал небольшую газету. Сам писал, сам печатал, сам продавал. У него развилась с годами могучая изобретательская хватка.
Но всего оказалось недостаточно, когда он взялся укреплять нить.
Потребовались опыты, опыты и опыты…
Эдисон обугливал все, что смог найти под рукой: шелковые нити, полоски картона, лески удочек, розовое дерево, фибру, целлулоид, ореховую скорлупу, кедровые шишки, волос из бороды своего сотрудника.
Эдисон разглядывал в микроскоп строение тысяч вещей и пришел к заключению, что лучше всего волокна листьев пальмы и бамбука. Потянулись во все концы земли отважные экспедиции: в Китай, в Японию, на Кубу, во Флориду — за бамбуком; на Ямайку — за пальмами; на Цейлон, в Индию, Гвиану — за тростниками. Руки Эдисона обшаривали весь земной шар. Они шарили в джунглях, прериях и болотах настойчиво и целеустремленно до тех пор, пока не нашли того, что искали — единственного нужного волоконца. Шесть тысяч опытов провел Эдисон, укрепляя нить. Он, случалось, 45 часов подряд проводил в лаборатории, не смыкая глаз, без крошки пищи во рту. И добился своего: сделал лампу.
Есть легенда жестокой американской тюрьмы Синг-Синг. Вернее, история, а не легенда, потому что о ней рассказывает исследователь изобретательской психологии Смит. Заключенный в течение трех с половиной лет перепиливал решетку шерстяной ниткой и вырвался, наконец, на свободу. «Ночью, — пишет Смит, — когда он был закрыт в своей клетке и свет был потушен, этот исполин терпенья вставал на постели и начинал водить свои смоченные слюною и прокатанные по пыльному полу нитки поперек прутьев решетки. Он отъединял несколько ниток, прислушивался к тихим шагам часового, затем возвращался к решетке, пока не проходило полночи. Он спал мало. А ему приходилось днем тяжко трудиться на кирпичном заводе. Он терял здоровье, но не сдавался!»
Перед нами — символ адского терпенья, которым должен обладать большой изобретатель.
Эдисон проделал те шесть тысяч опытов, которые не удалось поставить русским изобретателям. Ведь у русских изобретателей, живших в царское время, не было для этого средств. А Эдисон был не только изобретателем, но и предпринимателем-капиталистом. У него были деньги, сотни сотрудников лаборатории.
Эдисоновская компания разработала патроны, выключатель, предохранители, счетчики, кабели для подземной проводки — все для того, чтобы электрический свет пришел в дома.
Когда скептики заворчали, что нельзя сконструировать динамомашину, способную накаливать тысячу ламп одновременно, Эдисоновская компания построила такую машину. Современники звали ее «восьмым чудом мира».
Исполинский, всеобъемлющий труд!
Потому и называют Эдисона одним из творцов электрического света. Потому и считают Эдисона знаменитым изобретателем.
Когда американцы выполнят обещание и возведут в его честь обелиск-небоскреб с электрической лампой на вершине, мы с открытым сердцем принесем венок к его подножию. Если только, конечно, на постаменте не будет написано, что Эдисон был первым и единственным изобретателем электрической лампочки.
Изобретения делаются таким количеством людей, что порой трудно сказать, кому принадлежит изобретение. А великие изобретатели с большими именами? Что это за люди?
5.5.
Есть изобретения, которые трудно не заметить. Они сами кричат о себе. Тепловозы со свистом и грохотом влетают на железнодорожные мосты, волоча за собой вереницы вагонов, лязгающих по рельсам. Неугомонно гудят машины в заводских цехах.
Но бывают великие и тихие изобретения. Они входят в жизнь бесшумно и незаметно, но, быть может, только благодаря им появляются шумные машины, тепловозы, железные дороги и гремящие мосты. Таковы изобретения в металлургии.
В конце XVIII века в Англии научились получать отличный металл в таких количествах, о которых раньше не смели думать. Это произошло потому, что металлургию, рядом бесшумных изобретений, перевели с древесного на каменный уголь.
Первым перешло на каменный уголь доменное производство — производство чугуна.
И с этим связано в истории техники имя Авраама Дерби.
Авраам Дерби родился в 1678 году в семье деревенского кузнеца. В 1699 году он основал небольшой заводик, где с успехом отливал чугунную посуду. Было это выгодное занятие. В то время делали мало чугуна, и чугунная посуда стоила дорого. В 1703 году Авраам Дерби построил большой Кольбрукдельский завод.
Место для завода оказалось удачное. Река Северн протекала рядом, двигала водяные колеса. Кругом стоял лес — готовое топливо. Все было под рукой, и Авраам Дерби вскорости обзавелся второй доменной печью. Но уж слишком хорошо пошли у него дела. Так хорошо, что пришлось хвататься за голову. Лес таял с каждым днем. Голод грозил домнам.
Место, действительно, оказалось на редкость удачное. Тут же, прямо на поверхности земли, выползал могучий каменноугольный пласт. На него не раз с вожделением косился Дерби, неотступно ломая голову, где раздобыть топливо. Он глядел на него с тоской мореплавателя, мучимого жаждой: как морская вода не годилась для питья, так и каменный уголь не годился для домен.
Дерби взялся за трудную задачу — приучить домну к каменному углю.
Мы теперь знаем, как решается эта задача. Тут две трудности.
Первая в том, что каменный уголь содержит вредные примеси. Их надо оттуда выжигать. Теперь это дело называется коксованием.
Вторая в том, что каменный уголь воспламеняется при более высокой температуре, чем древесина. Чтобы раздуть жар в печах, надо сильно вдувать в печь воздух. Теперь это делают мощными воздуходувками.
Первую трудность Авраам Дерби преодолел в 1713 году. Он стал коксовать уголь, обжигая его в кучах точно так же, как угольщики жгли древесный уголь.
Второй трудности — трудности создания сильного воздушного дутья Дерби преодолеть не сумел. Он не мог найти в то время достаточно мощного двигателя для воздуходувок.
Чугун получался плохой. Он годился для отливок, но не годился для переделки в железо. Да и производительность печей была мала.
Дерби искал двигатель и не замечал, что он у него под руками.
Когда Ньюкомен изобрел свою паровую машину для откачки воды, он отдал ее строить на завод Авраама Дерби. На заводе уже несколько лет подряд выпускали эти машины, но не догадывались поставить их к воздуходувкам своих доменных печей. Люди ведь не сразу разглядели двигатель в огнедействующем насосе. Не сумели увидеть в машине двигатель и Дерби с Ньюкоменом. Но Дерби все же ухитрился пристроить ее к своим воздуходувкам. Он заставил ее качать воду на водяное колесо, двигавшее меха. Двигать меха прямо машиной ни Дерби, ни сам Ньюкомен, как мы знаем, додуматься не могли.
Так, с грехом пополам, была решена задача дутья, и в 1735 году Авраам Дерби получил из своих каменноугольных печей первый приличный чугун.
Говорят, что Дерби шесть суток не сходил с колошниковой площадки, пока не кончил плавки, и его отнесли домой рабочие спящего, как убитый.
Рожденные из металла машины помогали делать металл. Они прилежно качали воду на водяные колеса. Небывалый жар полыхал в домнах. Вагонетки едва успевали подвозить руду и уголь, быстро исчезавшие в огненных утробах. Вагонетки исстари катились по деревянным рельсам, но в один из дней Авраам Дерби созвал своих мастеров и сказал:
— Мы теперь достаточно богаты чугуном, чтобы позволить себе маленькую роскошь. Сделаем рельсы из чугуна.
Мастера подивились широкому размаху своего расчетливого хозяина. Но хозяин не просчитался. По чугунным рельсам лошадь везла в семь раз больше, чем по деревянным, и в 25 раз больше, чем вообще без рельсов.
В 1775 году пронесся слух, что на соседнем артиллерийском заводе для механика Джемса Уатта делают паровую машину по его изобретению — небольшую, но удивительно сильную. И что приспособлена она будто бы для движения любых машин, а не одних насосов.
Авраам Дерби, которому спать не давала постоянная забота о дутье, тут же ухватился за машину Уатта и приставил ее к своим воздуходувкам. Задача дутья была решена окончательно. Из домен рекою полился прекрасный чугун.
Маленький паром, взад и вперед ходивший через реку Северну, перестал справляться с перевозкой. Грузооборот настолько увеличился, что один предприимчивый архитектор с проектом в руках доказывал Аврааму Дерби выгодность постройки не только деревянного, но и большого каменного моста. Но Дерби перечеркнул его проект.
— Мы теперь настолько богаты чугуном, — важно сказал он, — что сможем построить мост из чугуна. Да, да, я не шучу — целый чугунный мост.
Тут уже вся округа поразилась безрассудной роскоши Авраама Дерби. Но Дерби и тут не просчитался. Мостовики высоко оценили новый материал, чугунные мосты прочно вошли в жизнь и спрос на чугун еще увеличился.
Современники пишут, что к концу жизни Авраама Дерби на заводе было полное благополучие.
Восемь домен дымили на заводском дворе, шестнадцать паровых машин качали воздух. Воздуходувки выли так, что, стоя у фурмы, невозможно было расслышать голоса, паровые же машины шли так плавно, что и плохо сделанная прялка, наверное, шумела бы громче, чем они.
В 1789 году Авраам Дерби внезапно и преждевременно скончался…
Но тут читатель схватит нас за руку. Как это так — преждевременно?! Дай бог каждому! Человек родился в 1678 году, а умер в 1789! Значит, он прожил 111 лет и из них 90 лет непрерывно работал над своим изобретением. Завидный пример долголетия и упорства!
Придется открыть секрет.
Было три Авраама Дерби — отец, сын и внук.
И если величать их так, как величают королей, то пришлось бы писать:
Авраам Дерби I
Авраам Дерби II
Авраам Дерби III.
Авраам Дерби I решил задачу коксования, но не смог одолеть задачи дутья.
Авраам Дерби II осознал задачу дутья и поставил машину Ньюкомена.
Авраам Дерби III решил задачу дутья, поставил к печам машину Уатта. С честью довершил дела отца и деда.
За одним именем стояли три изобретателя. Они вместе изобрели способ выплавки металла на каменном угле и придумали мимоходом железную дорогу.
Мы рассказали о них не ради забавы и курьеза. Если взять из истории больших изобретений любое знаменитое имя, то и за ним стоит множество больших и малых изобретателей. Их работа подготовила успех великого изобретателя. Они работали до него, они работали рядом с ним. Благодаря их трудам так ярок свет, освещающий его славное имя.
Но самих их не заметно. Их не видать в его большой тени.
ГЛАВА ШЕСТАЯ, где показывается, что из корня нового научного открытия вырастает целое деревце с изобретениями на ветвях; изложение то и дело уклоняется в публицистику — в размышления о русском первенстве в изобретениях и открытиях, о патриотизме русских изобретателей; читатель делает на полях заметки, пытаясь взять на карандаш какие-то общие приемы, помогающие изобретать
6.1.
Знаменитый немецкий ученый Лейбниц говаривал, что «полезно изучать открытия других таким способом, который нам бы самим открыл источник изобретений». Совет хороший. Полезно читать историю техники, но особым, изобретательским глазом, чтоб на основании опыта прошлого делать выводы и заметы, которые помогали бы изобретать сегодня. Я проделываю здесь глубокий разрез сквозь слои истории техники, чтобы показать, как вновь открытое физическое явление вдохновляет и продолжает вдохновлять изобретательскую мысль. Выражаясь композиторским языком, это — несколько вариаций на тему электрической дуги. В примечаниях даются примерные заметки, которые внимательный изобретатель должен оставлять на полях любой книги по истории техники.
6.2.
Есть притча о людях, с факелом бегущих ночью. Когда падает один гонец, то другой подхватывает факел. Так бегут люди сквозь темноту, и факел горит неугасимо.
Ломоносов первым поймал молнию, первым свел электрический огонь с небес на землю. Его дело продолжила богатырская дружина мужей русской науки, совершив научный подвиг, равный подвигу Прометея.
Как понять нам треволнения той далекой поры, поры первой любви к электричеству?
Лучше всех поймет их в наши дни радиолюбитель — тот, кто с детства занимался радиотехникой. Полтораста лет назад наши прадеды так же увлекались электричеством, как мы увлекаемся радио.
Ставить опыты было захватывающе просто. Вынимают из кармана монеты. Режут старый камзол на суконные кружки. Смачивают уксусом. Складывают стопкой: монета — кружок… Получается вольтов столб — генератор чудес. От электростатических машин удавалось получать лишь толчки тока — электрические разряды, а от вольтова столба течет постоянный, как поток воды, ток.
Маленький столб — маленькое чудо.
Кончики шнурков из блестящей канители — те, что тянутся от столба, — странно щиплют язык.
Добавляют монет: крепче щиплет.
Ну, а если еще добавить, что тогда?
Может быть, ожог? Потрясение?
Нет… Искра! Совершенно неожиданная вещь.
Чем выше растет столб, тем жарче и ярче искры; об этом сообщают научные книги и журналы.
Вольтовыми столбами занимаются все: ученые, торговцы, врачи, аптекари… В кабинетах королей стоят вольтовы столбы из золотых и серебряных монет.
Занимается вольтовыми столбами и русский академик Василий Петров. Но занимается не так, как другие. Он работает денно и нощно, не щадя себя.
Еще не изобретены чувствительные вольтметры, измеряющие электрическое напряжение. Но Петров сам себя превратил в вольтметр. Он срезал кожицу с кончиков пальцев и ловил мельчайшие уколы электрического напряжения незащищенными нитями нервов.
Одна мысль пьянит академика Петрова. Что, если взять не десяток монет и не сотню, а тысячу, даже несколько тысяч? Каким чудом тогда поразит нас электричество?
Вот бы взять да собрать столб небывалой длины — тысячи на четыре с лишком медных и цинковых кружков, и поглядеть, что получится! Богатырская, должно быть, искра проскочит меж концов шнура! А быть может, и не искра вовсе? Может быть, такое немыслимое чудо, что и вообразить заранее нельзя?
Потому не терпится академику Петрову, пока соберут его «наипаче огромный» столб. Со сборкой мешкать нельзя. Столб такой длины, что, пока собирают головную часть, хвост успевает просохнуть.
На стеклянную скамеечку положены два древесных угля; к ним подведены шнурки от огромной батареи. Осторожно сближаются угольки… И вдруг «является между ними яркое, белого цвета пламя».
Ослепительный огненный мост лег в пролет между углями.
Своды залиты серебряным светом, непривычно резкие тени, словно чернью, отчеканены по серебру.
Предвидение Петрова сбылось.
Он не зря увеличивал количество кружков. Рост количества породил новое качество, небывалое явление, невиданное в природе.
До Петрова электрический свет был вспышкой, искрой, молнией, а теперь он горел постоянно и непомрачимо, как солнце.[9]
6.3.
Академик Василий Петров сделал великое открытие. Он зажег первый источник непрерывного электрического света. Но имя академика Петрова оказалось надолго разлученным с его гениальным творением.
Рассказывают, что историку техники принесли старинную картину с изображением двух простых людей из народа. Фигуры были выписаны на сплошном черном фоне. Черный фон показался историку подозрительным. Историк осторожно ваткой, смоченной в скипидаре, стал смывать с края черную краску. И тогда из-под ватки появился клочок голубого неба, облачко. Облачко было клубом пара. Когда черная краска сошла вся, оказалось, что на заднем плане — паровозик с большими колесами и с трубой, длинной, как верблюжья шея.
Историк понял, что нашел портрет Черепановых — гениальных изобретателей первого русского паровоза.
Видно, чья-то злая, завистливая кисть понадеялась вымарать из истории знаменитое русское изобретение, превратить великих русских изобретателей вновь в безвестных людей.
И вот что режет глаз. Если полистать страницы истории больших русских изобретений, то оказывается, что по многим из них погуляла эта злая, завистливая кисть, многие лучшие страницы оказались замазанными черной краской.
Нам теперь известно, чья эта работа.
В царское время русскую науку и технику окружал глухой черный заговор— заговор молчания.
Заговорщиками были дворяне, чиновники, предприниматели — все, кто правил в то время царской Россией.
Корни заговора шли за границу.
Заправилы царской России презирали все русское, преклонялись перед всем заграничным. Они боялись своего народа, ненавидели его и старались подорвать в нем веру в собственную силу. Им казалось спокойнее передоверить русскую промышленность иностранцам. А поэтому они твердили миру, что русские не способны изобретать и что все толковое в технике придумано иностранцами.
Загранице эта басня была выгодна. Заграница посылала в Россию своих профессоров, восхвалявших заграничные выдумки, умалявших, похищавших русские изобретения.
Когда Петров открыл свою дугу, в Академии наук было много иностранцев. Среди них были люди, свысока относившиеся к России.
Они набросились на светоч, зажженный русским ученым, как пещерные летучие мыши на горящую свечу.
Петров описал свое открытие в книге на русском языке. Но русский язык был не в почете у русских аристократов и их ученых прислужников, пренебрегавших своей родной речью и баловавшихся французским языком. Книгу замолчали.
Академик Крафт первым обмакнул кисть в черную краску. Два года спустя после выхода книжки в статье об опытах с вольтовыми столбами он уже ничего не пишет о Петрове, но зато упоминает английского механика Меджера, который тоже собрал большой вольтов столб и намерен сделать с его помощью новые открытия.
«Я природный россиянин, — писал Петров, — не имевший случая пользоваться изустным учением иностранных профессоров физики и досель остающийся в совершенной неизвестности между современными нам любителями сей науки».
Смелый ум Петрова, его независимый нрав, твердая вера в силу русской науки испугали тех, кто приехал в Россию для того, чтобы русскую науку душить и грабить.
Они стали пытаться разбить колыбель, где родилось великое открытие. По архивным документам это выглядит, как какой-то сговор.
Академик Паррот хладнокровно взял Петрова на мушку. Он принялся строчить на него мелочные доносы, один глупее другого. То он пишет, что нет в физическом кабинете барометров и термометров, хоть они и глядят на входящего со всех стен. То он пишет, что в кабинете от недостатка ухода ослабли магниты, как будто магниты — это лошади, за которыми требуется уход. То он торопится письменно донести, что в углу лаборатории завалялось плохо вычищенное зеркальце.
Академик Фусс — непременный секретарь Академии — с совершенно серьезным видом требовал от Петрова объяснений. Петров защищался от этих мелких уколов, но академик Паррот был ябедником неутомимым.
То была туча маленьких стрел, и Петров изнемогал, как Гулливер под обстрелом лилипутов.
Наконец Петрова отстранили от заведования кабинетом, а ключи велели передать академику Парроту. Петров пытался бороться и не отдавал ключей. Тогда академики пошли на взлом. Академик Фусс с академиком Коллинсом пригласили слесаря и взломали замок.
Так была разорена колыбель электрического света. Под глухим слоем черной краски скрылось с глаз гениальное русское открытие.
Зато как возликовали иностранные профессора, когда восемь лет спустя после Петрова англичанин Деви снова получил ослепительную дугу между кусочками угля, присоединенными к батарее! Честь открытия электрической дуги тут же приписали Деви. В то время в России никто не подал голоса в защиту первенства Петрова, в защиту славы русской науки. Великие научные и технические ценности, которые создавал русский народ, были безнадзорным имуществом.
Советские ученые сегодня смывают черную краску, закрывавшую громадную картину побед нашей научной и технической мысли. На страже славы отечественной науки стоит теперь весь советский народ.
После почти столетнего забвения вышло на свет и вечно будет сиять в веках и имя академика Петрова.
6.4.
Приспособили дугу для освещения все-таки в России.
В 1849 году дуга вспыхнула в Петербурге, на вышке Адмиралтейства, осветив начало трех уличных магистралей: Невский и Вознесенский проспекты и Гороховую улицу.
В 1856 году электрические дуги загорелись на празднествах в Москве. Их зажег русский изобретатель Шпаковский. В программе празднеств они назывались «электрическими солнцами».
Жизнь Шпаковского была геройством. Взрывом опытной морской мины ему повредило позвоночник. И все-таки Шпаковский до конца своих дней трудился у стола лаборатории. Когда он работал стоя, его поддерживали два матроса.
Приспособить дугу для освещения было трудной задачей.
Дуга пылала, и от страшного жара испарялись угли, и с каждой секундой рос пролет между углями. Через полминуты начинало тревожно шипеть и метаться пламя, а затем обрывался ослепительный мост, и дуга погасала. За дугой приходилось неотступно следить и подкручивать рукоятку, сближающую угли, как подкручивают в лампе горящий фитиль.
В середине прошлого века инженеры постарались выйти из положения и пристроили к дуге часовой механизм. Дуговая лампа получилась сложной, как стенные часы. «Тик-так, тик-так», — мерно тикал механизм, постепенно сближая угли. Но дуга не была такой точной, как часы. И она нередко обгоняла ход часов и гасла.
Инженеры пошли на другое усложнение. К часовому механизму пристроили электрический механизм, подгонявший часы, когда лампа собиралась гаснуть и ток через дугу уменьшался. Получился исключительно сложный регулятор. И все-таки он был несовершенным. Несколько ламп нельзя было включить в одну электрическую цепь. Регуляторы не могли работать вместе. Они заботились каждый лишь о своей дуге и, действуя вразнобой, гасили соседние дуги.
На каждую лампу нужна была отдельная небольшая электростанция.
Любители электрического освещения не щадили затрат. Они шли на постройку домашних электростанций. Они ставили в подвале паровую машину и заставляли ее вертеть генератор. Но питали эти электростанции одну-единственную лампу.
Она во всем своем нестерпимом блеске царила в одной-единственной комнате, и лучи ее вырывались из окон в темноту, словно веер прожекторных лучей, а хозяин щурился и опускал глаза. И не было у техники средств, чтобы электрическое солнце разделить и разнести сияющие осколки по всем остальным темным комнатам дома.
Перед техникой встала странная, на наш сегодняшний взгляд, а по тем временам очень сложная задача «дробления электрического света».
Решая эту задачу, даже первоклассные изобретатели заходили в тупик.
Замечательный инженер Чиколев, автор множества изобретений, пред-дожил проводить свет по трубам, как проводят светильный газ или воду.
Так был освещен прессовый цех Охтенского порохового завода. Лампы ставить в цехе не решились: боялись взрыва. Во дворе рядом с цехом поставили башню, похожую на водокачку. Наверху, где должен был находиться бак, горела дуговая лампа силой в три тысячи свечей. От нее, с вершины башни, трубы радиусами спускались в цех. Внутри труб стояли оптические линзы, а в коленах труб — наклонные зеркала. Получилось дорогое и громоздкое сооружение.
Тем не менее предприимчивые американцы Моллер и Себриан ухитрились прикарманить изобретение Чиколева и создать на его основе в Америке особое общество.
Но свет — не газ и не вода: его не передашь без потерь с городской водокачки в дома по трубам. До домов добирались бы такие чахлые лучи, что при этом свете можно было бы свободно играть в жмурки, не завязывая глаз.
А пока электрический свет не мог дробиться, растекаться, как газ по трубам, до тех пор электрическая лампа не могла соперничать с газовым освещением.
Вот такую дуговую электрическую лампу, сложную, как стенные часы, неделимую, как небесное светило, получил в свои руки в 1874 году начальник телеграфа Московско-Курской железной дороги Павел Николаевич Яблочков.
Получил при чрезвычайных обстоятельствах.
Поезд важного назначения должен был следовать в Крым, и на паровозе, впервые в истории техники, поставили прожектор с дуговой лампой. И без того привередливый регулятор при толчках бастовал окончательно, и следить за дугой, подправлять регулятор вручную поручили человеку, наиболее понимающему в электричестве, — начальнику телеграфа дороги Яблочкову.
Ухали туннели, грохотали мосты, поезд летел полным ходом. Яркий луч простирался вперед и ложился на шпалы овальным пятном, и его рассекали огненные струи дождя. В дубленом полушубке, широкоплечий, с бородой, развеваемой вихрем движения, стоял на передней площадке паровоза Яблочков, словно статуя на носу старинного корабля.
Яблочков проворно менял угли, неустанно подправлял регулятор, туже поджимал провода. Руки стыли на резком весеннем ветру, обжигались о горячие угли. Он прозяб до костей, но не мог ни на минуту оставить дугу: подводил несовершенный регулятор.
А на станциях лязгали буфера — меняли паровозы. Перетаскивал и Яблочков свой прожектор с паровоза на паровоз. И снова мчался поезд сквозь долгую ночь, и дуга горела неугасимо.
Когда Яблочков, шатаясь от головокружения, сошел с паровозного мостика на твердую землю, то понял, что светоч, который он оберегал в течение долгих ночей, который он пронес в коченеющих руках через мрак по необъятным просторам России, — этот светоч станет отныне первейшей заботой всей его жизни.
Мимо темных деревень, мимо тусклых городов, мимо брезжащих коптилками станций пронеслась, как комета хвостом вперед, проблистала и скрылась дуга Петрова. А хотелось удержать ее у этих городов и деревень, разнести ее свет по домам и избам, разбросать по улицам и площадям, по всей российской шири.
Надо было сделать доступной всем электрическую дуговую лампу. Надо было как-то упростить регулятор.
Эта мысль завладела Яблочковым, полонила его всего.
Он ходил как заколдованный, и во всем мерещились ему сближающиеся, готовые вспыхнуть угли.
«Где он, регулятор? Где он?»—спрашивали у вещей его рассеянные глаза. Но вещи молчали, безответные.
Это была такая настойчивая, такая неотвязная забота, что мешала служить; и он бросил службу на железной дороге и пошел на работу в мастерскую товарища. Оба были изобретателями, увлекались электричеством. Мастерская стала местом удивительных опытов. Ослепительные вспышки света сверкали в окнах, а однажды в задней комнате громыхнул взрыв.
Есть намеки, что царская полиция заподозрила изобретателей в связи с революционерами. Оставаться в России было опасно. Яблочков сел в Одессе на пароход и отплыл во Францию. Жандармы, гнавшиеся за ним до самой пристани, опоздали на двадцать четыре часа.
6.5.
Яблочков поселился в Париже, в квартале, где жили русские эмигранты, и нанялся на работу в электротехническую мастерскую.
Место было интересное. Он мог целые дни проводить у динамомашин, вечерами же мастерить регулятор.
Яблочков многое перебрал, многое перепробовал.
Он заставил, например, две пружины подталкивать друг другу навстречу два угля. Чтобы угли не сомкнулись, их разделили фарфоровой пластинкой. Но в жару дуги расплавлялся даже фарфор, и минуту спустя угли смыкались. Плавилось все: гипс, глина, кирпич.
Дни шли, месяцы шли — регулятор не получался.
Сокрушенный, сидел Яблочков в дешевом парижском кафе и вертел в руках два карандаша, купленных в лавке напротив. Мысль о регуляторе не покидала его. Он постукивал карандашами по столу и наконец поставил рядом стоймя, осторожно отняв руки.
Регулятор? Да нужен ли вообще регулятор?
Яблочков так и застыл с расставленными руками. Карандаши словно заговорили.[10]
Взять поставить рядом стоймя два угольных стерженька, подвести к основаниям провода, и каким-нибудь третьим угольком на мгновенье замкнуть верхушки. Вспыхнет меж верхушками сияющий мост — дуга. Угли будут сгорать, а пролет между углями расти не будет, лишь все ниже и ниже будет опускаться сияющий мост.
Находка? Решение? Победа?
Нет! Заскок!
Да ведь он не удержится на вершинах стерженьков, ослепительный мост? Ведь он тут же сорвется, соскользнет к основаниям стержней! И дуга со всей яростью примется грызть основания углей, пережжет их у самого низа; подломятся, рухнут стерженьки. Конец всей затее!
Отчаянным взглядом озирается Яблочков по сторонам.
И вдруг заговорила свеча в подсвечнике на столе.
Что удерживает пламя наверху фитиля? Стеарин! Оплывает стеарин, и медленно опускается пламя по фитилю. Так сделай и ты свечу! Окуни эти угли в стеарин, пусть застынет между ними стеариновая прокладка.
Но заранее ясно: стеарин не под стать всесжигающему жару дуги.
Нужно выбрать другой, подходящий, стойкий материал.
Но ведь тебе, как никому, ведомы повадки веществ в пламени электрической дуги. Плавятся гипс, фарфор, глина, стекло, песок, известь… Только не опускай рук! Не получится с гипсом — поможет фарфор, не получится с фарфором — выручит глина. Здесь уже все в твоей воле. Лампа выйдет, не может не выйти!
Окрыленный, возвращается Яблочков в мастерскую. Снова принимается за опыты. И лампа выходит!
Современники ахнули от восторга перед ее гениальной простотой. Просто палочка! Просто свеча! Никаких рычагов, колес, часовых механизмов.
Между двух углей, стоящих рядом, проложено непроводящее вещество, сгорающее с той же скоростью, что и угли. Дуга горит, вещество плавится, обнажая сдвоенную угольную палочку точно так, как стеарин, оплывая, обнажает фитиль.[11]
Однако при питании дуги постоянным током один из углей сгорал гораздо быстрее другого. Это портило все дело.
Но Яблочков вышел из положения, начав питать свои свечи переменным, все время меняющим направление током. Он изобрел для этой цели специальные электрические машины: генератор переменного тока, трансформатор.
Переменный ток оказался на редкость удобным и для тысяч других электрических машин. Так мысль Яблочкова положила начало грандиозной технике переменного тока.
Полагали, что на переменном токе невозможно получить устойчивую дугу, но дуга получилась такая устойчивая, что к одной машине можно было подключать десятки ламп.
Задача дробления электрического света решена окончательно.
Так было доложено в 1876 году Парижской академии наук об электрической свече Яблочкова.
А тем временем лампа уже рвалась из мастерских и лабораторий в повседневный обиход. Она вышла на улицы Парижа в громадных белых шарах молочного стекла. Светозарные шары воцарились над Оперной площадью, две жемчужные нити легли вдоль бульвара Оперы, в голубом, непривычном свете засверкали драгоценности в магазине «Лувр», залились серебристым блеском площадь Этуаль, площадь Конкорд, кафе, концертные залы, ипподром.
«Русское солнце!» — удивленно повторяли парижане. Они вечером толпами выходили на улицы, чтобы не упустить мгновенья, когда разом, словно по волшебству, вспыхивают все фонари. Так туристы встречают солнечный восход.
«Русское солнце!» — кричали жирные заголовки газет.
Появилась французская компания «Главное общество электричества по методу Яблочкова».
«Русское солнце!»—говорили капитаны, шкиперы, матросы пароходов всех стран мира, заходивших в Гаврский порт и лавировавших ночью в свете электрических фонарей так легко и свободно, как в летний безоблачный день.
Далеко за моря летела слава «русского солнца».
За Ламаншем, в тумане Лондона, вспыхивают светозарные шары. Вест-индские доки, набережная Темзы от Ватерлооского моста до Вестминстерского аббатства, Нортумберленд-авеню, железнодорожные станции Чаринг-Кросс и Виктория, знаменитый читальный зал библиотеки Британского музея, рестораны, частные дома — всюду сверкают электрические свечи.
«Русское солнце!» — удивленно повторяют англичане.
Появляется английское общество «Компания электрической энергии и света по способу Яблочкова».
«Русское солнце!»—удивленно твердят испанцы, бельгийцы, итальянцы, немцы, греки… Свечи Яблочкова заливают потоками света лучшие здания, улицы, площади Мадрида, Брюсселя, Неаполя, Берлина, Афин, Пирея…
От сияния «русских солнц» щурятся персидский шах и король Камбоджи. Свечи Яблочкова светят в их великолепных дворцах.
В электрическом свете меркнут бледные пламена газовых фонарей, как пламена свечей — в блеске солнечного дня.
И пайщики газовых компаний злобными, ревнивыми глазами начинают «искать на солнце пятна». Они живут в капиталистическом мире. В этом мире деньги решают судьбу людей: дарят жизнь и приговаривают к смерти.
В газовое дело вложены их деньги, их судьба. И акционеры отстаивают газ с отчаянием и злобой — не на жизнь, а на смерть.
«Свечи Яблочкова превращают зрячих в слепых, — писали они в продажных газетах. — Люди будут слепнуть от яркого света!»
«Если люди не слепнут от солнца, — отвечал им Яблочков, — то подавно не ослепнут от моей свечи».
«Свечи Яблочкова превращают живых в мертвецов, — не унимаются акционеры. — В свете дуг у людей фиолетовые губы и голубоватые лица».
Но одним ударом опрокидывает Яблочков и это возражение. Он добавил в прокладку между углями вещество, которым пиротехники окрашивают пламя фейерверков. Голубая дуга порозовела. Из холодного, мертвенного, голубого свет стал теплым, живым, розовым.
Богатырскими усилиями ума — словом, опытом, выдумкой изобретателя — сокрушает Яблочков препоны ревнителей газа.
Яблочков славен, богат и знаменит. Но нет для него славы вне родины. Нет для него счастья вне отечества. Он спешит возвратиться в Россию, в Петербург.
Но право использовать электрическую свечу в Париже принадлежало иностранным компаниям, и Яблочков собирает все свои средства и за миллион франков выкупает это право. Вскоре учреждается русское товарищество «Яблочков-изобретатель и K°».
От Каспийского до Белого моря широкой россыпью разбегаются по России жемчужины электрических фонарей.
Они светят в Петербурге, в Москве, в Сестрорецке, в Кронштадте, в Нижнем Новгороде, в Гельсингфорсе, в Колпине, в Ораниенбауме, в Полтаве, в Брянске, в Красноводске, в Архангельске. Еще редка эта россыпь, но исход борьбы предрешен. Газ уступает дорогу электричеству. Старое расступается перед новым. Это новое несет в мир русский изобретатель Яблочков.
И его поддерживают пайщики русской, французской, английской электрических компаний. Ведь для них это не только световой поток, но и золотой поток, льющийся в их карманы.
Безудержно разливается «русский свет», и в его лучах бледнеют газовые фонари, как ночные звезды с восходом солнца.
6.6.
Но внезапно стал давать себя знать непредвиденный соперник свечи, развивавшийся с неодолимой силой. Он был так неказист на вид, что при первом знакомстве выглядел пустяком. В совершенно пустой стеклянной колбе трясся мелкой дрожью волосок, почти не различимый глазом. Он, казалось, готов был разлететься от дуновенья, но был упруг и прочен, как струна. Электрический ток калил его добела, и светился он в сотни раз ярче колпачков газовых фонарей. Это была угольная электрическая лампа накаливания, изобретенная Лодыгиным.
Она стала теснить свечу Яблочкова во всех областях.
Свеча горела полтора часа, а лампа в пятьсот раз дольше!
Свеча, однажды погаснув, не могла зажечься вновь, а лампа тысячи раз зажигалась и гасла!
Свеча не могла стать маленькой, потому что глохла электрическая дуга, а лампа свободно вмещалась даже в карманный фонарик. Можно было тысячи ламп подключать к одной машине.
И на выручку свечи шел и вязнул в нескончаемых опытах Яблочков.
Чтобы хоть как-то удлинить срок горения дуговых ламп, он стал ставить по нескольку свечей в один колпак и придумал изумительно простое устройство, чтобы свечи сами загорались одна за другой.
Он решил наконец и труднейшую задачу: свечи стало возможным гасить и зажигать многократно.
Все же угольная лампа накаливания продолжала теснить электрическую свечу. Гениальным чутьем изобретателя чувствовал Яблочков, что правда науки, правда жизни отныне не на его стороне. И сердце его к свече охладевало.
Он начал опыты по накаливанию током каолиновых стерженьков. Это был плодотворный путь, много лет спустя приведший немца Нернста к замечательной лампе накаливания.
Вот что было сказано об этой лампе на 1-м Всероссийском электротехническом съезде в 1900 году:
«Волею судеб эта яблочковская лампа через 24 года воскресла с такою помпою под именем лампы Нернста. Пусть Нернст ищет славы и благодарности человечества, но только в области механизмов для предварительного нагревания магнезии, а не присваивает себе принципа этой лампы. Пусть он будет только ювелиром, оправляющим в чудную оправу перл русской изобретательности. Так повелевают поступить честь и справедливость».
Но Яблочкову самому не удалось довести до конца свое изобретение. Ему помешали жестокие законы капиталистического мира.
В этом мире деньги правили жизнью людей. В электрических свечах были деньги пайщиков, их судьба. И пайщики цеплялись за электрические свечи, как за жизнь.
«Яблочков рубит сук, на котором мы сидим!» — кричал французский синдикат.
«Яблочков рубит сук, на котором сидит он сам!» — кричало русское товарищество.
Страх затемнял их рассудок. Они висли у Яблочкова на руках и толкали его на старую, избитую колею, загоняли в обжитой безысходный тупик. Золотая цепь приковала Яблочкова к свече, и он тщетно рвался с этой цепи.
Новое, растущее неодолимо шло против него, а его вынуждали бороться с этим новым против разума, против сердца. Яблочков отказался продолжать борьбу.
Тогда пайщики предали Яблочкова. Они в панике побежали из компаний, словно крысы с тонущего корабля. Они выстроили дом, притащив каждый по кирпичу, а теперь бежали из дома, расхватывая свои кирпичи. Здание рухнуло, погребя под обломками нерасторопных. Компании, товарищества лопнули. Яблочков был разорен совершенно.
Золотые оковы упали с его рук. Он был свободен.
Свободен ли?
И тут Яблочков с полной ясностью понял, что в мире, где деньги властвуют над людьми, изобретатель, как бы велик он ни был, в сущности раб, бесправный человек.
На заре электрического света стоял Яблочков у развилины двух дорог. Одна вела к лампе дуговой, другая — к лампе накаливания. Яблочков выбрал первую. И сейчас же хлынул вслед золотой поток, подхватил, закружил Яблочкова и понес с собой, как щепку. Полоненный, лишенный свободы выбора, несся Яблочков туда, куда влек его золотой поток.
А теперь, когда обмелел поток, сможет ли Яблочков сделать выбор, сможет ли осуществить хоть одну из бесчисленных новых идей, роящихся в голове?
Нет, не может. Для осуществления новых изобретений нужны деньги. Ну, а он разорился, он банкрот.
В бедности доживает Яблочков последние годы жизни. Погасают один за другим огни его фонарей.
6.7.
Но неугасима слава русской науки.
Не забылось и будет жить в веках имя Павла Яблочкова, разбросавшего по земному шару жемчуг электрических фонарей. Светозарное зерно, зароненное Яблочковым, прорастает великими изобретениями.
Над свечой Яблочкова, над дугой Петрова склонился русский изобретатель Николай Николаевич Бенардос. Он работает в мастерских Яблочкова, но к дуге у него особый подход: свет дуги его не интересует, ему даже мешают ее ослепительные лучи. Он глядит на дугу сквозь темные стекла, как разглядывают затмение солнца. Средь кромешной тьмы, в узком ореоле света, между двух раскаленных углей плавится, пузырясь, и оплывает глиняная прокладка свечи. Не лучи дуги, а ее нестерпимый жар приковал внимание Бенардоса.
«Жар дуги так силен, — соображает Бенардос, — что в свече Яблочкова плавится, как воск, даже огнеупорная глина. Значит, и подавно расплавится металл… Значит, можно в свече плавить железо!»
В новом, непривычном виде представляется ему свеча… Плавильная печь в кармане! Вагранка размером с карандаш! Вот во что перерастает свеча Яблочкова. Кирпичная башня плавильной печи заменится тоненьким стержнем.
Вихрем проносятся у Бенардоса в голове поразительные выгоды этой замены. Не свечу видит Бенардос перед собой, а волшебную палочку, которой во всем подчиняется железо.
Эта палочка чудодейственно исцеляет пороки и раны металла, словно скальпелем рассекает железо, заживляет в нем раковины — язвы — и сшивает в нем трещины, как игла.
Все яснее вырисовывается перед Бенардосом облик палочки-исцелительницы.
В точности такой же, как свечу, делать палочку не стоит. Смысла нет зажимать железную пластинку в промежутке между углями. И не только потому, что железо проводит электрический ток даже лучше, чем угли. Ведь железо и плавится лучше, чем угли. Оно быстро выплавится из промежутка, и дуга соскользнет к основаниям углей. Надо жечь дугу между угольными стержнями и вводить в нее со стороны железный пруток, как сургучную палочку в пламя свечи.
Одно неудобство: обе руки держат угли, а вводить палочку в пламя нечем.
Да ведь можно беспрепятственно выбросить один уголек! А освободившийся провод подключить прямо к тому железному телу, над которым ведется операция. Дуга вспыхнет между телом и оставшимся угольком. Этот уголь и надо держать в руке, а другой рукой вводить в дугу железный пруток. И пруток расплавится, потечет, как сургуч, заплавляя раковины и трещины железного тела.
Если жечь дугу без прутка, то дуга начнет грызть железное тело и за ней протянется глубокий разрез.
Вот она, палочка-исцелительница, игла и скальпель! «Электрогефест» — называет ее Бенардос именем сказочного кузнеца Гефеста.
Бенардос чувствует себя хирургом. Груды искалеченных машин и их деталей — сломанные рычаги, щербатые шестерни, лопнувшие станины — ждут исцеления. Но не только о них думает Бенардос.
Замахнулся он на смелое дело, близкое каждому русскому человеку. Он решил восстановить кремлевский Царь-колокол.
Около полутораста лет назад литейный мастер Иван Маторин с сыном отлили исполинский колокол в 12 327 пудов 19 фунтов весом. Но внезапный пожар охватил деревянные конструкции над ямой, где отливался колокол. Колокол в жару раскалился докрасна. На него плеснули водой, он треснул; от края отвалился осколок.
С той поры возвышается колокол на каменном подножии, как большой бронзовый шатер, и чернеет в его боку пробоина, широкая, как ворота. Исполинский осколок стоит рядом, прислоненный к подножию.
Случай погубил гениальное создание русских мастеров, и теперь, через сотню лет, тянет им руку помощи другой русский мастер. Бенардос решил поправить колокол, приварив к нему осколок своим «электрогефестом».
Многоустый хор газет известил Россию об этом намерении.
«Г-н Бенардос восстанавливает Царь-колокол»—кричали газеты.
А тем временем изобретатель в мастерской в Петербурге, бледный от нетерпения, вел опытные сварки.
Кончена сварка, сделан шов, но от несильного толчка расходятся сваренные детали, словно сметаны были на живую нитку.
Уверенный в правильности избранного пути, Бенардос продолжает опыты.
«У «электрогефеста» блестящее будущее!» — говорили ученые в поздравительных речах. И, прислушиваясь к их речам, капиталисты спешили вложить свои деньги в дело Бенардоса.
На десятилетия опережая время, создавал Бенардос все новые и новые схемы электросварки, одна остроумнее другой.
И с каждым днем яснее и яснее понимал, что где-то тут, под самым боком, стоит незримая преграда. Словно кто-то коварный и невидимый толкал его под руку и мешал простому, как дважды два, делу.
6.8.
О работах Бенардоса прослышал в далекой Перми горный начальник Пермского пушечного завода Николай Гаврилович Славянов.
Он построил динамомашину собственной конструкции и принялся повторять опыты Бенардоса.
И тотчас же закружился вокруг Славянова тот же самый хоровод неудач.
Сварные швы получались ломкими и хрупкими и отскакивали от металла, как горелые корки от хлеба.
Но Славянов был блестящий инженер-металлург. Точное знание удваивало его силы.
И он разоблачил затаенного врага Бенардоса.
Врагом был угольный стержень.
С угольного стержня в железо переходил углерод, и металл, науглеродившись, становился хрупким и непрочным.
Электрическая дуга, полыхавшая на тугоплавком угольном стержне, была слишком жарка и пережигала металл. Благодетельный жар, многократно умножавший яркость дуговых электрических ламп, здесь оказывался вредным.
Вся беда была в том, что «электрогефест», родившись из лампы, наполовину еще оставался лампой.
Это сумел разглядеть Славянов острым глазом инженера, просветленного знанием металлургии.
Гениально просто расправился Славянов с вредным пережитком дуговой лампы — отравителем металла. Угольный стержень Славянов выбросил прочь, а освободившийся электрический провод прикрутил к железному стержню, который Бенардос вводил со стороны в дугу.
Дуга вспыхнула прямо между стержнем и металлом. Она была не жаркой. Стержень плыл каплями, и они вливались в лужицу подтаявшего в жару дуги металла. Железо застывало прочным швом.
На Мотовилихинском заводе Славянов открыл электросварочный цех.
Как больных к прославленному лекарю с последней надеждой на исцеление, везли из разных городов России к Славянову в Мотовилиху искалеченные части машин. И Славянов исцелял их.
Из далекой Новгородской губернии на барже по Волге и по Каме привезли разбитый колокол в 300 пудов весом. И Славянов заварил в нем трещины, приварил к нему отбитые куски. И колокол гулким торжественным басом возвестил о победе русской науки.
Свои опыты Славянов решился описать в книжке.
Эту книжку прочитали коммерсанты — компаньоны Бенардоса — и возмутились. Они потребовали через суд, чтобы Славянову запретили заниматься электросваркой. Ведь они хозяева электросварки, они используют патент Бенардоса и вложили в него свои деньги, и теперь никто не смеет без их согласия касаться этого дела. Ведь не только целительный пламенный ручеек стекает с конца железного стержня, но и золотой ручеек.
Они жили в капиталистическом мире. В этом мире каждый имущий был хозяином и не отрывая глаз стерег свой источник богатства, свой золотой ручеек. И везде ему мерещились враждебные тени, крадущиеся этот ручей перекопать, отвести в сторону.
Не соратника увидели в Славянове компаньоны Бенардоса, а соперника и врага. И они всячески старались принизить работу Славянова, доказать, что она не изобретение вовсе.
А Славянов не мог и не хотел расстаться с работой, в которую внес столько нового. Завязалась изнурительная тяжба. Компаньоны заботились лишь о своих карманах, и им дела не было до того, что их происки разъединяли двух больших русских людей, мешали им разглядеть и оценить друг друга. Изобретателей ссорили между собой, вместо того, чтобы помочь им соединить усилия.
Наконец суд при помощи ученых разобрался в деле и, признав самостоятельность изобретения Славянова, разрешил ему продолжать работу, а Бенардосу, наоборот, запретил применять железный электрод.
Но Славянов надорвался. Многолетние опыты с дугой, когда грудь обжигало дыханием расплавленного металла, а спину леденило сквозняками цехов, отразились на его здоровье. 7 октября 1897 года Славянов умер.
В царской России электросварка почти не нашла применения. Замечательное русское изобретение заграбастали американские капиталисты.
6.9.
Лишь с приходом Великой Октябрьской социалистической революции расцвела в России, на родине дуги Василия Петрова, электросварка.
С легкой руки Яблочкова постоянный ток в проводах электропроводок заменили переменным током. Однако переменный ток, пришедшийся к месту в большинстве электрических машин, был неудобен для электросварки. Электрическая дуга горела неустойчиво, и многие изобретатели стали задумываться над тем, как увеличить устойчивость дуги.
Еще Яблочков заметил, что обмазка на его свече повышает устойчивость дуги. И забытая идея Яблочкова подсказала изобретателям дорогу. Они поставили опыты, и железные электроды стали делать также в обмазке почти того же химического состава, что и в свече. Обмазка плавилась вместе с электродом, ее пары наэлектризовывали воздушный промежуток, и дуге становилось легче проскакивать через воздух.
Когда свариваешь электродом с обмазкой и отводишь его от металла, дуга словно прилипает к электроду и растягивается вслед за ним, как резинка.[12]
Железные леса росли на строительных площадках страны. Дуге было привольно в чаще железных балок. На московских площадях вырастали каркасы зданий строго и правильно, как громадные кристаллы. Водопады огненных брызг свисали со стальных перекладин, как хвосты огненных павлинов. Ночью чудилось, что стальные каркасы — это клетки, где живут жар-птицы. Словно сказочная жар-птица, перепархивает электрическая дуга с балки на балку, со стропила на стропило, спаивая их в один нерушимый железный скелет, и со сказочных высот осеняет строителей взмахами широких фиолетовых крыльев.
Полтораста лет назад одиноко сияла дуга в лаборатории академика Петрова. Тщетно рвались ее лучи из узких окон лаборатории и запутывались в черной сети теней пустынного академического парка.
А тем временем в темных и чадных кузницах полуголые кузнецы, надсаживаясь из последних сил, тяжкими молотами склепывали раскаленное железо. Свет науки не достигал их. В мире, где деньги властвовали над людьми, непрозрачная стена отделяла науку от народа.
Ныне сотни советских изобретателей и научных работников не в одиночку, а дружной семьей, в лабораториях, светлых, как оранжереи, выращивают необыкновенные дуги, словно огненные цветы. Терпеливо, как садоводы, прививают изобретатели дуге новые качества и свойства. И немедленно тысячи рабочих рук подхватывают обновленную дугу и несут ее всюду: внутрь цистерн и котлов, на борта пароходов, на вершины водокачек и радиомачт.
Ведь дуга облегчает людям тяжелую работу. Ведь наука при социализме служит народу.
И не прихотям коварных золотых рек и ручьев подчиняются творческие помыслы советских изобретателей и ученых, а насущным народным нуждам.
Светоч знания никогда не померкнет в руках ученых. И работается ученым радостно и свободно потому, что их во всем поддерживает народ.
Выдающийся ученый профессор Хренов погрузил дугу в подводное царство. Он заставил кипящую сталь ужиться с холодной водой.
Хренов знал, что от жара дуги под водой вздувается газовый пузырь, и внутри него, как в хрустальном шаре, сможет мирно гореть электрическая дуга. Но не просто было получить устойчивый газовый пузырь.
Для работы Хренову построили стальной бак в два человеческих роста высотой, с трубопроводами для быстрой смены воды, мощным подводным освещением и окнами-иллюминаторами, чтобы наблюдать снаружи, что творится внутри. В этом баке Хренов и его помощники-водолазы отработали специальные обмазки для электродов, пропитанные водонепроницаемым лаком.
Результаты сложных исследований были удивительно просты.
Надо было применять такую обмазку, которая плавилась бы немного труднее, чем железный стержень. Тогда на конце электрода остается венчик обмазки, на котором повисает устойчивый газовый пузырь, словно мыльный пузырь на раструбе соломинки. Во время горения дуги от нее расходится оранжевое облако — это тонкие частицы ржавчины расплываются в воде. От защитного пузыря фонтаном журчат пузырьки, так что кажется, что вода кипит. Но дуга горит спокойно и устойчиво и может плавить и резать металл под водой почти так же быстро, как и в воздухе.
Значение изобретения профессора Хренова огромно.
Отныне пробоины кораблей и подводных лодок можно латать под водой, не заводя корабли в сухие доки. Открываются новые пути подводного строительства.
На гигантских водных сооружениях для подводной сварки открыт большой простор.
Дуга Василия Петрова зажглась в подводном мире, словно солнце, катящееся за горизонт, и впрямь погрузилось в глубины моря…
Когда грянула война, советские люди и электрическую дугу поставили на защиту своей Родины. Не церковные колокола, как полвека назад, а броневые купола и танковые башни варила дуга Василия Петрова. Не ударам колокольного языка, раскачиваемого глухим звонарем, должны были сопротивляться сварные швы, а ударам снарядов противотанковых пушек.
Пушки и мины предъявляли небывалые требования к прочности сварки. И тут выяснилось, что воздух, которым мы дышим, оказывается для шва отравой. Кислород и азот поглощались расплавленным металлом, и от этого металл становился более ломким и хрупким.
Изобретатели стали думать над тем, как оградить место сварки от доступа воздуха.
Но не только одна эта забота тревожила изобретателей.
Надо было резко повысить скорость сварки.
«Больше танков!» — требовал фронт. «Больше танков!» — звучал наказ народа.
На заводах всех стран мира сварка танков велась вручную, и это стало казаться таким медлительным и неуместным, как шитье гимнастерок ручной иглой.
В лабораториях и научно-исследовательских институтах развернулось сражение за прочность и скорость сварки. И сражение это выиграл один из полководцев научного фронта, профессор Е. О. Патон.
Он придумал машину, обгоняющую электроды Славянова и Бенардоса настолько же, насколько швейная машина обгоняет иглу швеи.
Электросварочная машина Патона и впрямь похожа на швейную. Словно нитка в швейной машине, непрерывно подается к машине проволочный электрод. На конце у «нитки» иголки нет. Вместо нее пылает дуга Василия Петрова.
Но самой дуги не видно. Она скрыта слоем флюса — порошка особого состава, сыплющегося из маленького бункера наверху. Замечательный способ сварки под слоем флюса придумал советский изобретатель Дульчевский. Флюс плавится в дуге и застывает каменной коркой шлака, защищая шов от доступа воздуха. Флюс, как теплым одеялом, укутывает дугу, и от этого зной дуги возрастает и идет почти целиком на плавление металла: капли жидкого металла брызжут с проволоки дробной струей. Жар дуги велик, но он не пережигает металл: одеяло из флюса не пускает ко шву кислород.
Головка машины резво двигается вдоль стыка броневых плит; и когда вслед за ней сбивали зубилом корку шлака, то под коркой открывался блестящий, как ртутный ручей, гладкий и прочный шов.[13]
Изобретатели Советской страны преображают технику, а новая техника преображает человека.
Поглядите на электросварщика, работающего на машине Патона. То не согнутый в три погибели сварщик, в неослабной мускульной натуге кладущий стежок за стежком. Это ставший во весь рост человек — его поступь свободна и корпус прям. Строгая складка между бровей говорит о работе мысли. Он лишь изредка трогает податливые рычаги, сопоставив в уме показания стрелок приборов. Пропасть между мускульным и умственным трудом исчезает.
Советские танкисты, сражаясь в танках, сваренных машиной Патона, движимые патриотизмом и чувством долга перед Родиной, увенчали себя славой героев. Высшим званием Героя Социалистического Труда удостоен и профессор Патон.
Кончается война, и мечи перековывают на плуги. На решение задач мирного строительства обращается всей своей мощью и рожденная в боях автоматическая электросварка.
Новым советским электросварочным машинам дано имя могучее и мирное: электросварочный трактор. Этот трактор движется на колесах, но не тащит за собой плуга. Он несет лишь электросварочную головку, как в машине Патона.
Но когда электросварочный трактор идет по стальным этажам высотного здания, за ним стелется сварочный шов, словно мирная борозда.
6.10.
А как же дуговые лампы, «русское солнце»?
Неужели сложили они навсегда свое лучистое оружие?
На этот вопрос отвечать придется издалека.
Гениальную картину Репина «Иван Грозный и его сын Иван» чуть не погубил сумасшедший. Он забрел в Третьяковскую галерею и ударом ножа вспорол холст. Картина, казалось, была ранена насмерть, краски облупились, по лицу Ивана Грозного прошел рваный разрез.
Картину спасали лучшие реставраторы России. Терпеливо, нитка за ниткой склеивали они драгоценный холст и добились чуда: рваные края разреза срослись, как лживое тело. Восстанавливать живопись должен был сам Репин.
Когда Репину сообщили о несчастье, престарелый художник, говорят, обрадовался. Он с годами будто бы стал замечать недостатки картины, которых раньше не видел. Год от году она нравилась ему все меньше и меньше. Он втайне укорял себя за пренебрежение к фиолетовым оттенкам и все тверже убеждался в том, что лицо Ивана Грозного он пережелтил.
Репин рад был случаю исправить «ошибки». Он стал писать лицо Ивана Грозного заново, налегая теперь на холодные фиолетовые тона.
Почитатели художника тревожно следили за его кистью. И чем дальше подвигалась работа, тем сильнее росло беспокойство и недоумение окружающих. На глазах у всех в радостном вдохновении художник портил свою картину. А когда он, довольный и успокоенный, отошел от станка, окружающим стало ясно: последние мазки репинской кисти оказались для картины смертельней, чем удар ножа. Картина была погублена бесповоротно.
Почитатели умоляли художника вернуться к своим старым краскам, но Репин только смеялся и махал руками.
Тогда решили смыть все репинские исправления, а другой художник по репродукциям и памяти восстановил картину в прежнем виде.
Много лет назад над странностями Репина призадумался один физиолог. Прихоть ли это? Если так, то почему от многих картин художника, написанных в старости, на чужбине, веет холодом лиловых тонов?
Ученый стал ходить по музеям и рассматривать полотна других живописцев. Он искал в уголках картин даты, стоявшие рядом с подписями, и заглядывал в справочную книжку, где помечены были годы жизни известных художников.
Он подметил любопытный закон: многие художники, дожив до старости, заражаются склонностью к лиловым тонам, и с годами на их полотнах все полнее забирают власть голубые, синие, фиолетовые краски.
Ученый, повторяю, был физиологом и причину стал искать не в капризах творчества, а в особенностях человеческого зрения. Ведь с годами глаза человека слабеют, изменяются. Может быть, и цвета пожилой человек начинает видеть по-другому?
Физиолог проследил, как меняются глаза пожилых людей, и нашел, что под старость хрустально прозрачная среда глаза понемногу желтеет. Значит, многие старики начинают глядеть на мир, как сквозь слабое желтое стекло. А ведь желтое стекло потому и желто, что легко пропускает желтые и красные лучи, а фиолетовые и синие поглощает. Смотрит художник на картину пожелтевшими глазами. Сверкают синие краски на полотне, рвутся с холста, рвутся — и не могут пробиться сквозь желтые среды глаза.
Ворчит художник, что синие цвета на холсте тусклы, и не знает, что краски тут ни при чем, а это глаза его к синим цветам стали подслеповатыми.
Бывает неполная глухота: уши плохо слышат басовитые тона, а тонкие звуки разбирают вполне прилично.
И вот представьте, что глохнет дирижер. Слышит он, как звонко запевают флейты и скрипки, но все ему чудится, что ударные слабы. Бьют литавры, ухает барабан, а дирижер все злее тычет палочкой: давай, давай, давай! Гремят ударные, глушат все и вся… Люди зажимают уши: что случилось с дирижером?
Стоит художник не с палочкой, а с кистью в руке, перед ним на холсте — безмолвный хор красок, беззвучная симфония цветов. В полном блеске синие мазки — полыхают синим огнем. Но у художника желтые глаза, ему недоступно сверканье синих красок. И он тычет и тычет кистью, как глухой дирижер палочкой, бередит, разжигает их сильней и сильней. Озадачены люди беспутством красок: что стряслось с художником?
Впрочем, это беда не одних пожилых людей: все мы каждый вечер попадаем в их положение. Вечером, при свете электрических лампочек, картины заметно изменяют свои цвета. Синие тона меркнут и как бы отходят вглубь, а красные, оранжевые, желтые краски выступают из холста, затмевая все остальное.
Будь у нас взыскательность репинского зрения, нам бы обязательно захотелось картину переписать, оживить поблекшие синие краски.
Но виновны на этот раз не наши глаза, а свет электрических ламп. Синие мазки только потому и сини, что отражают синие лучи. А если свет такой, что синих лучей в нем мало, то и отражать, разумеется, нечего: синие мазки обесцветятся. В свете электрических ламп накаливания мало синих лучей, зато много красных, оранжевых, желтых. В этом легче всего убеждаешься на рассвете, когда немощно желтыми кажутся фонари, побеждаемые блеском солнечного дня.
Вечерами, в желтом свете электрических ламп, глаза как бы стареют, и не одни художники попадают впросак из-за этой временной старости зрения.
Типографы готовятся выпустить за ночь срочный плакат. Они сели поближе к лампе, смешивают краски, пристально всматриваясь в цвета. Всю ночь вращаются валы ротационных машин, шумит многоцветный водопад бумаги. А наутро спохватываются: все плакаты поражены, как болезнью, мертвым холодом фиолетовых тонов.
На фабрике красильщики горюют над куском бракованной ткани.
Хирург, сделав разрез, заколебался в диагнозе — так изменился цвет опухоли в обманчивом свете электрических ламп.
Выходит, что электрические лампы морочат нас. И ученые задумались над тем, как сделать электрический свет правдивым до конца, чтобы сделать еще один шаг к солнцу.
6.11.
Дело, казалось бы, простое.
Красных, желтых, оранжевых лучей электрические лампы испускают больше, чем нужно. Значит, надо притушить поток этих лучей, чтобы они не преобладали над синими.
Иностранные фирмы так и поступили. Они выпустили лампы в синеватых колбах. Синее стекло затемняло красно-желтые лучи, синие же пропускало без потерь. Если верно подобрано стекло, то действительно свет этих ламп мало отличается от дневного. Получилась лампа дневного света.
Очень просто, но какой дорогой ценой! Все, что было ярким и сильным в снопе ее лучей, поглощалось синим стеклом. Зажечь факел, а затем нарочито затемнять его, завладеть лучистым богатством, а потом обкрадывать самих себя — по этой ли дороге шагают к солнцу?
Правду говорят в народе, что иная простота хуже воровства. Простота эта была отступлением в науке. А советские ученые не привыкли отступать.
Если синих лучей мало, если синие лучи — это «узкое место» в лампе, то неправильно равняться по узким местам, затемняя нарочно лучи желтые. Настоящие изобретатели так не поступают. Они всю свою выдумку обратят на то, чтобы в самой лампе отыскать резервы получения синих лучей.
И советские ученые с академиком С. И. Вавиловым во главе начали создавать новую электрическую лампу, дерзко перекраивая все ее лучистое хозяйство.
Хозяйство было сложное. Лампы излучают не только видимые, но и невидимые лучи, бесполезные для освещения. На невидимое излучение понапрасну затрачивалась электрическая энергия.
Вавилову пришла в голову смелая мысль: в незримых лучах отыскать резерв для получения света.
Кто хоть раз просвечивался рентгеном, тот видел, как незримые лучи превращаются в видимый свет. Под незримым потоком рентгеновских лучей голубым, холодным светом загорается экран, покрытый светящимся составом.
Академик Вавилов был подлинным мастером холодного огня и прославился в науке тем, что открыл важнейшие законы холодного свечения, указал пути для создания многих удивительных светящихся составов.
Вавилов взял на особую заметку составы, которые светились под действием невидимых ультрафиолетовых лучей, тех лучей, которые, присутствуя в солнечном свете, покрывают нашу кожу загаром. Лучи эти незримо присутствуют и в излучении электрических ламп. Ведь известно, что можно загореть и при мощном электрическом свете.
Батарея банок со светящимися составами выстроилась на полке лаборатории академика С. И. Вавилова. Днем они казались скучно-белыми, как зубной порошок. Но как только плотно зашторивали окна и включали источник невидимых ультрафиолетовых лучей, банки вспыхивали в темноте холодными цветными огнями, как на черном бархате камни-самоцветы.
Одна из банок была как большой рубин, озаренный изнутри, другая похожа на желтый светящийся топаз, третья полыхала зеленым изумрудным светом, а четвертая, как сапфир, излучала синее сияние.
Это и была как раз самая нужная банка. В ней хранился светящийся порошок, превращавший невидимые лучи в синий свет.
Порошок будто сам просился в дело. Вот бы взять да замешать на этом порошке светящуюся краску и закрасить ею поясок вокруг колбы лампы накаливания! Поясок засветится синим светом под воздействием невидимых ультрафиолетовых лучей, до сих пор пропадавших для освещения зря. Синий свет от пояска сольется с желтоватым светом лампы и добавит ему голубизны, которой недоставало.
Но ведь это все равно что идти с чернильницей красить реку! Слишком мало дает лампа накаливания ультрафиолетовых лучей, слишком слабым будет синее сияние. И вся физика твердит о том, что немыслимо увеличить заметно ультрафиолетовое излучение лампы накаливания.
Что же делать? Отступиться от замысла? Сдаться? Но советские ученые не сдаются.
Разве вправе отступать в науке дети Яблочкова, внуки Петрова? И великие русские предки подсказывают ученым путь к победе. В дуге Василия
Петрова открылся миру новый источник света—электрический разряд в газах.
В ходе опытов Яблочкова над его свечой стало ясным, какие богатые возможности таятся в электрическом разряде для гибкой перестройки лучистого хозяйства ламп. Цвет пламени электрической свечи изменялся от добавки химических веществ в прокладку между углями.
Эти богатые возможности задумал использовать до конца академик Сергей Иванович Вавилов.
Со времен Яблочкова и Петрова русская наука шагнула далеко вперед. Для получения электрического света уже давно применяли не одну дугу, но и много других разновидностей электрического разряда в газах.
Выпускались газосветные лампы, где в стеклянной трубке между проволочными электродами сияла длинная негаснущая искра. Лампы эти светили гораздо тусклее дуги, но электроды при этом не плавились и почти не раскалялись. Светился разреженный газ, заполнявший трубку. От замены газа резко изменялся цвет свечения. Газ неон давал ярко-красный свет, газ аргон — синий, пары натрия — неприятно желтый, пары ртути — резкий фиолетовый. Лампы эти шли для ночных реклам, а для освещения вовсе не годились. В их цветных лучах безнадежно путались все краски: очень уж разнился их свет от дневного.
Но для воплощения смелой идеи Вавилова эти лампы открывали широкий простор. В излучении их таился большой резерв ультрафиолетовых лучей. Бесцветные газы в запаянных стеклянных колбах, белые порошки в баночках — все это стало в руках академика Вавилова и его сотрудников волшебной палитрой, легко рождавшей электрический огонь любого цвета.
Сотрудники С. И. Вавилова наливали в трубки будущих газосветных ламп жидкость, в которой был разболтан светящийся порошок. Затем жидкость сливали, и трубка делалась похожей на немытый стакан из-под молока: тонкий, прозрачный слой светящегося состава оседал на ее стенках.
А когда готовая лампа загоралась, то в незримом потоке ультрафиолетовых лучей полупрозрачный слой вспыхивал ярким цветным свечением. Бесполезная энергия невидимых лучей переходила в видимый свет. Этот свет вливался в цветной световой поток электрического разряда, дополняя его недостающими лучами.[14]
Это было такое общее решение задачи, что заветная лампа дневного света получалась здесь мимоходом, как пример среди множества многоцветных, по заказу осуществимых ламп.
Газосветную лампу прозвали лампой-радугой.
Газосветные лампы Вавилова, превращавшие в свет даже невидимые лучи, экономили электрическую энергию. Сэкономить же хотя бы грош на каждой электрической лампе — значит получить громадную экономию вообще. Ведь лампа — это капля электрического огня. По всей стране эти капли сливаются в океан электрического света. Сэкономить на каждой лампе один процент электрической энергии в нашей стране — это все равно, что построить громадную гидроэлектростанцию.
И когда на минуту зажмуриваешь глаза в лаборатории, где в маленьких фарфоровых ступках растирают хрустящие порошки, кажется, что слышишь отдаленный скрежет бетономешалок на строительстве новой исполинской плотины.
Теперь газосветная лампа начинает теснить лампу накаливания.
Так возвращается, торжествуя, отошедший на время в тень великий принцип Петрова — Яблочкова. В ходе времени слава больших русских изобретателей не уменьшается, а возрастает. Советские ученые дают ей новую жизнь.
Лампа С. И. Вавилова принесла дневной свет горнякам в подземелья, куда никогда не заглядывает солнце.
Метростроевцы — строители подземных дворцов — поговаривают уже о подземных садах с цветниками и клумбами.
Ведь нетрудно сегодня подобрать газосветную лампу, посылающую растениям жизнетворные лучи, которые находят они в солнечном свете.
Художник теперь, не колеблясь, смешивает краски, а хирург бестрепетно направляет скальпель, спасая жизнь человека.
Светит им русский свет, белый свет без обмана. Люди ласково щурятся в лучах лампы, возвращающей молодость их глазам.
6.12.
В толстой книге, переплетенной свиной кожей, я прочитал старинную басню:
Фонари Случилось паре Быть Фонарям в амбаре: Кулибинскому и простому, Такому, Как ночью в мрачну тень С собою носит чернь. Кулибинский сказал: «Как смеешь, старичишка, Бумажный Фонаришка, Ты местничать со мной? Я барин, я начальник твой. Ты видишь, на столбах ночною как порою Я светлой полосою, В каретах, в улицах и в шлюпках на реке Блистаю вдалеке. Я весь дворец собою освещаю, Как полная небес луна». «Так, подлинно, и я то знаю,— Ответствовал простой Фонарь,— Моя перед тобой ничто величина; Сиянием вдали — ты царь, Лучами яркими — ты барин Но разве только тем со мной не равен, Что — вблизь и с стороны покажемся кому — Во мне увидят свет, в тебе увидят тьму, И ты окружных стекл лишь светишь лоскутками». Иной и господин умен секретарями.Басню написал известный русский поэт Гавриил Романович Державин.
Не все в ней понятно. Что за старинный фонарь, блистающий издали и темный вблизи и со стороны?
Оказывается, Державин писал о прожекторе. Первым прожектором и был знаменитый кулибинский фонарь.
В 1779 году современник Державина гениальный русский изобретатель Кулибин построил фонарь необычайной силы.
Кулибин рассуждал так: если взять свечу и поставить за ней зеркало, увидишь две свечи — свечу и ее отражение. И светить они будут почти вдвое сильней. «Почти» — потому что отражение пламени тусклее, чем само пламя. Кулибин взял пятьсот маленьких зеркал и увеличил силу света в пятьсот раз. Для этого пришлось расположить зеркала за свечкой по вогнутой поверхности. Маленькие зеркальца, составлявшие отражатель кулибинского фонаря, поэт и называет «окружных стекл лоскутками».
Издали получалась красивая картина: вокруг одинокой свечи в пятистах зеркалах трепетало пятьсот отраженных пламен. В этом состоял секрет необычайной силы света фонаря.
Со стороны и вблизи фонарь казался темным. Это нетрудно понять. Попробуйте взять свечу и зеркало и взгляните на них со стороны. Вы увидите свечу, но не увидите ее отражения. В фонаре Кулибина множество мелких зеркал. А чем меньше зеркало, тем труднее увидеть отражение со стороны. Если не видишь света со стороны, значит отражатель и не отражает его по сторонам, значит он отражает его узкой полосой прямо перед собой.
Поэтому и пишет поэт от имени фонаря: «Я светлой полосою… блистаю вдалеке».
Нет, недаром из одной свечи получилось пятьсот! Раньше свет, хоть и слабый, расходился назад и по сторонам, освещая все кругом. А теперь он собран в узкий пучок. Теперь вокруг фонаря темнота, только яркое узкое пятно ложится прямо перед отражателем, как перед автомобильной фарой.
Почему же кулибинский фонарь кажется темным вблизи?
Дело в том, что от каждого зеркальца отражается узкий, слабо расходящийся пучок лучей. Глазу, приставленному к самому отражателю, крайние зеркала по окружности отражателя приходится рассматривать со стороны. В них он не видит отражения свечи. Они ему кажутся темными. Светятся лишь несколько центральных зеркал. На большом расстоянии слабо расходящиеся пучки успевают разойтись настолько, что свет даже от крайних зеркал попадает в глаз. На далеком же расстоянии все зеркала светятся.
Басня написана о царском сановнике, генерал-прокуроре Самойлове. Это был внешне блестящий и, казалось, талантливый человек, но, пояснял Державин, «коль скоро его узнаешь, то увидишь, что он ничего собственного не имеет, а ум его и таланты заимствованы из окружающих его людей, то есть секретарей».
Мы с вами сделали два дела: поняли басню и разобрались в том, как работает прожектор.
6.13.
Современник Кулибина, смелый русский путешественник Шелехов при помощи кулибинского фонаря завоевал уважение жителей северного острова Кыктак.
Вот что рассказывали об этом.
«Узнавши, что дикие племена поклоняются солнцу, он уверил их, что он и сам покровительствует их богам, в доказательство «его приказал им собраться на берегу (распорядясь заранее, в какое время зажечь фонарь на мачте корабля, стоявшего в довольно большом отдалении от берега) и стал призывать солнце для внушения народу покорности. Через несколько минут фонарь засветился, и дикие с криком и страшными воплями упали на землю и стали ему молиться».
Жители острова Кыктак были народ легковерный: кулибинский фонарь не сойдет и за слабое подобие солнца.
Чтобы осветить местность на километр вперед так же ярко, как в солнечный день, требуется 100 миллиардов свечей. Значит, нужно 100 миллиардов зеркал, а это больше, чем видимых звезд на трех миллионах небосводов. Только взяв самые мощные современные прожекторы, можно создать на расстоянии километра искусственное солнце. Придется составить группу из тридцати самых мощных прожекторов, в полтора метра диаметром каждый. Они будут сиять среди поля, как второе солнце. Но и здесь сохранится огромное различие: солнечные лучи освещают всю Землю и невообразимые пространства вокруг Земли, а узкий луч искусственного солнца осветит участок в 30–40 метров.
Соревноваться с солнцем нелегко, и даже такой успех — поразительное достижение.
В чем же секрет силы света современных прожекторов?
Посмотрим сначала, от чего зависит сила света источника света вообще. «От величины его, — скажете вы, — большой костер светит сильнее маленького».
Не только от величины. Раскаленная нить электрической лампочки меньше пламени свечи, а сила света ее значительно больше. Почему это так?
Да ведь нить электрической лампочки ярче пламени свечи. Когда хотят оценить яркость источника света, спрашивают, с силой скольких свечей светит один квадратный сантиметр его поверхности. Один квадратный сантиметр раскаленного вольфрама — того самого, из которого сделан волосок электрической лампочки, — светит с силой тысячи свечей. Значит, силу света источника света можно увеличить двумя путями: либо увеличив размеры источника, либо увеличив его яркость.
Займемся снова кулибинским фонарем.
Будем составлять отражатель кулибинского фонаря из все более и более мелких зеркал. Наконец зеркала станут такими маленькими, что не смогут вмещать в себе все отражение пламени свечи, каждое зеркальце будет отражать лишь частичку пламени. Взглянув издали, мы заметим, что из этих частичек, как из камешков мозаики, составилось одно большое, во весь отражатель, изображение пламени свечи. Представим себе, что зеркала уменьшились настолько, что и зеркалец-то не разглядишь, а видно одно сплошное вогнутое зеркало. В вогнутом зеркале появится увеличенное изображение пламени свечи, заполняющее весь отражатель до краев. При этом свет собирается в узкий пучок.
Вогнутыми зеркалами — отражателями — и снабжены все современные прожекторы. Как и в кулибинском фонаре с маленькими зеркалами, усиление света в прожекторах происходит за счет того, что маленькое пламя источника света замещается здесь сильно увеличенным изображением источника, заполняющим весь отражатель.
Яркость пламени свечи и его отражения в отражателе почти одинакова. Что это значит? Это значит, что один квадратный сантиметр поверхности того и другого светит с одинаковой силой.
Увеличить силу света прожектора можно двумя путями: либо увеличив размеры отражателя, либо увеличив яркость источника света.
Первым путем далеко не уйдешь. Изготовить отражатель диаметром больше полутора-двух метров — дело трудное, да и прожектор получится такой махиной, что с ним не управишься.
Остается один путь — яркость.
Вы, конечно, уже понимаете, какой это широкий путь.
Если свечу заменить лампой накаливания, то каждый квадратный сантиметр отражателя будет светить с силой в тысячу свечей.
А может быть, есть источники ярче?
Солнце светит над нами и служит нам образцом. Яркость его— 169 тысяч свечей с каждого квадратного сантиметра! Прожектористы начинают гоняться за яркостью. Начинается замечательное соревнование по яркости технических источников света с солнцем. Ближе всех подобралась к солнцу электрическая дуга.
Электрической дуге многим обязано великое искусство движущихся теней— кинематография. Без дуговых осветителей невозможно снять в киностудии современный фильм, без дуги невозможно показать его в большой аудитории — кинопроекторы не работают без источников света большой яркости.
Раз пришел я смотреть цветное кино. На экране показывали огнедышащую гору. Скалистый кратер ее накален был добела. Из него хлестало фиолетовое пламя, окруженное красноватым ореолом. Жар был такой, что скалы пузырились, кипели и испарялись. А с черного неба над кратером свисал другой раскаленный утес. Вершина его сияла ослепительным блеском.
Кое-кто удивился: где удалось заснять такой занятный фильм? А фильма-то и не было. Просто механик, перед тем как заправить ленту, спроектировал на экран электрическую дугу, что горела у него в аппарате. Это был портрет электрической дуги, который она сама изобразила на экране. Увеличенные в сотни раз угольки дуги на экране казались горами.
Угольки нагреваются до нескольких тысяч градусов и светятся ярче, чем сама дуга. Главную долю света испускает кратер. Яркость кратера простой электрической дуги— 15 тысяч свечей с одного квадратного сантиметра, а дуги высокой интенсивности — 78 тысяч свечей с одного квадратного сантиметра.
В прожекторах устанавливают дугу кратером к отражателю. Взглянуть в отражатель — все равно что заглянуть в увеличенный в тысячи раз раскаленный кратер электрической дуги. Один квадратный сантиметр отражателя современного прожектора светит с силой в 78 тысяч свечей!
Подсчитайте-ка сами, сколько свечей окажется в прожекторе с отражателем диаметром в два метра.
Замечаете, как обернулось дело? В осветительной лампе чрезмерная яркость дуги была существенным недостатком. Ослепительная точка не только жалила глаз, но и обладала жестокой притягательной силой. Куда бы ни прятался, ни клонился взор, она снова влекла его к себе. Глаз дрожал в постоянном беспокойстве: то метнется к ней, то отпрянет в сторону, обожженный, — так порхает у свечи мотылек. От упорной борьбы глаза с лампой нарастала мозговая усталость. Приходилось прикрывать дуговую лампу колпаком, окружать молочным шаром.
А в прожекторе яркость, этот тяжкий недостаток дуги, оказалась драгоценным достоинством. Благодаря своей исключительной яркости электрическая дуга прочно обосновалась в прожекторах.[15]
Вспомним притчу о гонцах с факелами, с которой начинался наш рассказ. Вы, конечно, давно уже догадались, что факел — это электрическая дуга, а гонцы — поколения русских изобретателей, передававших ее из рук в руки. Эстафета продолжается и сегодня.
В институтах и лабораториях ученые трудятся над увеличением яркости электрической дуги. Выдающийся советский прожекторист профессор Н. А. Карякин разработал прожекторные угли повышенной яркости. Они с виду похожи на карандаш. Но у них из графита не сердцевина, а оболочка. В сердцевине же запрессован химический состав, умножающий яркость пламени.
За свои необыкновенные угли Н. А. Карякин с помощниками удостоен Государственной премии.
Неустанно велась работа над повышением яркости источников света — благородное соревнование с солнцем. Была построена лампа сверхвысокого давления. Электрическая дуга пылала здесь в парах ртути, в трубке, узенькой, как канал термометра. Тугоплавкая хрустальная броня предохраняла лампу от взрыва. Не лишняя предосторожность! Ведь давление в лампе такое же, как и в самом мощном паровом котле. Но зато столбик света в узеньком канальце по яркости еще больше приблизился к солнцу.
За последние годы подобные лампы очень выросли в размерах. Советский ученый И. С. Маршак, сын большого детского писателя, побил тут недавно мировой рекорд-построил вместе с группой инженеров для Выставки достижений народного хозяйства исполинскую лампу мощностью в 300 тысяч ватт. Это очень экономичная лампа. Сверхмощное газосветное светило излучает столько света, сколько дали бы 25 тысяч 50-ваттных ламп накаливания, потребляющих 1 миллион 250 тысяч ватт. Кварцевые трубки лампы охлаждаются водяной рубашкой как цилиндры могучего двигателя, только, конечно, совершенно прозрачной рубашкой.
Когда лампу подняли под стеклянный купол павильона «Машиностроение», все другие электрические лампы громадного здания стали выглядеть желтоватыми огоньками карманного фонарика, горящего днем. Светозарный купол манит ночных мотыльков, но они не могут приблизиться к куполу, жар лучей превращает их в пар и пепел на лету. Алюминиевый стержень, поднесенный к лампе на метр, мякнет и плавится под ее лучами.
Хорошо вообразить такую лампу над городом, где-нибудь в Заполярье. Это будет почти космический пейзаж. Электрическое солнце висит в темном небе, и резкие угольно-черные тени, не смягченные рассеянным светом небес, ложатся на ярко засиявшую землю. Вот такую игру теней будут видеть прилунившиеся космонавты!
Когда отмечают День Победы, то дуга занимает в салюте почетное место.
Словно лес богатырских копий, упирается в небо многоствольный лес прожекторных лучей. И небо, кажется, становится выше, поднимается над ликующим народом, будто полог праздничного шатра.
Так силен этот залп лучей, что, по утверждению астрономов, блеск прожекторных зеркал был бы виден простым глазом с Луны.
Электрическая дуга совершает ныне тысячу мирных дел. Она бушует в металлургических печах, перекинувшись между расплавленным металлом и угольным стержнем, огромным, как колонна толщиной в обхват.
Дуга варит сталь для великих строек.
Дело академика Патона-отца продолжает сегодня его сын — академик Б. Е. Патон — президент Украинской академии наук. Он передает свой опыт молодежи.
Из бывалых, умудренных опытом рук переходит дуга в молодые, горячие руки. Кто знает, каким еще новым чудом обернется дуга в этих новых, верных руках!
6.14.
На величественной путеводной карте освоения атомного мира — менделеевской таблице — существуют две области, с которыми связаны ныне наиболее грандиозные замыслы и мечты человечества. Мы имеем в виду группы клеток таблицы, где находятся элементы, из которых с наибольшим успехом можно добывать могучую ядерную энергию.
На одном из полюсов, в самом хвосте таблицы, помещается область актинидов — неустойчивых тяжелых естественных элементов от тория до урана и вплотную примыкающих к ним элементов искусственных, с нептунием и плутонием во главе. Способ извлечения энергии из ядер атомов некоторых элементов этой группы известен каждому. Кто не слышал сегодня о делении атомного ядра? Эта область находится в стадии бурного освоения.
Уран и торий скоро станут серьезными соперниками угля и нефти. Но не следует полагать, что энергетические возможности человечества при этом расширятся безгранично. Ведь уран и торий — редкие рассеянные элементы. И хотя количество энергии в мировых запасах урана и тория превышает в 10–20 раз энергию угля, нефти и торфа, вместе взятых, вероятно, далеко не весь уран и торий можно будет извлечь и использовать. Уран и торий образуют всего лишь второй эшелон топлива, следующий за эшелоном угля, нефти, торфа. Они приносят в энергетику мира огромные качественные изменения, но запасы их не вечны, как запасы их дымных, коптящих предшественников.
Потому с таким жадным интересом обращается взгляд к другому полюсу карты периодической системы элементов — к самому ее началу. Здесь находятся легчайшие элементы: водород, гелий, литий. Они также могут служить источником ядерной энергии, но не в ходе деления ядер, а при слиянии, синтезе.
Апокалипсический взрыв водородной бомбы, равносильный одновременному взрыву миллионов тонн обычной взрывчатки, возвестил о том, что реакция ядерного синтеза впервые осуществлена человеком на Земле.
В водородной бомбе были созданы условия для слияния атомов водорода, алхимического превращения их в гелий. В результате так называемой термоядерной реакции гигантские запасы энергии, дремлющие в недрах атомов легких элементов, пробудились как бы в исполинском вздохе. Это было достижением советских ученых и инженеров. Но не их инициатива в том, что пришлось поторопиться с этим делом. Слишком долго уж стращали американцы человечество призраком водородной бомбы, этим ликом современной Медузы. Не они ли создали обстановку, в которой советским людям поневоле пришлось поднажать и построить водородную бомбу раньше, чем в Америке?
Благородный гуманизм советской науки заключается в том, что от этого своего достижения она с радостью готова отказаться. Вместе со всем прогрессивным человечеством советские ученые борются за запрещение атомного и термоядерного оружия. С трибуны XX съезда КПСС академик И. В. Курчатов призвал всех ученых мира, и в том числе ученых Америки, совместно работать над мирным применением термоядерных реакций. Надо так научиться управлять ими, чтобы избежать взрыва. И тогда перед человечеством откроются почти вечные запасы энергии.
Мне, да и всем другим, присутствовавшим на Международной конференции по мирному использованию атомной энергии, помнится научная дискуссия, разгоревшаяся во Дворце Наций в Женеве.
Председатель конференции, черноглазый и смуглый индийский физик-теоретик Хоми Баба во вступительной речи заявил:
— Я беру на себя смелость предсказать, что метод освобождения энергии синтеза контролируемым способом будет найден в ближайшие два десятилетия. Когда это произойдет, энергетическая проблема всего мира будет поистине разрешена навсегда, потому что топлива тогда будет так же много, как и тяжелой воды в океанах.
В заключительной лекции «Будущее атомной энергии» вице-председатель конференции, глава английской делегации, крупнейший физик-экспериментатор, седоватый и подтянутый сэр Джон Кокрофт полемизировал с индийским ученым.
— Я хотел бы быть в состоянии предсказать сегодня, — сказал Кокрофт, — когда сделается реальностью волнующая нас перспектива производства атомной энергии путем реакции слияния. Но хотя мы очень серьезно работаем над этой проблемой в Великобритании, моя способность прозрения недостаточно велика для этого. Я не обладаю смелостью нашего председателя. Экспериментатору стоящие перед ним проблемы и трудности неизбежно представляются более значительными, чем они кажутся теоретику.
Примерно в этом же духе высказался, отвечая на вопросы журналистов, и глава американской делегации, тогдашний председатель комиссии по атомной энергии США, лысый адмирал Льюис Страус.
Потому с таким интересом была встречена известная по газетам лекция академика Игоря Васильевича Курчатова о ближних и дальних перспективах развития атомной энергетики в СССР, прочитанная в английском атомном центре в Харуэлле во время визита Н. С. Хрущева в Англию. Потрясающее впечатление произвела заключительная часть лекции — о возможности создания управляемых термоядерных реакций в газовом разряде, содержавшая обзор некоторых работ Академии наук СССР в этой области.
Газета «Дейли экспресс» писала, что И. В. Курчатов произвел сенсацию в Харуэлле, показав, что Россия намного опередила Англию и, вероятно, Америку в стремлении поставить термоядерную энергию на службу промышленности. Он поразил аудиторию, «во-первых, сообщив, что русские закончили эксперименты, которые в Харуэлле находятся только в стадии планирования; во-вторых, тем, что он привел все подробности используемых методов, иллюстрируя это цифрами и формулами, которые считались бы совершенно секретными в Англии и Соединенных Штатах… Ученые Харуэлла устроили ему овацию». Корреспонденты, интервьюировавшие ученых после лекции, нашли эту лекцию сенсационной. Лондонский корреспондент «Нью-Йорк тайме» заявил, что И. В. Курчатов «поразил триста самых видных ученых Англии». Американская газета «Крисчен сайенс монитор» назвала лекцию замечательной и отозвалась о ней, как о «самом важном заявлении, сделанном когда-либо об использовании термоядерной энергии в целях мира».
В своей речи на аэродроме в день возвращения в Москву академик И. В. Курчатов, выражая благодарность партии и правительству за заботу о развитии советской науки, сказал:
«С разрешения партии и правительства я доложил на заседании английских физиков о некоторых работах АН СССР по управляемым термоядерным реакциям.
Я счастлив тем, что правительство моей страны проявило благородную инициативу и первым в мире решило снять секретность с этих работ».
Так, призыв, прозвучавший с трибуны XX съезда КПСС, был подкреплен конкретными делами. Советские ученые первыми с открытым сердцем протянули руку зарубежным деятелям науки.
Я посетил академика И. В. Курчатова в его институте сразу же после возвращения из Англии и нашел его в окружении молодых сотрудников.
Ядерная физика по возрасту своему помоложе многих наших современников. И, встречаясь с академиком Курчатовым, не приходилось поражаться тому, что этот высокий, статный, легкий в движениях человек, с чуть затронутой инеем седины бородой, как бы завершающей энергичным росчерком смелый профиль смуглого лица, принадлежит к могучей кучке физиков, от которой все началось, к малочисленной когда-то дружине советских ядерщиков самого старшего поколения, воспитавшей армию талантливой молодежи.
Я не пишу биографию, понимаю условность биографических параллелей, но нельзя не заметить мимоходом, что научные интересы молодого Курчатова удивительным образом совпадали с интересами молодого Пьера Кюри. Молодой французский физик в конце XIX века открыл пьезоэлектричество, ввел нас в мир электрически заряженных кристаллов, «говорящих камней», вибрирующих под толчками электрического напряжения, поющих, смеющихся и плачущих, как человек. Молодой советский физик еще в начале 30-х годов прославился (вместе с П. П. Кобеко) исследованиями сегнетоэлектриков — веществ, в которых эффекты, открытые Кюри, достигают сказочной силы. Пьер Кюри со своей великой спутницей Марией Кюри открыл затем радиоактивность. И. В. Курчатов стоит в ряду ученых, приведших человечество от радиоактивности к атомной энергетике, от микроскопических брызг ядерной энергии к ее щедро извергающемуся потоку.
Размышляя о сходствах, нельзя не думать о противоположностях. Глубоки различия в стиле исследований в наше время и во времена Кюри. Супруги Кюри были учеными-одиночками. В своем ветхом сарайчике, самолично, вручную, перерабатывали они тонны руды, чтобы добыть миллиграммы радия. Современную атомную науку движут громадные коллективы ученых, вооруженные индустриально мощной экспериментальной техникой. В наше время большой ученый-атомник — это дирижер, управляющий оркестром. Сила академика И. В. Курчатова заключалась, между прочим, в том, что он отлично умел направлять и координировать работу громадных научных коллективов.
Академик вел рассказ в своей обычной манере, четкая научная формулировка уживалась рядом с шуткой или смелым образным сравнением, показавшимся, быть может, рискованным иному ученому сухарю. На всем том, что написано ниже этих строк, лежит след живой беседы с Игорем Васильевичем. В ходе беседы идеи его замечательной лекции стали мне еще понятнее и ближе.
И. В. Курчатов рассказал о некоторых работах в области управляемых термоядерных реакций, которые ведутся в Академии наук СССР под руководством академика Льва Андреевича Арцимовича. Руководство в разработке теоретических вопросов принадлежит академику Михаилу Александровичу Леонтовичу.
Перед слушателями открылась картина того, как при помощи сверхмощных средств преодолеваются гигантские трудности. Но наиболее могучим орудием, сокрушающим все преграды, служит здесь неистощимая изобретательность человеческого мозга.
Термоядерные реакции потому и называют так, что происходят они при очень высоких температурах. При таких температурах материя, вещество, может существовать лишь как бы в «полуразобранном» состоянии, в ходе хаоса электронов и голых атомных ядер, с которых совлечены электронные оболочки. Из подобного материала построены солнце и звезды. Это состояние вещества называется плазмой, и его впервые пытался исследовать академик Василий Петров.
Температура — это мера скорости движения частиц в плазме. Для того, чтобы возникла термоядерная реакция, для того, чтобы ядра в плазме при столкновениях начали сливаться, нужно разогнать их до такой скорости, чтобы преодолеть могучие силы отталкивания между ядрами. Минимальный уровень температуры, необходимый для этой цели, в очень сильной степени зависит от вещества, с которым имеем дело. Легче всего возникает термоядерная реакция в смеси дейтерия с тритием, являющимися химическими двойниками водорода. Дейтерий распространен в природе, он входит в состав тяжелой воды и добывается из простой воды. Тритий можно искусственно получить в атомных реакторах, бомбардируя нейтронами литий. Но и в этой, наиболее легко «воспламеняющейся» в ядерном смысле смеси, для того чтобы подобраться к порогу термоядерной реакции, необходимо поднять температуру до многих миллионов градусов.
Первоначальные затраты энергии, если сделать отвлеченный подсчет, могут быть невелики. Волосок электрической лампочки накаляется до тысячеградусной температуры при помощи маленькой батарейки. Для того чтобы нагреть один грамм дейтерия до температуры в миллион градусов, необходимо затратить всего лишь несколько киловатт-часов.
«Примерно столько же энергии требуется, — говорил, улыбаясь, Курчатов, — чтобы вскипятить воду в большом семейном самоваре».
А энергия, выделяющаяся при синтезе одного грамма гелия из дейтерия и трития, больше миллиона киловатт-часов, что примерно в пять раз больше энергии, выделяющейся при делении одного грамма урана-235 или плутония-239. Выходит, затратишь энергию на один самовар, а получишь энергию на целый город!
Повторяю, чтобы не быть неправильно понятым, что речь идет о самом отвлеченном подсчете. На современном уровне техники в устройстве для столь большого подъема температуры будут происходить громадные потери, что намного превысит удельный вес первоначальных затрат. Но и так игра, как говорится, стоит свеч. Какая это сложная игра!
Первая, далеко не главная, сложность в том, что уже при температуре в сто тысяч градусов в твердом или жидком дейтерии возникают давления, превышающие миллион атмосфер. Такой силы не выдержит ни одна оболочка. Поэтому в веществе с большой плотностью термоядерную реакцию можно возбудить только на миг, и процесс протечет в виде слабого и, быть может, неопасного взрыва. Но эту сложность можно сравнительно легко преодолеть, если опыты вести на газообразном дейтерии. Аппаратура, которая здесь понадобится, по прочности будет не более солидной, чем обычный паровой котел.
Главная сложность кажется непреодолимой. При нагревании дейтерия его частицы, разбегаясь во все стороны, отдают тепловую энергию стенкам сосуда. Уже при температуре в несколько десятков тысяч градусов расточительная деятельность частиц достигает такой степени, что объем дейтерия, заключенного в сосуде, в энергетическом отношении превращается в бездонную бочку. Даже мощные потоки тепла, притекающие сюда, мгновенно растрачиваются. Потери энергии становятся настолько большими, что дальнейшее повышение температуры становится практически невозможным. Нужна теплоизоляция. Но где найти теплоизоляцию, способную выдержать температуру в миллионы градусов? Ни один материал в мире тут не устоит.
Несмотря на кажущуюся безнадежность проблемы, она все-таки была решена. На какое-то короткое время теплоизоляция была создана… «из ничего». Был придуман такой опыт, который позволил удержать частицы в плазме и лишил их возможности передавать тепло стенкам.
Молодому физику Андрею Дмитриевичу Сахарову, ныне академику, было всего двадцать девять лет, когда он совместно с академиком Игорем Евгеньевичем Таммом в 1950 году предложил использовать для теплоизоляции плазмы магнитное поле. Дело в том, что магнитное поле решительным образом меняет характер движения электронов и ядер в плазме. Они перестают метаться по прямолинейным путям и начинают двигаться по малым спиралям. В беседе со мной академик И. В. Курчатов сравнил положение частиц в плазме с положением путника, не могущего выбраться из лабиринта. Еще более яркий образ применен им в его популярной статье: частицы оказываются плененными в плазме, как белка в колесе. Потеряв свободу, частица в присутствии магнитного поля уже не в состоянии унести энергию из плазмы. Советские ученые показали, что магнитное поле играет роль незримой стены, ограничивающей плазму и создающей тепловую изоляцию.
Разреженный газ и тем более плазма электропроводны. Пропуская через газ электрический ток, создавая газовые разряды, можно сделать сразу два дела: разогреть плазму до высокой температуры и образовать вокруг теплоизолирующее магнитное поле. При достаточной силе тока здесь могут возникнуть термоядерные реакции.
В лаборатории, напоминающей мастерскую Зевса-громовержца, началось исследование кратковременных, но зато весьма мощных электрических зарядов в газах. У прямых разрядных трубок, попеременно наполняемых разреженным водородом, дейтерием и другими газами и их смесями, собрался отряд разнообразных измерительных приборов, появление которых было подготовлено всем предшествующим развитием электроники и оптики. Пьезоэлементы приготовились измерять давления, а спектрографы — интенсивность отдельных спектральных линий. Миниатюрные катушки и иголочки пробрались даже внутрь разрядной трубки, чтобы зондировать магнитное и электрическое поля. Провода от всех приборов шли к осциллографам — этим «электронным стенографистам» науки, записывающим ход процессов со скоростью в несколько десятков километров в секунду. Здесь присутствуют фотоаппараты с моментальными затворами электровзрывного действия и киноаппараты для сверхскоростной съемки с быстротой в два миллиона кадров в секунду. Если бы им действительно пришлось поработать на протяжении целой секунды, то кинофильм, снятый ими, надо было бы просматривать в обычном кинотеатре по нескольку сеансов в день почти целую неделю. У разрядных трубок расположился многоглазый Аргус современной науки, приготовившись бдительно наблюдать процессы, протекающие за миллионные доли секунды. Он как бы обладал волшебным свойством, описанным Гербертом Уэллсом в рассказе «Новейший ускоритель», — способностью замедлять бег времени и останавливать мгновение.
Только специалист-электрик может оценить по достоинству все остроумие «генератора молний», способного накапливать электроэнергию и создавать электрические разряды более мощные, чем любая небесная стрела. Поражает не только колоссальная сила тока, доходившая в отдельных опытах до мгновенных значений в два миллиона ампер, но и темп ее нарастания, превышающий сотни миллиардов ампер в секунду.
Изучение документов опытов, расшифровка графиков, вычерченных осциллографами, просмотр фотографий доказали, что способ термоизоляции плазмы, изобретенный А. Д. Сахаровым и И. Е. Таммом, в условиях кратковременного динамического процесса реален и действует.
Кадры сверхскоростной киносъемки показали воочию, что широкий сияющий столб газового разряда, заполнявший вначале всю трубку до самых стенок, как в газосветной лампе, постепенно начинает сужаться. Цилиндрическая стенка нарастающего магнитного поля постепенно сжимает горло разряда, теснит плазму с боков, превращая ее в оторванный от стенок сосуда ослепительно яркий плазменный шнур.
Магнитное поле изолировало плазму от стенок, как оболочка незримого термоса. Температура плазмы стремительно повышалась. При силе тока в несколько сотен тысяч ампер, в момент максимального сжатия шнура, температура в плазме достигала порядка миллиона градусов.
То была большая победа науки. В лабораторных условиях столь высоких температур не получал еще никто.
«Только в водородной бомбе, — писал академик И. В. Курчатов, — достигается более высокая температура. Однако в этом случае наблюдатель не рискнет приблизиться к месту взрыва на расстояние меньшее, чем в несколько километров. В опытах, о которых идет речь, тонкая струйка раскаленной плазмы… безопасна для окружающих, так как содержит небольшое количество вещества».
Но, быть может, ничего не ожидали исследователи с таким волнением, как появления специфических ядерных излучений — нейтронов и жестких рентгеновских лучей, этих вестников начавшейся ядерной реакции. Чувства их, вероятно, можно было сопоставить лишь с переживаниями физиков у прообраза первого атомного реактора, у вошедшей в историю кучи графита и урана, ожидавших с бьющимся сердцем появления потока нейтронов, извещавшего о пробуждении энергии ядра.
В 1952 году серебряные пластинки, погруженные в парафин, зарегистрировали залп нейтронов, а специальные приборы — одновременный всплеск проникающего рентгеновского излучения, исходящего из мощного электрического разряда в газах. Что это—термоядерная реакция или отголосок других, не известных еще ядерных процессов, протекающих в плазменном шнуре?
Настоящая наука строга к себе и осторожна в выводах. Эксперименты опрокинули многие привычные представления о свойствах плазмы, укоренившиеся в результате многолетних исследований газовых разрядов в обычных условиях, и, по выражению И. В. Курчатова, «совершенно изменили ландшафт и краски той картины, которая была создана первыми импульсами теоретической мысли».
Плазменный шнур — это не просто хаос электронов и ядер, характерный для обычной плазмы. Электрическое и магнитное поля внесли известную организацию в ее строение, наделили ее своеобразной и сложной жизнью. Советские физики изучили анатомию этого «огненного червя», исследовали его незримую «мускулатуру». Оказалось, что плазма в разрядной трубке испытывает ряд стремительных, следующих друг за другом сжатий и расширений. Вещество волнами то сбегается к центру шнура, то расходится к стенкам с быстротой, в сотни раз превышающей скорость звука. В результате здесь возникают мгновенные, очень большие электрические перенапряжения, которые, быть может, и служат одной из основных причин, вызывающих испускание нейтронов и проникающего рентгеновского излучения.
«Только дальнейшие исследования, — говорил в заключение академик И. В. Курчатов, — смогут ответить на вопрос, удастся ли, идя по этому пути, приблизиться к созданию регулируемой термоядерной реакции большой интенсивности. Вместе с тем следует тщательно изучить и другие направления в решении этой основной задачи».
Античные легенды рисуют участь смельчаков, дерзнувших приблизиться к солнцу. Здесь и пылающая колесница Фаэтона, и распавшиеся крылья Икара, и прикованный к кавказской скале Прометей.
Но неукротимо дерзновение ученых!
В 1802 году петербургский академик Василий Владимирович Петров, применяя сверхмощную по тем временам экспериментальную технику, при посредстве «огромной наипаче батареи, состоявшей иногда из 420 медных и цинковых кружков», получил между угольками «яркое, белого цвета пламя». Благодарное человечество называло электрическую дугу Петрова «русским солнцем».
Но электрическая дуга не была частицей солнечного огня. Она меркла на фоне солнечного диска. В пламени дуги Петрова были потревожены лишь внешние электронные оболочки атомов, а огонь Солнца и звезд — итог глубочайших ядерных потрясений.
И лишь в 1952 году, ровно полтораста лет спустя, советские академики, опять применив сверхмощную экспериментальную технику, достойную своей исполинской эпохи, получили в электрическом разряде не только свет, но и ядерное излучение. Электрическая мощность в опытах Петрова, вероятно, не превышала мощности современных сухих радиобатарей, а мгновенная мощность разряда в советских опытах в десять раз превосходила мощность Куйбышевской ГЭС. И опять количество породило новое качество. Впервые в лаборатории был получен огненный шнур с температурой в миллион градусов — подлинное волокно солнечной пряжи, тонкая нить той звездной материи, из которой скроено дневное светило. Пожелаем дальнейших побед советским ученым, одолевшим еще один этап великого соревнования с Солнцем. Неугасимо горит дуга Василия Петрова; она пронизывает светом глуби морей и лучами достигает лунного диска. Это русское солнце светит во Вселенной — солнце русской науки.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ, где рассказывается об изобретениях, сделанных напрямик, об источниках вдохновенья в математической формуле; попутно автор делится впечатлениями от посещения производства искусственных алмазов и о счетной машине, осудившей капитализм
7.1.
Речь пойдет об изобретениях, сделанных, так сказать, напрямик.
Где-то у Марка Твена я читал забавную сказку. Во владениях некоего короля поселился огнедышащий дракон. Дракон жил так, как положено сказочному дракону, — по ночам выползал из пещеры, пожирал жителей, разорял города и деревни. Король тоже вел себя так, как положено сказочному королю. Он объявил международный конкурс, посулив руку своей дочери тому храбрецу, который убьет дракона.
Со всех концов света съезжались рыцари, закованные в железо. Они кидались в логово дракона с копьями наперевес и навсегда исчезали в пещере. Дракон не уставал жевать рыцарей в жесткой железной скорлупе. Королевна в отчаянии следила за исчезновением стольких женихов, она рисковала остаться старой девой.
И вот является хилый рыцарь без всяких доспехов, в пенсне и с дорожным рюкзаком за плечами. Явился и мямлит, щуря близорукие глаза:
— Я, если позволите, тоже желал бы испытать свои силы в поединке с драконом.
И такой он был хилый и близорукий, что рыцари и дамы захихикали, а король пожал плечами. Но согласие дал. Королевское слово крепко.
Собрались придворные поглядеть на смерть чудака. А чудак вынимает из мешка пожарную каску и огнетушитель и уверенным шагом идет к пещере. Дракон зарычал, высунул голову, пламенем дохнул из пасти. Но рыцарь проворно хлопнул оземь огнетушителем. Пенная струя ударила в огненную глотку. Дракон задымил и сдох. Закатили на радостях пир горой. Король подхватил героя под руку, потащил его к столу.
Стали спрашивать, как он осилил дракона.
«Милостивые государи и государыни, — начал рыцарь, назидательно подняв палец, — я первый подошел к этой проблеме научно. Мои уважаемые коллеги и предшественники слепо бросались на чудовище, не разобравшись предварительно, с чем имеют дело. Я же поставил вначале лабораторные опыты. Пришлось построить специальный инкубатор и в лаборатории вывести из драконовых яиц маленьких драконят. Тщательно изучив их поведение, мне удалось выяснить, что жизненной силой дракона является огонь, и если его погасить, дракон погибнет. Теперь мне осталось только снять со стены огнетушитель… И вот дракон у ваших ног».
Я не помню сейчас, как кончается сказка, женился ли рыцарь на королевне или нет.
Нас не это интересует.
Важно другое. Рыцарь наш — изобретатель. Он ведь изобрел оружие против драконов.
Тут Марк Твен шутливо описал один из путей, которыми изобретатель доходит до изобретения. Путь решения задачи «в лоб». Изобретатель ставит задачу, рассуждает теоретически, проделывает в лаборатории опыты и постепенно, шаг за шагом, медленно, но верно, добирается до правильного решения.
7.2.
Именно так в середине прошлого века было сделано важное изобретение в химии: способ искусственного получения пунцовой краски — ализарина.
Раньше ализарин находили в готовом виде — в корнях полевого растения морены. Химия в те времена была развита слабо. Кое-кто считал, что и вообще человеку не под силу искусственно делать естественные вещества, которые встречаются в природе.
— И не пытайтесь! — шептали некоторые, делая таинственное лицо. — Есть в природе такие вещи, которых никогда не освоить человеку.
И у многих опускались руки.
Но красильщикам дела не было до каких бы то ни было тайн. Им нужна была краска, чтобы красить ткани. Они требовали ализарин наперебой и так взвинтили спрос, что растения морены стало не хватать. Краска страшно вздорожала, и химики начали добиваться получения ализарина искусственным путем.
Многие поломали на этом деле копья и все нападали на неразрешимые технические трудности.
Наконец, изобретатели добились своего: получили ализарин из каменноугольного дегтя.
Пунцовое из дегтя! Как это пришло в голову? Как они добрались от корней растеньица морены к черному каменноугольному дегтю?
Нельзя же думать, что составили они алфавитный список всех и всяких вещей и давай пробовать все подряд, по алфавиту:
— «А» — алмаз — не пойдет! — арбуз, асбест, аспирин.
«Б» — брынза — отставить! — бронза, брюква…
Невозможно поверить, чтобы изобретатель выбрал таким путем нужный ему исходный материал. Ведь одних химических веществ сейчас известно более миллиона.
Судите сами! Может ли слепец без поводыря нашарить клюшкой не открытую еще Америку?
В том и секрет успеха, что изобретатели и не стали вслепую толкаться из стороны в сторону. Они постарались найти дорогу повернее. Изобретатели не только знали химию, они еще и уважали математику.
Изобретатели рассуждали так, как решают геометрическую задачу. Предположим, задача решена — ализарин получен.
Возьмем готовый ализарин из корней морены и изучим такие его химические реакции, которые, если их провести в обратном порядке, снова дадут ализарин. Скажем, реакция окисления и восстановления.
С помощью цинковой пыли удалось восстановить ализарин. Вышло удачно. Получилось хорошо известное вещество антрацен. Его-то химики знали, как получать. Он легко добывался из каменноугольного дегтя.
Порядком повозившись в лаборатории, химики научились окислять антрацен и вскоре стали готовить ализарин на заводе.
Красильщики получили дешевую краску.
А философы получили еще одно подтверждение материалистической теории.
На заре органической химии люди искусственно сделали сложное естественное вещество, встречавшееся только в природе. Они лишний раз убедились в том, что нет для человека в мире непостижимых тайн, и еще крепче поверили в свою безграничную силу.
7.3.
Внешний облик нового в Советском Союзе производства искусственных алмазов довольно внушителен. Аппаратура размещается в бронированных комнатах, напоминающих сокровищницы банковских подвалов.
В них попадаешь через стальные двери, похожие на дверцы сейфов, замыкающиеся на прочный запор. Можно сказать, что алмазы не только хранятся, но и рождаются в сейфах.
Между тем социальная природа бронированных сейфов, в которых рождаются алмазы, несколько иная, чем природа банкирских сейфов. В стальных стенах и надежных замках, заблокированных электричеством, воплотилась не жадная скупость и мнительность толстосумов, а забота о здоровье и благополучии людей, обслуживающих сложную аппаратуру. Не тревожное око частного детектива контролирует все эти солидные ограждения, а заботливый глаз профорга, отвечающего вместе с дирекцией за технику безопасности. Скажем прямо, производство алмазов — дело нешуточное. Оно было решено применением сверхмощных технических средств. В аппаратах пленены и стараются вырваться из плена могучие силы природы. Потому-то оказалось разумным оградить установки защитной броней для страховки от маловероятных, но все же возможных аварий…
По свидетельству филологов, слово «алмаз» происходит от греческого «адамас», что означает «непреодолимый», «непобедимый». И в самом деле, алмаз царит на высшей ступени иерархии твердости. На любом из природных материалов он способен процарапать черту, словно гордый росчерк своего превосходства; ни один, даже самый твердый, природный материал не способен поцарапать грани алмаза.
Мифология устами Гесиода и Эсхилла повествует, что из материала под названием «адамас» был не только вычеканен шлем Геракла, но и выкованы цепи Прометея. Тут истоки двойной социальной символики алмаза и зачин объяснения того, почему драгоценные бриллианты венчали короны и скипетры императоров. Самодержцы всех времен искали в алмазе некий талисман неприступной силы, нерушимой власти над людьми.
Редкостность крупных алмазов, квадратичная формула роста цены их с увеличением веса сделали алмаз ядром концентрации самых больших денежных сумм, которые когда-либо воплощались в маленьком куске природного вещества: известно, что крупные алмазы стоят миллионы. Не случайно поэтому, что в обществе, где деньги властвуют над людьми, алмаз стал узлом и пружиной драматических конфликтов. Библиография художественных произведений об алмазе, упомянутая академиком А. Я. Ферсманом, где перечисляется более тысячи романов, рассказов, пьес, поэм, доказательно подтверждает это. Камень чистейшей воды становился эпицентром мутного водоворота, в котором кипело и вихрилось все бесчестное и мерзкое, что рождалось корыстью и жестокостью досоциалистических формаций. Голубой аристократический огонек хорошо отграненного бриллианта символично соседствовал с красной искоркой крови. Величайшие алмазы императорских дворов Европы появились в потоке разграбления Индии, Латинской Америки, африканских стран, жесточайшей эксплуатации колоний. В испещренном древними письменами алмазе «Шах», преподнесенном персидским шахом русскому царю в виде компенсации за убийство русского посланника, до сих пор мерцает кровь Грибоедова.
В истории алмаза все символично! Незадолго до того, как сиятельный Людовик XVI был развенчан в заурядного гражданина Капета и отправлен на гильотину, французский химик Лавуазье сжег и развенчал алмаз, доказав его полное химическое тождество заурядному углю, графиту. Оказалось, что сверхтвердый алмаз и мягчайший графит состоят из одних и тех же атомов углерода, но построенных в кристаллические решетки, различные по своей архитектуре. С той поры открылись новые, но все так же кипящие страстями страницы истории алмаза, где не короли и пираты, а ученые и предприниматели исполняют роли главных действующих лиц. Начались попытки реализовать обратный процесс — графит превратить в алмаз.
Научная — библиография алмаза содержит более десятка тысяч названий. Среди них немало великолепных работ. Но таково уж роковое соседство алмаза, что вокруг сопряженных с ним научных проблем завихрилось и все худшее, что скрыто в буржуазной науке: скороспелые сенсации и сомнительные эксперименты, эфемерные теории и спекулятивные выводы. С величайшей осторожностью приходилось относиться особенно к тем работам, где задача искусственного получения алмазов объявлялась будто бы разрешенной.
Взоры многих ученых обратились в глубину воронок алмазных копей, где под бичами надсмотрщиков копошились полуголые черные рабы. Исследователи силились представить себе и по возможности повторить алмазообразующие процессы, когда-то происходившие в глубоких воронках, заполненных синей породой — кимберлитом, — в этих артиллерийских стволах вулканизма. Англичанин Хенней накалял заваренный наглухо реальный артиллерийский ствол, начинив его соответствующей смесью, и как будто бы «получил алмазы». Крукс взрывал кордит в стальной бомбе и «получил алмазы». Француз Муассан стремительно охладил раствор графита в железе и тоже «получил алмазы». Другие бросались на штурм проблемы с еще более легковесным научным вооружением. Русско «получил алмаз», разлагая ацетилен в электрической дуге. Дедьер разлагал четыреххлористый углерод над алюминием, а Болотин — светильный газ над ртутью, и оба «получили алмазы». Люпарк и Ковален разлагали сероуглерод и также «получили алмазы».
Может быть, никогда еще в науке со времен алхимии не появлялось такого количества столь сенсационных и столь зыбких результатов. Как и у старинных алхимиков, эти разнообразные опыты имели одну общую особенность: их не удавалось повторить последователям. Теперь можно утверждать, соблюдая прямоту и деликатность, что эти работы относились к категории опытов, не подтверждаемых общественной практикой, непременным критерием истины. Похоже, что блеск драгоценностей слепил глаза ученым, мешал объективно оценивать результаты.
Но штурм алмазной проблемы продолжался…
Уже одно сопоставление удельного объема графита со сравнительно меньшим удельным объемом алмаза показывало, что без сжатия не обойтись. Известный американский физик П. В. Бриджмен попытался при комнатной температуре подвергнуть графит давлению в 400 тысяч атмосфер. То была последняя, отчаянная и — увы! — неудачная попытка решить проблему с одной лишь «позиции силы».
Дальнейшее потребовало тонких рассуждений… То, что не могло проясниться в циклопических бомбах экспериментатора, родилось при содействии маленькой стальной вещицы, столь же легкой, как рыболовный крючок, но, быть может, не менее могущественной, чем величественный телескоп или синхрофазотрон; мы имеем в виду оружие теоретика — перо. Советскому физику О. В. Лейпунскому путем тонких расчетов, буквально на кончике пера, удалось сформулировать «алмазные условия» — условия перехода графита в алмаз. Здесь и выяснилось, что одних высоких давлений недостаточно.
И вот в чем тонкость дела. Структура кристаллов графита и алмаза подобна строению каркаса высотных зданий. В узлах каркаса расположены атомы углерода, а невидимые связи между ними можно уподобить балкам и колоннам, силовым элементам здания. Разумеется, архитектура «здания» графита и алмаза совершенно различная. Теперь представьте самонадеянного
строителя, который подрядился изменить архитектуру здания одним лишь давлением извне, попыткой сдавить каркас. Вероятнее всего, у него ничего не получится. Для того чтобы заново перекроить архитектуру, недостаточно все решительно сжать, но, возможно, понадобится кое-что растянуть. Нужно не только уменьшить расстояние между атомами графита, но и кое-где их увеличить. Тут необходимо участие, как минимум, двух противоречивых сил, сжимающей и растягивающей, усиливающей и ослабляющей атомные связи. Такие противоборствующие факторы есть — это давление и температура. О. В. Лейпунский, опираясь на законы термодинамики, самые общие, непреложные законы природы, теоретически рассчитал области давлений и температур, в которых ажурная хрупкая архитектура графита переходит в несокрушимую крепостную архитектуру алмаза. Дугообразная плавная кривая диаграммы теоретика стала как бы аркой ворот в заповедное царство искусственных алмазов. Но открыть эти ворота оказалось невероятно трудным.
Давление в несколько десятков тысяч атмосфер, температура в несколько тысяч градусов — таковы были заветные числа «алмазных условий». Но ведь знать заветные величины для науки еще далеко не все. Для завоевания космоса мало знать величину космической скорости, надо суметь построить ракету, способную ее достигнуть.
Нашими учеными открыты богатые россыпи алмазов в Якутии, ими же решена задача искусственного производства алмазов.
Вот лишь несколько ступенек решения этой труднейшей задачи.
При высоких давлениях конструкционные материалы коварно изменяют свои свойства, проявляют себя с неожиданной стороны. Так, массивная стальная бомба, заполненная глицерином, под давлением в несколько тысяч атмосфер обнаруживала свою скважность, и глицерин струйками сочился из стенок бомбы, как пот из пор кожи. Сжатый под давлением в 9 тысяч атмосфер водород со взрывом прорывается сквозь стенки стального баллона, словно крепкий баллон превращается в рогожный мешок. Вещество бунтует, не желая подчиняться воле людей.
И ученые постепенно укрощали этот бунт материи и заставляли конструкционные материалы выдерживать давления, в десятки раз более высокие. Было открыто удивительное свойство стали и других материалов повышать свою пластичность и прочность под воздействием высоких всесторонних давлений. Оказывается, всестороннее давление само упрочняет стенки сосуда, уменьшает их скважность подобно тому, как уплотняется хлебная крошка, зажатая между пальцами. Были созданы сосуды с «активными» стенками, которые не пассивно сопротивлялись давлению, а сами переходили в наступление и сжимали объем, подпираемые гидравлическим давлением извне. Получился такой же эффект, как если бы кариатиды, изваяния силачей, поддерживающих здание, внезапно ожили и подперли стены силой своих богатырских мышц.
Предстояла еще одна головоломная задача: примирить аппаратуру не только с высокими давлениями, но и с высокими температурами, при которых начинают мягчеть и таять металлы. Теперь мы видим по установкам одного из институтов Академии наук СССР для получения искусственных алмазов, что и эта, казалось бы, вовсе нерешимая проблема решена.
Производится загрузка аппарата. Замыкаются бронированные двери. Большой, как медведь, электромотор начинает вращать компрессор. Дальнейшее управление осуществляется дистанционно. Манганиновые проволочки, введенные в аппарат, передают сигналы растущего давления, термопары регистрируют температуру. Как представить себе зрительно это мощное нарастание давления? Вообразим себе давление в фундаменте высокой водяной колонны, высокого водяного столба. Колонна растет все выше, вот она проходит за пределы атмосферы и касается главой орбиты спутника… Выше, выше… Еще выше… Много выше! А тем временем нарастает температура. В недрах аппарата масса раскаляется сначала до вишнево-красного каления, а затем все ярче — до слепящего накала электрической лампочки! В аппаратуре, такой массивной, словно она состоит из одних стенок, происходит великое таинство рождения алмазов.
Получение искусственных алмазов — процесс недолгий. Разгружают аппарат и раскалывают спекшийся брикет. В черном бархатистом его изломе, словно звезды на ночном небе, сверкают искорки алмазов, сияют их скопления, похожие на броши и диадемы. Мы внимательно вглядываемся в кристаллы. В их неровных скульптурированных ребрах запечатлелась драматическая история их рождения. Это очень твердые алмазы, они царапают самый твердый природный алмаз.
Аппаратура, созданная в академическом институте, была передана в один отраслевой институт для дальнейшего совершенствования применительно к условиям массового производства. За успешное решение всех задач руководителям институтов Л. Ф. Верещагину и В. Н. Бакулю присвоено звание Героев Социалистического Труда.
Инструмент, изготовленный из искусственных алмазов, при испытании в работе показал на 40 процентов большую стойкость, чем инструмент, изготовленный из природных алмазов.
Не короны и не скипетры королей украшают советские алмазы. Они призваны безмерно умножать мощь орудий труда в руках рабочего класса. Скоро все эти кристаллики истолкут в железной ступе, а затем превратят в абразивный круг, буровую коронку, резец. Ведь алмазы у нас в стране — это прежде всего средство технического прогресса. Без алмаза не сделаешь надежной, не знающей износа детали, без алмаза не построишь точного прибора, без алмаза не воздвигнешь атомной электростанции и не осуществишь полета в космос. Из старинного символа власти над людьми наш алмаз превратился в символ власти над природой.
Естествознание насквозь революционно.
Когда Лавуазье превратил алмаз в уголь, в его лаборатории блеснул огонь французской революции; когда советские ученые превращают уголь в алмаз, в их цехах полыхает зарево Великого Октября.
«Уголь — в алмазы!» — да ведь это девиз всей социалистической техники, всей советской науки, а быть может, и всей советской жизни, всех советских людей, строящих коммунизм.
7.4.
А бывает, что и без всяких опытов, чисто математическим путем приходят к неожиданным изобретениям.
Любопытные обступают изобретателя и его чудодейственную машину, восхищаются, спрашивают: как вы додумались? Какой вы умный!
— Это не я, — улыбается изобретатель, — это перо мое умное!
Мы уже писали, что есть в истории открытия и изобретения, словно пойманные на кончик пера. Рассказать о них толком невозможно в этой простой книге. Чтобы лишь намекнуть на то, как они делаются, мы расскажем об одном открытии, сделанном при помощи математики.
Было время, когда такой запутанной, такой прихотливой представлялась игра электрических и магнитных сил, что охватить их причуды казалось не под силу человеческому воображению.
Когда физик Максвелл задумал проникнуть в тайны их игры, он привлек на помощь воображению математику.
Он сумел уловить и представить себе начальную связь электрических и магнитных сил и перевести ее на язык математических уравнений.
После этого стало возможно дать на время отдых воображению. Заключив явление в математические выкладки, Максвелл будто перестал о нем и думать. Он строчил формулу за формулой, беспокоясь только о том, чтобы не наврать в математике. Он, казалось, совсем оторвался от действительности и не видел ничего, кроме кончика своего пера.
Вот исписана кипа листов, завершилась громоздкая работа. Максвелл бросает перо и разбирает заключительные выводы. Он стремится снова перевести на язык действительности все, что написано его пером.
Результаты многозначительны. Умное перо, стартовавшее от уравнений борьбы электрических сил, ни на шаг не отклоняясь от пути, предначертанного законами математики, прибежало к характерным уравнениям, которыми физики описывают волны.
Максвелл снова напрягает все свое воображение, силясь представить себе физические явления, которые изображаются этими, столь необычными в мире электричества уравнениями. И воображение рисует необычную картину. Силовые линии, линии электрических и магнитных сил, прочно связанные с током в проводнике, вдруг отрываются прочь, наперекор учебникам и трактатам, — отрываются и свободно летят в пространстве, расширяясь, словно водяные круги, словно круги волн в воде. Только этот, никем еще не виданный процесс могут изображать уравнения.
Электрические волны!? Их не существует в природе!
Максвелл в сотый раз проверяет свои уравнения, и все явственней проступает картина. Вот значок «с» — это скорость волн. И нетрудно доказать, что равна она скорости света. Столбики формул стоят незыблемо, как колонны монолитной каменной кладки, без единой трещины и изъяна. Ясный голос математики заглушает смутный протест воображения.
Максвелл пишет статью и отдает ее на суд ученых: если правильна то, что я положил в основу, то вот чего должны мы ожидать, в промежуточном ходе рассуждений я не сомневаюсь. Кто не согласен, пусть опровергает! Только лучше не занимайтесь опровержениями. Ставьте опыты. Ищите электрические волны. Они есть. Они вокруг нас. Ищите и отыщете!
Проходит почти двадцать лет, и ученые, поставив опыты, действительно открывают в природе электромагнитные волны, а еще через десять лет изобретатель Попов применяет их в технике.
Предсказание чудесно сбывается, словно вязь математических значков на листках бумаги — это шифр волшебного заклинания, которому подчиняется природа. И пусть попробует природа «не подчиниться» значкам, если математические законы это и есть самые строгие, самые неумолимые законы самой природы!
Как рычаг умножает силу мышц, так и математический метод умножает силу мозга.
Но, конечно, надо уметь его применять, постоянно проверяя себя опытом, проверяя воображением, чтобы не оторваться насовсем от действительности.
Для умелого изобретателя математика — вторая голова.
Впрочем, кто теперь сомневается в могуществе математики, теперь, когда все больше и больше появляется машин, построенных на основании одних вычислений, одних математических выводов, когда не только радиостанции, посылающие в эфир незримые волны, но и дизель, измазанный маслом дизель, пышащий гарью и вонью, — все это изобретения, рожденные математикой, добыча разумного пера.
С каждым днем возрастает могущество математических методов в технике, в изобретательстве.
Там, где раньше гнули спины множество вычислителей, работает электронная счетная машина. Как величественны ее просторные панели, занимающие целый зал! Несколько тысяч радиоламп и десятки тысяч деталей составляют ее устройство. Несколько тысяч радиоламп! Каковы же масштабы чудес, на которые способна эта машина, если даже чудо телевидения осуществляется с помощью каких-нибудь двух десятков ламп?
Даже средняя из подобных машин во столько раз производительней человека-вычислителя, во сколько большой шагающий экскаватор производительней землекопа. А машина покрупнее заменяет столько тружеников, сколько было их на постройке египетских пирамид.
Но такая огромная армия людей никогда еще в истории не бросалась на штурм формул! Что же, тем лучше… Значит, здесь не простая замена, а новые возможности. Значит, можно силой машинной математики штурмовать такие твердыни технического прогресса, которые до сих пор приходилось обходить с опаской. Ведь технический расчет наперед определяет контуры будущих конструкций, ход задуманных химических реакций и технологических процессов. Значит, люди приобрели в электронной математической машине мощный инструмент научного предвидения. Глаз, вооруженный телескопом, зорче различает даль; мозг, вооруженный электронной машиной, начинает яснее видеть будущее.
Станок — это такая машина, которая помогает людям делать другие станки. Электронная машина — это такое изобретение, которое помогает людям делать другие изобретения.
Я припомнил посещение одного из вычислительных центров, где рассчитываются атомные реакторы — пронизанный солнцем корпус, похожий на аквариум. Процессы в реакторах столь сложны, что простое воображение не в силах представить себе будущий реактор, если оно не опирается на прогнозы математического анализа.
В верхнем этаже вычислительного центра у коричневых досок, исписанных мелом, в спорах и дискуссиях рождаются уравнения расчета реакторов, электронные машины в нижнем этаже доводят их до цифры. Среди этих машин я увидел старую знакомую — электронно-счетную машину, которая занимала обширный зал и размещалась в шкафах, способных вместить школьную библиотеку.
Мне повезло. Машина готовилась рассчитывать реактор. Предстояло быть свидетелем вычислительного подвига такой сложности и с учетом такого разнообразия процессов и такого множества факторов, которые вводятся в оборот, пожалуй, лишь при математическом прогнозе погоды, с тем отличием, что здесь в итоге вычисления получается всегда достоверный результат.
Когда мы зашли в зал, машина маневрировала, подбирая материал к вычислениям. Магнитофонные ленты в ее стеклянных шкафах совершали прямые и возвратные движения. В ее теле протекали процессы, похожие чем-то на маневровую работу паровоза, формирующего на сортировочной горке разнообразный и длинный железнодорожный состав. Конструктивные данные, физические характеристики, команды вычислительной программы извлекались из шкафов ее магнитной долговременной памяти и, подобно звеньям поезда, монтировались, записывались на единой магнитной ленте. Был потревожен даже дальний шкаф с какой-то сверхдолговременной памятью — и там тоже зашуршала магнитная лента, развиваясь, как старинный архивный свиток. Временами громкоговоритель выпевал мелодию, варьируя фразу, напоминающую гудок маневрового паровоза, а еще больше задорный крик молодого петушка. То был голос электрических процессов, говорящий о том, что исходные данные перекачиваются в оперативные разделы машины, где, как рамки в ульях, заложены решетки ячеек кратковременной ферритовой памяти… Девушка-оператор подает команду к счету.
Красные огоньки, лениво перемигивавшиеся на пульте управления и других частях машины, зарезвились, как во время иллюминации, образуя текучие гирлянды; голоса, доносившиеся из громкоговорителя, оживились, словно сменилось птичье царство, и одни соловьи, воцарившись в зале, засвистали и защелкали, соревнуясь в дерзких коленцах. Наконец застрекотало печатающее устройство, и дотоле неподвижная полоска бумаги поползла, как пулеметная лента. На бумажной полоске оттиснулась колонка многозначных цифр. Математик скользнул по ним пронзительным взглядом, как по строчкам музыкальной партитуры. Уже первые цифры засвидетельствовали, что реактор работать будет, в нем зажжется цепная реакция. Дальнейшие цифры описывали детали процесса, также в благоприятном свете.
За минуты, в которые математик расшифровывал язык цифр, машина успела выдать вторую колонку, касающуюся органов регулирования. Столбик цифр был исполнен ядовитого скепсиса. Уже первые цифры говорили, что предложенный вариант неприемлем и должен быть отвергнут. Люди-вычислители тут бы и остановились. Но дотошная машина провела весь анализ до конца. Цифры, следовавшие ниже, разбирали по косточкам, какой опасный кавардак породила бы эта система регулирования. Приговор был виден с первых строк, но машина с прокурорским красноречием продолжала приводить все новые и новые аргументы. Она как бы приплясывала на прахе поверженного варианта. Вариант был раскритикован, осужден и осмеян цифрой. То была жестокая критика, полезная, впрочем, тем, что имела воспитательное значение. Она как бы растолковывала каждому, что злосчастный вариант должен быть похоронен по первому разряду, и для верности над ним необходимо забить осиновый кол.
Так, глава за главой, печаталась повесть в цифрах, где описывалась жизнь воображаемого реактора и в спокойном ее течении и в возможных драматических поворотах. Вычислительное бюро израсходовало бы на эту работу месяц, машина проделала ее за двенадцать минут. Поиски лучших вариантов ведутся круглосуточно. На дощечке учета машинного времени было помечено мелом, что за прошлые сутки машина отдыхала полчаса.
В колонках цифр, словно в зеркале, отражались контуры будущих реакторов. И русая девушка-оператор, глядевшая в зеркало будущего, напоминала мне чем-то Светлану — героиню старинной русской баллады, гадающую среди зеркал.
7.5.
Но если уж зашла речь об электронных машинах, не могу удержаться от того, чтобы не рассказать одну историю. Я пишу здесь о реальных фактах и стараюсь избежать сатирического сгущения красок. Это было в Женеве осенью 1958 года на Второй международной конференции по мирному применению атомной энергии. Обходя американский отдел научно-технической выставки, среди атомных реакторов и термоядерных установок я наткнулся на старую знакомую — электронную математическую машину. То была скромная сверстница наших больших машин, ведущих грандиозные вычисления, управляющих процессами технологии, занимающихся переводами с языка на язык, разрешающих шахматные задачи, помогающих предсказать грядущее.
Здесь, на выставке, электронная машина не занималась своими прямыми обязанностями, не показывала на фосфоресцирующем экране контуры будущих атомных реакторов. Через окна павильона, затянутые мутной полиэтиленовой пленкой, виднелся парк, сбегающий к лазурной воде. На берегу Женевского озера электронная машина отдыхала. Она развлекала посетителей, рисуя им картинки. Не успел я оглядеться, как она изобразила для меня голубка, держащего в клюве мирный атом. У автоматической художницы не было кисти и карандаша, у нее была лишь пишущая машинка, подчиняющаяся велениям математических формул. И она отстукала рисунок на машинке так, как велели ей формулы, искусно расположив мозаикой математические значки.
Встретив в баре американских коллег, я разговорился с ними:
— Передайте привет и благодарность машине. Картинка мне очень понравилась. Я ее обязательно остеклю и повешу в комнате. Но откуда у машины такая храбрость? Голубь мира ведь не самая популярная птица в государственном департаменте.
— В наше время машины похрабрее иных людей. Даже самое пристрастное дознание в комиссии по расследованию антиамериканской деятельности не заставит машину отречься от убеждения, что дважды два — четыре.
— Пусть же все-таки получше наблюдают за этой машиной. А то вдруг возьмет да и тиснет… серп и молот.
— Понимаем тонкий намек. Вы имеете в виду историю в Калифорнийском университете?
Я не знал этой истории. Мы разлили в стаканы кока-кола. Тут я впервые услышал имя профессора Отто Дж. М. Смита.
Специальностью профессора Смита были математические машины, работающие по принципу электронных моделей. Инженеры сразу смекнут, в чем суть, а несведущие в технике пусть поверят на слово. Доказано — и порукою здесь великое единство природы, — что можно из одних проводов и радиодеталей построить электрическую модель для многих процессов, текущих в природе. Надо только подобрать подходящую схему, и тогда, измеряя токи, текущие по проводам, можно догадаться о коварной работе грунтовых вод, размывающих тело плотины, о движении газов в огненном чреве печи, о воздушных вихрях, играющих пропеллером. Это как бы электронное зеркало, в котором отразится грядущая судьба будущих сооружений.
Электронные модели природных явлений работали замечательно, и профессору Смиту пришла в голову дерзкая мысль — соорудить электронную модель экономической системы, электрическую схему, имитирующую капитализм, и на этой модели разобраться в хаосе капиталистических отношений. Воротилы Уолл-стрита приняли предложение «на ура». Грозный хаос, исполненный роковых неожиданностей, смущал души всех, даже мультимиллионеров; он сгонял их в сумерки к астрологам и гадалкам, гороскопам и вертящимся столам. А теперь приоткрывалась возможность опираться не на зыбкие принципы столоверчения, а на прочный фундамент математических прогнозов. Какая упоительная перспектива! В распаленных алчностью мозгах рисовался некий миниатюр-полигон, позволяющий планировать стратегические операции против экономических конкурентов, развивать на электронной основе очищение карманов трудящихся и, быть может, — о боже! — избежать разрушительных кризисов.
Было ясно, что модель профессора Смита показала бы лишь приближенную картину явлений, но высокие консультанты с Уолл-стрита, апробируя исходные предпосылки, позаботились о том, чтобы степень приближения оказалась близкой к достоверности. Движение капиталов в электронной модели изображалось электрическими токами определенной частоты, процессы накопления и задержки реализации товаров воспроизводились в системе конденсаторов и индуктивных катушек. Тут учитывались, в частности:
— взаимосвязь наличия промышленного оборудования и потребности в его амортизации,
— зависимость капиталовложений от национального дохода,
— стремление к максимальной прибыли,
— запаздывание реализации потребительных товаров по отношению к выплаченной зарплате, и т. д., и т. п.
Машина как бы торопила бег времени: явления, занимавшие год, протекали в ней за две десятитысячные секунды.
Разумеется, полной достоверности достигнуть не удалось. Получилась, конечно, идеализированная модель. Ученые, строившие модель, были буржуазные ученые, они исходили из принципов буржуазной политэкономии и, безусловно, не могли вскрыть всех противоречивых сил, раздиравших капиталистическую экономику.
Но все-таки испытания состоялись.
При потушенных огнях, чтобы ярче светились кривые на фосфоресцирующих экранах, собрались у машины Смита воротилы финансового мира. Это было гадание перед электронным зеркалом, готовым отразить жестокое и капризное лицо капиталистической экономики.
Профессор Смит включил рубильник с жутким чувством гадальщицы, зажигающей заветную свечу. На экранах задрожали зеленые зубчатые кривые, образуя пики, пропасти, ножницы. С волнением вдумывались присутствующие в их иероглифический смысл. Стало ясно: система крайне неустойчива. Она подвержена периодическим колебаниям, совершающимся примерно раз в десять лет. И присутствующие узнали в них призрак кризисов, глянувший в комнату со светящихся экранов. Он был неотвратим. Операторы тщетно вертели рукоятки «экономических факторов», стараясь стабилизировать систему. Колебания — кризисы — были неизбежны. Для достижения устойчивости не было никаких путей. Был порочен, по-видимому, самый принцип существования капиталистической системы…
Профессор Смит стал включать рукоятки, имитирующие возмущения, вносимые в капиталистическую экономику последствиями войн. Возмущения оказались не только глубокими, но и длительными. Они длились годы, десятилетия. Не затихли еще последствия первой войны, как ударил сокрушительный толчок второй. Стрелки гальванометров раскачивались, как порывом бури, на экранах сверкали зеленые молнии… Колебания достигли разрушительной силы.
— Удивительно, как она до сих пор не разрушилась… — прошептал из темноты тоскливый голос.
— А она и разрушается, — простонал другой. — После первой войны капитализм недосчитался России, а после второй — откололся целый лагерь социалистических стран…
В совершенном смятении профессор Смит положил палец на кнопку явлений возможного будущего. То была черная кнопка третьей мировой войны.
Но коллеги схватили его за руку. В зеленоватом отсвете экранов \ица их казались лицами мертвецов.
— Не трудитесь! Не надо! — прогремел огорченный бас…
— Дело хуже, чем можно предположить. Против нас еще множество внешних и внутренних факторов.
Наступило тягостное молчание. Одна мысль выражалась на всех лицах: «Запретить!» Запретить математику так же, как пытаются запретить марксизм-ленинизм. Оградить машину бронированной стеной, как завешивают зеркало, в комнате мертвеца. Разбить зеркало!.. Но бить зеркала — дурная примета. Запретить астрономию, чтоб не видеть советской ракеты, взлетающей в небеса! Запретить океанографию, чтоб не видеть атомного ледокола! Разрешить лишь водородную и атомную бомбы… Но науку, кажется, запретить нельзя. И все чаще и чаще на стенах Дворца науки вспыхивают грозные знаки, словно огненные буквы «Мене, текел, фарес» на пиру Валтасара. Для капитализма эти вещие знаки страшнее легендарных пророчеств: это строгие научные прогнозы его неминуемой судьбы. Вот в чем смысл иероглифов, вспыхнувших на панелях лаборатории электронных машин Калифорнийского университета.
…С волнением перелистывал я сочинения Маркса, сомневаясь, не являются ли опыты профессора О. Дж. М. Смита математическими фокусами, вульгаризирующими марксизм.
Но вот что К. Маркс писал Ф. Энгельсу:
«…Я здесь рассказал Муру одну историю, с которой, честно говоря, долго провозился… Дело в следующем: ты знаешь таблицы, где цены,
учетный процент и т. д. и т. п. представлены в их движении на протяжении года и т. п. идущими вверх и вниз зигзагообразными линиями. Я неоднократно пытался — для анализа кризисов — вычислить эти восходящие и нисходящие в виде неправильных кривых и думал (думаю еще и теперь, что с достаточно проверенным материалом это возможно) математически вывести из этого главные законы кризисов» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Письма о «Капитале». 1948, стр. 192).
Таким образом, гениальный прозорливец Маркс как бы предвидел работы профессора Смита. Профессор Отто Дж. М. Смит не марксист, но, по-видимому, честный ученый. Он пустился в плавание по течению своей науки, и она принесла его к подножию Марксова «Капитала».
Те, кто думает, что история, происшедшая в Калифорнийском университете, — пропагандистский анекдот, могут познакомиться со статьей О. J. М. Smith, Н. F. Erdley в журнале «Electrical Engineering» 71 № 4 (1952), а также в статье О. J. М. Smith в журнале «California Engineer. Nov» (1953), к которой и советуем обратиться в первую очередь.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ, где доказывается, что вдохновенье может нахлынуть со стороны, изобретателя могут надоумить достижения в соседних и дальних областях науки и техники; изложение завершается думами об океане, размышлениями над стрелками часов
8.1.
Говорят, что изобрести можно только в той области, которой занимаешься.
Да и в самом деле, разве может зубному врачу взбрести в голову новая деталь подводной лодки? Он, быть может, всю жизнь провел среди разинутых ртов и подводных лодок в глаза не видел.
Другое дело, если бы этот врач попал во флот, стал бы плавать… Но тогда уже это был бы не просто врач, а подводник. А пока он лечил зубы, он по своей части мог бы выдумать — пломбу какую-нибудь, но уж никак не деталь подводной лодки.
Нот вот, однако: если заглянуть в историю изобретений, то многое как будто противоречит этому — много найдется изобретателей, которые прославились не по своей специальности.
Изобрел человек нож. Чем больше нож режет, тем он острее.
Инструментальщики говорят:
— Этого быть не может. Всякий инструмент от работы тупится. Тупятся ножи, резцы, стамески… Каждый техник знает, что инструмент надо затачивать.
— Я не техник, — отвечает изобретатель, — я зоолог. Мне известно другое. Звери только и делают, что грызут, грызут, грызут… Но, заметьте, у всех грызунов, молодых и старых, одинаково острые зубы. И зверье не носит своих зубов к точильщику.
Дело в том, что зуб грызуна состоит из слоев различной крепости. Более крепкий слой находится в сердцевине и со всех сторон обложен слоями помягче. Быстрее срабатываются наружные мягкие слои, крепкая сердцевина все время возвышается над ними, как горный пик, и зуб остается острым.
Так же устроен и мой, всегда острый нож. Он похож на слоеный пирог, составленный из тончайших листов стали различной крепости. В середине самая крепкая сталь, по бокам идут листы помягче.
Пока ножом режут, он всегда остается острым, потому что неравномерно стачиваются слои. Только ржавчина может его притупить.
Так русский зоолог Игнатов изобрел лезвие, похожее на сказочный меч, который тупится только тогда, когда лежит в ножнах.
8.2.
Рассказывают старую историю про то, как изобрели бумагу. Изобрели ее будто бы в XI веке, в одном итальянском монастыре.
Одного буяна-монаха в наказание заперли в келье — пусть, мол, посидит, одумается, придет в себя. Но монах не хотел сидеть взаперти. Он считал, что терпит напраслину. Он ногами бил в дверь, кляня всех на свете. Никто не отзывался.
В бессильной ярости монах разорвал на себе рубаху. Он зубами раздирал ее на куски. Он жевал ее, скрежеща зубами, и выплевывал в бешенстве на стол комочки жеваной ткани.
Понемногу гнев остывал. Тут монах заметил, что напакостил. Куча жвачки лежала на столе. Он сгреб в горсть эту кашу и шлепнул ее с размаха в кафельную печь. И завалился спать, обессилев.
Наутро дверь была по-прежнему заперта. Было скучно. Монах слонялся по келье, ища занятие. Вдруг он увидел на печи какую-то сероватую нашлепку. Он отодрал ее прочь и нашел, что та сторона, что приклеилась к кафелю — гладкая, как пергамент. В келье были перо и чернила, и через несколько минут монах, закусив язык, прилежно вырисовывал на лепешке заглавные буквы.
Вот таким путем, рассказывают итальянские бумажники, буян-монах открыл секрет изготовления бумаги.
Не слишком правдоподобная история. Если принять ее на веру, то первая бумажная фабрика, пожалуй, представится так. Сидят люди, жуют рубашки и плюют в потолок. И по временам сдирают с потолка бумажные обои.
Удивительно нелепая история. И все-таки ей верили. И переписывали из книги в книгу. Только лет восемьсот спустя, в конце прошлого века, европейские историки доискались, как была изобретена бумага.
Изобрели ее не в XI веке, а гораздо раньше, может быть, в I веке, и не итальянцы, а народы Средней Азии.
Среднеазиатские кочевники были замечательными мастерами валять войлок.
Как им такими не быть! Льна не сеяли, хлопка не растили, шелковичного червя не разводили. Зато верблюжьей и овечьей шерсти кипы. Вот и валяли из шерсти войлок, а уж из войлока делали все: одежду, палатки, кошму для кибиток. Войлок у кочевников — самый первый материал.
Из Китая в Среднюю Азию приходили книги. Кочевники вертели книги в руках, хвалили красивую китайскую работу.
Работа чудесная! Книги написаны на бледном хрустящем шелке. Шелк покрыт гибкой сверкающей пленкой прозрачного лака, а по лаку цветной тушью письмена.
Вызывает хан своих мастеров и дает им нахлобучку:
— Только и умеете, что войлок валять! Смотрите, что делают китайцы… Какая прелесть!
— Не гневись, светлейший хан, — кланяются мастера. — Будь уверен — сделаем не хуже.
— Где уж вам! Молчите… Вам и ткани такой не выткать!
Мастера спорить с ханом не стали. Был у них в головах собственный план: сделать книгу по-своему, по-особенному.
«Верно, — думают, — что ткани такой нам не выткать, но не совсем уж мы безрукий народ. Войлок умеем валять замечательно, и в этом деле никому нас не перещеголять.
Сделаем книгу из войлока».
Только как свалять тончайший войлок, светлый и прочный, как шелковая ткань? Верблюжья шерсть тут не пойдет — груба.
На первых порах решили использовать тот же шелк. Набрали шелковых лоскутков и давай их толочь, растирать между камнями. Распушили на тончайшие волоконца.
И потом все в воду. Мелкие волоконца всплывали на поверхность и сбивались, как пушинки одуванчика в сонном летнем пруду. Они плавали на поверхности воды, как белая пленка. Эта пленка была будущим книжным листом. Ее надо было снять с воды, как снимают пену с супа. Шумовкой какой-нибудь.
Вместо шумовки взяли густое сито, Вода сцедилась с сита, и на сетке осел слой тончайшего волокна. Его подсушили и легко отодрали от сита.
Получился тонкий и прочный лист: крепко слиплись и переплелись тончайшие волоконца. Это был первый лист бумаги.
Из бумаги сделали книгу и писали на ней кисточкой из крысиных волос.
Неизвестно, понравилась ли хану книга. Может быть, и нет. Может, он остался при своем и считал, что у китайцев лучше. Кочевники были сплошь неграмотны, книги и бумага их не заботили.
Но китайцам бумажная книга очень понравилась. Китайцы мигом сообразили, какая важная вещь — бумага. Делать бумагу было много проще и дешевле из шелковой ткани. Китайцы писали много книг, и бумага была им нужна позарез.
Вскоре кто-то из китайцев истер в большой ступе рыболовную сеть и из нее сделал бумагу. Получилось еще дешевле.
А в 105 году китаец Чай Лун докладывал императору Юан Кингу, что нашел способ делать бумагу из очесов льна, пакли, луба, молодого бамбука, тряпья, соломы, травы. Император остался очень доволен, а Чай Лун стал знаменитостью.
Не буян-монах и не с бухты-барахты придумали бумагу.
Получили валяльщики книги, взглянули на них со стороны и начали делать бумагу по-своему, приложив к этому делу все свое высокое искусство.
8.3.
Можно целую толстую книгу отвести под примеры того, как техническая идея приходит к изобретателю со стороны, из других областей науки и техники.
В комедии «Виндзорские проказницы» Шекспир рассказывает, как веселые проказницы запрятали неловкого и знатного кавалера Фальстафа в большую корзину с бельем. Фальстаф сидел в корзине под смех зрителей, и ему было неловко и стыдно.
Но откуда у зрителей моральное право смеяться над Фальстафом, если каждый из них сидит в корзинке и, быть может, только потому и не стыдится соседа? Проказников, посадивших людей в корзинки, давно не существует на свете, и только останки их находят археологи в пещерах каменного века.
Материалы раскопок неопровержимо свидетельствуют, что плетение корзин было одним из самых первых изобретений, сделанных человеком. Люди научились плести корзины из прутьев еще до того, как овладели уменьем лепить глиняные сосуды.
Сейчас трудно представить, что изобретение глиняного сосуда родилось перенесением технической идеи из освоенной ранее области — плетения корзин. Чтобы слепить сосуд, первобытный человек раскатывал глиняный комок в тонкий глиняный червячок — прутик и из этого прутика свивал сосуд, наподобие корзинки. Человек привык танцевать от печки;
чтобы пустить в дело необычный материал, ему надо было для удобства и спокойствия превратить его сначала в знакомый прут. Только после изобретения гончарного круга производство глиняной посуды перестало быть похоже на плетение корзин.
От корзинки родилась рогожка, от рогожки — дерюжка, от дерюжки — современная плетеная ткань. Потому и возможно, с известной натяжкой, утверждать, что одежда, которую мы носим, — это нынешний потомок первобытной корзинки.
Этот древний пример лег бы где-то на первых страницах книги, посвященной изобретениям со стороны. А на самой последней ее странице был бы сформулирован некий изобретательский принцип: изобретение может родиться путем переноса технической идеи из соседних областей науки и техники.
8.4.
Кочевники потому изобрели бумагу, что сумели увидеть общее между войлоком и книжным листом.
Большое дело уметь видеть общее, уметь различать из-за леса неважных подробностей общую суть вещей.
Именно суть, а не так: отобрали попарно корову и кресло, циркуль и курицу, рояль и фотографический штатив, отобрали и рады до слез — нашли общее!
Одно тут общее: число ног. У коровы и кресла — четыре, у курицы с циркулем — две, у штатива с роялем — три. Никого эти частности не интересуют!
Умению видеть общее учит людей наука, теория. Герой Социалистического Труда конструктор Шпитальный набрел на идею своего сверхпулемета, перелистывая книгу по астрономии. Среди чуждых уравнений, изображавших движения небесных светил, он увидел странно знакомую формулу движения воды в гидравлической турбине. Себе не веря, Шпитальный вчитался в текст и понял, что это уравнение движения в спиральной туманности.
Бездна отделяла турбину от чудовищного звездного облака, способного поглотить тысячи солнечных миров, но формулы выглядели на одно лицо. Формулы были законами движений, записанными математическими значками, и в них отразилось то общее, что было присуще движениям во всей нескончаемой Вселенной. Общий закон управлял и водоворотом и туманностью, затерянной в бездне неба. Шпитальный взял карандаш и вывел этот закон, формулу поступательно-вращательного движения в природе.
Оказалось, что той же формуле можно было бы подчинить и движение механизмов пулемета, о котором он в то время думал. И тогда получилось бы оружие невиданной скорострельности.
Шпитальный осуществил свою идею, и расчеты его оправдались. Механика неба воплотилась в механизме пулемета.
Знание теории, знание общих законов природы помогает изобретателю на каждом шагу.
Люди сами порой не знают, какое могущество скрывается в скромных математических уравнениях, и даже не представляют себе, к каким они приведут практическим результатам.
В прошлом столетии многие крупные ученые заинтересовались теорией волчка. Целыми днями сидели на корточках—волчки пускали; наблюдали, измеряли, соображали, подсчитывали. Только о волчке и думали, только о волчке и говорили.
— Ляжем костьми на этом месте, а разгадаем в конце концов секрет волчка! Почему неподвижный волчок вяло лежит на полу, а когда развертится, становится словно живой, словно впивается острием в пол и стоит так на острие, упрямый и неуклонный? Какие тут действуют силы?
Коллеги их увещевают:
— Как вам не стыдно заниматься подобной ерундой. Кому это нужно? Разрабатывали бы теорию корабля или другой какой-нибудь полезной вещи. А то волчок. Игрушка! Все равно, что играть в бирюльки!
Но ученые все-таки докопались до секретов волчка, изучили действующие в нем силы и написали об этом гору научных статей, сплошь из одних математических уравнений.
Каждый удивился бы, кто увидел: столько математики — и все о волчке?
— Разработана общая теория волчка, — поясняют ученые, — установлены и записаны на языке математики общие законы для всех волчков, которые существуют и которые могут появиться в будущем.
Техники в этой теории раньше не разбирались. Но вот открыли артиллеристы, что остроносый удлиненный снаряд летит из пушки вдвое дальше, чем круглое ядро. Одна беда — кувыркается снаряд в воздухе. Как бы сделать так, чтобы он все время летел носом вперед и не кувыркался?
Сделали так: завертели снаряд, как волчок, — и тогда он перестал уклоняться с пути. Полетели из пушек смертоносные волчки, все, как один, точно в цель. И, конечно, артиллеристы кровно заинтересовались теорией волчка. Извлекли на свет громоздкие уравнения.
А тут приключился загадочный случай на море. Построили инженеры сверхскоростное военное судно. На маленьком суденышке установили мощную паровую турбину. Стремглав полетел корабль, едва касаясь воды.
Стал рулевой делать разворот — не слушается судно руля. Крутят штурвал и туда и сюда — нет управления да и только. Строитель стоит на рубке, красный до корней волос. Позор! Неприятность!
Переделали руль — все без толку. Нет управления, да и все тут.
— И не будет! — сказал один опытный инженер. — В брюхе вашего судна вращается турбина — неуклонный, упрямый волчок. Потому так трудно свернуть корабль с пути.
Пришлось и судостроителям засесть за теорию волчка, строить корабли сообразно с этой теорией.
Задались однажды вопросом: какая сила удерживает на ходу велосипед, не дает ему падать набок? Математики подсказывают: учтите, у него колеса вертятся, как два волчка. Напишите уравнение волчка, оно вам многое объяснит!
Ходят статьи по рукам, и являются в головы блестящие изобретения.
Может быть, не только велосипед, но и целый вагон можно пустить на двух колесах по одному рельсу, если упрятать внутрь массивный волчок? Можно! — отвечает теория. Так и сделали. Целый поезд катил по одному рельсу и не падал набок. Получалась однорельсовая железная дорога. И если над пропастью протянуть стальной канат, то и над пропастью пронесется бесстрашный вагон, тихо покачиваясь, как канатная балерина.
Говорят, что магнитная стрелка все время показывает точно на север. На самом деле это не так. Спросите любого капитана, и он расскажет вам, что магнитная стрелка все время гуляет при движении корабля, постоянно уклоняется в сторону. Ее отвлекают подземные залежи железа, ее раскачивают магнитные бури, пролетающие над землей. И моряк зачастую не может положиться только на компас.
Тут опять приходит на помощь чудесное свойство волчков, известное из теории. Маховики, пропеллеры, роторы, турбины, все вращающиеся части машин, все волчки, какие только есть на земле, рвутся из своих втулок, чтобы стать в направлении Полярной звезды.
Если тщательно сделать вращающийся волчок и создать ему некоторые условия, то он безотрывно будет прикован к Полярной звезде и не будет менять своего направления, как бы ни поворачивался корабль. На больших кораблях вращаются волчки, неустанно подгоняемые электричеством. Это гирокомпасы, на редкость хитроумные приборы.
Когда принялись проектировать гирокомпасы, формул стало не хватать. Пришлось дальше двигать теорию, выводить недостающие уравнения.
Инженеры сделали большое дело. Они изобрели автопилот, машину, которая сама ведет самолеты. Летчик может отдыхать в полете. У него есть второй пилот — стальная машина без сердца и нервов, не знающая усталости. Он ей может передать управление в спокойную минуту.
Что это за машина? Волчок. Волчки управляют самолетами.
В тиши лабораторий ученые стремятся проникнуть в тайну магнита. И оттуда доносятся слова: волчок, волчок, волчок.
Могу сказать в заключение, по секрету, что волчки — это стальные штурманы космоса. Они направляют полет ракет.
Тысячи инженеров изучают теперь теорию волчка, породившую столько изобретений. И советуют изучать другим, даже астрономам.
Но астрономы и сами давно ее изучили. Ведь и вся наша Земля — это огромный волчок.
8.5.
Бывает, что изобретение, явившееся со стороны, кажется сделанным словно по шпаргалке.
Сзади первого паровозика шли, отпихиваясь от земли, неуклюжие стальные ноги. Видно, конструктор скопировал их с ног человека, толкавшего вагонетку.
У первого парохода торчали по бокам весла, загребавшие воду. Их приводила в движение паровая машина. Похоже, конструктор скопировал свой пароход со старинной галеры, на которой гребли рабы.
У первого парохода была кирпичная труба. Подшипники коромысла паровой машины были подперты парой дорических колонн, словно похищенных с фасада какого-то здания. Станки на первых порах сохраняли в себе черты комнатной мебели. У них были вычурные гнутые ножки и в колесах спицы фигурной токарной работы. Инженеры того времени отлично строили мебель и здания, но еще не умели как следует строить машины.
Один из первых электромоторов был ни дать ни взять паровая машина. Такой же шатун, кривошип и маховик, только вместо цилиндров электромагнитные катушки — соленоиды, а вместо поршней железные сердечники. Переключатель, похожий на золотник, включал ток то в один, то в другой соленоид, и сердечники ходили взад и вперед, попеременно втягиваясь в катушки. Шатун вертел кривошип, маховик крутился.
Похоже, изобретатели пытались решать стоящие перед ними задачи, как иные не слишком прилежные школьники пишут контрольную.
Они списывали для своих машин готовые конструкции у соседей и предшественников.
Дело, конечно, не в лени и не в нежелании пораскинуть умом. Изобретатели делали первый шаг и не в силах были развеять полностью привычных представлений о вещи. Они оставались в плену у собственной косности. Они пытались втиснуть новую вещь в старую, испытанную оболочку. И терпели неудачи. Ничего хорошего из этого не получалось.
Нынче паровозы не похожи на стальных коней. Трудно даже представить себе, с какой быстротой пришлось бы отбрыкиваться паровозьим ногам, чтобы двигать машину со скоростью современных паровозов. Бешено бьют копыта. Пыль стоит столбом! Вдребезги разлетаются рельсы и шпалы.
По нынешней мерке, пароходик с веслами по бокам был бы так же беспомощен в воде, как барахтающаяся в луже сороконожка.
Машины теперь не похожи на мебель и дом с колоннами. Наоборот, мебель нередко напоминает по виду машины. На гигантскую машину похожи и большие современные заводские корпуса.
И чем больше совершенствуется машина, тем меньше делается она похожей на первоначальное изобретение — по шпаргалке.
8.6.
На что похож самолет? Говорят, на птицу.
И правда, было время, когда жидкие каркасы самолетных плоскостей, обтянутых легкой материей, напоминали птичье оперение. И шасси постоянно торчало снаружи, как худые, костлявые птичьи лапы.
Но теперь самолеты сильно изменились. Только по привычке различают в них облик птиц. Не похож самолет на птицу!
Скользким телом, лепкой хвоста самолет похож на рыбу — остроносую акулу, рассекающую глубины воздушного океана.
Удивительно! Откуда взяться рыбьим чертам в летучей машине? Только в сказках порхают с куста на куст летучие рыбы.
Дело в том, что при больших скоростях воздух сопротивляется движению не меньше, чем вода. Это уже не тот незаметный воздух, почти неосязаемый лицом и руками. Этот воздух рвется из-под пропеллеров неукротимой железной струей, держит на весу тяжелую машину. Этот воздух водопадом шумит в крыльях. Это яростные, упругие воздушные струи облизали, огладили тело машины, как морской прибой прибрежную гальку. В этом воздухе каждый выступ тормозит движение, словно гвоздь, торчащий в санном полозе. Конструкторы в погоне за скоростью убирали выступ за выступом и пришли к тому же, к чему пришли рыбы, приспособляясь в течение долгих веков к движению в водной среде.
Но все-таки самолет не вполне походит на рыбу. У рыб не бывает пропеллера. Предок самолетного пропеллера крутился в воде. Это пароходный винт. Значит, самолет похож на пароход.
Но у парохода нет надутых воздухом резиновых колес. Их самолет позаимствовал у велосипеда. Значит, самолет похож на велосипед.
Но у велосипедов не бывает бензинового мотора! Предок самолетного мотора работал в автомобилях. Значит, самолет похож на автомобиль.
Но у автомобиля нет хвоста, и на нем нет рулей, вертикальных и горизонтальных! Такие рули — в хвосте у подводной лодки. Значит, самолет похож на подводную лодку.
Нельзя же так, на все сразу! На что все-таки похож самолет?!
Самолет похож на самолет. И все тут. Самолеты строят не для того, чтобы кататься по земле, плавать на воде, нырять под воду. Самолет — машина, чтобы летать по воздуху. Машина, а не птица! Совершенно новая вещь. Вот она и получила свою, только ей одной свойственную форму.
8.7.
Современные инженеры с высоты грандиозных тепловых или даже атомных электростанций добродушно ухмыляются первым робким и неверным шагам энергетической техники. Они прячут улыбку в усы, вспоминая, по какой громоздкой схеме была создана в XVIII веке первая огневая машина. Поршень парового цилиндра приводил в движение водяной насос, насос поднимал воду в бак, повыше, а оттуда вода самотеком бежала по желобу и вращала мельничное колесо. Да, довольно длинный путь от поршня — к вращающемуся колесу! Словно из Москвы в Одессу через Владивосток! А чтоб прямо привод от поршня к колесу, до этого дедушки нашей энергетики не додумались. Инерция ума, косность мышления!
Но если б случилось чудо и смогли бы переглянуться через коридор столетий мастера огневых машин со строителями современных электростанций, то во мгле веков просверкала бы ответная улыбка:
— Легко вам там подсмеиваться, через двести лет, во всеоружии науки и техники XX века. А пришли бы, поварились здесь на нашем месте, где любую деталь отковывают в чадной кузнице, словно лошадиную подкову, где и о науке такой, как кинематика механизмов, еще слыхом не слыхали!
В чужом глазу соломинка заметна, а в своем глазу не видишь и бревна! Оглянитесь на вашу хваленую технику, на ваш самый совершенный цикл производства электрической энергии. Умора! Химическая энергия топлива превращается в топке в тепловую, тепловая энергия в котле передается пару, тепло в турбине превращается в механическую энергию, механическая энергия в генераторе превращается в электрическую. И из каждого звена свищут потери. А чтобы прямо из химической энергии в электрическую, вы за двести лет до этого превращения не додумались. Вот она где, инерция ума, косность мышления!
Что касается атомных электростанций — там еще чище! Чудо новейшей техники — атомный реактор — применяется у вас лишь в роли топки под старинным паровым котлом. Пар из этого котла подогревает другой котел. Тот, другой котел питает паром турбину, турбина крутит генератор. А чтобы прямо атомную энергию превращать в электрическую, вам и в голову не приходит. Так над кем же вы потешаетесь, дорогие коллеги!
Если бы продлилось чудо и веселые спорщики могли ближе познакомиться друг с другом, они быстро бы нашли, что пререкания — беспочвенны и взаимные насмешки — неуместны.
Когда слышатся упреки в инерции и косности ума, то серьезные, вдумчивые люди настораживаются и стараются поглубже вникнуть в конфликт. Человеческий ум знаменит не косностью и инерцией, а своей созидательной силой. Когда звучат наветы на человеческий ум, то полезно оглядеться внимательно вокруг, не найдется ли каких-нибудь обстоятельств и препятствий на пути его неутомимого творчества?
Не инерция и косность ума помешала строителям современных электростанций обратиться к прямому преобразованию тепловой и атомной энергии в электричество. Мысль об этом родилась гораздо раньше, чем возникли большие электростанции. Но препятствовали громадные трудности этого дела. Многолетние усилия ученых приводили к недостаточным результатам.
Помните колпак на керосиновую лампу, продававшийся в радиомагазинах? В колпаке заключалась термобатарея, превращавшая теплоту керосинового огонька в электрический ток. От такой керосиновой лампы мог работать радиоприемник. Но электростанция на подобных батареях работать не может. Слишком много еще теряется здесь тепла.
На первой Международной конференции по мирному использованию атомной энергии я видел электрическую атомную батарейку. Тепловое и ядерное излучение превращалось в ней в электрический ток. Батарейка питала маленький генератор, создававший писк в наушниках. Новорожденное пищало тогда в колыбели.
Лишь недавно стало возможным объявить генеральный штурм проблемы прямого преобразования тепла в электричество. Вдохновенье и подсказка пришли с неожиданной стороны.
8.8.
Комментарии буржуазных публицистов и философов, провожающих завистливым взглядом горделивую стаю советских космических ракет с хвостами жар-птицы, иногда напоминают реплики Ужа горьковскому Соколу.
— Ну зачем, — восклицают они, — человеку столь высокий полет, ну зачем ему рваться в космос, когда столько еще на земле нерешенных насущных задач? Ну зачем затрачивать громадные средства и силы на эти феерические хвосты, на почти фантастические, далекие от жизни затеи? И расчетливо ли вкладывать средства в дело, не дающее сегодня непосредственной выгоды?
Все эти вопросы рождены не одной лишь циничной демагогией жрецов «холодной войны», но порой возникают из самого духа бизнесменской философии прагматизма, справедливо называемой «философией чистогана».
Что можно ответить нашим искренне убежденным или притворствующим оппонентам? Можно обратить их внимание на то, что в условиях советской действительности регулярные полеты в космос планомерно сочетаются с беспримерным по размаху и темпам жилищным строительством, неосуществимым ни в одной капиталистической стране; можно призвать сомневающихся бизнесменов к деловому терпению, объяснив, что затраты в настоящем обязательно окупятся в далеком будущем, уподобив, популярности ради, вложения в космос долгосрочному займу с процентами при возврате.
Но сказать все это, и только это — означает сказать не все.
Можно утверждать на основании самого убедительного опыта в мире — научного опыта коммунистического строительства, что постановка великих и дальних целей, планомерное к ним движение — это и есть наилучший путь разрешения повседневных, насущных практических задач. Это справедливо для всей современной науки, и в особенности для науки социалистического общества. Диалектика развития науки и техники такова, что реализация, казалось бы, далекой от жизни, фантастической идеи полета в космос оказалась самым практичным свершением повседневности, самым могучим стимулом укрепления связи науки с жизнью.
Высоко уходит в небо ствол могучего древа современной космической науки. Но чем выше дуб, тем раскидистей его крона, тем все больше и больше боковых ветвей расходится в стороны к проблемам, имеющим важное самостоятельное народнохозяйственное значение, безотносительно к осуществлению космических полетов…
Крона древа космической науки и техники небывало густа и ветвиста. И это закономерно. Ю. А. Гагарин недаром назвал космический корабль сооружением более сложным, чем все, что можно себе представить. Посещая лаборатории советских ученых, то и дело касаешься этого древа, замечаешь ценнейшие плоды, вызревающие на какой-либо из его ветвей.
Мы коснемся тут лишь одного из многих узлов ракеты — ее реактивного сопла с огненным хвостом жар-птицы.
Специалисты по химии высоких скоростей, изучившие процессы горения в сопле, пришли к выводу, что сопло представляет собой как бы незримую анфиладу химических цехов, в каждом из которых происходят свои технологические превращения. Постепенные фазы разложения и сгорания топлива как бы разделены в пространстве по зонам, растянутым вдоль сопла в цепочку. Проносясь вдоль сопла в ревущей струе пламени, молекулы горючего претерпевают последовательные изменения, как детали на заправском конвейере, движущемся со сверхзвуковою скоростью. Было бы неправильно называть его сборочным конвейером, это, скорее, конвейер для разборки сложной молекулы горючего. Каждая из позиций «конвейера» характеризуется определенной степенью «разборки». Если б появилась возможность отбирать «детали», то бишь молекулы, с различных позиций «конвейера», то из разных зон сопла можно было бы получать различные химические вещества. Такая возможность есть. Надо лишь установить в соответствующей зоне сопла охлаждающий поясок, на котором будут осаждаться молекулы. Если жечь в длинном сопле углеводородное топливо и поближе к входному отверстию поставить охлаждающийся поясок, можно добиться получения этилена; передвинув поясок по направлению к выходу — получаешь ацетилен; передвинув поясок еще ближе к выходному отверстию — получаешь углерод. В огнедышащем сопле ракеты видится сегодня прообраз химического завода для простого скоростного, непрерывного получения разнообразных и ценных продуктов.
В одной из советских лабораторий мы столкнулись с совсем неожиданным превращением ракетного сопла. Исследователи увидели в нем электростанцию будущего. Да, не удивляйтесь, в жарком хвосте пламени они разглядели и топку, и котел, и турбину, и электрический генератор — одним словом, могучее средство для прямого превращения тепловой энергии в электрическую. Мы могли воочию убедиться, что стоит лишь поднести к ревущему жалу пламени обыкновенный магнит, как из этого соседства немедленно рождается электрический генератор. В пламени возникает электрический ток. Нужно несколько усилий воображения, чтобы разобраться в этом.
Легко сообразить, что цилиндрический якорь в зазоре магнитов обыкновенного генератора может быть заменен движущейся металлической лентой. Еще одно усилие воображения — и вместо непрерывно текущей ленты мы представим себе проводящую жидкую (например, ртутную) струю. А отсюда один лишь шаг к пониманию роли струи пламени. Ведь известно, что пламя является проводником тока. Многим памятен школьный опыт, где огонь свечи разряжает шарик электроскопа. Но нежаркий огонь свечи — довольно плохой проводник; иное дело высокотемпературное ракетное пламя. В струе ракетного пламени, помещенной в магнитное поле, возникает электрический ток, как во всяком движущемся проводнике. Но этот проводник обладает особенными свойствами.
Пламя, вырывающееся из ракетного сопла, — это то «четвертое состояние вещества», которое физики называют плазмой. От обычного газа плазма отличается тем, что все большую и большую роль в ней начинают играть свободные электроны и ионизированные наэлектризованные атомы и молекулы. Впрочем, плазма как раз и является самым обычным состоянием вещества. Ведь из твердой, жидкой и газообразной материи состоит лишь незначительная часть Вселенной, остальной же мир построен из плазмы.
Естественно, что в основе теории нового генератора лежит теория плазмы. Эта новая наука называется магнитогидродинамикой. Она родилась из изучения поведения космических туманностей и оболочек звезд. Теперь уравнения космической науки помогают добывать земные киловатты. На наших глазах создается магнитогидродинамический генератор, без котлов, турбин, якорей, без единой подвижной механической детали, позволяющий превращать тепло непосредственно в электричество.
Руководитель работ подает команду к запуску агрегата. Все надевают темные защитные очки. Раздается шипение газа, переходящее в рев пламени. Ослепительный кинжал огня вонзается в междуполюсное пространство магнита. Охлаждаемые электроды, погруженные в плазму, собирают электрический ток, и стрелка амперметра достигает наивысшего отклонения.
Перед умственным взором журналиста возникают контуры одной из электростанций будущего. Вероятно, это будет довольно шумное, но простое в постройке и экономичное предприятие. Пламя будет реветь в целой батарее сопел, а электроды снимать могучий, особенно удобный для передачи на дальние расстояния постоянный ток. Конечно, схема электростанции окажется сложнее ее лабораторной модели, избытки тепла пойдут на подогрев воздуха для газовой топки, а быть может, и для некоей подсобной паросиловой установки. Но коэффициент полезного действия станции будет высоким и превысит раза в полтора к.п.д. обычной тепловой станции. Ну, а это означает миллионы тонн нефти, сэкономленной в пределах одной лишь ГРЭС.
Как хотелось бы привести в эту небольшую лабораторию зарубежных сторонников «непрактичности», «нерентабельности» космических исследо-ваний! Они убедились бы воочию, что сегодня реактивное сопло входит в современную технику не только как важная часть ракетного двигателя, но и как элемент гораздо более широкого, универсального назначения, каким стало в истории техники колесо или пропеллер; что наука о космосе указует пути построения земных машин; что весь комплекс научно-технических исследований космоса — это главное звено, за которое Советское правительство и Коммунистическая партия поднимают на новую, небывалую высоту все другие звенья великой цепи технического прогресса, все участки материальной базы улучшения жизни и благосостояния трудящихся.
…Я сорвал с себя темные очки, чтобы в свете перышка пламени разглядеть молодые лица ученых и лаборантов, столпившихся возле необычной установки. У них были радостные, счастливые лица, как у всех хороших людей, когда им достается перо жар-птицы.
8.9.
Ощущение величия, мощи и размаха охватывает вас уже при въезде на территорию, столь обширную, что для сообщения между разбросанными по ней корпусами приходится пользоваться автомашиной. Это чувство усиливается, когда входишь в здания и оказываешься в исполинских помещениях, напоминающих цехи крупнейших заводов, где стальные фермы поддерживают высокие перекрытия, где могучие мостовые краны плывут над головой, где ряды гигантских машин уходят в перспективу залов и туманятся дымкой расстояния. Некоторые машины столь сложны и огромны, что человек вблизи них кажется муравьем, заползшим внутрь радиоприемника.
Журналист, а возможно, и инженер, привыкший к обычной классической технике, вероятно, станет в тупик при виде этих необыкновенных машин — фантастических гибридов представителей самых различных областей индустрии. К установкам, похожим на аппаратуру химической технологии, подступает дремучая чаща трубопроводов, белый иней покрывает узлы труб, и над ними курятся светлые струйки пара, характерные для устройств глубокого охлаждения, группы мощных насосов наводят на мысли о вакууме, а медные шины и белые изоляторы свидетельствуют о вторжении электроники. Вспоминаются не листы учебников технологии, а страницы научно-фантастических романов — описания производства каких-то космических объектов.
Воображение не обмануло нас. Здесь действительно производятся космические объекты. Но не звездные корабли, не спутники, а нечто другое, опирающееся на иные возможности познания мира. Ракеты, спутники, корабли создают на космических верфях из земных материалов, по земным законам и обычаям, а затем они устремляются в космос, как посланцы и плоды Земли. А машины, о которых мы начали рассказ, рождены человеческой мыслью, совершающей обратное движение. Здесь как бы низводятся с небес на землю отдаленные космические объекты, воспроизводятся в земных условиях, с разной степенью приближения состояния материи, явления и процессы, никогда не происходившие на Земле и присущие только космическим туманностям и оболочкам звезд. На машинах, о которых идет речь, получается и обрабатывается не твердый металл, и не пластмасса, и не жидкости, и не газы, а материя в ее изначальной, первозданной форме, называемой плазмой. Здесь стараются получить на пользу людям волоконца, нити, клубки той солнечной пряжи, из которой сотканы небесные светила.
Где же находится эта космогоническая мастерская, в которой не волею божьей, а руками человека дерзновенно создаются детали небесных светил?
Укажем точный адрес: Москва, Институт атомной энергии Академии наук СССР имени И. В. Курчатова, лаборатории, занимающиеся проблемами физики плазмы и управляемых термоядерных реакций.
Машины, установленные в институте, являются отдаленными прообразами термоядерных реакторов, которые будут высвобождать атомную энергию из самого дешевого горючего — изотопа водорода, содержащегося в обыкновенной воде.
Мы уже писали, что с трибуны XX съезда КПСС академик И. В. Курчатов призвал ученых мира, в том числе и ученых США, совместно работать над мирным применением термоядерных реакций, научиться так управлять ими, чтобы избежать взрыва, и тогда человечество сможет извлечь горючее из вод океана, неисчерпаемый океан энергии откроется перед людьми. Забота об энергии будет снята с человечества раз и навсегда. Вторая Международная конференция по применению атомной энергии в мирных целях в Женеве показала, что этот призыв не остался без ответа.
Как известно, руководитель советской делегации на этой конференции член-корреспондент Академии наук СССР В. С. Емельянов передал зарубежным ученым четыре тома еще не опубликованных советских научных работ, произведенных в Институте атомной энергии Академии наук СССР и озаглавленных «Физика плазмы и проблема управляемых термоядерных реакций». Научная общественность всего мира и многочисленная пресса дали восторженную оценку исключительно важным сообщениям, сделанным в советских докладах на конференции. Обстоятельно изложили свои работы в этой области американские, английские, немецкие и шведские ученые. То, что хранилось совсем недавно за броней несгораемых сейфов, в тетрадях, опечатанных сургучом, стало достоянием ученых всех стран. Началась историческая эпоха совместной открытой работы над мирным применением управляемых термоядерных реакций, эпоха совместного движения к океану.
На широком панно, занимавшем целую стену в помещении термоядерного сектора советского отдела Международной выставки по использованию атомной энергии, набегал на берега белогривый вал океанского прибоя.
И таинственного вида приборы, демонстрируемые здесь, кажутся стоящими на подступах к океану. Знаменательное соседство!
Бесполезно обращаться даже к древней мифологии, чтобы выразить в величественной аллегории грандиозность подвига, на который поднялись современные ученые, создавая эти приборы. На столь дерзкие свершения не решались идти всемогущие герои и боги. Даже пылкая народная фантазия, породившая ковер-самолет и перо жар-птицы, как бы прекращает здесь свое парение, чтобы создать насмешливую басню о синице, пытавшейся зажечь море, — ироническую притчу в осуждение искателей невозможного.
До недавних лет, как мы знаем, атомная энергия получалась лишь в результате деления в ядерных реакторах тяжелых ядер урана и тория. Драматическая коллизия развития атомной энергетики, заключается в том, что запасы тяжелых элементов на Земле не так уж велики. Если всю энергетику земного шара перевести на уран и торий, то запасы иссякнут за два века. Добавим, что в этот же срок, вероятно, исчерпаются резервы угля и нефти.
Но, может быть, не менее остра проблема удаления отходов — радиоактивных осколков разбитых ядер тяжелых элементов? По свидетельству одного из американских ученых, если бы все потребности США в энергии удовлетворялись за счет ядерных реакторов, то пришлось бы решить задачу удаления такого количества радиоактивных продуктов деления, которое эквивалентно отравляющему действию взрывов 200 тысяч атомных бомб; к 2000 году количество радиоактивных отходов было бы эквивалентно взрыву 8 миллионов атомных бомб в год.
Многочисленные доклады ученых на конференции свидетельствуют, что проблема удаления радиоактивных твердых остатков и газов в наступающем атомном веке станет вскоре первоочередной. Словно гоголевские мертвецы, захороненные радиоактивные отходы имеют обыкновение вставать из своих могил.
Вот один очень яркий пример возникающих затруднений.
В Мировом океане существует 19 подводных впадин, по глубине превышающих 7 километров. В эти мрачные пропасти предлагалось сбрасывать контейнеры с отходами, образуя глубоководные кладбища радиоактивных изотопов. Полагали, что глубинные водные массы во впадинах неподвижны и что радиоактивные вещества, растворенные в этой мертвой воде, не будут выноситься на поверхность.
Но советские ученые В. Богоров и Е. Крепе показали, сколь опасны и сомнительны эти проекты, тем самым серьезно предупредив человечество. Советские океанографы на судне «Витязь» исследовали в Тихом океане двенадцать глубоководных впадин. Отважные океанографы изучили не только рельеф впадин, но и тонкости физических, химических и биологических процессов внутри них. Определили проветриваемость вод кислородом, окисление грунта, распределение жизни в толще воды. И по ряду этих прямых и косвенных данных пришли к грозному выводу, что воды в глубинах впадин находятся в непрерывном движении, что любой захороненный здесь «радиоактивный мертвец» неминуемо встанет из своей глубоководной могилы и пойдет разгуливать по свету.
Освоение управляемых термоядерных реакций разрубает одним ударом упомянутые выше затруднения. Человечество сможет использовать колоссальные запасы водорода в океане в качестве ядерного топлива. И в термоядерных реакторах почти не будет образовываться вредных радиоактивных веществ (за исключением, быть может, наведенной радиоактивности в строительных материалах реакторов).
В термоядерных реакторах будет сжигаться тяжелый водород (дейтерий и тритий). Главное значение в будущем приобретут термоядерные реакторы, работающие на одном лишь чистом дейтерии. Может показаться, что дейтерий — слишком редкая разновидность водорода, ведь на каждые шесть тысяч ядер обычного водорода приходится лишь одно ядро дейтерия. Но и при таком соотношении один стакан обычной воды по заключенной в ней энергии будет равноценен приблизительно 100 литрам нефти.
Академик И. В. Курчатов привел в одной из своих статей потрясающие цифры: в ближайшие пятнадцать лет ежегодная добыча угля и нефти в нашей стране достигнет в сумме около миллиарда тонн. Только 400 тонн дейтерия потребовалось бы для замены этого количества угля и нефти! Еще двадцать лет назад это количество дейтерия могло показаться непомерно большим и труднодостижимым. Тогда со страшным трудом удавалось добывать граммы тяжелой воды, содержащей дейтерий. Теперь положение другое. У нас создано промышленное производство дейтерия. На одном из заседаний Женевской конференции советские ученые М. И. Малков, Г. Б. Зельдович и другие рассказали об одном из эффективных путей технологии производства дейтерия.
Дейтерий добывают путем перегонки жидкого водорода, получаемого, например, на химических заводах попутно с производством аммиака. Технологический процесс ведется в температурах, приближающихся к холоду космических пространств. На одну тонну выработанного аммиака можно получить стакан тяжелой воды. Стоимость дейтерия как горючего уже сейчас составляет менее одного процента стоимости угля.
Легче всего осуществить управляемую термоядерную реакцию на смеси из равных частей дейтерия и трития. Однако трития в природе ничтожно мало. Тритий искусственно получают путем облучения металла лития нейтронами. Пока это — дорогое производство. Но советскими учеными предложен остроумный выход: ведь при работе термоядерных установок будет выделяться огромный поток нейтронов. А что, если окружить реактор оболочкой из лития? Тогда под влиянием нейтронной бомбардировки литий начнет расщепляться на тритий и гелий. В ходе работы реактор будет сам для себя готовить ядерное топливо. Более того, запасы трития будут при этом непрерывно возрастать.
Хитроумные приборы выставки, подступившие к океану, — это прототипы грядущих термоядерных реакторов. Одна из американских моделей называется «Перхэпсатрон», что в переводе значит «возможнотрон».
Можно сказать, что все экспонируемые приборы в какой-то мере «возможнотроны»; они с большей или меньшей убедительностью демонстрируют лишь принципиальную возможность построения в будущем термоядерного реактора. Они так же относятся к своему грядущему потомку, как старинный эолипил Герона к современной паровой турбине, как сегнерово колесо к современному гидравлическому двигателю, как магнитные подковки и катушки Фарадея к современному электрогенератору, как грозоотметчик Попова к современной радиостанции.
Поразительно принципиальное сходство приборов, построенных антиподами на разных концах земли, за семью замками лабораторий, в обстановке глубочайшей секретности. И наивно полагать, что ученым удалось разгадать секреты друг друга. Они просто пытались проникнуть в одну общую тайну — великую тайну природы. Они порознь вели единоборство с природой и держались единственно возможной тактики: разгадать законы природы, подчиниться этим законам и тем самым подчинить природу себе. Их конечные выводы получились едиными, как едины законы природы.
Теперь стало возможно проследить перипетии мировой изобретательской и исследовательской мысли по дороге на океан.
Грандиозные успехи атомной энергетики, опирающиеся на деление тяжелых ядер, стали возможны благодаря беззаветной работе ученых, бескорыстно изучающих сердце атома. И мы вправе сказать, что к первому этапу атомной энергетики человечество проникло через узкие дверцы микромира.
Ко второму этапу атомной энергетики, опирающемуся на слияние легких ядер, привели бескорыстные исследования звездного неба, отвлеченные достижения астрофизики, изучающей жизнь колоссальных космических тел Вселенной. Человечество идет к термоядерной энергетике сквозь широкие ворота макромира. В кулуарах конференции шутят, что идеи термоядерной энергетики буквально свалились с небес. И в этом еще одна разгадка их единства. Ведь над русскими, англичанами, американцами — одно и то же небо.
Термоядерные реакции потому и называются так, что происходят при очень высоких температурах. При таких температурах материя, вещество, образует первозданный хаос из мятущихся электронов и голых атомных ядер, с которых совлечены электронные оболочки. Из подобного материала построены солнце, звезды, туманности. Это состояние вещества называется плазмой.
Плазма очень подвижна и живет своей сложной, прихотливой жизнью. Электрические заряды привносят в ее движение свои склонности и антипатии, а течения, вихри и струи плазмы, обладают капризными свойствами намагниченных током проводников.
Поведением плазмы занимается теоретическая наука — магнитогидродинамика, младшая сестра аэрогидродинамики. Специалисты по магнитогидродинамике гордятся своей сложной наукой. Она шире объемлет мир, чем ее старшая сестра. Аэрогидродинамике подчиняются лишь нижняя часть атмосферы и четыре океана земного шара, а магнитогидродинамике— вся остальная Вселенная. Магнитогидродинамика это и есть тот теоретический мост, который объединяет Крабовидную туманность, затерянную в безднах неба, и прообраз термоядерного реактора на лабораторном стенде. Уравнения ее описывают анатомию мощного электрического разряда и кипение пламенного океана на поверхности солнца, «огненные валы» которого воспел еще Ломоносов. Она вооружает инженерную мысль возможностями небывалого величия и красоты. На протяжении многих тысячелетий истории материальной культуры люди строили свои орудия из организованной материи — камня, бронзы, железа, стекла. А теперь они могут создавать их и из первозданной материи — звездного хаоса, и человечество с надеждой взирает на этот гордый акт творения.
Магнитогидродинамика тренирует такую систему мышления, которая помогает искателям термоядерных реакторов преодолевать почти непостижимые трудности. Вот лишь одна из них.
Для того чтобы «второй огонь», принесенный современным Прометеем с небес на землю, смог охватить плазму, для того чтобы плазма загорелась негаснущим ядерным пламенем, необходимо достичь температуры в 50 миллионов градусов. (Заметим, что это минимальная цифра для смеси дейтерия с тритием, для чистого же дейтерия необходимы сотни миллионов градусов). Только при этих температурах ядра тяжелого водорода начнут метаться с такой бешеной скоростью, что смогут преодолеть могучие электрические силы взаимного отталкивания и будут во множестве сливаться в ядра гелия.
Перед создателями термоядерных реакторов возникает задача — построить топку, в которой могли бы протекать процессы при столь высокой температуре.
Как обезопасить стенки сосуда от жара плазмы? Но это не единственная забота. Оказывается, в довершение всего, стенки представляют для плазмы еще большую опасность, чем плазма для стенок. Вспомните, что вещество в сосуде очень разрежено. При таком разрежении даже при сверхвысоких температурах в плазме накапливается ничтожное количество тепла, немногим больше, чем нужно для того, чтобы вскипятить чашку чая. Если плазма чуть коснется стенок, она тут же охладится. Подсчитано, что достаточно одной булавочной головке металла испариться из стенки сосуда, чтобы охладить, загрязнить, «отравить» несколько железнодорожных цистерн плазмы. Мы уже знаем, что можно изолировать плазму от стенок. Магнитогидродинамика теоретически допускает, что с помощью электрических токов и магнитных полей можно в принципе построить из плазмы такое образование, которое повисло бы в центре сосуда хотя бы на некоторое время и за этот срок не касалось бы стенок. Роль термоизоляции в плазме могут играть незримые стены магнитного поля.
Если создать сильное магнитное поле, то оно способно удержать под высоким давлением плазму, как стальной баллон сдерживает сжатый газ. Поле, в десятки тысяч раз превышающее силы магнитного поля земли, ориентирующие компасную стрелку, способно противостоять давлению плазмы в сотни атмосфер.
Опыты по термоизоляции плазмы в импульсном электрическом разряде, производившиеся совсем недавно в обстановке секретности и лишь немногими людьми на земле, теперь может видеть каждый посетитель выставки.
Рассматривая множество макетов и действующих экспериментальных установок в советском, американском, английском разделах выставки, посетитель видит, как люди постепенно учатся повелевать плазмой. Посетитель старается вникнуть в сложные схемы устройств, позволяющих создавать всевозможные незримые магнитные трубки, «бутылки», резервуары в форме спасательных поясов. В них возникают на какой-то миг в большей или меньшей степени изолированные от стенок сгустки и кольца плазмы. Посетитель подолгу стоит у электрической пушки, стреляющей комочками плазмы, подгоняемыми электрической волной, и с удовлетворением наблюдает отклонение массивного маятника, отмечающего меткие попадания. Здесь демонстрируется действие на плазму электромагнитных волн, тех самых волн, которые развевают шлейфы комет в межпланетных просторах. Магнитные пробки — сгущения магнитных полей—ограничивают движение плазмы, и они же, став подвижными, теснят ее, подобно поршням дизеля, сжимающим горячую смесь. В свою очередь плазма расширяет, двигает незримые магнитные поршни и наталкивает их на неподвижные электрические проводники. В проводниках возникает ток по законам индукции, знакомым каждому школьнику. Другие приборы раскручивают плазму, как маховик, регистрируют импульсы тока при ее торможении. Так готовится чудо прямого превращения термоядерных реакций в электрический ток. Разнообразны способы нагрева плазмы до высоких температур. Здесь и мощные импульсные электрические разряды, и высокочастотное магнитное поле, и «магнитные насосы», о которых упоминалось выше.
Любопытно, что вокруг предтечей термоядерных реакторов собрались измерительные приборы, позаимствованные главным образом из арсенала астрофизики. Инструменты, позволившие человечеству заглянуть в пылающие бездны, переделываются теперь для изучения земных лабораторных объектов. Это оптические спектроскопы и специальные радиоприемники, улавливающие в плазме радиошум, подобные тем радиотелескопам, которые подслушивают радиоголоса космических туманностей.
И тот, кто осматривает эту выставку, с удовлетворением и гордостью замечает, как быстро растет свобода обращения человека со звездным веществом, с таинственной плазмой. Пройдет немного лет, и не будет казаться поэтической гиперболой стихотворение Маяковского о человеке, пригласившем на чашку чая солнце.
Три новейшие установки для исследований возможности управления термоядерными реакциями составляют центральные экспонаты выставки. Это английская «Зета», о которой подробно писала наша печать, это американский «Стелларатор» и модель советской «Огры». В «Стеллараторе», спроектированном американцем Спицером, плазменный шнур принимает форму как бы скрученного жгутом магнитного поля «Стелларатора», предназначенного для устойчивой термоизоляции плазмы. Установка снабжена своеобразным «магнитным насосом» для дополнительного подогрева плазмы и магнитным очистителем плазмы от загрязнения.
В Институте атомной энергии мы увидели магнитную ловушку «Огра» в натуре. Она поражает своими огромными размерами и по масштабам сравнима лишь с гигантскими цилиндрическими печами для обжига цемента. Незримый сосуд для плазмы, заключенный в ней, имеет вид обширного туннеля, закупоренного по концам магнитными пробками, представляющими собой уплотнения магнитного поля. Магнитные пробки называют образно магнитными зеркалами. Плазма в «Огре» помещается, как свеча между двух зеркал в знаменитой сцене гадания Светланы. Частицы вводятся в сосуд из специального ускорителя по точнейшим образом рассчитанным траекториям. Здесь они испытывают многократные отражения от магнитных зеркал и распадаются, чтобы превратиться в высокотемпературную плазму.
Шведский профессор Альфен восхищенно сказал, что создатели ее вдохновлялись, возможно, процессами, происходящими в Крабовидной туманности, или поэтической идеей северного сияния, которое вызывается в ионосфере прилетевшими из космоса быстрыми частицами, плененными магнитным полем Земли. Ионы дейтерия и трития, рожденные в мощном ионном источнике и ускоренные электрическими полями, впрыскиваются в обширную камеру «Огры» и полоняются здесь магнитным полем. Плазма термоизолируется здесь в незримом цилиндрическом магнитном сосуде, закупоренном по концам двумя магнитными пробками. В установке не производится постепенного нагрева холодного газа. В нее сразу впрыскиваются «горячие» частицы, ускоренные до необходимых скоростей электрическим полем, и вступают здесь в конце концов в хаотическое движение.
По простейшим примитивным расчетам, достаточно сильное магнитное поле способно образовывать незримую стенку необычайной прочности. Но из этой упрощенной картины вовсе не следует, что магнитный сосуд не дает утечек. В действительности плазма в магнитном поле может терять устойчивость. Плазма и магнитное поле могут постепенно перемешиваться, и в конце концов плазма истекает и охлаждается. Плазменный шнур сопротивляется плену, извивается, образует опасные перетяжки, выбрасывает коварные язычки и, кажется, делает все для того, чтобы коснуться стенок сосуда и каким-либо способом сбросить температуру. Поэтому нужны многочисленные упорные эксперименты, позволяющие досконально изучить капризы плазмы и найти такие конфигурации магнитных полей, при которых утечки из магнитных сосудов были бы минимальными.
Исследования на «Огре» ведутся последовательно, шаг за шагом. Пока подробно обследованы лишь простейшие конфигурации магнитных полей. Они, как и следовало ожидать, не обеспечивают достаточной устойчивости плазмы. Обнаружены новые, не известные ранее, крайне интересные свойства плазмы.
Сила «Огры» заключается, в частности, в том, что ее соленоиды секционированы и позволяют экспериментатору комбинировать магнитные поля различной формы, которые будут обследованы в последующих опытах.
Как и все атомные установки, «Огра» управляется дистанционно. Как всегда, с ошеломительно сложного пульта контролируются органы ускорителя-инжектора, траектория вспрыскиваемых частиц, работа насосов, откачивающих газ, конфигурация магнитных полей, действие высоковольтных установок, температурные режимы, давление и несметная рать измерительных приборов, наблюдающих за поведением плазмы.
Если магнитный сосуд изготовить в виде прямой трубы, возможны утечки плазмы через ее концы. Поэтому возникла идея перейти к трубе, вообще не имеющей концов. Так родилась схема тороидальных ловушек, где сосуд для плазмы выполняется в виде замкнутой полой баранки. Эта полая баранка из нержавеющей стали, гофрированная, как дирижабль Циолковского, охватывает железное ярмо трансформатора и служит в нем как бы вторичной обмоткой. Электрический ток, протекая через газ, заполняющий баранку, разогревает плазму и собственным магнитным полем стягивает ее в кольцо. К тороидальным камерам относятся новейшие машины под условным названием «Токамак». Они интересны тем, что на баранке имеется еще одна дополнительная обмотка, создающая в плазме продольное магнитное поле. Магнитные силовые линии армируют плазму, как стальные прутья бетон, придерживая плазменное кольцо.
Поиски наилучшей конфигурации магнитных ловушек продолжаются. Какие это захватывающие поиски! Ведь история физики показывает, что порой незначительные изменения формы вызывают появление почти волшебных свойств. Люди пускали воздушные змеи и не знали, что стоит лишь искривить их плоскость, чтобы получился профиль крыла, обладающего могучей подъемной силой. Форма — содержательна! Не удивительно, если гениально найденная конфигурация магнитного поля далеко продвинет вперед проблему управляемых термоядерных реакций.
Недавно стало известно о самом крупном достижении в этой области за последние годы.
В ловушке со сложным комбинированным магнитным полем советским ученым удалось удержать высокотемпературную плазму в течение одной десятой секунды.
Работу с плазмой справедливо называют «экспериментальной астрофизикой». Но земные условия опытов, к сожалению, отличаются от условий космических. Лишь одно из отличий заключается в том, что в космосе существует почти абсолютная пустота, глубокий космический вакуум. В земных условиях к такому глубокому вакууму удается приблизиться с большим трудом. Между тем любая посторонняя нейтральная частица охлаждает плазму, перегоняя ее энергию в свет, излучающийся в пространство.
Решение проблемы управляемых реакций отчасти зависит от успехов вакуумной техники. В последние годы советские ученые добились здесь решительных достижений. Мы имеем в виду создание азотита. Заключительный этап откачки камер осуществляется не с помощью обычных насосов, а физико-химическим способом, путем распыления металлического титана, обладающего способностью поглощать газы. Не так давно установлено, что титан, охлажденный до температуры жидкого азота, увеличивает поглощающую способность в десятки раз. Охлажденный титан получил название азотита. Азотит служит действенным средством повышения качества вакуума в установках по изучению плазмы.
На громадных этих установках работает главным образом молодежь — первооткрыватели новой целины, именуемой плазмой. Идут опыты, в которых все поучительно: и успехи и неудачи. Успехи продвигают исследователей вперед, неудачи предостерегают от ложных дорожек. В плазме много причин для неустойчивости, но фантазия человека безгранична, и поэтому все трудности будут преодолены.
«Вряд ли есть какие-либо сомнения в том, — пишет академик Л. А. Арцимович, — что проблема управляемого термоядерного синтеза будет решена. Природа может расположить на пути решения этой проблемы лишь ограниченное число трудностей, и после того, как человеку, благодаря непрерывному проявлению творческой активности, удастся их преодолеть, она уже не в состоянии будет изобрести новые. Неизвестно лишь, насколько затянется этот процесс».
8.10.
Когда проходишь по цехам Второго часового завода, кажется, что попал в страну лилипутов. Великанские руки работниц волшебствуют над станочками-карликами, миниатюрными автоматическими линийками, похожими на ожившие иллюстрации из технической книжки. Мы привыкли видеть технику, умножающую силы человека, наблюдать, как легкое прикосновение к рычагу преобразуется в мощный взмах стрелы подъемного крана. Здесь же все направлено к тому, чтобы нажим пальца превратился в еле ощутимое касание, чтобы силу человеческой руки довести до деликатности муравьиной лапки. Резцы и фрезы гложут металл, как челюсти древоточцев, сверлышки вонзаются в него, как комариные жальца.
Годовой запас готовых деталей шуршит в спичечном коробке и походит на горстку семян растений, непростое и строгое строение которых познается лишь в поле зрения микроскопа. Девушки в халатах и с повадками микробиологов пинцетами собирают из этих деталей часовые механизмы — маленькие инфузории из бронзы и стали, пульсирующие и мерцающие под лупой часовщика.
С конвейера сходят совсем крохотные женские часики и новинка часовой техники — наручные часы «Электрические». Древней часовой пружины в них нет. Вместо нее поставлена электрическая батарейка размером в копейку. Толчки тока оживляют катушку из паутинной проволочки, приклеенную к колесику баланса, колеблющемуся между полюсов магнита. Баланс раскачивается электричеством. Энергоемкость батарейки много больше энергоемкости пружины. Поэтому часы «Электрические» без завода работают год и дольше.
Еще больше «мыслеемкость» часовой продукции. Никогда, быть может, не концентрировалось в столь малом объеме металла такое количество изобретательной мысли, творческого труда! Но не только это превращает часы в драгоценность ювелирной витрины. Маленький щебечущий механизм, на всю жизнь прикованный к вам цепочкой или браслетом, становится распорядителем самого ценного в жизни — времени. На XIV съезде комсомола Никита Сергеевич Хрущев сказал: «Все мы, и молодые, и люди постарше, должны считаться с фактором времени. Ведь двадцать лет складывается из дней, а дни — из часов и минут. Для того чтобы выполнить и перевыполнить великие задания, намеченные Программой, нельзя терять из двадцати лет ни одного дня, ни часа, ни минуты».
Шаг секундной стрелки, словно взмах дирижерской палочки, управляет грандиозным хором всей страны. Экономисты подсчитывают материальное выражение ежегодно возрастающей ценности ее шага. Цена советской секунды — это горы угля, озера нефти, сонмища машин. Но главнейшая ценность шага секундной стрелки не только в том, что она регистрирует время, отмеряя и рассчитывая течение производственного процесса. Ее взмах помогает безмерно умножить его мощь, внося в него дружбу и согласие. Так унисон рождает громогласье хора.
Гордые обязательства бригад сборщиков часового завода выполнить и перевыполнить план свидетельствуют, что в этой мастерской времени умеют ценить время, что в коллективе живут и развиваются славные традиции отечественного часового искусства. Перед взором мерцают «часы яичной фигуры» — старинное творение великого русского механика Кулибина, золотое яйцо на витрине Эрмитажа. Бегут стрелки, самозвонные колокольчики наигрывают мелодии. Вдруг распахиваются золоченые дверцы, и взору открывается чертог, где ангелы, воины и «жены-мироносицы» разыгрывают старинную мистерию. Трудно упустить публицистический ход, не сказать, что из этого яйца появились на свет современные часовые механизмы.
Но заметить только это — значит упростить проблему. Карл Маркс в часах видел материальную основу, на которой строилась внутри мануфактуры подготовительная работа для машинной индустрии, крупной промышленности. Он подчеркивал, что часы являются первым автоматом, созданным для практических целей. «Не подлежит также ни малейшему сомнению, — писал Маркс, — что в XVIII веке часы впервые подали мысль применить автоматы… к производству».
Мы глядели на стрелки, Маркс же вглядывался глубже — в то, что было за стрелками. В часовом механизме, как в зародыше, содержались многие принципы и элементы современной автоматики: аккумулятор энергии — пружина; преобразователь скорости и силы — набор шестерен; принцип «обратной связи»— один из китов кибернетики; генератор колебаний… А в часах Кулибина, дающих концерты и спектакли, содержится и то, что сегодня называется программирующим устройством.
Не подлежит сомнению, что не только часовые механизмы, но и все станки-автоматы, стрекочущие в цехе, — все они вылупились из не простого, но золотого волшебного яйца. Правда, не игрушечные ангелы, воины и «жены-мироносицы» продолжают разыгрывать здесь старинные мистерии, а десятки механических ручонок в причудливом действии передают друг другу кусочки сырья, продвигают их под другие трудовые стальные ручонки, вооруженные сверлами, фрезами, резцами. И рождение готовой детали, наконец, завершает спектакль.
Век стремительных скоростей, век космоса потребовал небывало точного времени. Механические часы оказались недостаточно верным инструментом. Мы имеем в виду не только изделие рук человеческих — часы-хронометры, но и механику неба — этот, казалось бы, «непогрешимый часовой механизм, сотворенный божественным часовщиком», как воскликнул когда-то, расчувствовавшись, один философ-идеалист. Земной шар при точнейшем рассмотрении оказался не столь простым, как часовое колесико, он жил сложной, исполненной капризов и прихотей жизнью. Притяжение Солнца и Луны перемещало массы, перекачивало воду в его океанах, прихотливо вихрилась его воздушная оболочка, что-то тяжкое незримо ворочалось в его недрах, зимою тяжелела ледяная шапка на его полюсах. Вот лишь часть причин, объяснявших неожиданный факт, — вращение Земли неравномерно, и поэтому «небесные часы», связанные с вращением земного шара, то спешат, то отстают. Точнейшая проверка углубила сомнение в непогрешимости «небесных часов» и сильнее укрепила неверие в существование «божественного часовщика».
В поисках верных часов физики применили в роли маятника тончайший механизм, созданный самой природой, — атомную решетку кристалла горного хрусталя. Толчки электричества оживляли кристалл, его решетку, заставляли его колебаться в такт переменному электрическому напряжению. Получились точнейшие «кварцевые» часы. Но со временем что-то портилось в этом кристалле. Маятник-кристалл начинал пошаливать по причинам, недоступным даже рентгеноструктурному анализу — этой «лупе современного часовщика».
Тогда фантазия изобретателей обратилась к частичкам столь крохотным, что деталь обыкновенных часов перед ними все равно, что высотное здание по сравнению с песчинкой. В роли «маятника» использовали механизм молекулы, атома.
Когда входишь в лабораторию колебаний Физического института имени П. Н. Лебедева, в помещение, где отрабатывают современные маятники, замечаешь, что оно не походит на старинную церковь, где по тихому колыханию люстры изучал качания маятника молодой Галилей. Молодые люди трудятся у лабораторных макетов, напоминающих усложненное содержимое телевизионных трубок. На таких установках работают с пучками летящих атомов и молекул.
Возбужденная молекула или атом испускают при известных условиях электромагнитные колебания строжайшей частоты. Это — идеальный маятник. Но один-единственный атом, одна-единственная молекула слишком слабый и кратковременный источник колебаний, чтобы регулировать ход даже самых чувствительных часов. В 1952 году молодым советским физикам, ныне видным ученым, лауреатам Ленинской премии, членам-корреспондентам Академии наук СССР Н. Г. Басову и А. М. Прохорову пришла в голову счастливая идея построить систему, в которой одинаково возбужденные атомы соединяли бы свои усилия, подобно хору, звучащему в унисон. Еще раньше, в 1940–1941 годах, основополагающие идеи в этой области высказывал профессор В. А. Фабрикант.
Это была трудная задача. Даже самые простые молекулы или атом представляют собой сложную колебательную систему, излучающую электромагнитные колебания с целым набором частоты. Это как бы скрипка со многими струнами. Надо было научиться отбирать из множества атомов или молекул только те, которые готовы излучить электромагнитные колебания строго определенной частоты, одинаково возбужденные частицы — «скрипки», готовые «прозвучать» на одной и той же струне. Для этого пучок летящих молекул или атомов пропускают через квадрупольный конденсатор или шестиполюсный магнит. Впрочем, сложные названия деталей ничего не скажут читателям. Приведем не очень точное сельскохозяйственное сравнение, — когда пишешь о мире атомов, все сравнения грубы. Пучок летящих молекул или атомов пропускают через что-то вроде триера, сортирующего частицы, как семена. Одинаковые во всех отношениях частицы соберутся в некоем электрическом резонаторе. Здесь-то и организуется «унисон» атомов или молекул. Тут, как во флейте Пана, звучащей от дуновения, возникают сравнительно мощные электромагнитные колебания строжайшей частоты. Эти колебания через сложную «замедляющую» передачу можно применить для приведения в действие часов. Не ищите в передаче набора шестеренок. Роли их исполняют электронные устройства, напоминающие с виду шкафы быстродействующих счетных машин.
Получились часы, идущие с точностью до одной стомиллиардной доли секунды. Они и позволяют изучать неравномерность вращения Земли. По подобным хронометрам будут следовать звездолеты. В «Успехах физических наук» опубликованы замыслы помещения подобных часов на спутнике для опытов, приоткроющих, возможно, завесу над загадками всемирного тяготения. Разрабатываются в сотни раз более точные часы.
Но мы, кажется, снова безотрывно следим за стрелками часов… Вспомним же, что Маркс, проницательно видевший вещи в развитии, советовал взглянуть острей, попытаться проникнуть в то, что находится глубже стрелок. И опять-таки за стрелками атомных часов проступит материальная основа, на которой сегодня строится подготовительная работа для грядущей техники небывалой мощи. Мы найдем здесь в зародыше систему, где впервые достигнуто согласованное совместное действие одинаковых испускающих энергию атомов. Хор атомов, излучающих «в унисон»! Исключительное явление, не существовавшее в природе! Современная квантовая физика рисует более наглядный и точный образ — это залп атомов, «стреляющих» одинаковыми квантами — порциями излучений равных энергий. Лавина квантов! Электроника имела дело с лавинами электронов, ядерная энергетика — с лавинами нейтронов, некая техника, уже брезжущая в грядущем, будет обращаться с лавинами квантов излучения — лавинами фотонов.
Наукой уже открыта эта возможность. В ряду твердых веществ, где можно накопить запас одинаково возбужденных атомов, находится старый знакомый человека — кристалл рубина. Надо только подсветить похожей на «фотовспышку» лампой правильно отшлифованный и посеребренный рубин. Тогда кванты равных энергий, фотоны равных частот будут «выстрелены» залпом. Из кристалла, как рубиновая молния, брызнет почти не расходящийся луч ошеломительной силы. Мне запомнилось по цветным фотографиям из журнальных научных отчетов это алое лучевое копье, на пути пронзившее какой-то светлый кристалл. Над кристаллом вьется голубоватый дымок. Красный слаборасходящийся луч, вырвавшийся из рубина, испарил алмаз. Подобное устройство называют квантовым генератором или «лазером».
«Первый удар луча гиперболоида пришелся по заводской трубе — она заколебалась, надломилась посередине и упала… Был виден весь завод, раскинувшийся на много километров. Половина зданий его пылала, как картонные домики. Луч бешено плясал среди этого разрушения…» Этих строчек пока еще нет в журнальных отчетах, они взяты из фантастического романа А. Толстого «Гиперболоид инженера Гарина».
Но все чаще мелькают в американской бульварной прессе призывы к «лазерному вооружению», к построению реального «гиперболоида Гарина», чтобы разить лучом космонавтов.
Мы уверены, убеждены, что советская наука отличится достижениями в мирном применении «лазеров». Рубиновый луч испаряет алмаз, значит, можно будет обрабатывать этим лучом самые твердые, самые жаростойкие материалы. Тут рождается острейший микронной точности инструмент: ведь давление света, испускаемого «лазером», сфокусированного на микронной площади, может быть доведено до миллионов атмосфер. В воображении физиков возникают идеи использования «лазера» для получения управляемых термоядерных реакций.
Рубиновым «лазером»: помещенным в фокусе большого крымского телескопа, как прожектором, освещена Луна, и луч, отраженный ее поверхностью, был замечен с Земли. На таких лучах уже сейчас можно осуществить связь с ближайшими звездами. Рассуждения, которые завели бы нас далеко, показывают, что лучи эти — русла информации такой ширины, которых еще не знала природа. По ним можно вести одновременную трансляцию десятка тысяч телевизионных программ. Есть предложения использовать «лазер» в роли двигателя фотонных космических кораблей.
За стрелками старых механических часов Карл Маркс различил основу современной техники — автоматизации производства. За стрелками новейших атомных часов брезжит свет совершенно небывалой, почти фантастической техники будущего, для которой еще нет названия. Она даст человеку диковинное, необыкновенное — цехи всемогущие, как кузница Гефеста, межпланетные телевизоры, звездолеты. Эта техника еще и еще увеличит растущую ценность минут, из которых слагаются двадцать лет нашей великой Программы. Эта техника рождается.
Мерный ход стрелок часов приближает ее реальное становление.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ, где рассказывается об изобретениях, где машина, подобно сказочному оборотню, превращается в свою противоположность; такова одна из сложных мыслительных фигур, приводящих к изобретениям
9.1.
Раз Ходжа Насреддин с приятелем попал в город Конию. Очень поразили путников высокие, тонкие минареты, которых много в этом городе. Приятель спрашивает:
— Никак не могу понять, как их строят?
— Проще простого, — отвечает лукавый ходжа. — Роют глубокий колодец и выворачивают его наизнанку!
Хотел человек пошутить, сказал чепуху и сам не знал, что вышла правда. Из колодцев, конечно, башен не делают. Но бывали такие примеры в истории больших изобретений, что невольно приходят на ум минарет и колодец Ходжи. Имеется привычная, давно всем известная вещь. Поглядят на нее с необычной стороны, вывернут наизнанку, и нежданно является могучее изобретение.
В южных краях, где жили культурные люди в древние времена, воды для посевов не хватало, так что приходилось орошать поля искусственно, подавая воду из речек.
Для этого издавна применяли водоподъемные колеса. Ставили в речку большое деревянное колесо с ковшами по ободу. Колесо вертели волы и люди, и ковши один за другим зачерпывали воду, подымались кверху и один за другим опрокидывались в желоб, укрепленный наверху. А из желоба вода самотеком растекалась по оросительным канавам.
Путешествуя по Африке, я и в нынешние дни видел такие же водоподъемные колеса. Их вертели волы, ходящие по кругу, а волов погоняли хворостинами темнолицые ребятишки. Глаза волов были прикрыты чашками, чтобы от тошного мелькания одних и тех же предметов у вола не закружилась голова. А встречалось, что и люди трудились денно и нощно, в поте лица крутя водоподъемные колеса.
Когда-то, в древние времена, на реке оказалось на редкость упрямое колесо. Река была быстрая и бурная, под водой ковши шли против течения, и вода, ударяя в ковши, тащила их назад. Тужась из последних сил, человек проворачивал рукоятку, загребая ковшами наперекор течению. Обессилев, он выпустил рукоятку.
И тут колесо взбесилось. Оно завертелось само. Тщетно человек ловил руками, пытаясь ухватить рукоятку. Как бы не так! Рукоятка била по рукам, отбрасывала его прочь. Колесо вертелось, как бешеное, но не подымало больше воды. Оно шло в обратную сторону, и ковши вверх дном подымались кверху. И, наверное, человек молил водяных богов, чтобы они урезонили колесо, снова заставили работать.
А быть может, он и не молил своих богов. Именно этот человек и был, возможно, великим изобретателем, который первым увидел двигатель во взбесившемся водоподъемном колесе.
«Колесо вертится само, — сверкнуло у него в голове, — тем лучше! Приделаю к нему еще несколько ковшиков. Да так, чтобы они зачерпывали воду и тащили ее кверху при вращении колеса. Тогда колесо само будет подымать воду!»
Он так и поступил. И колесо за него стало делать тяжелую работу. Не надо было ни волов, ни ослов, не надо было крутить тугую рукоятку. Речка работала сама, она сама подымала свою воду, и вода журчала, плескалась и булькала в желобе.
Пусть читатель, однако, не рисует на полях странички умилительную картину. Пусть не набрасывает карандашиком силуэт раба, возлежащего под пальмой и любующегося самодвижущим колесом. От того, что оказался изобретенным водяной двигатель, раб не перестал быть рабом. Изобретения при рабовладельческом строе не спасали человека от рабства, точно так же, как при капитализме никакие изобретения не избавляют рабочего от эксплуатации. Нужно разрушить эксплуататорский строй, чтобы освободить человека.
При рабовладельческом строе в рабе не видели человека, считая его «говорящим орудием», в отличие от безгласных машин—«немых орудий». Никакие трудовые подвиги, никакие технические усовершенствования не приносили счастья рабу. Потому, вероятно, и не слышно об изобретателях, вышедших из среды рабов. При любой возможности раб старался сработать похуже и с жестоким сладострастием портил, калечил, уродовал вещи. В том была, как известно, одна из причин падения рабовладельческого строя.
Но не об этом наш главный разговор.
9.2.
Мы хотели бы обратить внимание, что и в дальнейшем изобретатели нарочно применяли навыворот водоподъемные машины, чтобы получить разнообразные водяные двигатели.
Удачно получилось с архимедовым винтом. Эту водоподъемную машину придумал величайший механик древности Архимед. Она походит слегка на теперешнюю мясорубку, одним концом погруженную в воду. В трубе вертится спиральный винт и гонит воду вверх, точно так, как гонится мясо в мясорубке.
Впоследствии архимедов винт превратили в водяную турбину. Стали, наоборот, прогонять воду через трубу, и винт завертелся, словно крылья мельницы под напором ветра. Получилась отличная водяная турбина, которая неплохо работает даже при небольшом напоре воды.
На заре электротехники динамомашины и электромоторы совершенствовали отдельно. Считалось, что это совсем различные машины, и к каждой нужен свой особый подход,
Но крупнейший ученый — русский академик Ленц путем опытов и математических рассуждений доказал, что динамомашина и электромотор всегда сидят в одном теле и что динамо можно принудить вертеться, если пустить в нее ток, а электромотор заставить давать ток, если его завертеть.
Любители подчеркивать случайность великих изобретений приводят такой исторический анекдот. На Всемирной выставке в Париже один рабочий случайно подключил провода от работающей динамомашины к другой, которая не работала. И та динамо, что не работала, вдруг завертелась. Динамомашина превратилась в электромотор.
Серьезные историки техники прохладно относятся к этому анекдоту. Ему не находится подтверждения. Даже имя рабочего никому не известно.
Но такой факт мог быть. Рабочий мог подключить провода, даже не зная о том, что уже существуют на этот счет суждения выдающихся ученых. Когда возникает общественная потребность в изобретении, одинаковые мысли приходят во множество голов — и профессорам и рабочим.
С тех пор как нашли, что динамо и электромотор — это машины-оборотни и одна из них легко превращается в другую, совершенствовать их стали вместе, словно одну машину.
Нас с детства учат: парта — это парта, дом — это дом, тетрадь — это тетрадь. Но не так все просто оказывается в мире. Водоподъемное колесо — это одновременно и водяное колесо, архимедов винт — это одновременно турбина, динамо — это одновременно электромотор. Словно две души живут в машине.
И счастлив тот изобретатель, кто разгадает в машине оборотня и заставит его работать людям на пользу.
9.3.
Поучительно обращение насоса!
Тут перерисована картинка из старинной книжки: двое насосом выкачивают воздух из бочки.
Работа трудная. Поршень упирается и не лезет из цилиндра. Воздух в бочке разрежен, и наружное давление вгоняет поршень внутрь. Если отпустить веревку, поршень, сорвавшись, ударится цилиндру в дно.
В конце XVII века одновременно нескольким ученым, жившим в различных странах, запала в голову мысль приспособить упрямый поршень воздушного насоса в качестве двигателя для откачки воды в шахтах.
Видно, крепко поприжала людей потребность в посторонней силе, если сразу в несколько голов за сотни километров друг от друга приходит одна и та же, такая необычная мысль.
Да и мысль-то, на первый взгляд, нестоящая.
Много ли сможет сделать поршень за короткий единственный ход от верха до дна цилиндра? Да и что за толк от этого хода! Перед этим приходится с силой оттягивать поршень назад — все равно, что заводить и спускать пружину.
Видно, многое передумали, многое перепробовали и отбросили люди, прежде чем сойтись на поршне воздушного насоса. Ничего другого, видимо, людям не оставалось.
В те времена для дальних странствий строились большие корабли, на полях сражения громыхали пушки. Широчайшее применение получило огнестрельное оружие. Для всего требовался металл.
Трудно даже вообразить, что представляло для средневекового человека-ремесленника получать, например, такие приказы: в марте — апреле месяце 1652 года английское правительство приказало немедленно изготовить 335 пушек, а в декабре того же года объявило, что ему необходимо еще 1500 железных пушек, общим весом в 2230 тонн, 117 тысяч снарядов артиллерийских, 5 тысяч ручных гранат. Немедленно!
И агенты ездили по всей стране, стучали в двери всех мастеров. Но невозможно было удовлетворить столь неожиданный и столь колоссальный спрос. Легко сказать, добудь да отдай 2230 тонн железа, если все годовое производство железа в Англии в те времена едва достигало 20 тысяч тонн!
Для выплавки железа нужен был уголь. Его добывали в шахтах. Шахты заливало водой. Воду откачивали насосы.
Хорошо, если тут же у шахты протекала река. Тогда насосы приводили в движение от водяных колес. Ну, а если не было реки? Уголь не обязательно там, где река!
Тогда запрягали лошадей. Бывало, по 500 лошадей работают в шахте на откачке, и все-таки мощности не хватает.
Потому и хватались ученые за соломинку, за упрямый поршень воздушного насоса, сразу в несколько рук, в разных краях.
9.4.
Обратить воздушный насос, превратить его в двигатель взялся француз Дени Папен.
Вначале Папен поступил, на теперешний взгляд, по-смешному. С превеликим трудом откачал из бочки воздух, оттянул до предела поршень и заставил его при обратном ходе тащить за веревку поршень водяного насоса.
Получилась нелепица: все равно, что хватать самого себя через голову за ухо. Много легче было прямо тащить поршень водяного насоса. Надо было ухитриться получить в цилиндре пустоту без затраты человеческих сил.
Написал письмо коллеге, попросил совета. Был коллега иностранцем, но и ему упрямый поршень не давал покоя.
Получает письменный ответ: зарядить цилиндр, как пушку, порохом. Пристроить к нему фитиль. Вдвинуть поршень до самого дна, как снаряд. А затем фитиль запалить и глядеть, что получится.
Папен взял заряд как можно меньше. Поршень даже не вылетел из цилиндра, задержался у самого верха.
Папен сел и стал ждать. Цилиндр остывал. Раскаленные газы охлаждались, сжимались, уменьшались в объеме. Вроде бы действительно внутри цилиндра начинала получаться пустота. Поршень медленно полез внутрь. Его гнал туда наружный воздух. Поршень лез внутрь и, если бы привязать к нему веревку, перекинутую через блок, он бы потянул за собой и другой поршень водяного насоса, откачивающего воду. Получался двигатель. Но какой!
После каждого выстрела и охлаждения, после каждого хода поршня цилиндр надо было перезаряжать: вкладывать заряд, поджигать фитиль. Когда надо работать — приставляй к машине артиллерийский расчет. Заряжай! Поджигай! Пли! И, живи Папен в наше время, обязательно придумал бы что-нибудь вроде пулемета. Но тогда до пулеметов было далеко.
Папен и сам понимал, что его машина не пойдет. Порох стоил дорого. Но не в этом была главная беда машины. Дело в том, что пороховые газы не сгущались, не оседали росой на стенках цилиндра при комнатной температуре. А поэтому настоящей глубокой пустоты в цилиндре не получалось. Поршень неглубоко влезал в цилиндр и замирал. Машина была маломощная.
Все-таки первый шаг был сделан. Как бы только избавиться от недостатков?
Как бы выдумать такой неистребимый порох, который бы после взрыва сам собой в том же цилиндре опять превращался в порох, и так без конца?
Блеснула мысль — вода! Нагреешь воду — пар! Остудишь пар — опять вода!
Вода, конечно, не порох: не горит и сама собой превратиться в пар не может — надо ее для этого подогреть.
Не беда! Папен взял цилиндр, похожий на кухонную кастрюлю, налил в нее воду и поставил кипеть на плиту. В цилиндр был вставлен поршень. В поршне была маленькая дырка. Вода закипела, и пар вытеснил воздух через дырку из цилиндра.
Папен заткнул дырку палочкой и снял цилиндр с плиты. Пар охлаждался и оседал водяными каплями на стенках цилиндра. Внутри получалась пустота. Поршень лез внутрь под давлением наружного воздуха и дошел почти до самого дна, глубже, чем в пороховой машине.
Когда цилиндр охладился, внутри получилась снова вода. Можно было снова нагревать цилиндр. Никакой перезарядки!
Только и забот, что подноси и убирай огонь.
Папен был рад несказанно. Вот он, двигатель! Огненная машина. Ставь к насосам — будет качать. Ни реки, ни лошадей, ни ветра, одна тут движущая сила — огонь. Хоть сейчас тащи на шахту, разводи костер. Уголь кучами лежит кругом.
Я был в маленьком старинном рыцарском французском городке Блуа — родине Папена. Побродил вокруг древнего замка и внезапно на вершине красивой лестницы увидел памятник Папену. Папен стоял на мраморном пьедестале, бережно прижимая к бронзовому боку свой паровой цилиндр. То был памятник человеку, который не изобрел паровой машины.
Про машину Папена рассказывают небылицы.
Говорят, что Папен построил пароход и плавал на нем по реке Фульде. И что злобные судовладельцы из зависти разбили его судно.
А на самом деле никакого парохода у Папена не было. Да и быть, конечно, не могло. Машина Папена была медлительна, как улитка.
Папен шел на все — разжигал огромный костер, раздувал мехами гудящее жаркое пламя. Ничто не могло расшевелить ленивую машину.
Все, чего мог добиться Папен в своей маленькой модели, — это заставить двигаться поршень со скоростью один ход в одну минуту.
И если бы сделать большую мощную машину, способную осилить шахтный насос, то часами, может быть, пришлось бы греть и остуживать цилиндр, чтобы один-единственный раз качнуть поршень шахтного насоса. Так работать не годилось. Поэтому машина Папена никогда и нигде на практике не работала.
9. 5.
Многие изобретатели совершенствовали машину Папена, но наибольших успехов достиг лет пятнадцать спустя Ньюкомен — английский кузнец, а вернее, владелец кузнечного производства и торговец товаром, именуемым нынче «метизами».
Ньюкомен стал докапываться до причин медлительности машины, и многое из того, что казалось вчера разумным и целесообразным, показалось ему сегодня неразумным и бессмысленным.
Что может быть несуразнее? Воду кипятить, чтобы тут же остуживать, остуживать, чтобы тут же снова кипятить. Словно комический пешеход: два шага вперед, шаг назад!
Ньюкомену стало ясно: воду надо раз навсегда нагреть и потом уж не охлаждать. Нужно где-то в особом сосуде постоянно кипятить воду и оттуда брать пар для цилиндра.
Он так и сделал.
Его машина — огнедействующий насос.
Воду кипятят в особом котле. Через узкую трубку с краном пар напускают в цилиндр. Когда пар вытесняет воздух, впрыскивают в цилиндр фонтанчик холодной воды. Пар быстро охлаждается, оседает на стенках. В цилиндре образуется пустота, и наружное давление вгоняет поршень внутрь.
Фонтанчик появился в машине от одной неполадки. В те времена не умели как следует пригонять поршень к цилиндру, и пар свистел через зазор. Чтобы прекратить утечку пара, Ньюкомен налил поверх поршня слой воды. И машина неожиданно оживилась. Поршень резвее стал лезть в цилиндр. Холодная вода просачивалась к пару, пар сгущался быстрее, и в цилиндре быстрее образовывалась пустота.
Это мигом подметил Ньюкомен, который цеплялся за каждую возможность ускорить ход машины. Он стал нарочно вспрыскивать в машину водяной фонтанчик, и струя воды, хлеставшая в цилиндре, подхлестывала машину, как хлыстом.
От поршня машины Ньюкомена подымается цепь к качающемуся коромыслу, похожему на колодезный журавль. С другого конца журавля свисает цепь к поршню водяного насоса. Журавль вытягивает поршень, как бадью из колодца.
Огнедействующий насос работает так. Машинист становится к кранам и впускает в цилиндр попеременно то пар, то фонтанчик холодной воды. Работа детская, а машина работает, как слон. Одна машина Ньюкомена заменила собой 50 лошадей, работавших на откачке.
Ньюкомен оказал большую услугу углепромышленникам. Жаркое пламя пылало в топках, день и ночь тяжелые коромысла медленно раскачивались над насосами. И один углепромышленник уверял домашних, что не может заснуть спокойно, если не слышит лязга цепей и сопения огненных журавлей, работающих на шахтах.
9.6.
Детская работа — крутить в паровой машине краны. Говорят, что ее и поручали детям.
Рассказывают, как один мальчуган нечаянно усовершенствовал паровую машину. Называют даже имя этого смышленного мальчика — Гемфри Поттер.
Ему надоело проводить целые часы у машины, не смея оторваться от кранов ни на минутку. Рядом резвятся сверстники. Завидно. Хочется и самому пошалить с ними.
Взял Поттер две веревочки и привязал их — одним концом к рукояткам кранов, а другим к коромыслу. Когда коромысло опускалось, одна веревочка натягивалась и закрывала кран. Когда коромысло поднималось, натягивалась другая веревочка, и кран открывался.
Прицепил веревочки и побежал шалить, а машина в его отсутствие стала работать сама. До тех пор человек служил составной необходимой частью машины. А с тех пор машина стала обходиться без человека.
Так, мол, нечаянно и была усовершенствована машина Ньюкомена. Вот, мол, какой курьез — лентяй мальчишка, а сделал важное изобретение!
Современные историки техники — инженеры, профессора, доктора наук — до сих пор разводят руками перед притчей о Гемфри Поттере. Можно даже, не видя машины Ньюкомена, поглядев лишь на ее чертеж, сообразить, что задача не решалась так просто — веревочками. Ведь для этого надо забраться на качающееся коромысло, на высоту трехэтажного дома, так как ближе никаких движущихся деталей не было. Нужно дать веревочкам подходящую слабину, чтобы рукоятка крана быстро дергалась в определенный момент. Наконец, как ни ловчись, а придется для обратного хода рукоятки пойти на усложнение, обогнуть веревочкой весь огромный двигатель, пустив ее по специально смонтированной системе блоков. Ну а блоки в то время считались «золотой» деталью, и вряд ли проказник хранил их, как Том Сойер, в кармане!
Да и был ли мальчик-то? Может, мальчика-то и не было? Ведь в то время «огневая машина» слыла уникальной, таинственной, даже грозной установкой, вроде нашей атомной электростанции, и никто бы не бросил ее под присмотр проказнику-мальчишке.
Исторические документы говорят другое. Автоматическое парораспределение изобрел серьезный английский механик Бейтон.
Ну, а как же Гемфри Поттер? Похоже, что сказочку о Поттере сложила какая-нибудь добрая воспитательница детского сада. Почему же так стойко держится притча?
Потому, что она сочинена недобрыми устами. Ее пустили враги и конкуренты Бейтона, чтобы опорочить его патент. Они силились доказать, что автоматическое парораспределение — такое плевое дело, что додуматься до него мог любой мальчишка.
Почему же до сих пор живет эта выдумка? Ведь о Гемфри Поттере написаны целые повести.
Дело в том, что еще большие заслуги в автоматическом управлении кранами имеет гениальный русский изобретатель Ползунов. Он построил огневую машину, которая «сама себя в движении без помощи рук содержала». Иностранные литераторы избегают писать о русских изобретателях. Вот они и пережевывают притчу о мальчике, усовершенствовавшем паровую машину.
9.7.
Машина Ньюкомена шестьдесят лет подряд верой и правдой служила на шахтах, прилежно откачивая воду.
Так продолжалось до тех пор, пока учебная модель этой машины не попала в починку механику Глазговского университета англичанину Джемсу Уатту. И Уатт так увлекся маленькой моделькой, что всю жизнь посвятил развитию паровых машин и прославился в этом деле как большой изобретатель.
Увлечение Уатта зародилось неспроста. В те времена начинали ругать машину Ньюкомена, и чем дальше, тем крепче ее ругали.
— Помилуйте! — возмущались заводчики. — Это прорва, а не машина, столько жрет топлива!
Сами посудите, пятьдесят лошадей приходилось держать при иной машине, и они едва успевали подвозить дрова. Из тысячи полен, исчезавших в топке, от силы шесть шли впрок. Тепло от шести полен превращалось в полезную работу. Остальное тепло расходовалось зря.
А размеры! Для машины в каких-нибудь тридцать сил нужен был целый дом.
Скорость? — тут заводчики окончательно махали рукой. Десять подъемов насоса в минуту — разве это работа?!
Все это Уатт слышал давно. С жадным интересом рассматривал он модель. Мы знаем теперь в свете современной теории моделей, что нельзя безнаказанно уменьшать машину. Уменьшение машины в пропорциональном масштабе изменяет картину процессов, текущих в ней. Так говорит теория, о которой даже не догадывался Уатт. Но Уатту повезло. Здесь эти процессы изменились так, что уменьшенная модель большой машины стала увеличенной моделью недостатков большой ньюкоменовской машины. На модели они прямо выпирали наружу. И поэтому Уатт их сразу заметил.
С каждой минутой росла в Уатте уверенность: именно он, и никто другой, сможет усовершенствовать машину.
Откуда пришла такая уверенность?
Уатт был не чета кабинетным белоручкам — многим ученым того времени. Он был отличный механик — золотые руки. Беспристрастные биографы Уатта называют к тому же его руку железной! У него оказалась впоследствии жесткая хватка дельца и предпринимателя. У него имелось и большее — золотая голова. Но мало ли в мире умелых рук и ясных голов?
Было у Уатта еще кое-что, чего не хватало в те времена другим механикам мира. Он был другом и верным помощником в опытах знаменитого исследователя теплоты профессора Блека. Уатт досконально знал свойства пара и теплоты, знал, как немногие знали в его время. Он прощупал здесь все своими руками.
Поэтому Уатт взялся за машину Ньюкомена уверенной рукой мастера. Он приступил к ней во всеоружии научных приборов: термометров, манометров, силомеров. Когда не хватало приборов для измерений, он изобретал их сам и продолжал исследования.
Уатт совершенно перекроил машину. Он понял, что большая потеря тепла — раз за разом охлаждать водой цилиндр и тут же снова его нагревать. Уатт выбросил водяной фонтанчик. Цилиндр был нагрет постоянно. А холодильником служил отдельный сосуд, постоянно остужаемый водой. Он соединялся с цилиндром трубкой с краном. Перед рабочим ходом поршня открывался кран — пар уходил в холодильник и там оседал водяными каплями. В холодильнике и в цилиндре получалась пустота.
Теперь машина имела все части современных паровых машин.
Первая паровая машина Папена напоминала простейшее животное, маленький комок живой слизи — амебу. Тело амебы, ее слизь была одновременно и ртом, чтобы питаться, и ножками, чтобы передвигаться, и щупальцами, чтобы хватать. Цилиндр паровой машины был одновременно и цилиндром, и котлом, и топкой, и холодильником.
Папен отделил топку от котла. Ньюкомен — котел от цилиндра. Уатт отделил от цилиндра холодильник.
Машина перестала быть похожей на амебу и если уж напоминала что-нибудь живое, то скорее всего высшее животное с его специально приспособленными частями тела: ногами, чтобы ходить, руками, чтобы хватать, ртом, чтобы питаться.
9.8.
Историки техники до последних лет спорили, чем была машина Ньюкомена. Одни утверждали, что огнедействующий насос Ньюкомена не был паровой машиной в строгом значении этого имени. Это была воздушная машина. Поршень в ней двигался силой давления внешнего воздуха, а пар служил только для того, чтобы получить пустоту в цилиндре.
Другие не соглашались с таким названием. Что значит воздушная, атмосферная? Ведь столб атмосферного воздуха сам ничего двигать не может, как спущенная пружина игрушечного ружья. Надо пружину сначала взвести. Вот пар и выполняет эту работу. Таким образом, работает все-таки пар, а не воздух. Он взводит «пружину» атмосферного давления, которая давит затем на поршень.
Но как ее ни взводи, а воздух — слабая «пружинка». Давление внешнего воздуха от людей не зависело. Чтобы увеличить силу машины, был единственный путь — увеличивать размеры поршня. Машина получалась большой и слабой.
Какая обида! Бурлит вода в котле, из трубы хлещет пар, и пар этот в машине почти не используется.
Уатт был потрясен до глубины души. Люди держат в руках сокровище и не замечают этого. Подумать только! Неукротимая сила давления пара, бешеная сила, которая рвала нередко котлы в опытах Блека, эта сила в полной мере не использовалась в машине.
Уатт решил прибрать пар к рукам. И в этом первая заслуга Уатта.
Уатт закрыл цилиндр крышкой с дыркой, в которой впритирку ходил шток поршня. От парового котла в дно цилиндра и крышку провел трубы с кранами.
Зажигает огонь в топке, поднимает давление в котле, начинает орудовать кранами. Открывает нижнюю трубу. Врывается пар в цилиндр, поддает поршень снизу. Поршень стремительно взлетает вверх. Стоп! — закрыта нижняя труба. Открывает верхнюю. Жмет пар сверху, гонит поршень вниз. Вверх — вниз, вверх — вниз! Пошла машина!
Конечно, Уатт догадался, объединил все краны в один золотник, чтобы им управляла сама машина. И пошла машина сама с невиданной скоростью. Небольшая, быстрая, мощная.
Ходит поршень вверх и вниз, качается коромысло. Качается коромысло, да не так, не во всю силу. В чем дело? Виновата цепь. Когда поршень идет вверх, гибкая цепь не передает движения. Пришлось заменить цепи жесткими стержнями и придумать от них передачу к коромыслу. А от коромысла…
Но тут о таких серьезных вещах пойдет речь, что придется начать особый разговор.
9.9.
Года за два до того, как машина Ньюкомена попала к англичанину Уатту, на Барнаульском заводе, на Алтае, русский механик Ползунов сделал гениальное открытие.
Он увидел в огнедействующем насосе двигатель, пригодный для движения всех машин.
— Позвольте, — скажут, — да ведь это любому видно!
Это нам теперь, с нашей колокольни, далеко видать!
А тогда считалось, что есть всего лишь два универсальных двигателя — ветряная мельница и водяное колесо. А машина Ньюкомена — двигатель недорожденный — это насос, пусть самодвижущийся, но насос.
Мы уже упоминали однажды, что когда хотелось привести в движение какое-нибудь устройство, например доменные меха, то поступали так. Машину Ньюкомена заставляли накачивать воду в высокую водокачку. Из водокачки гнали воду на водяное колесо. А от водяного колеса привычным способом приводили в движение доменные меха. О том, что можно переделать машину так, что она сама могла бы двигать меха, об этом долго никто не мог догадаться.
Родившись из насоса, машина продолжала казаться насосом. Люди по-прежнему видели куколку там, где уже развилась и созрела бабочка и сейчас разорвет иссохшую оболочку и выползет на свет, расправив пестрые крылья.
Только гениальный человек мог разглядеть в огнедействующем насосе будущий двигатель, пригодный для движения любых машин. Этим гением и был великий русский изобретатель Иван Иванович Ползунов.
Сын простого солдата, Иван Иванович Ползунов был человеком государственным. Он работал «механикусом» в Барнауле на государственном предприятии, которых много было в России до XIX века. Задачи государственных предприятий, как пишут историки,[16] были много шире задач частных капиталистических предприятий, где была одна цель — выгонять прибыль. Это были задачи снабжения страны, государства, нации. Ползунов тут рос и воспитывался как человек, интересы которого были неотделимы от интересов государства. Выходец из простого народа, он иначе представлял себе эти интересы, чем крепостники, видевшие в России одни свои поместья. Ползунов стремился «славы Отечеству достигнуть» и «облегчить труд по нас грядущим». Его манили более светлые перспективы, чем задача спасения английских шахтовладельцев от вод, затоплявших шахты. Он задумал «водяное руководство пресечь», оборвать цепи, приковавшие заводы к рекам, и «огонь слугою к машинам склонить», создать паровой двигатель, пригодный для всех машин.
Он принялся строить «огненную машину, способную по воле нашей, что будет потребно исполнять». Машина выходила необычной, не похожей на ньюкоменовскую: два цилиндра, своеобразная передача.
Обгоняя время, он смело строил исполинскую машину высотой с трехэтажный дом, целиком из металла. В его век, век деревянных машин, это было исключительно трудной работой. Ведь топор, пила и другие немудреные инструменты тут не много помогали делу.
Ползунову пришлось изобретать вспомогательные машины для невиданного строительства. Он изобрел и построил станки для обработки цилиндров и иных частей машины, для которых требовалась «машинная на водяных колесах работа». Великий русский теплотехник показал себя великим машиностроителем.
Но тогда времена были тугие, и в тогдашней крепостной России машины не очень были нужны. Ползунов умер, кашляя кровью, так и не дождавшись пуска. Машину пустили без него и вскоре остановили.
А ученые немцы Паллас и Фальк, побывавшие в Барнауле и видевшие машину, распустили о ней недобрые слухи, все перепутав, вплоть до имени ее изобретателя. Немцы Ирман и Меллер, управляющие алтайскими рудниками, стерли ее с лица земли.
Долго валялись в камышах на берегу пруда позеленевшие медные цилиндры. Шумит высокая трава, шумит в народе слава о машине, и сейчас еще старожилы старики показывают лужайку — ползуновское пепелище!
Идеи Ползунова были преданы забвению, и Уатт пятнадцать лет бродил в потемках, пока додумался до того же, до чего дошел Ползунов.
Уатт продолжил и развил идеи Ползунова.
Он сумел разглядеть то общее, что роднит между собой почти все машины. Одни из них гудели, другие стрекотали, третьи ухали, но во всех них жила одна бесшумная душа — вращение. Вертелись колеса: зубчатые, конические, всякие; поворачивались на осях рычаги, словно спицы колес без ободьев
Вращение было душой машины, и это понял, наконец, Джемс Уатт.
История сохранила занятные свидетельства, как весь ход развития техники подталкивал к этой идее упиравшегося Уатта. Английский исследователь Матчосс доказывает, что когда Уатт усовершенствовал ньюкоменовскую машину, то он «был удовлетворен своей машиной» и думать не желал об универсальном двигателе. «Он хотел направить всю свою энергию на распространение насосной машины и снова и снова советовал своему другу Болтону оставить новые проблемы для молодых людей, которым нечего терять: ни денег, ни репутации». Уатт предлагал Болтону организовать производство насосных машин для трех графств, но Болтон возражал ему: «Фабриковать только для трех графств — это игра, не стоящая свеч; действительно стоило бы труда только одно — фабриковать для всего мира».
Американский исследователь Диккинсон подтверждает, что Уатт «…недальновидно верил в то, что насосная машина еще представляет наиболее доходное поле деятельности». Его компаньон Болтон был другого мнения. Он писал Уатту: «В Лондоне, Манчестере, Бирмингаме люди сходят с ума по паровой мельнице. Я не тороплю Вас, но думаю, что через месяц-два мы должны взять патент на какой-нибудь метод для получения вращательного движения». Поясним, что под словом «мельница» в то время понимались все виды фабрик, приводимых в движение водяным колесом.
Уатт отмахивался от советов Болтона, ворчал и жаловался, что в мире «…воистину бодрствует дьявол вращательного движения». Он ворчал не зря. Взять патент на какой-нибудь «метод для получения вращательного движения» было в то время уже непростым делом. Пока Уатт возился с проблемами экономии топлива в насосных установках, самое простое решение— кривошипно-шатунный механизм был уже кем-то запатентован.
Пришлось правой рукой хватать себя за левое ухо. Уатт применил с одной стороны коромысла сложное «планетное и солнечное колесо», а с другой стороны «параллелограмм» — настолько хитроумный, что полную его теорию дал лишь сто лет спустя гениальный русский математик Чебышев. Письма английского изобретателя свидетельствуют, что Уатт был буквально влюблен в свой ненаглядный параллелограмм и считал его самым своим великим изобретением.
Коромысло, унаследованное от насосных машин, в течение двух десятилетий продолжало раскачиваться над машиной Уатта. Почему оно было так дорого Уатту, почему он не соединил шток поршня с планетарной передачей напрямик, остается до сих пор загадкой для самых проницательных историков техники. Так анатомы никак не могут понять, какую роль в слепой кишке играет возможный очаг аппендицита — червеобразный отросток…
Но как бы то ни было, машина работала, колесо вертелось, и Уатт сказал промышленникам:
«Вот вам вращающееся колесо. Оно вращается само, и не требует ни ветра, ни потока воды. Оно будет вертеться везде, где это нужно, только подавай топливо. А вы уж сами приводите от него в движение какие хотите машины!»
Так закончилось еще одно удивительное превращение. Превращение насоса в паровую машину.
Мы привыкли к стремительному ходу техники. Вчера не было авиации — сегодня самолеты гудят над головой. Вчера не было радио — сегодня громкоговорители вещают на площадях. И даже странным кажется, что так медленно делались в старину изобретения.
Все было у людей: и котел, и цилиндр, и поршень, — и не порознь, а вместе, в одной машине. Но шестьдесят лет прошло, пока додумались люди, что пар из котла может двигать поршень и вместе с ним любые другие машины. И нужен был гений Ползунова и Уатта, чтобы открыть это.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ, где доказывается, что вдохновенье может нахлынуть из прошлого, что изобретатели иногда повторяют на новой головокружительно высокой ступени технические идеи минувших лет
10.1.
Дания в эпоху наполеоновских войн на словах заявляла о своем нейтралитете, а на деле готовилась перейти на сторону Наполеона. Чтобы помешать этому, английская эскадра летом 1807 года переплыла Зунд и появилась перед Копенгагеном.
Корабли развернулись в боевой строй, как перед началом канонады. Но молчали пушки судов. Медленно, в полном молчании, эскадра плыла к берегам.
Вдруг словно стая огненных птиц бесшумно снялась с кораблей и, быстрее стрижей, понеслась к городу. Послышался тихий, но все возрастающий визг. Он крепчал, достиг пронзительной силы.
И тогда замелькали высоко в воздухе темные стремительные тела. Языки визжащего пламени простирались за ними огненными хвостами. Длинные дымные следы оставались позади и, как арки, стояли в небе.
Раздавались дробные тупые удары и треск. Это птицы падали вниз, грудью прошибали кровли. Загудел набат. Зарево занялось над городом.
Странные снаряды, пущенные с кораблей, поджигали дома. Горожане тащили насосы, подвозили бочки с водой. А снаряды летели и летели. И, казалось, конца не будет этой огненной стае.
Один из снарядов с огненным хвостом шлепнулся в колонну вражеских солдат. Люди шарахнулись в стороны, ряды смешались. Пламя упрямо хлестало из снаряда, и он бешено скакал по мостовой, рыская из стороны в сторону, словно выискивая себе жертву.
Город пылал. Снаряды отплясывали на улицах неистовый огненный танец. Купол из дымных арок навис над городом.
Пять дней продолжался жестокий обстрел, вошедший в историю войн, как «сожжение Копенгагена ракетами». Англичане выпустили на город 40 тысяч ракетных снарядов.
Что такое ракеты? Это одновременно и орудие и снаряд.
Пушка, стреляя, откатывается назад. Откатится и остановится. Ее толкает сила отдачи. Но если бы выстрел следовал за выстрелом, как в пулемете, то толчок за толчком подгонял бы орудие и оно бы двинулось в путь безостановочно, пятясь назад, как рак.
Ракета похожа на пушечный ствол, но тяжкие вздохи выстрелов сливаются в ней в одно могучее дыхание. Воя, хлещет из ствола пламенная струя порохового газа, и он летит, гонимый силой отдачи, жерлом назад, распуская огненный хвост. Это не безвредный ствол; в нем заключен разрывной заряд.
Ракета — очень старое оружие. В 1680 году в Москве основали первое «ракетное заведение». В нем впоследствии работал Петр I: сам делал ракеты. А с конца XVII века ракетное дело в России поднялось на необычайную высоту. Подымало его массовое производство отличного русского пороха.
Датский посланник Юст Юль доносил своему правительству:
«Трудно представить, какая масса пороху истлевается за пирами и увеселениями при получении радостных вестей, на торжествах и при салютах, ибо в России порохом дорожат не более, чем песком, и вряд ли найдешь в Европе государство, где бы его изготовляли в таком количестве и где бы по качеству и силе он мог сравниться со здешним».
Только для салюта в честь заключения мира с Портою Оттоманскою, под Москвою на Ходынке 16 июля 1775 года было выпущено в воздух 42 тысячи ракет: больше, чем англичанами при сожжении Копенгагена.
В 1853 году по кокандской крепости Ак-Мечети (современный город Кзыл-Орда) было выпущено множество боевых ракет, подвезенных на верблюдах и с успехом заменивших пушки. Всемирным уважением был окружен конструктор и исследователь ракетной артиллерии, русский генерал-лейтенант Константинов, работавший в это время.
Но с конца прошлого века ракеты стали забывать. И затем они, казалось бы, бесследно исчезли. Гремели пушки первой мировой войны, — о ракетах ни слуху, ни духу.
Началась вторая мировая война, и снова появилось на свет и засияло в грозном ореоле слово «ракета». Немцы на нашем фронте испытали на себе сокрушающую силу советских ракетных снарядов — прославленных «катюш».
Сегодня парад ракет служит апофеозом торжественного парада на Красной площади. На грузовиках проносятся потомки славных «катюш» — ракеты ближнего боя, уложенные в каркасы метательных установок, словно пачки великанских карандашей в пенал исполина. Тягачи провозят ракеты среднего действия, массивные, как колонны Большого театра.
Ракетные установки стоят на страже нашей Родины. Ракетой сбит шпион Пауэре, пробиравшийся к жизненно важным узлам страны по пустынным путям субстратосферы.
У нас впервые в мире изобретена трансконтинентальная ракета, путь которой, как арка, опирается на отдаленные континенты. Сообщения ТАСС рассказывают об испытаниях трансконтинентальных ракет, лишенных боеголовок, но пересекавших тысячи километров земли и моря и ложившихся точно в заданный квадрат в районе Тихого океана. Выкована новая ядерно-ракетная стратегия, в грозном свете которой померк и обесценился хваленый американский военный морской флот и военно-воздушные силы.
Американцы в безумной гонке вооружений затратили громадные средства на создание призрачного фронта радиолокационной защиты, глядящего с Востока на Запад, обманывая перепуганных налогоплательщиков, что именно с Запада на Восток к ним прилетят советские ракеты. Но Н. С. Хрущев сообщил в своей предвыборной речи, что советскими учеными создана глобальная ракета, установленная на спутнике, обращающемся вокруг планеты, и поэтому могущая прибыть с любой стороны и упасть с неба в любую точку земли, где поднимет голову агрессор.
Пушки горожан пробили стены средневековых рыцарских замков. Ракеты не разрушили еще никаких оборонительных стен, но они пробили громадные бреши в бастионах «холодной войны», показав, что при современном вооружении война равносильна мировой катастрофе, и нет другой разумной политики, кроме политики мирного сосуществования и всеобщего разоружения.
Беспримерно мощное оружие — советская ракета—голосует за мир.
Новое ракетное оружие — пишут во всех газетах.
Старое изобретение явилось к нам из глубины веков, как забытая там «машина времени» писателя Уэллса.
10.2.
Не одна ракета возвращается к нам из прошлого.
Лет 90 назад, казалось, окончательно распростились с гладкоствольными орудиями, заряжаемыми с дула. Повсюду воцарилась нарезная артиллерия, заряжаемая с казны.
Стали с улыбкой вспоминать старинные неуклюжие пушки, в которых и заряд и ядро забивались в дула, а затем поджигался фитиль. То ли дело нарезные пушки! Все на их стороне: и скорострельность, и дальнобойность, и пробивная способность, и точность боя.
И если поднимался разговор о пушках будущей войны, то уж, конечно, только о нарезных, с какими-нибудь диковинными стволами. Или о совсем фантастических — центробежных или электромагнитных.
Но прошло семьдесят лет. Наступила война наших дней. И что же? Никакой фантастической электрической артиллерии на фронте не оказалось. Зато снова возродились гладкоствольные, заряжаемые с дула орудия, словно тени покрытых ржавчиной, предков.
И очень ими довольны — превосходно к месту пришлись.
Говорят, что дальнобойность мала? А она и не всюду требуется. Часть орудий все равно выставляют на передний край и громят ими передний край врага. Говорят, что пробивная способность низкая? А к чему она нужна, пробивная способность, если бьют по пехоте да осколочными снарядами?
Говорят, снаряды ложатся не точно? Ну и пусть ложатся. В современном бою нередко стреляют без прицела. Кроют по площадям. Месят врага с землей. Тут такая сгущается плотность огня, такой огненный шквал бушует над врагом, что не имеет смысла целиться: ты промахнешься — угодит сосед. Война теперь другая, и во многих случаях в самый раз придутся в современном бою гладкоствольные орудия.
Их знает каждый — это минометы.
Скорострельность миномета известна. Иной ловкач одним минометом по две мины одновременно держит в воздухе. Нет орудия легче миномета. Миномет — это пушка на спине. Нет орудия проще миномета. Что такое миномет? — Одна труба.
Только что-то не слишком походит миномет на своего гладкоствольного предка.
Старые пушки стреляли круглым ядром, а миномет продолговатой миной, похожей на каплю с плавниками, вроде рыбьего хвоста. Ни дать, ни взять — небольшая авиабомба. Значит, миномет — потомок не только старинной ядерной пушки, но и авиабомбы.
У старинной пушки был неуклюжий деревянный лафет, а у миномета костыли из легких стальных труб. Есть в них что-то от велосипедной рамы. Значит, миномет — потомок отчасти и велосипеда.
Миномет стреляет так. Мину погружают в дуло, и она скользит вглубь и напарывается капсюлем на жало, торчащее в дне ствола. Происходит выстрел. Капсюль и жало! Никаких фитилей. Значит, миномет сродни не только старинным пушкам, но и современному оружию центрального боя.
Сложна родословная миномета. Если внимательно разобрать миномет по деталям, то в немногих этих деталях мы сможем узнать черты многих современных машин.
Значит, не просто вернулась к нам из глубины веков старинная гладкоствольная пушка. Она вернулась к нам обновленная и преображенная всеми последними достижениями техники — легкий скорострельный меткий миномет.
10.3.
Представьте себе, что каким-то чудом прямо из XVII столетия перенесся в наши времена видный тогдашний инженер. Настоящий инженер XVII века—в парике с косичкой, белых чулках с бантами и туфлях на высоких каблуках.
Повели его осматривать наши заводы. Все его поражает до крайности: и размеры цехов и сложность машин. Страшно поражен всем инженер, ко не показывает виду. Не желает ударить лицом в грязь перед потомками. Пусть, мол, не думают, что в XVII веке жили какие-нибудь простаки.
Проходит инженер по цехам, небрежно играя тросточкой, словно все ему знакомо, словно все это он и раньше предвидел.
— Покажите мне, — говорит, — водяное колесо, которое движет эти машины.
Задает он этот вопрос неспроста. В его век учили, что мир неизменен. Времена проходят, а суть вещей не меняется. Было в то время два двигателя: ветряк и водяное колесо. И развитие техники представляли себе так: пройдут века, будет больше водяных колес, будут больше водяные колеса. Вот и думает инженер: где-нибудь да должно тут быть водяное колесо.
Идут на гидроэлектрическую станцию. Показывают турбины:
— Вот вам водяные колеса!
Умилился инженер, увидав знакомую технику. Разводил руками. Расспрашивал о подробностях. На прощание отвешивает галантный поклон и говорит с улыбкой:
— Что же, господа, так я и знал. Никуда вы не ушли от водяных колес. Выросли размеры, усложнились детали, а существо дела осталось. Ничто не меняется в этом мире!
И уезжает обратно в свой XVII век.
А в мире многое изменилось.
Водяное колесо во время оно приводило в движение машины при помощи деревянных валов и зубчаток с зубцами, похожими на пальцы садовых граблей.
Так описывал тогдашнее производство старинный писатель:
«Сначала река наталкивается на мельницу… Потом ее зовут к себе сукновальни, находящиеся по соседству с мельницей… Опуская и поднимая тяжелые песты или — лучше сказать — молоты, река освобождает сукновалов от утомительной работы… Быстрое течение приводит в движение много водяных колес… Покрытая пеной река медленно движется далее…Мало-помалу распадаясь на много рукавов, река суетливо кружится, заглядывает в отдельные мастерские, тщательно отыскивая, где имеется надобность в ее службе: при варке, просеивании, вращении, растирании, орошении и мытье».
Благодарный писатель расчувствовался и преувеличил услужливость реки. Река не искала мастерских. Наоборот, мастерским приходилось искать реку. Это были маленькие мастерские. Много ли потянет водяное колесо! Река не хотела работать на двух плотинах, установленных рядом одна за другой. Мастерским приходилось разбредаться вдоль реки, подальше друг от друга. Мастерские ютились у рек по деревням. В те времена не могли возникнуть большие промышленные города. Люди не могли соединиться в одно место для работы. Они были прикованы к своим деревням голубыми цепями рек.
Так продолжалось до тех пор, пока не изобрели паровую машину. Пар взорвал голубые оковы. Мастерские и фабрики вырвались из-под власти реки и свободно расселились по земле.
Паровая машина могла работать где угодно — только подвози топливо. Подвозили же топливо сами паровые машины — паровозы и пароходы. Мастерские вырастали в огромные заводы и толпой теснились поближе к сырью и топливу. Появились большие промышленные города. Заводам было удобно вместе. Машиностроительные заводы были рядом с металлургическими предприятиями. Текстильные фабрики стояли бок о бок с химическими заводами и заводами текстильных машин.
Все это сделала паровая машина — мать промышленных городов. Наступила пора безраздельной власти пара. Люди ушли от водяных колес и, казалось, навсегда.
— Видали водяного? — спрашивали тепловики, гурьбой проходя мимо одинокого строителя водяных колес. И косились на него свысока, как шоферы на последнего извозчика.
Но уже зародилась в мире одна неотвязная забота, которая омрачала их славу. Чем больше появлялось паровых машин, тем сильнее начинала грызть людей забота о топливе. Вся жизнь теперь держалась на топливе, а леса вокруг городов редели и исчезали, и нефть и каменный уголь тяжелым трудом приходилось добывать из-под земли. Пришлось сызнова вспомнить о даровой энергии рек.
Снова зашевелились сторонники водяных колес.
— Мы умеем строить огромные водяные колеса колоссальной силы, — теребили они фабрикантов. — На Алтае, в России, еще сто лет назад русский мастер Фролов строил колеса высотой с десятиэтажный дом.
— И смотреть не хотим, — отмахивались фабриканты. — Что нам толку от вашей силы, если ее нельзя передать в города на заводы?
Инженеры умолкали. Они умели передавать силу станкам. Длинные, жужжащие валы пересекали просторные цехи. От станков тянулся к валам шелестящий лес ремней. Но страну пересечь рядами валов и ремней, протянуть их за сотни километров от рек, к городам и заводам — это немыслимо! Этого инженеры не умели.
Так продолжалось до тех пор, пока не появилась электротехника. Она сделала явью то, что казалось чудесным. Трудами инженеров-электриков и, в особенности, русского изобретателя Доливо-Добровольского силу стало возможно передавать на огромные расстояния без валов и ремней — по тонким проводам, протянутым от генераторов к электромоторам.
Отныне ничто не мешало применению силы воды. Водяные двигатели торжественно возвращались на почетное место. Теперь это были водяные турбины. Они состояли в таком же, пусть сложном, но все же родстве с водяными колесами, как минометы с ядерными пушками. Турбины срослись с генераторами в одно. Роторы тех и других пронизывала общая ось, и они вращались вместе, как на общем вертеле.
Теперь сторонники водяных двигателей сказали тепловикам:
— Придется вам потесниться… Довольно коптить небо!
И тепловики потеснились.
Появлялись гидроэлектрические станции. Громадные плотины взнуздывали реки. Вода ревела, турбины вращались, длинноногие мачты уносили в далекий город тихо гудящие провода.
Так отступило в тень и всесильной властью электричества снова вернулось на свет великое изобретение. Этого не понял инженер XVII века. Все разглядел, все заметил гость из-за трехсот лет: и плотину, и шлюзы, и улитку турбин. Не заметил лишь безделицы: тонких проводов на стальных голенастых мачтах.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ, где рассказывается об искрах, порождающих пламя изобретательского вдохновенья
11.1.
Баснописцы прославляют трудолюбие муравья и охотно ставят его в пример лентяям.
Но вот что написал про муравья американский писатель Марк Твен: «Я не отрицаю, понятно, его прилежания: он трудится себя не жалея, особенно когда кто-нибудь смотрит; но чего я не могу простить — это его непроходимую тупость. Отправляется он, скажем, на добычу и захватывает трофей, — что же он делает дальше? Идет домой? Как бы не так — куда угодно, только не домой. Он понятия не имеет, где его дом. Дом может быть в двух-трех шагах — не важно, муравей этого не знает. Как сказано, он захватил трофей, какую-нибудь никому не нужную дрянь, притом раз в семь больше себя самого; он выискивает самое неподходящее место, чтобы за нее ухватиться; пыхтя и надрываясь, взваливает на себя и пускается в путь, но не домой, а в обратную сторону, и не спокойно и разумно, а в дикой спешке, ухлопывая на эту спешку все силы; перед каждым камешком он останавливается и, вместо того чтобы обойти кругом, лезет напрямик, пятясь задом и волоча за собой свою ношу; перекатывается вверх тормашками на ту сторону, вскакивает в остервенении, стряхивает с себя пыль и, поплевывая на ладони, снова с азартом хватается за свою добычу; дергает ее туда-сюда, с минуту толкает перед собой; в следующую минуту заходит вперед и волочит ее на буксире; звереет все больше и больше и наконец, подняв свою добычу высоко в воздух и торопясь, как на пожар, несется с ней уже в новом направлении; тут он натыкается на репейник, но ему и в голову не приходит обойти его кругом, — нет, он обязательно должен на него взобраться; и он лезет на маковку, таща за собой свою бесполезную кладь, — что примерно так же остроумно, как если б я, взвалив на себя куль муки, потащился с ним из Гейдельберга в Париж прямиком через Страсбургскую колокольню; взобравшись на самую верхотуру, он убеждается, что не туда попал; мельком оглядывает окрестность и либо лезет вниз, либо сваливается кувырком и опять пускается в путь, но теперь уже в новом направлении. Через полчаса он останавливается — дюймах в шести от места, откуда начал свое путешествие, и здесь разгружается; за это время он облазил вдоль и поперек территорию окружностью в два ярда и перебрался через все камешки и сорняки, какие попадались ему на дороге. Он отирает пот со лба, расправляет усталые члены и, не чуя под собой ног, пускается в новое бесполезное странствие. Исходив зигзагами порядочное расстояние, он натыкается на брошенную ношу. Он уверен, что видит ее впервые и, оглядевшись, дабы ноги паче чаяния не занесли его домой, хватает свой тюк — и айда в дорогу! Опять с ним происходят те же приключения, но наконец он останавливается передохнуть, и тут ему встречается приятель. Должно быть, на приятеля произвела впечатление нога прошлогоднего кузнечика, и он спрашивает, откуда она. Должно быть, хозяин ноги уже начисто позабыл, где подобрал ее, и отвечает неопределенно, что «где-то в этих краях». Должно быть, приятель вызывается помочь ему доставить поклажу домой. И вот, повинуясь некоему голосу древнего муравьиного разума, приятели берутся за ногу кузнечика с обоих концов и тянут ее изо всех сил — каждый к себе. Потом они устраивают перекур и обмениваются мнениями. Они видят, что дело у них не клеится, но по какой причине — им невдомек. И они снова берутся за свой груз тем же манером, что и раньше, и с тем же успехом. Начинаются взаимные попреки. Должно быть, каждый обвиняет другого в обструкции. Спор становится все жарче и переходит в драку. Приятели, сцепившись намертво, некоторое время обгрызают друг другу челюсти, а потом катаются по земле и кувыркаются, пока один из них, не досчитавшись ноги иди усика, не запросит пардону. Мир заключен, и муравьи снова берутся за работу, все на тот же безмозглый лад; но теперь калеке приходится туго: сколько он ни тянет на себя поклажу, здоровый муравей, как более сильный, перетягивает и волочит и его вместе с ношей; а приятель, чем отпустить, отчаянно за нее цепляется и разбивает себе голени о неровности почвы. Наконец, протащив ногу кузнечика вторично по тому же маршруту, упарившиеся муравьи сваливают ее примерно на том же месте, где она сперва лежала, и, рассмотрев повнимательнее, решают, что эта высохшая нога не такой уж клад, чтобы особенно за нее держаться, после чего оба расходятся в разные стороны, в надежде найти ржавый гвоздь или какой-нибудь другой предмет, достаточно тяжелый, чтобы причинить муравью побольше хлопот, и достаточно бесполезный, чтобы ему приглянуться».
Выходит, одного трудолюбия мало, чтобы делать полезные дела, надо еще уметь работать с толком. В пику баснописцам писатель-юморист преувеличил неорганизованность муравья.
Но ученые, внимательно изучавшие жизнь муравьев, подтверждают, что не так уж сильно сгустил краски Марк Твен. В том и отличие человека от муравья, что муравей работает не думая, механически, все одними и теми же способами, а человек работает с умом, с рассудком и день ото дня совершенствует свою рабочую сноровку. Мы работаем разумно и организованно, но ведь можно работать еще организованней, еще разумней. Марк Твен не зря написал свой рассказ. В нем содержатся намек и укор.
Как бы старательно и прилежно мы ни работали, но если взглянуть самокритически на наши трудовые дела, то и в них кое-где отыщется бестолковщина, затрудняющая нашу работу. Это чаще всего мелочи, но они цепляются одна за другую, путаются в ногах, сковывают движения. Мы привыкли к ним и их не замечаем. И не знает человек, что, избавься он хоть от доли своих трудовых неполадок, он бы впятеро сработал, стал бы впятеро сильнее, словно великан, сбросивший незримые оковы.
Объявивших войну сучкам и задоринкам, тормозящим работу, называют рационализаторами.
Предложения их нехитры и не могут составить изобретения, но, слагаясь вместе, приносят нередко такой полезный эффект, о котором иные изобретатели не смеют и думать.
Когда новые изобретения приходят на фабрики, шахты, заводы, появляется разлад между новой техникой и старыми способами труда. Тут открывается простор рационализаторам.
Вот пример, вошедший в историю.
Раньше уголь добывали так: забойщик рубил уголь вручную, обушком, постепенно углубляясь в пласт, а затем бросал обушок и подпорками начинал крепить забой, чтобы не обвалился потолок подземной галереи.
Две руки рубили уголь, две руки крепили забой. Пятилетка сменила древние обушки на отбойные молотки — инструмент сильнее и проворнее десяти рабочих рук. Где работали две руки, там, казалось, будут работать десять.
Но не тут-то было. Техника шла в ход новая, а работать приходилось по старинке. С неистово стрекочущим молотком забойщик стремительно вгрызался в пласт, а затем опускал свои десять механических рук и двумя руками принимался крепить забой. Десять стальных рук неподвижно лежали в угольной пыли, ожидая, пока управятся со своим делом две человеческие руки.
«Семеро одного не ждут!» — говорит пословица.
Это же подумал забойщик Алексей Стаханов.
«Надо работать, не покладая механических рук!» — решил он.
Стаханов спустился в шахту с двумя товарищами. Пока забойщик с отбойным молотком безотрывно впивался в пласт, товарищи следом за ним крепили шахту. Они дали четырнадцать норм угля в смену.
Стаханов в корне усовершенствовал способ труда, приведя его в согласие с новой техникой, и это произвело революцию в добыче угля.
С той поры людей, которые вслед за Стахановым взрывали старые, обветшалые технические нормы, выжимая из техники все, что она может дать, долгое время называли стахановцами.
В моих журналистских тетрадях военных лет хранятся записи о трудовых подвигах молодежи, ковавшей победу. Это заметки о сверстниках моих, комсомольцах того времени. Имена их гремели в то великое время по всей стране. Я встречался с ними, память об их делах дорога мне. Они вводили меня в мастерскую рационализаторского творчества. Вот некоторые из этих заметок.
11.2.
Комсомолка-строгальщица Катя Барышникова доказала личным примером, что можно обслуживать участок вдвое меньшим числом людей и притом повысив его отдачу. Она подобрала бригаду девушек-новичков, обучила их профессии и вскоре стала перевыполнять норму на 550 процентов.
Как конструктор современного автомобиля, тщательно сглаживая ничтожные выступы на теле машины, увеличивает скорость вдвое, так и Барышникова с подругами, устраняя незначительные тормозы в работе, непрерывно повышала производительность труда.
Спросите конструктора, как он ухитрился сэкономить в своей последней машине десяток лошадиных сил, сохранив грузоподъемность и скорость ее неизменной? Какими усовершенствованиями механизма?
— Я убрал, — считает на пальцах конструктор, — дощечку с номером, тормозившую ход, точно лопасть весла, поставленного поперек движения, и этим сэкономил одну силу…
— Затем я накрыл колеса до половины гладкими обтекаемыми крыльями, и на этом заработал еще полторы силы…
— В этих крыльях я утопил и торчащие фары — прибавил еще две силы…
— Наконец упрятал ручки дверей и прочую мелочь…
— Так и набрались, — заключает конструктор, — так и набрались те десять сил, которые я сэкономил на этой машине!
«Убрал номер… утопил фары… спрятал ручки…»—вот какими скромными словами смог рассказать конструктор о своем проникновенном труде. И такими же скромными словами рассказывала Катя Барышникова о своей рационализаторской работе:
— Я попросила поставить рядом со станками тумбочки, где разложила в нужном порядке подсобный инструмент. Теперь, когда надо, рука сама тянется туда. И этим сэкономила несколько рабочих секунд.
— Я продумала все свои движения, сделала их быстрыми, точными, свободными. Даже щели зажима деталей я не разжимаю шире, чем следует, чтобы не тратить сил зря…
— Пол у станка был засыпан металлическими стружками. Они липли к подошвам и мешали спокойно стоять. Я попросила подставить под ноги деревянные решетки; стружка пролетает сквозь щели и не путается больше под ногами…
— Суппорты станков, стоявших в цехе, глядели в одну сторону. Одной присматривать за двумя станками было неудобно. Далеко бы пришлось бегать… Я предложила повернуть станки суппортами друг к другу и стала одна обслуживать сразу два станка…
— Я убедилась, что более толстую стружку снимать на станке нельзя только потому, что деталь имеет недостаточный упор. Технологи усилили на наших станках зажим деталей, и резец стал снимать за один завод стружку двойной толщины. Уменьшилось число заходов на одну деталь. Время обработки сократилось с двух минут до сорока секунд.
— Так и набрались, — говорила Катя Барышникова, — так и набрались те 550 процентов выполнения плана, которые мы давали в грозные годы Великой Отечественной войны.
11.3.
Комсомольско-молодежная фронтовая бригада сборщиков станков бригадира Александра Шашкова, собиравшая в месяц 6–7 станков, стала быстро повышать свою производительность: собирать 22… 25… 27… 30 станков в месяц и поставила, наконец, рекорд — ежемесячно 34 станка!
Дело двинулось вперед после рационализаторского предложения Александра Шашкова организовать внутрибригадный поток.
Раньше бригада собирала станок скопом. Члены бригады работали над всеми узлами и деталями, которых в станке великое множество.
Шашков предложил лучший способ организации труда.
— Разобьем, — сказал Шашков, — весь порядок сборки на отдельные операции. И каждым двум-трем человекам поручим только одну. Пусть одни ставят гидравлические узлы, другие центрируют станок, третьи испытывают его в работе. Те, кто кончит свою операцию, пусть захватывают с собой инструменты и переходят к другой группе станков, чтобы там доделывать то же дело. А на их места станут другие члены бригады, чтобы заняться своей работой.
Среди выстроенных на стенде станков совершают свои «заходы» дружные сборщики, словно косари, когда они ступеньками выкашивают зеленые луга.
Чтобы ни минуты не тратить даром, уничтожены многие мелкие неудобства.
Неудобно охапкой тащить инструмент от станка к станку, он выскальзывает из рук, падает на пол. Положение спас «походный ящик». Дрель, зубило, молотки, угольники, сверла, развертки уложены в нем, как чертежные инструменты в готовальне. Его носят в руке, как чемодан.
Неудобно для каждой доделки носить деталь от станка к тискам, к верстаку. Это было бы так же нелепо, как если бы я, пишущий книгу у себя в комнате, ходил макать перо на кухню. Рационализаторы сделали походный верстак с тисками, двигают его от станка к станку.
Получается своеобразный конвейер, только здесь не станки продвигаются вдоль неподвижного ряда рабочих, а рабочие обходят неподвижную шеренгу станков.
Ну, а сила конвейера известна!
11.4.
Чем дальше, тем сложнее делаются рационализаторские предложения, тем глубже изменяется ими расстановка сил на производстве.
Был решающий период войны. Советская Армия наступала. Башни и корпуса тяжелых танков, катившихся на запад, готовил завод, на котором работал сварщиком комсомолец Егор Агарков.
Каждое новое продвижение танков на фронте ставило перед заводом новые задачи.
Освобождались города. В городах восстанавливалась промышленность. Туда требовались квалифицированные кадры рабочих, мастеров. Кадрами должен был помочь и завод. И в то же время росли и усложнялись месячные задания по выпуску бронекорпусов.
Коллектив завода работал самоотверженно. Молодежные бригады изумляли товарищей своими трудовыми подвигами. Но все же росло на заводе беспокойство из-за нехватки рабочей силы. И в тревожные дни на самолетах с соседних заводов перебрасывали на помощь людей.
Вот тут в пылу трудового сражения, слитого воедино с продвижением танков на фронте, и запала Агаркову в голову его замечательная идея.
Он первый понял, что люди на заводе есть, что работников на производстве хватает и что надо только по-иному расставить людей. Говоря по-военному: перестроить боевые порядки. И тогда можно будет не только сработать больше танков, но и высвободить рабочую силу для возрождения советских земель, которые эти танки освобождают.
Говорят, что от перестановки слагаемых сумма не меняется, но арифметика производства сложнее арифметики чисел. И это понял Егор Агарков.
Как велась работа в цехе?
Башни танков обрабатывались на двух участках. И на том и на другом производились слесарные и сборочные работы. Руководили работой по профессиям. Был старший мастер по сварке, у которого под началом ходили два сменных мастера. Они руководили сварочными работами. Одновременно со сварочными работами на тех же самых башнях, на тех же самых участках велись слесарные работы. Ими руководил другой старший мастер с двумя сменными мастерами. Оба старших мастера на равных правах подчинялись начальнику цеха. Было два хозяина на одних и тех же участках.
И когда встречались в цехе неполадки, то Иван кивал на Петра, а Петр на Ивана. Создавалась обезличка в выполнении заданий. Но главная беда не в этом.
При работе на двух участках не был организован поток. Башня блуждала от операции к операции по сложному пути. Ее приходилось по нескольку раз перетаскивать с участка на участок. Танковая башня — не корзинка для бумаг, и работа эта не шуточная.
Сварочная аппаратура была разбросана. Длинные провода змеились по цеху, и электроэнергия в них терялась зря. Оборудование использовалось нерационально. Вся организация мешала уплотнению рабочего дня. В одной бригаде недогруз, в другой — простой.
Это заметил и учел Егор Агарков перед тем как дать свое короткое предложение.
Он предложил укрупнить участок. Объединить два участка в один, и пускай им командует один старший мастер, на которого возложить руководство слесарными и сварочными работами. Под началом мастера оставить двух сменных мастеров, в обязанность которым вменить руководство и слесарными и сварочными работами. Соответственно объединить и бригады.
Тогда старший мастер почувствует себя полноправным хозяином участка и станет нести ответственность не за отдельные узлы, а за весь ход обработки башни, вплоть до сдачи ее военпреду. Вся ответственность ляжет на плечи старшего мастера, но зато и весь объем работы окажется в его руках. Ничто не будет стеснять его предприимчивости, и уж он сумеет на своем участке устроиться по-хозяйски.
Так и сделали.
Предложение дало поразительные результаты. Высвободили трех сменных мастеров, одного старшего мастера, четырех бригадиров, восемь электросварщиков и слесарей. А выпуск танковых башен на этом участке увеличился в два с половиной раза.
Когда вслед за Агарковым укрупнение провели на других предприятиях танковой промышленности, удалось уничтожить без ущерба для дела 115 мелких цехов, 513 производственных участков и более 600 бригад. При этом высвобождено 6037 человек, в том числе 2297 инженерно-технических работников и служащих, 3790 квалифицированных рабочих.
Вот и все, если коротко говорить о знаменитом предложении Егора Агаркова, которое прославило его на весь Союз и украсило его грудь орденом Ленина.
11.5.
Коротко и… неясно!
Ну, хорошо! Укрупнили… оборудовали… разместили… организовали… Каждый из нас, кто работает на заводе, постоянно что-нибудь переоборудует, перемещает, реорганизует, и все-таки не каждому удается достичь таких выдающихся успехов, каких добился Егор Агарков.
В чем же секрет Егора и его друзей?
Чем они взяли?
Неужели только тем, что Агарков взглянул и заметил неорганизованность там, где люди годами ходили мимо, ничего плохого не замечали?
Не так все просто!
В том-то и дело, что работали люди на заводе разумно и организованно, и подай Агарков свое предложение годом раньше, его бы, наверное, отклонили.
Что же изменилось?
Ход событий, опыт жизни учит нас, что то, что выглядит сегодня разумным и целесообразным, завтра может оказаться неразумным и бессмысленным.
Плохо, конечно, когда на маленьком участке работы собирается слишком много командного состава: командиры производства начинают мешать друг другу. Но может и в этом существовать своя хорошая сторона.
В первые дни войны на завод пришла зеленая молодежь. Она работала с подъемом, но неумело. За каждым нужен был глаз да глаз. Того гляди, сорвется у неловкого слесаря с зубила молоток — ссадит руку, схватится неопытный сварщик за голый проводник — искры из глаз! Чуть не доглядишь, обязательно кто-нибудь да нарушит технологию сварки. И пойдут швы с браком.
Мастерам, тоже людям молодым, приходилось смотреть во все глаза, по пятам ходить за каждым, и каждый понимающий глаз был на участке нелишним. Вот в чем заключалась, по тем временам, положительная сторона маленьких участков при большом числе мастеров и бригадиров. И эта сторона искупала все недостатки. Иначе нельзя было работать.
Но время шло, и молодежь не теряла времени даром: квалификация ее росла. Становилась обузой мелочная опека мастеров. Наступил переломный момент, канули в прошлое все достоинства размельченных участков, а недостатки остались.
То, что было целесообразно вчера, сегодня оказалось бессмыслицей. Люди работали и еще ничего не замечали, а Агарков заметил… Сумел уловить этот неуловимый момент… И в этом заслуга Егора Агаркова.
«Необходимо укрупнять участки», — решил Егор Агарков.
Но перед тем как взяться укрупнять, надо было окончательно уничтожить последнюю нужду в ежечасной мелочной опеке мастеров. Надо было подтянуть и прочно закрепить производственную квалификацию работающих на участке.
Пришлось организовать стахановскую школу. Все работники окончили ее с отметкой «хорошо» и «отлично» и повысили свою квалификацию с третьего до пятого и шестого разрядов.
И если говорить о секретах Егора Агаркова, то серьезная учеба, упорная борьба за овладение мастерством — это один из важнейших секретов его успеха.
Большая нагрузка легла на Агаркова и его товарищей после укрупнения участка и заставила крепко задуматься над уничтожением простоев и уплотнением рабочего дня. Но теперь это были квалифицированные, самостоятельные, ответственные люди. Учетом и организацией труда занялись все агарковцы в порядке общественной работы.
Одному поручили заботиться об электродах. Он за полчаса до работы получает их со склада для бригады. Перебои в работе из-за отсутствия электродов прекратились.
Другой несет ответственность за оборудование. У него при себе ремонтный инструмент. В обеденный перерыв он просматривает и подправляет аппараты. Перебои в работе по вине оборудования также прекратились.
Третий отвечает за качество сварки. Он работает сам и посматривает за товарищами, помогая исправлять изъяны. Он как бы общественный ОТК, предупреждающий брак.
Неустанная забота об уплотнении рабочего дня, об уничтожении простоев — вот еще один секрет успеха Егора Агаркова и его товарищей.
Чем строже порядок на рабочем месте, тем меньше времени тратится понапрасну. Агарковцы первым делом взялись за организацию рабочих мест. Раньше сварщики много времени убивали в очередях в центральной кладовой при получении и сдаче защитных щитков. Теперь для хранения защитных щитков у рабочих мест оборудован специальный шкаф. Отдельный шкаф приспособлен для хранения электродов.
Участок был завален хламом. В мусоре пачками валялись огарки электродов. Молодежь решила навести чистоту, завели метелки и лопаты. Когда нужно, сами подметают. В чистоте сразу заметно, у кого что валяется. Если брошены слишком длинные огарки, это значит, что сварщик не бережет электродов. Чистота помогает выдерживать экономию.
Башня — горбатая, как верблюд. Ее не установишь на ровном полу сразу так, как надо. Слесари приспособили специальные подпорки, чтобы ставить башню на рабочем месте в нужном положении.
Разумная организация рабочего места — это тоже секрет успеха Егора Агаркова и его товарищей.
Наконец организовали на участке внутрибригадный поток. Это не только ускорило, но и облегчило работу.
В летнее время от вольтовых дуг башня сильно раскалялась. Сварщик, который варил внутри, залезал, как в горячую паровозную топку. Пот лил в три ручья. Соль выступала в складках комбинезона.
Эту тяготу уничтожил поток. Сварщики теперь не наседают скопом на одну башню, а ведут работы вперемежку со слесарями. Пять башен поставлены в ряд, и сварщики обходят башни по порядку: на одной наварят крышу, перевернут с боку на бок и переходят на вторую. Когда доходят до пятой — первая уже остыла. К холодной башне приступают слесари. Пока варят пятую, слесари заканчивают свою работу, и сварщики возвращаются доваривать первую. Дальше снова обходят башни, двигаясь вслед за слесарями. Все работают на холодных башнях, все довольны.
Умело организованный внутриучастковый поток — это тоже секрет успеха Егора Агаркова.
Агарковцы превратились в зрелых производственников, способных освоить новейшую технику.
Решили внедрить автоматическую сварку на машинах Героя Социалистического Труда академика Патона.
Сварочные машины Патона похожи на швейные. Словно нитка в швейной машине, непрерывно подается ко шву проволочный электрод. На конце у «нитки» иголки нет, но зато пылает вольтова дуга. Головка машины движется вдоль стыка броневых плит, и проволока тает каплями, заплавляя стык.
На участке не зря потрудились, осваивая машину. То, что делали за 6–7 человеко-часов, машина выполняла в полчаса.
Смелое освоение новинок передовой техники — это важнейший секрет успеха Егора Агаркова и его товарищей.
Понемногу, начав с небольшого, агарковцы переходили к изобретательству.
Сварщики следят за дугой через темное стекло, как ребята, глядящие на затмение солнца. Стекло вставлено в щиток, который держат в руках. В одной руке электрод, в другой щиток. Это неудобно и утомительно. Понапрасну устают обе руки. Сварщики стали крепить щиток к голове. Одна рука оказалась свободной. Если устаешь, можно облокотиться.
Предельная простота и наибольшая выгода — особенность предложений агарковцев.
Бывает, брызжет из-под электрода расплавленный металл, и капли застывают на броне железными бугорками. Их срубают с брони зубилами, и это неблагодарный труд.
Иной изобретатель придумал бы машину для срубки бугров. Но агарковцы поступили иначе. Они стали мелом натирать окрестности швов, и капли перестали прилипать к броне. Капли скатывались с нее, словно дождинки с запыленной дорожки. Нечего стало срубать. Просто, остроумно и какая экономия сил!
Рационализаторская работа смыкается с изобретательством. Миллионы рационализаторов вместе с изобретателями делают общее дело — двигают технику вперед.
11.6.
Но, однако, никогда еще, даже в самые героические годы нашего прошлого, никогда еще рационализаторское движение не росло с такой силой, как после XXII съезда КПСС… Началось развернутое шествие к коммунизму, и страницы новой Программы партии зашумели впереди, как полотнища знамен. Мобилизация самых широких масс на решение главной экономической задачи — построение материально-технической базы коммунизма стало вопросом программным. И советский народ ответил на зов партии ростом трудовой активности, творческой инициативы.
Нарастает замечательное движение современности — соревнование коллективов и ударников коммунистического труда. Все стараются ускорить создание материальной базы коммунизма, стать активными строителями нового общества и войти в коммунизм всесторонними и творческими людьми, совершенными духовно и физически. Все стремятся трудиться по-коммунистически. А коммунистический труд — это творчество.
Возникают новые коллективные формы технического творчества — конструкторские и технологические бюро, исследовательские группы на общественных началах.
Уже действует свыше 15 тысяч таких общественных конструкторских и технологических бюро. Развернули полезную деятельность советы новаторов. На заводах, стройках, в совнархозах эти общественные советы изучают предложения передовиков производства, — отбирают наиболее ценные и внимательно контролируют их внедрение.
Вовлекает людей в техническое творчество и Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов, созданное пять лет назад по инициативе Н. С. Хрущева.
Членские билеты Общества — у 3018 тысяч новаторов, изобретателей и рационализаторов, инженеров, техников, рабочих. Общество возглавило инициативу новаторов, предложивших в течение 1959–1965 годов накопить 10-миллиардный рационализаторский фонд семилетки. Было взято, иными словами, обязательство разработать и внедрить в производство рационализаторские предложения, которые принесут экономию в 10 миллиардов рублей. Обязательство выполняется. С начала семилетки в народном хозяйстве использовано более 12 миллионов рационализаторских предложений и 15 тысяч изобретений. Это дало уже 7,6 миллиарда рублей экономии. Ощутимый, весомый вклад в строительство коммунизма.
Упомянем об одном нехитром рационализаторском предложении, приносящем народному хозяйству неслыханно громадный эффект. Группа транспортных инженеров занялась переводом железнодорожных вагонов на роликовые и шариковые подшипники. Трение скольжения заменили
трением качения. Был завершен прогрессивный процесс, зародившийся еще в древности, когда колесо заменило санки-волокушу. Но трение скольжения до сих пор еще не было вытеснено полностью на железнодорожном транспорте. Оно действовало в цилиндрической щели между осью и втулкой колеса, пожирая колоссальную энергию. А когда ввели роликовые подшипники, то вагоны, как бы помолодев, с фантастической легкостью покатились по рельсам. Экономия оказалась ошеломляющей, что-то около четверти миллиарда рублей! Мысль рационализаторов движется нынче так легко, словно катится на шарикоподшипниках. И недаром говорят про новаторов: «Чего, чего, а уж шариков у них хватает!»
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ, где автор и читатель вместе перелистывают книги, в которых даются намеки и прямые обещания открыть секреты, как делать изобретения с той же легкостью, как решают математические задачи; в ходе чтения зарождается иллюзия, что уже существует методика изобретательства и — увы! — исчезает, подобно синей птице; глава, напоминающая хрестоматию
12.1.
Когда-то обычные арифметические действия слыли почти искусством, почти волшебством, доступным одним жрецам. Самые обыкновенные правила деления, сохранившиеся на папирусах, излагались столь таинственно, словно заклинания или молитвы, ниспосланные богами. Они передавались шепотом в алтарях от жреца к жрецу, как рецепты питья из волшебных трав, исцеляющих болезни.
Время все изменяет… Из божественных откровений математические правила превратились в предметы школьных занятий.
Большие расчетные работы стали производить силами военных. Когда одному знаменитому оптику понадобилось произвести кое-какие вычисления, правительство выделило ему взвод артиллеристов. Он водил их на штурм своих громоздких формул, как полководец ведет на штурм крепости. Над составлением мореходных таблиц в начале прошлого века трудилось крупное войсковое подразделение. Работы напоминали правильную осаду.
В XVII веке девятнадцатилетний француз Блез Паскаль придумал первый, еще очень неповоротливый и тугодумный «стальной мозг».
Это, может быть, слишком громко сказано. Паскаль придумал машину для сложения и вычитания, прообраз современного арифмометра.
Вот он стоит — арифмометр — под лобастой железной коробкой. Ее воспрещается открывать посторонним. Посторонние заблудятся в чаще осей, рычажков, пружин и зубчатых колес. Они сплетены друг с другом, как ветви дремучего леса. Нужно хорошо знать математику и механику, чтобы уяснить, как работает «стальной мозг».
Всем понятно, как механизируют работу рук и ног. Говорят, что шатуны паровой машины — механизированные руки. Но как механизировать невидимую работу ума? Как механизировать решение самой простой арифметической задачи, скажем, сложение двух чисел:
Не будем сами решать эту задачу, а поручим ее отделению артиллеристов. Как во всяком артиллерийском расчете, разобьем их по номерам и отдадим приказ по отделению:
первому номеру — складывать единицы;
второму номеру — складывать десятки;
третьему номеру — складывать сотни;
четвертому номеру—передавать от первого номера ко второму накопившиеся при сложении единиц десятки;
пятому номеру — передавать от второго номера к третьему накопившиеся при сложении десятков сотни.
Теперь обязанности артиллеристов настолько просты, что их легко механизировать.
Очень просто придумать механизм для сложения единиц. Возьмите обыкновенный наборный диск — вертушку от автоматического телефонного аппарата. Только пусть он будет без пружины и, доведенный до упора, не возвращается обратно. У дырок на диске напишем дополнительно десять цифр — от нуля до девяти. Рядом с диском прикрепим планку с окошком. Когда вертят диск, наши новые цифры одна за другой проходят мимо окошка. Вот вам и счетная машина для сложения единиц. Задавайте ей числа, и она вам будет считать.
Пусть нам нужно сложить 3 и 5. Будем действовать так, будто звоним по телефону № 3. Заведем палец в дырку перед цифрой 3 и прокрутим диск до упора. В окошке выскочит цифра 3. А теперь позвоним по телефону № 5. Снова прокрутим диск до упора и увидим в окошке цифру 8:
3 + 5 = 8.
В окошке получается результат. Такая же вертушка годится для сложения десятков и сотен. Значит, можно взять три такие вертушки и поставить их рядом. А чтобы знать, с чем имеем дело, внизу прикрепить вывески:
Сотни Десятки Единицы
И первым трем артиллеристам скомандовать: «Разойдись!» Они теперь не нужны.
Если складывать числа побольше, например 6 и 7, то в окошке появится 3, а не 13. Это значит, что при сложении накопился десяток и его надо передать в старший разряд. У нас за этим следит четвертый артиллерист. Как только диск единиц делает полный оборот, артиллерист прокручивает диск десятков на одну дырку, и цифра 1 появляется в соседнем окошке.
Перенос десятков тоже легко механизировать.
На одних осях с дисками сидят десятизубые колесики. Колесики сцеплены с десятичной передачей. Десятичная передача — это два колесика, сидящих на одной оси; одно из них десятизубое, другое однозубое. Когда диск единиц делает полный оборот, однозубое колесико поворачивает диск десятков на один зубец — диск десятков поворачивается на одну цифру вперед. Точно так же устроена передача сотен, накопившихся от сложения десятков.
Теперь можно отпустить и остальных артиллеристов. Машина сама будет складывать трехзначные числа.
Зададим только ей условия.
На трех вертушках — единиц, десятков и сотен, как на трех телефонных аппаратах, наберем тройку цифр первого слагаемого: 6, 5, 4. Они сейчас же появятся в окошках. Наберем теперь цифры второго слагаемого: 2, 8, 5, и в окошках появится результат — 939. Выходит, можно машиной решать математические задачи. Она решает простые задачи, но из простого составляется сложное.
Я рассказал о ней, чтобы вы поверили и прочувствовали, что можно построить и давно построены машины для решения умственных задач. Они их щелкают, как орехи.
Работу, происходящую в уме, разделили на отдельные стадии и тогда увидели, что много в них механического и что это механическое можно и впрямь механизировать. Удалось найти механическое даже в таких сугубо творческих делах, как перевод с языка на язык, игра в шахматы. Оказалось, что, разбив процесс на бесчисленное количество стадий, возможно построить машину-переводчика или машину-картежника или машину-шахматиста… Все это известные вещи.
Механизаторы приободрились… Угрожают поэтам, что построят машину, пишущую стихи, и пугают композиторов, что создадут механизм, сочиняющий музыку. Но, конечно, это только угрозы!
Начинает подвергаться анализу и творчество изобретателя.
12.2.
На моей полке несколько книжек, посвященных творчеству изобретателя. Часть из них в потертых старых переплетах, часть в обложках, пахнущих свежей краской. В них исследователи стремятся разбить на стадии сложный ход изобретательского творчества. Они силятся «объять необъятное и уловить неуловимое, т. е. найти закономерность в процессе изобретения, который, по словам других знатоков, насмехается над всякой закономерностью». Поглядев на созидаемое изобретение, как на развивающийся организм, они спрашивают себя: нет ли в этом эмбриологическом процессе таких стадий, которые повторялись бы во всех изобретениях?
Самые различные авторы — философы, инженеры, психологи, изобретатели— приходят к выводу, что такие стадии есть, но по-разному определяют их и по-разному прочерчивают их границы.
Перебираю книжки одну за другой в порядке их издания.
Вот довольно старая книга Рибо «Творческое воображение», изданная еще в 1901 году. Он стремится доказать, что «созидающее воображение механика и художника по своей природе тождественны и отличаются друг от друга только своими целями, способами и условиями проявления».
«Подводя итог количеству воображения, затраченному и воплощенному, с одной стороны, в области художественного творчества, а с другой стороны, в технических и механических изобретениях, мы найдем, что второй итог значительно больше первого!» — восклицает Рибо.
Восклицание, конечно, очень лестное для нас, изобретателей. Но — увы! — стараясь выяснить, что сближает художника и изобретателя, Рибо не пытается исследовать самое важное практически — то, что их различает, то, что служит особенностью работы изобретателя. В этом слабость книги Рибо.
Рассуждая о стадиях изобретательского творчества, Рибо говорит: «Я различаю два общих способа, вариантами которых являются все другие. Во всяком творении, большом и малом, есть направляющая идея, некоторый «идеал», или, проще, подлежащая решению задача. Место идеи или поставленной задачи не одно и то же в обоих процессах. В том, который я называю полным, оно находится в начале, а в том, который я называю сокращенным, оно в середине. Есть также и другие различия, которые можно понять из табличек:
12.3.
Вот известные книжки инженера П. К. Энгельмейера «Пособие начинающим изобретателям» и «Теория творчества», изданные в 1910–1912 годах.
Энгельмейер пытается утверждать, что «три деятеля творчества, то есть желание, знание и умение, составляют нераздельно и неслиянно троицу творчества, а три акта — функции этих деятелей, составляют «трехакт».
Вот оно — либретто этой трехактной пьесы, пересказанное почти так, как его написал сам автор. Это почти цитата, облегченная для чтения литературной правкой.
Первый акт.
Акт интуиции и желания. Происхождение замысла
Изобретение машины или иного технического сооружения предполагает, что условия задачи осознаны. Изобретатель может ошибаться в своей задаче. Бывает, что в течение работы он от нее отказывается. Но техник тем отличается от художника, что он не отдается темной игре настроений. Конечно, если задача очень новая, то изобретатель не знает, куда она его приведет, как Пушкин, принимаясь за «Евгения Онегина», неясно предвидел его конец:
И даль свободного романа Я сквозь магический кристалл Еще неясно различал.Правда, изобретатель стоит перед задачей гораздо более определенной, осязательной. Но для решения ее все же недостаточно быть образованным и видавшим виды техником: без интуиции, догадки желание не оформится в замысел, в цель.
По мере того как изобретатель думает над своей задачей, ему вдруг приходит в голову, что такой-то путь поведет к ее решению. Это «вдруг»
здесь настолько характерно, что оно-то и оправдывает представление о «наитии», об «откровении», без которого не обходится истинное творчество и которое коренным образом отличает творчество от логического умозаключения.
Но что дает это наитие, этот первый проблеск? Бывают случаи, что он дает настоящее и окончательное решение. Но это случаи исключительные. При первом проблеске идеи еще нельзя сказать, что она будет основой изобретения. Это чаще всего предположение или ясно выраженное желание, это только замысел. А то обстоятельство, что обыкновенно изобретатель с места в карьер влюбляется в свою идею и считает ее за решение своей задачи, это обстоятельство очень важно для изобретателя, так как только благодаря этой любви и преданности своей идее он и посвятит ей все силы. Но для нас, со стороны анализирующих душу изобретателя, это обстоятельство неважно. Вера изобретателя в свою идею еще не делает ее реальной.
Итак, в результате первого акта получается замысел, то есть предположительная идея будущего произведения. Она покуда говорит только то, чего изобретателю хочется, но не то, чего он достигнет на самом деле.
Второй акт.
Акт знания и рассуждения. Выработка схемы или плана
Теперь изобретатель знает ясно, чего хочет. Надо теперь испытать, что он может. Всякое мечтание и гадание кончилось, пора приступать к трезвому рассуждению на почве знания того, что в данной области выработано, что оправдалось и что откинуто.
Механизм второго акта состоит в производстве опытов как в мыслях, так и на деле. Всякое мышление можно истолковать как экспериментирование над мысленными отражениями фактов. Раз область хорошо известна, раз мысленные отражения верно передают факты, раз те следствия, которые из этих отражений выводятся по законам логики, сходятся с фактическими следствиями явлений, то умозаключение и расчет доведут до цели. Если же область недостаточно разработана, то приходится руками делать опыты, строить модели, производить лабораторные изыскания.
Во втором акте вступает в права и логика. Это, конечно, не значит, будто в первом акте логика настолько устранена, что там возможно всякое сумасбродство и что логика во втором акте обязана выработать разумный план из всякого вздорного замысла. Но формальная логика бессильна сделать первый шаг изобретения, который мы называем первым актом. И в то же время необходима для того, чтобы интуитивный замысел превратить в принципиальную схему.
Второй акт заключается в выработке изобретения как логического представления. Тут определяются все существенно необходимые и достаточные части изобретения. А потому и самое произведение выясняется: обозначаются все его признаки, то есть то, что составляет его новизну.
В результате второго акта получается принципиальная схема изобретения.
Третий акт.
Акт умения. Конструктивное выполнение изобретения
Теперь задача такая: конструктивно выполнить схему, осуществить замысел. Теперь к замыслу прилаживаются не мысли, а факты, поэтому здесь уже начинается борьба с материей, и весь успех дела зависит от профессиональной находчивости и умения.
Но мы сделаем большую ошибку, если подумаем, что раз есть схема изобретения, то вещественное выполнение придет само собой. Нет, здесь необходимо учесть и выполнить все условия, все требования практики. Необходимо озаботиться, чтобы соблюсти экономию как в материале, так и в работе по выделке, но притом так, чтобы каждая часть имела надлежащую прочность, чтобы уход, осмотр и смена частей были удобны, чтобы соблюдено было внешнее соответствие частей, известный «стиль». Условий, как видно, очень много, больше, пожалуй, чем в предыдущих актах, и третий акт был бы самым трудным, если бы работы предшественников не сделали из него самого легкого акта. Ведь не следует забывать, что на помощь конструктору идет все, что дано прежними изобретателями, что выработано практикой, что проверено долгим опытом и освящено обычаем.
Изобретатель в третьем акте уступает место мастеровому. Положим, инженер выработал проект деревянного моста, поразительный по новизне и целесообразности конструкции. И вот, если при постройке моста он будет спорить с плотником, то будет плохо. Напротив того, для успеха дела он должен растолковать плотнику общую конструкцию, но предоставить ему полную свободу в вязке деревянных частей. Энгельмейер вспоминает, как на Всероссийской выставке 1882 года появилась впервые машина, делавшая папиросы. Механизм был, правда, в высшей степени интересен, но для практики машина была непригодна, и это не потому, что материалы были употреблены неподходящие или выделка частей была небрежная. Наоборот, была употреблена лучшая сталь, и каждая часть блестела отделкой. Но изобретатель, видимо, лепил машину из частей и каждую часть изобретал, вместо того чтобы брать из готовых типов.
Только тогда, когда окончен третий акт, можно с полным правом говорить, что изобретение на самом деле сделано.
Характеристика трех актов
Первый акт начинается с интуитивного проблеска новой идеи и заканчивается уяснением ее самим изобретателем. Пока налицо лишь предположительная идея, вероятный принцип изобретения. Второй акт вырабатывает полный и выполнимый план или схему, где налицо все необходимое и достаточное. При механическом изобретении изготовляется часто модель, при химическом — образец продукта, при технологическом — его лабораторная схема. Для человеческого понимания изобретение готово: дальнейшее выполнение его уже не требует творческой изобретательской работы, а может быть поручено всякому опытному специалисту. В такой ремесленной работе и состоит третий акт.
Покуда от изобретения имеется только идея (первый акт), изобретения еще нет: вместе со схемой (второй акт) изобретение дается, как представление, а третий акт обеспечивает ему реальное существование. В первом акте изобретение предлагается, во втором доказывается, в третьем осуществляется. В конце первого акта это — предположение; в конце второго — представление; в конце третьего — явление. Первый акт определяет его интуитивно, второй — логически, третий — фактически. Первый акт дает замысел, второй — план, третий — поступок.
Таков предлагаемый инженером П. К. Энгельмейером, общий план работы над изобретением, на который ссылаются многие авторы последующих книг.
Кто читал книжки Энгельмейера, тот заметил, конечно, что есть в них ценные фактические наблюдения и обобщения, некоторые верные мысли, но еще больше идеалистической чепухи, того самого махизма, с которым боролся Ленин. Энгельмейер как философ был правоверным махистом. Это удостоверяется предисловием к книжке «Теория творчества», которое предпослал ей сам Эрнст Мах.
12.4.
Вот книга Россмана «Психология изобретателя», изданная в США в 1931 году. Она написана с учетом ответов на большую анкету, предложенную десяткам американских изобретателей. Россман делит творческий процесс изобретателя на семь стадий:
1. Усмотрение потребности или какой-то трудности.
2. Анализ потребности.
3. Просмотр доступной информации.
4. Формулировка всех объективных решений.
5. Критический анализ этих решений с точки зрения их достоинства и недостатков.
6. Рождение новой идеи — изобретение.
7. Экспериментирование для подтверждения наиболее обобщающего решения, отбор и усовершенствование конечного воплощения.
Классификация Россмана прозрачно ясна. Тут нигде не мелькают туманные словечки вроде «бессознательных состояний», «вдохновенья» и пр. Но уж очень суха и заурядна эта схема. Она слишком уж походит на развернутый вопросник при решении контрольной задачки по арифметике.
Если Россман прав, то становится непонятным, почему большие изобретения не рождаются за школьной партой. На всей книге Россмана лежит печать бизнесменской деляческой философии, называемой прагматизмом.
Интересную книгу выпустил в 1934 году советский психолог П. М. Якобсон. Она называется «Творческий процесс изобретателя». Автор опирался на большую анкету из 90 вопросов, предложенную видным советским изобретателям— А. Н. Туполеву, Ф. И. Казанцеву, А. И. Казарновскому, С. С. Вальднеру и другим, и к тому же привлек фактический материал из книги Россмана. У него получилось деление на такие стадии:
1. Период интеллектуально-творческой готовности.
2. Усмотрение потребности.
3. Зарождение идеи — формулировка задачи.
4. Стадия поисков решения.
5. Получение принципа изобретения.
6. Превращение принципа в схему.
7. Стадия технического оформления и развертывания изобретения (чертежи, модели, расчеты, проверка и т. д.).
В схеме П. М. Якобсона не содержится столь грубых упрощений, как в схеме Россмана. Но если бы автор переиздавал свою книгу сегодня, почти тридцать лет спустя, то, наверное, подправил свою схему. Например, обязательно включил бы такую стадию, как «Просмотр доступной информации», учитывая рост могущества службы технической информации за последние годы.
Дело не только в том, что за это время выросла психологическая наука, но и в том, что дальнейшее развитие получило общественное устройство. Признаюсь, мне не верится, что можно создать схему технического творчества, одинаково пригодную для всех времен и всех общественных формаций.
Первобытный каменотес, вероятно, иными путями движется к своему томагавку, чем современный математик и логик к электронно-счетной машине. Изобретатель-бизнесмен, пекущий изобретения, как блины, бойко шлепая их на лотки капиталистической толкучки, вероятно, по-иному творит, чем советский изобретатель в социалистическом обществе, вдохновляемый высокими дальними планами коммунистического строительства.
В разнообразных классификациях стадий изобретательского творчества сквозят, как мне кажется, не только различные философские системы, но и разные «типы ума» изобретателей разных времен и разных общественных формаций. Тем не менее попытки классификации — это дело нужное, прогрессивное, оно дисциплинирует творческую мысль, заставляет задуматься над ее путями, позволяет лучше выбрать наиболее пригодные для себя планы творческой работы.
В годы культа личности разработка обобщенных проблем изобретательского творчества находилась в небрежении. Прекратило работу Всесоюзное общество изобретателей, где велись горячие дискуссии по этой части. Перестал выходить полезнейший журнал «Изобретатель». Многие авторы книг по вопросам изобретательского творчества чувствовали себя неуютно.
Сейчас Всесоюзное общество изобретателей расширяет свою деятельность, горячо и живо работает Государственный комитет по изобретениям и открытиям, с каждым номером становится содержательнее журнал «Изобретатель и рационализатор». Начинают выходить занимательные и смелые книжки, пытающиеся учить изобретательскому творчеству.
Среди них особенно интересна и серьезна книга Н. Середы, выпущенная в 1961 году в Риге под скромным названием «Рабочий-изобретатель». Это конспект лекций по изобретательскому творчеству, читанных автором в столице Латвии. Как замечательно, что есть такой университет, где изобретатели получают нужные им знания! Как приятно, что преподавание в нем ведется так оригинально, на таком высоком уровне!
Книга Н. Середы, конечно, не решает всех задач, но ценна тем, что предостерегает от вульгаризации и упрощенчества. Классификация стадий изобретательского творчества представляется автору более сложной, чем всем писавшим до него. Он пытается спорить с теми, кто изображает творческий процесс изобретателя как прямое неуклонное восхождение по ступенькам стадий. Он рисует более гибкую систему с возвращениями к пройденному; в его схеме как бы пульсируют многочисленные линии «обратных связей». Мы не будем пересказывать содержательные рассуждения автора. Его книга конспективная, и составить ее конспект означало бы переписать всю книгу. Но, однако, мы не можем отказать себе в удовольствии привести как иллюстрацию заключительную схему, подытоживающую выводы лекций Н. Середы. Мы печатаем ее здесь с тайной надеждой, что читатель заинтересуется, прочитает книгу сам, согласится или поспорит с нею. И что автор, идя навстречу интересу читателя, развернет поподробнее свой конспект, подкрепит его конкретными примерами из истории техники, творческой практики сегодняшнего дня.
О других современных книжках, посвященных изобретательскому творчеству, мы расскажем ниже.
Все это опыты, но опыты, совершенно необходимые. Они ценны своими достижениями и даже своими ошибками потому, что разжигают полемику вокруг самых благородных областей человеческой деятельности. Ей-богу, даже самая никудышная книжка здесь полезней и заслуживает большей поддержки, чем стишок, разъясняющий вкус вина, или целый лирический цикл, агитирующий девиц на необдуманные поступки. Ну, а если книжка хорошая, способная увлечь воображение, ей цены нет!
12.5.
В 1961 году одновременно в Москве и Тамбове вышли две очень похожие книжки бакинских авторов — Рафаила Бахтамова «Изгнание шестикрылого серафима» и Г. Альтшуллера «Как научиться изобретать», где содержится попытка проанализировать изобретательское творчество. Признаюсь, что обе книжки особенно симпатичны мне потому, что по форме и материалу кое в чем повторяют мою книжку «Секрет изобретателя», изданную в 1946 году. Но есть в них и достопримечательное, свое.
В «Секрете изобретателя», как и в этой более толстой книге, которую вы читаете, я старался показать, что изобретения бывает полезно иногда группировать не только по техническому и научному принципу, заложенному в их основе, но по логике их возникновения, по «мыслительным фигурам», создавшим и роднящим, казалось бы, самые непохожие изобретения. Это как бы обобщенные «типовые» пути, ведущие к техническим выдумкам. Не следует уподоблять их азбуке, из которой каждый младенец может составить слово, или даже фигурам классической хореографии, из которых нижет свой танец балерина. Скорее это фехтовальные фигуры мысли, ее просверки, повторяющиеся в вечно новом бою.
Мы группировали изобретения по нескольким принципам: «изобретения напрямик», то есть идеи, возникшие из прямого теоретического или опытного исследования; «изобретения со стороны», то есть идеи, возникшие путем перенесения из соседних областей науки и техники; «изобретения из прошлого», то есть идеи, возникшие путем возвращения на высшей ступени забытого изобретения; «изобретения-оборотни», то есть идеи, возникшие путем раскрытия противоположностей в самой машине. Мы показывали рождение полезного из «вредных явлений», рождения новых качеств при разделении частей машин и т. д. и т. п. Получилась как бы коллекция приемов, помогающая решать изобретательские задачи.
Книги Р. Бахтамова и Г. Альтшуллера иллюстрируют подобные приемы хорошими примерами из изобретательской практики и находчиво формулируют новые приемы. Повторяю, что книги эти похожи, но отличаются оттенками изложения, а иногда и характером примеров. Поэтому, составляя этот маленький реферат, я буду стараться цитировать обоих авторов.
«Чтобы сделать изобретение, — справедливо подмечает Р. Бахтамов, — иногда достаточно изменить среду, в которой работает машина».
И подтверждает вывод свежими убедительными примерами.
Яркий пример дает изобретение талантливого бакинского изобретателя Д. Кабанова, придумавшего ловушку для сбора нефти, растекшейся в море.
Задача, которую предстояло решить Д. Кабанову, формулировалась так: «Разработать устройство для сбора нефти, плавающей на водной поверхности». «Водная поверхность» — участок моря, площадью в сотни квадратных километров. Слой воды достигает десятков метров. «Нефть» — тонкая пленка, толщиной в миллиметры. «Устройство» должно быть простым и надежным.
«Ясно, — рассказывает Р. Бахтамов, — что лучше всего, чтобы нефть сама отрывалась от воды и собиралась в каком-нибудь резервуаре.
Что же ей мешает? Нетрудно понять. Нефть, как и всякое тело, имеет вес. Он-то и мешает ей подняться.
Почему? Нефть — легкая жидкость, и в воде она плавает. Но снаружи ее окружает воздушная среда, а воздух, как известно, гораздо легче и воды и нефти.
Теперь мы можем представить себе, при каких условиях нам удалось бы достичь идеального результата — отделить нефть от воды. Для этого нужно, чтобы над нефтью был не воздух, а жидкость, более тяжелая, чем нефть.
На первый взгляд кажется, что логика привела нас к абсурду. В самом деле, не можем же мы изменить состав земной атмосферы? И не просто изменить, а заменить обычную атмосферу жидкостью.
Но ведь и нет надобности заменять всю атмосферу. Достаточно сделать это в небольшом объеме.
Бачок для сбора нефти установлен на двух поплавках. От бачка отходит трубка, которая погружена в плавающую на воде нефть. В бачок заливается вода. Да, самая обыкновенная вода, хотя бы морская. Когда бак наполнен, его закрывают — теперь атмосферный воздух попасть в бак уже не сможет.
Откроем задвижку на трубке. Что произойдет? Если вы решили, что вода просто вытечет из бачка, то подумайте еще раз. Физические явления, с которыми мы здесь сталкиваемся, просты и знакомы каждому школьнику, а вот неожиданное использование их в нефтеловушке привело инженера Кабанова к замечательному изобретению.
Итак, мы открыли задвижку. Но вода из бачка не течет. Почему? Потому что иначе в бачке создалось бы разрежение, вакуум, ведь атмосферный воздух туда не поступает.
Так поведет себя вода. А нефть? Нефть, как известно, легче воды. Когда мы открыли кран, она оказалась как бы на дне водяного «колодца». Понятно, что нефть стремится всплыть. И, по мере того, как она начнет заполнять бачок, из него будет уходить вода…
Ну хорошо, скажет читатель, пусть нефть и поднимется в бачок. Но ведь ловушке придется пройти сотни километров, прежде чем она охватит всю площадь.
В том-то и дело, что нет! Нефть на поверхности воды образует сплошной слой одинаковой толщины. Если вы в каком-то месте прорвете этот слой, «рана» сейчас же затянется. Нефть из окружающих участков сразу же поспешит заполнить свободное пространство. Таким образом, ловушка может стоять на месте: нефть отовсюду будет стекаться к «воронке», толщина пленки на всей поверхности будет постепенно уменьшаться.
Практически более выгодно, чтобы ловушка медленно двигалась по бухте. Так сбор нефти идет гораздо скорее.
Когда бачок, укрепленный на поплавках, заполнен нефтью, задвижку закрывают и нефть перекачивают в другой резервуар (он может находиться и на берегу и на периодически подходящем к ловушке судне). Затем снова закачивают в бачок воду, и все начинается сначала-
Как видите, отделять нефть от воды нет надобности, она это делает сама, без всяких усилий с нашей стороны».
А вот несколько удачных примеров из книжки Г. Альтшуллера.
Недостатки — это потенциальные достоинства. «На первый взгляд это правило кажется парадоксальным», — замечает автор.
Но приводит удачные примеры его применения. Вот один из них.
«В конце прошлого века шведский изобретатель Лаваль, работая над усовершенствованием паровой турбины, столкнулся с почти непреодолимым затруднением. Ротор турбины делал тридцать тысяч оборотов в минуту. При такой скорости вращения необходимо очень точно уравновесить ротор, а этого Лавалю как раз и не удавалось добиться. Изобретатель увеличивал диаметр вала, делал вал все более жестким, но каждый раз при опытах машина начинала дрожать, и вал деформировался.
В конце концов поняв, что увеличивать жесткость вала далее невозможно, Лаваль решил проверить прямо противоположный путь. Массивный деревянный диск был насажен на… камышовый стебель. И вдруг оказалось, что податливый, гибкий вал при вращении уравновешивается сам собой! Лаваль отметил в записной книжке: «Опыт с камышом удался…»
«Пусть случится» — это простое правило помогает решать многие задачи. Вспомните хотя бы задачу о транспортировке толстолистовой стали.
Трудность состояла в том, чтобы достаточно простыми средствами предотвратить падение транспортируемого листа. Применим принцип «пусть случится». Допустим, лист уже упал. И что же? Разве нельзя транспортировать его именно в этом положении?.. Зачем листы поднимать, а потом опускать? Пусть все время движутся по земле — и они никогда не упадут».
Остроумные, верные наблюдения!
Минус на минус дает плюс. «Иногда «отрицательный эффект» очень трудно, почти невозможно устранить. В таких случаях полезно действовать по принципу «минус на минус дает плюс»: не стремиться к устранению «отрицательного эффекта», а просто компенсировать его другим эффектом, тоже «отрицательным», но противоположным по действию», — пишет Г. Альтшуллер.
«Вот типичный пример.
С уменьшением содержания воды в бетонной смеси возрастает прочность готового бетона. Однако если содержание воды в бетоне низко, возникают затруднения в укладке бетона и в получении гладкой поверхности бетонного элемента. Таким образом, налицо типичное техническое противоречие: выигрывая в одном, мы неизбежно должны проиграть в другом.
Что же предложили изобретатели? Они сказали: не нужно уменьшать содержание воды в приготовляемом бетоне. Наоборот, бетон нужно готовить с избытком воды. А уже затем, после затворения, избыточную воду следует отсасывать с поверхности бетона посредством вакуумирования».
Впрочем, полезное правило «минус на минус дает плюс» подкрепляется здесь не самыми яркими примерами. Многие выразительные примеры дает, по-видимому, история изобретения телескопов.
Об одном наиболее веском примере рассказывает сам Галилей. Находясь в Венеции, он услышал, что какой-то голландец преподнес Морису Нассаускому трубку, которая позволяет ясно видеть далекие предметы, словно были они приближены. Галилей стал додумываться, как мог быть устроен этот волшебный снаряд и, не зная никаких подробностей, догадался:
«Вот, — говорит он, — какое было мое рассуждение. В устройство снаряда должны входить стекла, одно или многие. Одного быть не может. Стекло может быть или выпуклое, то есть более толстое в середине, или вогнутое, то есть более тонкое в середине, или, наконец, с параллельными поверхностями. Стекло последней формы не уменьшает и не увеличивает видимых предметов; вогнутое их уменьшает, выпуклое увеличивает, но кажется смутным и неясным. Значит, одно стекло действия произвести не может; переходя к сочетанию двух стекол и зная, что стекла с параллельными поверхностями ничего не изменяют, я заключил, что от соединения его с тем или другим из остальных родов стекол также нельзя ждать действия. Потому я сосредоточил опыты на том, чтобы исследовать, что произойдет от соединения этих двух стекол, то есть выпуклого и вогнутого, и достиг результата, которого искал».
Стекло вогнутое — ясно, но уменьшает — плохо! Стекло выпуклое увеличивает, но смутно и неясно — тоже плохо! Сочетаем их вместе — получается хорошо! Минус на минус дает плюс.
12.6.
Самим названием книжки «Изгнание шестикрылого серафима» Рафаил Бахтамов вступает в спор с гениальным пушкинским стихотворением «Пророк»:
Духовной жаждою томим, В пустыне мрачной я влачился, И шестикрылый серафим На перепутье мне явился; Перстами легкими, как сон, Моих зениц коснулся он, Отверзлись вещие зеницы, Как у испуганной орлицы.Две стороны обложки книги заняты забавными карикатурами на пушкинское стихотворение. На лицевой стороне изображен шестикрылый серафим, улепетывающий с небес и теряющий перышки на лету. На последней странице нарисован серафим изгнанный. Он почесывает лысину, сидя на грешной земле, и перышки спиралями опускаются на его посрамленные седины.
Что заставило автора ополчиться на пушкинский классический образ — этот символ вдохновенья, озаряющего творца на перепутье трудных дорог? В чем та сила, которая повергла шестикрылого серафима в столь плачевное состояние?
Автор отвечает — сила в методике, созданной бакинским инженером Г. С. Альтшуллером, позволяющей делать изобретения без каких-нибудь там «вдохновений» и «мифических озарений».
В книге Г. Альтшуллера «Как научиться изобретать» в менее яркой литературной форме, но зато гораздо более последовательно излагается та же методика. «Перед читателем, — заявляет автор, — книга, впервые систематически излагающая основы методики изобретательства».
Деловой рассказ авторы щедро оживляют событиями собственных биографий, и это полезно, потому что позволяет, как мы увидим дальше, лучше сопоставить сильные и слабые стороны методики.
Р. Бахтамов выразительно описывает трудный творческий рост Г. Альтшуллера как изобретателя.
«Идут недели, месяцы, годы, — свидетельствует Р. Бахтамов. — Почта уносит в Москву объемистые пакеты с описаниями предложений. В ответ приходят тонкие письма. Причины различны: отсутствие новизны, полезности, технической прогрессивности. Но вывод один: «Предложение не может быть признано изобретением».
Маленькая справка. Годы 1944–1947. Число изобретательских предложений, поданных Альтшуллером, — 36. Количество полученных авторских свидетельств — ни одного. Не правда ли, есть над чем задуматься?»
Задумаемся над этим счетом. Поинтересуемся, какова средняя удачливость изобретателей, присылающих в Комитет по делам изобретений и открытий свои предложения, заявки. В своей книге Г. С. Альтшуллер приводит такую статистику: «Сейчас лишь одна заявка из пяти признается изобретением».
Добродушно пользуясь футбольными терминами, можно сказать, что среднему советскому изобретателю приходится пять раз ударить ногой по мячу, чтобы забить гол в ворота патентного бюро. Для той же цели Г. С. Альтшуллеру нужно было пробить тридцать шесть ударов. На фоне этих средних показателей даже самый оптимистический тренер не признал бы в таком игроке каких-то исключительных, врожденных способностей к футболу.
Но Р. Бахтамов, по-видимому, ошибся и привел неполный счет. Сам Г. Альтшуллер в своей книге дает еще более скромную справку: «…прошло много лет, прежде чем мне выдали второе авторское свидетельство! За эти годы я отправил 103 заявки на изобретения. И получил 103 отказа». Таким образом, на самом деле Г. Альтшуллеру потребовалось не тридцать шесть, а сто три удара, чтобы повторить гол!
Биография Г. С. Альтшуллера, ставшая литературным фактом, показывает, что скорее упорство и настойчивость, а не изобретательность были главными врожденными чертами характера бакинского изобретателя.
— Три года неудач — это немало, — продолжает рассказывать Бахтамов. — Но и не слишком много, если учесть, что в конце 1947 года Альтшуллер все-таки сделал два изобретения. Одно из них было обычным — на него выдано второе по счету авторское свидетельство. На другое не выдано никаких свидетельств, но именно оно было основным. Генрих Саулович Альтшуллер понял, что в XX веке нельзя изобретать стихийно, что искусству изобретать нужно и должно учиться».
Г. С. Альтшуллер разработал методику изобретательского творчества, о которой дальше пойдет речь. И сейчас же счастье повернулось к нему. Он стал получать авторские свидетельства. Преображение волшебное, в свете биографических подробностей, которые сообщает о себе автор. И Г. С. Альтшуллер начал «забивать голы»! Этот факт может показаться наиболее весомым, наиболее удивительным доказательством действенности его системы. Он ложится на чашку весов, говорящую в пользу методики.
Вот как рисует это преображение Р. Бахтамов.
«На письменном столе медленно, но верно растет стопка авторских свидетельств. Отказы становятся редкостью, почти каждое предложение признается изобретением. Но Альтшуллеру кажется, что всего этого еще недостаточно, что нужно какое-то особое бесспорное доказательство».
Р. Бахтамов увлекательно рассказывает об этом «бесспорном доказательстве» в главке под заглавием «Когда в зале поднялся шум».
«На совещание в Министерстве строительства Азербайджана инженер Генрих Саулович Альтшуллер попал случайно. Совещание было посвящено широкому применению предварительно напряженного железобетона. Альтшуллер хотя и работал в министерстве, но никакого отношения к бетону не имел, он занимался машинами.
Впрочем, и для неспециалиста проблема была интересной. Бетон, один из лучших строительных материалов современности, плохо работает на растяжение. И даже не просто плохо — чрезвычайно, исключительно плохо, в пятнадцать раз хуже, чем на сжатие. А это значит, что бетон не имеет смысла использовать в конструкциях, которые подвергаются во время работы не только сжимающим, но и растягивающим усилиям.
На практике большинство конструкций работает в условиях растяжения. Как же быть? Отказаться от бетона? Нет, в таких случаях вместо «простого» бетона применяют «составной» — железобетон. В принципе он должен работать так: бетон будет воспринимать напряжения сжатия, стальная арматура — усилия растяжения. В действительности получается несколько иначе: стальная арматура могла бы еще растягиваться и растягиваться, но усилия распространяются на бетон. В нем возникают предательские трещины — предвестники разрушения…
Для борьбы с этим злом инженеры пошли дальше — в последние десятилетия начал применяться предварительно напряженный железобетон. Идея предварительного напряжения проста. Стальную арматуру вначале растягивают и удерживают в этом положении с помощью специальных зажимов. Когда зажимы отпускают, арматура укорачивается и сжимает бетон.
Если такое изделие подвергнуть потом растяжению, то растягивающим усилиям придется сначала привести бетон из сжатого состояния в нормальное, и только после этого бетон начнет испытывать растяжение.
Предварительно напряженные конструкции легки, экономичны, долговечны. И, конечно, они получили бы самое широкое распространение в строительстве, но…
Да, и здесь есть свое «но». Это «но» — в сложности изготовления. Чтобы растянуть металлическую арматуру, нужны огромные усилия. Простые механические домкраты не подходят — они маломощны. А гидравлический домкрат, рабочее давление в котором достигает 300 и даже 500 атмосфер, это целое сооружение.
Однако вернемся к совещанию. Обо всем, что мы рассказали, докладчик упомянул мельком, в нескольких словах, — участникам совещания это было известно.
— В последнее время, — продолжал докладчик, — начал применяться новый способ натяжения арматуры — электротермический. Состоит он в том, что через металлическую арматуру пропускают ток. При этом металл нагревается и удлиняется. В таком состоянии его укладывают в форму и закрепляют зажимами. После бетонирования, когда зажимы снимают, арматура охлаждается и, укорачиваясь, напрягает бетон. Кажется, просто?
Докладчик оглядел присутствующих. Все молчали.
— В предварительно напряженных конструкциях, — продолжал он, — выгодно применять высокопрочную проволоку. Но для ее натяжения нужна температура в 200 градусов Цельсия. А при такой температуре изменяется микроструктура стали, ее прочность катастрофически падает. Для нас, строителей, решение проблемы имело бы огромное значение. К сожалению, вряд ли это возможно: с одной стороны, проволоку нужно нагревать до 700 градусов, с другой — нагревать ее до этой температуры нельзя. Получается противоречие, которое, увы, неразрешимо…
— Неразрешимых противоречий нет, — послышался голос из зала.
— Вы убеждены в этом, товарищ Альтшуллер? — спросил докладчик. — А знаете ли вы…
Да, Альтшуллеру приходилось слышать: эту задачу не могли решить четверть века. Над ней работали инженеры во многих странах. Были поставлены сотни, тысячи опытов. Было написано множество статей, научных отчетов. Стало ясно: проволоку можно нагревать до 300, кратковременно — даже до 450 градусов. А нужно 700…
— Вы опытный изобретатель, — улыбаясь, заметил докладчик. — Почему бы вам не попытаться устранить это противоречие?
Изобретатель не собирался заниматься проблемой железобетона. Но раз уж так получилось, выхода не было.
— Хорошо, — сказал он. — Я согласен.
— И когда вы надеетесь отыскать решение?
— Хоть сейчас.
В зале поднялся шум. Казалось невероятным, чтобы человек, не являющийся специалистом по железобетону, мог взять на себя смелость заявить, что он берется решить одну из сложнейших технических задач.
Но смелость изобретателя имела свои причины. Смелость была выстрадана долгими годами неудач, сомнений и поисков».
Сам Р. Бахтамов на совещании, по-видимому, не был и поэтому счел необходимым перепроверить факты в личной беседе с Г. С. Альтшуллером. Вот запись беседы.
«Из окон многоэтажного здания Дома правительства открывается чудесный вид на море, на бакинскую бухту. В комнате тихо, рабочий день кончился. Мы уже обо всем переговорили, и только теперь я решаюсь задать давно волнующий меня вопрос.
— Простите, но говорят, что электродомкрат вы изобрели прямо на совещании… за каких-нибудь десять минут.
— Это не совсем так. Работать над конструкцией мне пришлось потом довольно долго.
— Но все-таки десять минут?!
— Да, десять минут совещания и еще… — Он задумался. — И еще… пятнадцать лет подготовки. Если сложить, получится не так уж мало Не правда ли?»
12.7.
В своей книжке «Как научиться изобретать» Г. С. Альтшуллер сообщает несколько иную версию рождения электродомкрата, излагая на этом материале свою методику изобретательства.
Следует интересная подборка цитат, рассказывающих о противоречиях, возникающих в различных областях техники.
«Анализируя развитие мельниц, Маркс писал в «Капитале»: «Увеличение размеров рабочей машины и количества ее одновременно действующих орудий требует более крупного двигательного механизма… Уже в XVIII веке была сделана попытка приводить в движение два бегуна и два же постава посредством одного водяного колеса. Но увеличение размеров передаточного механизма вступило в конфликт с недостаточной силой воды…»
В кораблестроении: «Необходимость обеспечения мореходных качеств ставит условия противоположные: так, например, чтобы корабль не был валок или, говоря морским языком, был бы «остойчив», выгодно его делать пошире, а чтобы он был «ходок», очевидно, что его надо делать подлиннее и поуже — требования противоположные» (академик А. Крылов).
В горной технике: «Увеличение размеров сечения и глубины шахт встало в противоречие с растущим давлением горных пород. Это противоречие разрешалось переходом от квадратного сечения к круглому с заменой деревянного крепления стволов каменным» (профессор А. Зворыкин).
В теплотехнике: «Весьма существенное значение имеет вес затрачиваемого на построение котельного агрегата металла на единицу производительности. В некоторой мере стремление к уменьшению этого веса (экономия металла) и стремление к увеличению к. п. д. (экономия топлива) противоречат друг другу. Разрешение этого противоречия является одним из важнейших факторов прогрессивного развития котельной техники» («Общая теплотехника», 1952).
В синтетических материалах: «Пленка, заменяющая кожу или ткань в одежде, обязана «дышать», пропускать воздух и пары воды, задерживая воду. Для этого она должна иметь мельчайшие поры… Увеличение же пористости снижает прочность пленки» (академик П. Ребиндер).
В оптике: «Фотографическими объективами пользуется громадное число фотографов-любителей и немалое число специалистов самых разнообразных профессий. Не удивительно, что этим объективам предъявляются особо строгие и часто противоречивые требования, например требования большой светосилы, значительного угла поля зрения и к тому же высокой разрешающей способности. При этом, кстати, желают, чтобы конструкция их была простой, легкой, без световых потерь. Конечно, все эти условия несовместимы, и хороши только специализированные объективы» (профессор Г. Слюсарев).
В ядерной технике: «Вес магнита, размеры ускорителя, его стоимость уже достигли практического потолка. Поскольку радиус магнита определяется максимально достижимым магнитным полем, постольку все усилия изобретателей были направлены на уменьшение ширины кольцевой магнитной дорожки, доступной для движения частиц.
Чем уже дорожка, тем легче и дешевле магнит, но тем большее количество частиц будет потеряно» (доктор физико-математических наук М. С. Рабинович).
В сельскохозяйственном машиностроении: «…ученые и инженеры работали над способами увеличения скорости трактора. Вначале пробовали просто изменить передаточное число трансмиссии трактора. Это немедленно вызывало увеличение затрат энергии на передвижение, уменьшало тяговое усилие трактора, снижало коэффициент полезного действия. С другой стороны, увеличивалось тяговое сопротивление прицепных орудий. При таком способе повышения рабочей скорости движения приходилось снижать ширину захвата орудий, и производительность машин не увеличивалась, а, наоборот, снижалась» (академик В. Болтинский).
«Самолет представляет собой такое сооружение, в котором непримиримо борются два начала: прочность и вес. Машину необходимо сделать прочной и легкой, а прочность и легкость все время воюют между собой», — пишет в своей книге «Рассказы авиаконструктора» А. Яковлев.
«Подавляющее большинство изобретений, — говорит автор, — результат преодоления технических противоречий. И это понятно: если бы противоречий не возникало, если бы развитие техники шло ровно и гладко, не было бы самого слова «изобретение». Автор к месту применяет известное положение о том, что противоречия — это движущая сила всякого развития, в том числе и развития техники. Изобретатель — это человек, умеющий разрешать технические противоречия.
Творческий процесс разделяется автором на три стадии:
1. Аналитическая. Выбор задачи и определение технического противоречия, которое мешает ее решению обычными, уже известными путями.
2. Оперативная. Устранение причины противоречия путем внесения изменений в одну из частей машины (или в одну из фаз процесса).
3. Синтетическая. Приведение других частей усовершенствуемой машины (или фазы процесса) в соответствии с измененной частью.
В свою очередь каждая стадия разделяется на более мелкие этапы и шаги.
В аналитической стадии пять этапов:
1. Постановка задачи.
2. Воображение идеального конечного результата.
3. Определение того, что мешает достижению этого результата (отыскание противоречия).
4. Определение, почему мешает (отыскание причины противоречия).
5. Определение, при каких условиях не мешало бы (отыскание условий, при которых противоречие снимается).
В оперативной стадии шагов множество. Они сведены автором в обширную таблицу.
«Первый шаг. Проверка возможных изменений в самом объекте (то есть данной машине, данном технологическом процессе).
1. Изменение размеров.
2. Изменение формы.
3. Изменение материала.
4. Изменение температуры.
5. Изменение давления.
6. Изменение скорости.
7. Изменение окраски.
8. Изменение взаимного расположения частей.
9. Изменение режима работы частей с целью максимальной их нагрузки.
Второй шаг. Проверка возможности разделения объекта на независимые части.
1. Выделение «слабой» части.
2. Выделение «необходимой и достаточной» части.
3. Разделение объекта на одинаковые части.
4. Разделение объекта на разные по функциям части.
Третий шаг. Проверка возможных изменений во внешней (для данного объекта) среде.
1. Изменение параметров среды.
2. Замена среды.
3. Разделение среды на несколько частичных сред.
4. Использование внешней среды для выполнения полезных функций.
Четвертый шаг. Проверка возможных изменений в соседних (то есть
работающих совместно с данным) объектах.
1. Установление взаимосвязи между ранее независимыми объектами, участвующими в выполнении одной работы.
2. Устранение одного объекта за счет передачи его функций другому объекту.
3. Увеличение числа объектов, одновременно действующих на ограниченной площади, за счет использования свободной обратной стороны этой площади.
Пятый шаг. Исследование прообразов из других отраслей техники (поставить вопрос: как данное противоречие устраняется в других отраслях техники?).
Шестой шаг. Исследование прообразов в природе (поставить вопрос: как данное противоречие устраняется в природе?)
Седьмой шаг. Возвращение (в случае непригодности всех рассмотренных приемов) к исходной задаче и расширение ее условий, то есть переход к другой, более общей задаче».
Я не принадлежу к иронически настроенным скептикам, считающим, что подобные таблицы столь же необходимы толковому изобретателю, как шпаргалка в жилетном кармане композитора, напоминающая ему о существовании контрабаса. Начинающему, за школьной партой изобретательства, подобные таблицы даже очень нужны. Они расшевеливают воображение, помогают собрать мысль, дают список дверей, куда стучать, куда толкаться. Автор справедливо оговаривается, что изобретатели сами должны дополнять ее новым материалом. И не взятым наобум, а включающим творческие обобщения — типовые способы разрешения типических противоречий развития техники, если можно подметить такие.
Синтетическая стадия менее разработана.
Ниже мы перепечатываем таблицу, где дается самим Г. С. Альтшуллером ход решения задачи получения предварительно напряженного бетона. Таблица объясняет, почему изобретатель столь уклончиво отвечал Р. Бахтамову на вопрос: молниеносно ли пришло ему в голову изобретение? В действительности, как свидетельствует сам Г. С. Альтшуллер, эта техническая идея не явилась молниеносно, а родилась в ходе последовательных логических построений. Вот они:
«Разумеется, это была лишь идея, — замечает Р. Бахтамов. — Потребовалось немало труда, прежде чем идея стала конструкцией и изобретатель получил авторское свидетельство с очень обычным, даже будничным номером 120909».
12.8.
Нам понятно писательское увлечение Р. Бахтамова творчеством героя его занимательной книжки. Но, докапываясь до истины, нередко приходится преодолевать увлечения, чтобы более отчетливо осветить вопрос.
Конечно, выдача любого авторского свидетельства изобретателю нашей страны — это событие отрадное, праздничное. Но уж так ли был несправедлив Комитет по делам изобретений и открытий, когда не снабдил авторское свидетельство Г. С. Альтшуллера каким-нибудь необычным, особенным номером, окрашенным в небудничный, воскресный цвет? Нет, тут вряд ли была допущена несправедливость. Грамота с обычной печатью Комитета была выдана на довольно рядовое изобретение, не отмеченное яркой печатью новизны.
Заметьте очень важное обстоятельство. Сам Г. С. Альтшуллер подчеркивает, что он здесь повторил могучий изобретательский прием Дж. Уатта, его «мыслительную фигуру», приведшую к изобретению современной схемы паровой машины. Но результаты получились совершенно различные. Уатт разделил свой объект, свою машину на самостоятельные части и шагнул вперед — создал изобретение, устремленное в будущее, произведшее революцию в веках. Альтшуллер повторил прием Уатта, но лишь возвратился к хорошо известной идее полуторавековой давности.
Термодомкрат вещь очень не новая. Им сдвигались колонны, поднимались пошатнувшиеся стены дворцов еще в наполеоновские времена. Вот как описывается изобретение термодомкрата в одной исторической справке.
«Фундамент здания Музея Искусств и Ремесел в Париже был испорчен до такой степени, что стены главного зала постоянно оседали, выдавались наружу и даже угрожали падением. Наполеон I приказал произвести по этому предмету исследование и представить смету издержек на поправку здания. Комиссия, назначенная для этой цели, после тщательных изысканий решила, что необходимо сломать стены, заложить новый фундамент на 10 футов глубже настоящего и вывести на нем новые стены; расходы на все это должны были простираться на сумму около 10 миллионов франков. Наполеон I нашел, что такая сумма слишком велика, и дело так остановилось. Но когда по прошествии года опять заговорили о том же предмете и представили Наполеону всю опасность, какой могли подвергнуться и жители и посетители здания, если оставить его без исправлений, то Наполеон приказал собрать новую комиссию. Подобно первой, новая комиссия произвела обширные работы, исследовала грунт земли и пришла к заключению, что вовсе не было надобности ломать стены, а достаточно вырывать под каждой стеной 10 колодцев около 40 футов глубиной и, достигнув скалистого грунта, подвести под стены толстые гранитные столбы, на этих столбах утвердить винты, с помощью их поднять стены и таким образом сохранить все здание от разрушения. Что же касается до издержек, то, по мнению второй комиссии, поправка обойдется в 9850000 франков. Наполеон не удостоил внимания предложение второй комиссии: дело осталось по-прежнему нерешенным. Тогда приходит к Наполеону инженер Молар, способный и изобретательный молодой человек, и говорит, что он осматривал повреждения здания и полагает возможным произвести все поправки на десятую часть тех сумм, которые требовали две назначенные комиссии. Подобное предложение поразило всех. Назначенная Моларом сумма была выдана ему, и он немедленно приступил к работе.
Работу свою он начал с того, что в стенах строения, на довольно значительной высоте, приказал просверлить одно над другим два ряда отверстий, величиной в руку. Все с любопытством ожидали, что из этого будет; но когда, спустя несколько недель, из отверстий показались концы толстых железных болтов с весьма крупной винтовой нарезкой, то все, кто ждал от работы Молара хотя какого-нибудь успеха, потеряли всякую надежду, а члены комиссий, которые начинали было сомневаться в правильности своих решений, ободрились. Стянуть дом винтами казалось слишком безрассудно. Откуда взять такую силу, чтобы навинтить гайки, когда этому будет противодействовать тяжесть всего здания? Члены комиссии подсмеивались над Моларом, но он не обращал на это внимания и спокойно продолжал свою работу. К каждому болту был прикреплен якорь о четырех лапах; средина якоря была очень толста, к концам же он становился тоньше; эти якоря были в состоянии выдержать значительное давление. Под нижним рядом болтов, проходивших через все здание, были устроены большие четыреугольные очаги из листового железа, которые привешивались к болтам на крючках. Назначение очагов было непонятно для всех; между тем на правильную их установку Молар обращал большое внимание.
Однажды утром толпа любопытных заметила рабочих, которые, стоя на легких подмостках, привешенных к выдающимся концам болтов, были заняты завинчиванием гаек. Через несколько времени работа прекратилась; рабочие увидели, что невозможно более завинтить гаек, а зрители разошлись с убеждением, что все предприятие имело еще менее прочное основание, нежели исправляемый дом. На следующее утро с удивлением заметили, что гайки всего нижнего ряда болтов ослабели и отстали от стен на целый дюйм; рабочие опять занимались завинчиванием гаек. Это обстоятельство возбудило всеобщее любопытство. На третье утро ослабели все гайки верхнего ряда болтов, и во время их завинчивания можно было видеть, как ослабевали гайки нижнего ряда. Подобная работа продолжалась около 14 дней; по истечении их стены исправляемого здания сравнялись со стенами других строений, и все убедились, что они уже не косы. В самое короткое время стены приняли совершенно вертикальное направление, и улыбавшиеся физиономии членов комиссий сделались очень серьезны, когда они узнали, что посредством неизвестного, но, по-видимому, чрезвычайно простого средства достигнуто было то, что они считали почти совершенно невозможным.
Молар пропустил через стены два ряда болтов, а снаружи прижал к стенам якоря, посредством весьма прочных плоских винтов. Когда это было исполнено, то на очагах, под нижним рядом болтов, был разведен огонь, вследствие чего болты нагрелись и сделались длиннее. В этом положении болты выдались из стен наружу более, чем прежде, а следовательно, гайки могли быть снова навинчены. Это довинчивание гаек и составило работу первого утра. Когда затушили огонь, болты охладились и укоротились именно на столько, на сколько они расширились при нагревании; а так как это движение преодолевает большие препятствия, то стены строения сблизились на столько же, на сколько сжались болты. Если бы подобное действие было невозможно, то болты должны были бы разорваться, потому что при охлаждении они не могут оставаться в расширенном состоянии, в которое приведены были нагреванием. Обратно, если защемить железный болт между двумя стенами или скалами и в этом положении нагреть его, то он или двинет скалы и опрокинет стены, или же согнется сам.
Железные болты, употребленные Моларом, были достаточно прочны; они не разорвались, но подняли стены… По этой-то причине верхний ряд болтов выдался из стен; гайки уже неплотно прилегали к ним, и работа второго утра состояла в том, чтобы снова довинтить их. После этого нижний ряд болтов был нагрет вторично. Во время его расширения верхний ряд удерживал стены (иначе они пришли бы в свое первоначальное положение), нижние же болты, сделавшись через нагревание длиннее, дали возможность навинтить гайки еще более. При остывании они постепенно сблизили стены еще на один дюйм, и через это опять ослабили верхний ряд болтов.
Такого рода работа продолжалась часа два каждое утро до тех пор, пока цель была достигнута, — стены подняты, а потом исправлен и самый фундамент. На всю работу употреблено было менее половины выданной Молару суммы. Остальные полмиллиона Наполеон подарил этому искусному инженеру и, кроме того, наградил орденом Почетного Легиона.
Один ряд болтов был оставлен в стенах — может быть, вследствие ненадежности фундамента или же для воспоминания о способе поправки здания. Этот ряд существует и теперь и служит доказательством того, каких счастливых результатов можно ожидать от разумного применения законов природы».
Нашумевшие болты инженера Молара и были первым термодомкратом. Он был применен впервые для поднятия, выпрямления каменных стен. За него в то время справедливо была выплачена премия, а изобретатель представлен к ордену. Но сегодня не нужно быть большим изобретателем для того, чтобы, имея домкрат в руках, сообразить «подставить» его в любое место, где требуются большие усилия.
Тяговые стержни — болты — термодомкрата Молара нагревались очагом; тяговые стержни термодомкрата Альтшуллера — электричеством. Но сегодня не нужно большого хитроумия, чтобы догадаться заменить очаг электроплиткой.
Электротермический домкрат можно спокойно отнести к изобретениям, пришедшим из прошлого почти в первозданном виде, не обогащенным опытом последующего развития. Обязательны ли были сложные логические построения? Может, следовало бы лучше немного подчитать, заглянуть в научно-популярные книжки, поинтересоваться тем, какие домкраты существовали до тебя. Не пришлось бы даже тревожить запыленные фолианты, переплетенные в свиную кожу. Историческая справка о термическом домкрате взята из «Физической хрестоматии» для школьников под редакцией Я. И. Перельмана.
Вероятно, в заявке Г. С. Альтшуллера имелись детали, позволившие выдать авторское свидетельство, но решение этого вопроса велось, как говорится, «на тонкой юридической грани».
Возникает сомнение, можно ли всерьез рассуждать об универсальной практической творческой методике там, где одна и та же мыслительная фигура в одни руки дает ключи к воротам грядущего, а в другие — ключик к сундучку с сувенирами наполеоновских времен? Приходится, видимо, признать, что пока в изобретательской области творческая личность гораздо важнее любой существующей методики.
Опыт бакинских изобретателей, освещенный в реферируемых книжках, выразительно подтверждает это.
Талантливый изобретатель Д. Д. Кабанов — известный нам автор ловушки морской нефти, интересно работавший до рождения методики, продолжает оригинально творить и после ее появления.
Настойчивому инженеру Г. С. Альтшуллеру, обладавшему, по собственному признанию, меньшими изобретательскими возможностями, и при помощи методики не удается прийти к действительно оригинальным решениям.
В конечном счете ценность любой изобретательской методики проверяется качеством рожденных ею изобретений. Но — увы! — и некоторые другие изобретения, сделанные по схемам этой методики и описанные в книжках, не отмечены яркой печатью оригинальности.
Вот оптическая схема, позволяющая сравнивать показания стрелочных приборов. В ней нет ничего существенного. Здесь еще раз использован азбучный принцип совмещения оптических полей, применяющийся в дальномерах, стереокомпараторах, фотометрах, уровнемерах, прицелах, микрометрах, тысячах подобных приборов.
Вот башенные часы, где маленький циферблат широко проектируется на стену башни, как «в дневном кино». Г. С. Альтшуллер почему-то называет это решение «почти безупречным». Очевидно, однако, что часы работать не будут. При наибольших достижимых сегодня яркостях световой проекции мутный циферблат потеряется в солнечный день на фоне слепящего неба.
Да и принцип, уже бывший в употреблении. Самодельный эпидиаскоп для проекции ручных часов на потолок в ночное время был описан мною в журнале «Знание — сила» тридцать лет назад. Я заимствовал его идею из какой-то книжки, выпущенной еще в прошлом веке.
Эти факты ложатся на чашку весов, говорящую не в пользу методики бакинских изобретателей.
12.9.
Выходит, что методика есть, а изобретений пока не видно. В чем тут заковыка?
Оговоримся решительно и сразу же. Не какой-нибудь особенный критический пыл толкает нас. Повторяем, что на данном этапе пропаганда различных, даже самых несовершенных методов пробуждения изобретательской мысли представляется нам гораздо более нужным делом, чем придирчивая их критика. Так строится эта глава. Если мы и стремимся разобраться в затруднениях авторов «изобретательской методики», то нами движет то же безотчетное чувство, которое испытывает прохожий, заметив буксующий грузовик.
В чем же все-таки заковыка?
Г. С. Альтшуллер правильно понял, что противоречия — движущая сила всякого развития. Но неправильно то, что из всех противоречий он выделил только внутренние противоречия и, что самое главное, пытается снять их в самой машине. Так, конечно, никогда не придешь к революционным сдвигам. Это легче всего понять на соседнем примере, из общественных наук. Капитализм не исправишь примирением внутренних его противоречий, путем реформ, — надо сдать на слом всю капиталистическую машину, заменить ее социалистическим строем. Бесполезно копаться в стропах и гайдропах, приспосабливая воздушный шар к нуждам пассажирского транспорта, примиряя и снимая противоречия внутри его конструкции. Аэростат не исправишь никакими техническими реформами. Надо крест поставить на воздушном шаре и придумать летательный аппарат тяжелее воздуха. Тут-то и начинается революционное, истинно изобретательское творчество. Но методика бакинских авторов не расчищает путь к таким революционным преобразованиям. Она тянет мысль по пологим дорожкам простых усовершенствований, и причина бескрылости ее объясняется, по-видимому, тем, что, по сути дела, это, если можно так выразиться, «технический реформизм».
Противоречия, существующие внутри машин, не единственные пружины технического прогресса, а всего лишь одни из бесчисленных пружин, двигающих технику в человеческом обществе. Это можно легко увидеть, если полностью и внимательно прочитать труды тех мыслителей, ученых, изобретателей, из которых вырван подбор цитат о противоречиях в машинах. Изобретения рождаются противоречиями всего производства в целом. И поэтому анализ всех технических, экономических, исторических, общественных противоречий, вызывающих рождение новой машины, вырастает в безмерно трудную задачу.
Напрасно думать, что заменой слова «изобрести» на слова «преодолеть противоречие» облегчаются или снимаются творческие трудности.
Наоборот, тут-то и разгорается творчество. Ведь борьба за снятие всех и всяких противоречий, непрерывно возникающих в жизни, это и есть процесс живого вдохновенного исторического творчества. И пытаться издать универсальную инструкцию по преодолению всевозможных противоречий жизни, вероятно, такая же наивная попытка, как издание карманной брошюры «Как научиться жить».
Обложка с заголовком «Как научиться изобретать» напоминает что-то… Да, старинную книжку, озаглавленную «Как научиться писать стихи»! Одно время выпускали такие книжки. Я не отношусь к сварливым литературоведам, находящим в них одно смешное. Здесь подобран кое-какой материал. Например, типовые словарики рифм: роза любовь
мороза кровь
поучительные формулы чередования рифм в строфе:
abab аbba
и полезные схемки ритмов, поясняющие все эти «ямбы» и «хореи»: — / — / — / — /, / — / — / — / -
Новичок, вероятно, почерпнет начальные представления о конструкции стиха, а читатель прилежный, основательно попотев, даже выдаст в альбом что-нибудь стихотворное, какой-нибудь триолет — черт его подери! Но боюсь, что в нем не окажется ни грана поэзии…
Что греха таить, и в горах описаний изобретений, хранящихся в патентных библиотеках, есть немало нежизненных, вымученных, мертворожденных, утомительно перепевающих друг друга технических выдумок — вот таких, как этот дубоватый, вписанный в альбом триолет! Книжки типа «Как научиться изобретать» несомненно чем-то помогут неподготовленному читателю, но, конечно, не сделают из него настоящего изобретателя.
Никакие инструкции по поэтическому творчеству никогда не родят пушкинского «Пророка», глаголом жгущего сердца людей; никакие наставления по изобретательскому творчеству никогда не родят идею, несущую в мир прометеев пламень. Великие изобретения рождаются не из схем, а в могучем течении и кипении жизни. Признаемся откровенно, не мороча читателям голову, еще нет в природе методики изобретательства.
Р. Бахтамов, пожалуй, излишне жестоко обошелся с пушкинским серафимом, полагая, что выпотрошил по винтикам все, что скрывалось под туманным понятием «вдохновенье».
Вдохновенье — полезное слово. В нем зов родины, зов века, и подсказки природы, голоса истории, трудный опыт изобретателя, его жизнь. В нем вся сложность нерасшифрованных еще движений мысли, высший пилотаж фантазии, сложность, от которой отмахнуться невозможно.
Много лет назад, еще в прошлом веке, на открытии Киевского политехнического института знаменитый русский механик и педагог В. Л. Кирпичев прочел лекцию «Значение фантазии для инженеров». В заключение он сказал:
«Если вы, милостивые государи, убедились из моих слов в важном значении фантазии для технической деятельности, то, может быть, потребуете, как от педагога, указаний, как можно развивать в детях это драгоценное качество. Можно ли подготовить изобретателя?
Я в этом сильно сомневаюсь. В Америке была издана книга под заглавием «Как делать изобретения». Путеводитель для изобретателей. Это очень интересное сочинение. Но я не думаю, чтобы оно достигло своей цели. Путеводитель для фантастической неведомой страны труднее написать, чем для Франции и Швейцарии. Изобретатели никогда не дождутся своего Бедекера».
Еще более категорически высказывается такой вдумчивый исследователь изобретательского творчества, как Н. Середа:
«Есть ли, — спрашивает он, — незыблемые способы, позволяющие сделать открытие и изобретение?
Если вы станете утверждать, что они есть, стоит только их узнать, выучить и применить, то вы можете сослужить плохую службу молодому поколению, привить легкое отношение к нелегкому изобретательскому труду, демобилизовать волю к овладению многообразным изобретательским мастерством, представить сложный творческий путь, как путь сплошных побед, по которому новичок, вооруженный вашими рецептами изобретательства, «придет, увидит, победит».
Когда думаешь о «методиках изобретательства», вспоминается «методика ваянья», которой поделился с назойливыми современниками великий французский скульптор Роден. Когда к скульптору пристали с расспросами, как он создает свои статуи, он ответил: «Беру глыбу мрамора и отсекаю все лишнее».
Следуя Родену, творческий процесс ваяния можно разбить на следующие стадии:
1. Определение идеи скульптуры.
2. Выбор глыбы мрамора.
3. Определение всего лишнего.
4. Удаление всего лишнего.
5. Полировка или золочение шедевра и т. п.
Я попробовал взять кусок пластилина и последовательно применил все стадии методики Родена. Получилось вроде ничего себе. Вроде человеческой фигуры. Но у Родена выходили гениальные скульптуры. Впрочем, это и понятно. Ведь их делал сам автор методики!
12.10.
Но один бесспорный и немаловажный факт все-таки остался не объясненным. Как же получилось, что Г. С. Альтшуллер, ранее терпевший одни отказы, после разработки изобретательской методики начал получать авторские свидетельства?
В его книжке, быть может, помимо воли автора, дан еще один ответ на этот вопрос.
«Работа над созданием методики, — пишет автор, — была начата мною в 1946 году. Потребовалось самым детальным образом изучить историю многих областей техники, чтобы понять, как возникает потребность в изобретениях и как эти изобретения делаются. Уже в первые три года работы было проанализировано 4000 описаний различных изобретений…» и дальше «…мне пришлось беседовать, консультироваться, дискутировать с очень многими новаторами. Это были разные люди: по изобретательскому стажу, техническому кругозору, специальностям и склонностям. Их объединяло одно: стремление создавать новое».
Хороший путь в изобретательство.
Уверены, что если кипящий в котле производства и способный к техническому творчеству человек проведет хотя бы четверть этой огромной работы, скажем, проанализирует лишь 1000 описаний различных изобретений, побеседует с очень многими новаторами, то он отшлифует свой изобретательский ум и, возможно, станет предлагать толковые изобретения. Можно ли сомневаться, что изобретателем легче сделается тот, кто умеет развивать свою творческую личность?!
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ, где сквозь призму впечатлении автора преломляется рассказ об изобретательском вдохновенье, посылающем во Вселенную космические корабли, и рисуется портрет безыменного героя-изобретателя
13.1.
Полеты в космос — титанические свершения советской изобретательской мысли — стали важными вехами истории человечества, обозначив и высветив дороги к неизвестным мирам Вселенной, как когда-то в эпоху великих географических открытий обозначены были пути к неизведанным материкам. Как наследники дерзких каравелл, проплывают в межпланетном пространстве, подчиняясь не причудам ветров, а влечениям сил всемирного тяготения, разнообразные советские космические аппараты неожиданной и странной формы, не похожие вовсе на стреловидные звездолеты с иллюстраций к фантастическим повестям, но скорей напоминающие семена растений в поле зрения микроскопа, словно это и впрямь семена Земли.
Множатся небесные тела, искусственно созданные человеком, подчиняющиеся законам движения, обязательным для всех небесных светил, обладающие своим, только им присущим тепловым режимом, силой тяжести, ритмом смены дня и ночи, климатическими условиями, отличающимися от земных, но приемлемыми для человеческого существования. Производится заселение этих рукотворных планет простейшими организмами, растениями, животными, людьми. Происходит невиданное расширение границ той формы существования высокоорганизованной материи, которая именуется жизнью: было время, когда земная жизнь, переступив границы Океана, завоевала Сушу; ныне жизнь, шагнув за рубежи Земли, завоевывает бездну космоса.
Сегодня ловишь себя на том, что, стремясь осмыслить масштабы настоящего, невольно ищешь мерила в прошлом и там пытаешься отыскать исторические аналогии и параллели: можно ли поставить рядом кругосветный перелет Гагарина с кругосветным странствованием Магеллана и можно ли сравнить роль космического корабля с исторической ролью пара, электричества и автоматических станков, этой триады великанов техники, которых К. Маркс назвал когда-то «более опасными революционерами», чем триада активнейших деятелей буржуазных революций во Франции? Но, однако, диалектика истории такова, что иные исторические противоположности разительнее исторических параллелей. Приходится не сравнивать, а различать, противопоставлять, а не уподоблять.
Даже самые революционные изобретения предыдущих общественных формаций зарождались как плоды стихийного развития общества, возникая подчас под воздействием обстоятельств, независимых от сознания людей, созревали в обстановке корысти, косности и неверия: историческое, преобразующее, революционизирующее их значение понималось потом.
В принципиально иной обстановке рождаются великие изобретения в условиях социализма. Революционизирующее их значение осознано и провозглашено самой философией марксизма-ленинизма. Они являются естественным плодом планомерной, организованной в масштабе целого общества, совместной исследовательской, изобретательской, производственной работы громадных коллективов людей, воодушевленных заранее поставленной целью, направляемых творческой волей Коммунистической партии и Советского правительства. В рядах армии наших людей, штурмующих космос, — рабочие-рационализаторы и инженеры-изобретатели, научные работники — открыватели нового и ученые — нераскрытые классики науки, организаторы промышленности и руководители Советского правительства и Коммунистической партии — полководцы и знаменосцы грандиозного наступления. В своей речи о полете Гагарина Никита Сергеевич Хрущев не забыл упомянуть и колхозников, чей доблестный труд на полях страны помогает научно-техническим победам. Космонавт Герман Титов, приземлившись на вспаханном поле, поблагодарил пахарей за то, что земля оказалась мягкой. В этих словах заключается многозначительный образ.
Революционизирующие изобретения у нас находятся в руках революционеров и сознательно подчинены революционным целям: гул ракет на космодромах страны раздается как многократное эхо знаменитого выстрела «Авроры». Потому так велико и не сравнимо ни с чем в прошлом историческое влияние новых советских изобретений, принесших победы в космосе, на социальное и политическое развитие народов и государств, на отношения между ними, на судьбы всей планеты.
13.2.
Свершилось неслыханное чудо. Гением советской научной и изобретательской мысли, по воле народа, по велению Коммунистической партии было создано новое небесное тело — искусственный спутник Земли.
Маленькая металлическая луна диаметром 58 сантиметров и массой 83,6 килограмма была пущена в космос рукой советского человека и обращалась вокруг нашей планеты со скоростью 28 900 километров в час по кеплеровским орбитам.
Сели в лужу трубадуры «холодной войны», которые рисовали творческий организм нашей страны как бездушные тиски, давящие изобретателей, рисовали в дни, когда в этом организме уже зрел и рвался в космос дерзновенный зародыш нового небесного тела. Потускнели в блеске новоявленного светила фальшивые краски буржуазных борзописцев, изображавших светлый мир советской науки и техники затхлым мирком немощи, скудоумия, косности, консерватизма и рутины!
Как могло случиться, что страна, сорок лет назад бороздившая деревянной сохой истощенную землю, обогнала самые развитые страны мира прочертила первую борозду за межой космоса? Как могло случиться, что именно в нашей стране осуществилась вековая мечта человечества? Поэт Валерий Брюсов восклицал:
Мы были узники на шаре скромном, И сколько раз в бессчетной смене лет Упорный взор Земли в просторе темном Следил с тоской движения планет.Узник Петропавловской крепости революционер Николай Кибальчич писал в предсмертный час:
«Находясь в заключении, за несколько дней до своей смерти я пишу этот проект… Если же моя идея… будет признана исполнимой, то я буду счастлив тем, что окажу громадную услугу Родине и человечеству».
То была диссертация с петлей на шее. Палачи повесили Кибальчича. А его изобретательский проект, его принцип ракетного летательного аппарата, единственно возможный принцип полета в безвоздушном пространстве, оказался похороненным в архивах царской охранки. Но теперь человечество благоговейно склоняет голову перед прахом Кибальчича: «Да, идея ваша признана исполнимой. Она исполнена. Человечество и Родина благодарны вам за громадную услугу».
Дерзкий революционер оказался дерзновенным изобретателем. Если страна вдохновлена революционной идеей, то они, идеи, проявляются во всем: и в общественной жизни, и в науке, и в изобретательстве, и в искусстве. Октябрьская революция, освободившая трудящихся от всяческих уз, от всякого плена, открыла широкий простор идеям свободного полета в мировое пространство. Какое это было увлекательное время!
Тысячи людей читали роман «Аэлита» А. Толстого, сотни вчитывались в странные формулы брошюрок К. Циолковского: в калужской типографии не было математических значков — лебединые шеи интегралов в уравнениях полета ракеты заменялись здесь прозаическими буквами «И».
В 1927 году изобретатели в Москве организовали «Первую международную выставку по межпланетным путешествиям».
В эти годы плодотворно работал кружок изобретателей ГИРД — «Группа изучения реактивного движения», занимавшаяся пуском экспериментальных ракет.
В 1932 году в Колонном зале Дома союзов чествовали К. Э. Циолковского, награжденного орденом Трудового Красного Знамени. Доклад делал профессор Н. Н. Рынин, автор «Энциклопедии межпланетных сообщений» — многотомного сочинения, изданного в 20-х годах. В этих книгах было собрано все, что придумало человечество по вопросу о космических полетах — от фантазий Сирано де-Бержерака до проектов Циолковского, Цандера, Кондратюка. Я был мальчиком-пионером, юным техником, получившим билет на балкон, и оттуда впервые увидел Циолковского.
Циолковский глядел вдаль, не слыша аплодисментов. Вероятно, он тогда уже видел победные дни, которые мы переживаем сегодня.
Таковы были первые ступени, первые звенья многоступенчатой ракеты революционного научного изобретательского творчества, которое проторило дорогу в космос.
Это лишь несколько жизненных примеров, чтобы показать, как велик был энтузиазм, как властно владела умами советских людей астронавтика даже в те далекие годы.
Но одного энтузиазма было мало. Опираясь на преимущества социалистического строя, Коммунистическая партия и Советское правительство провели громадную организаторскую работу. Они сплотили ученых, изобретателей, увлеченных идеей покорения мирного пространства, в мощные научные коллективы, обеспечили их могучей производственной базой.
На дороге астронавтов стала вторая мировая война. Весь советский народ поднялся на защиту родины от немецко-фашистских захватчиков. И советские изобретатели метнули ракеты в головы варваров, преградивших им пути к звездам.
Объясняя свое отставание в запуске спутника, американцы цинично заявляют, что главная их задача — это создание боевой трансконтинентальной ракеты, а что спутник — всего лишь «отход производства». События показали, по каким направлениям двигалась ракетная техника в послевоенные годы в Советском Союзе. Создание искусственных спутников Земли было конечной целью изобретателей, а работа над ракетным оружием, очевидно, подчиненным, продиктованным внешней обстановкой делом.
Но спутник промыл глаза тем, кто в слепоте или злобе своей не видел, как далеко продвинулись вперед на могучей волне социалистической индустриализации прямые ученики и наследники Циолковского в Советской стране, где идеи революции победили. Высота и скорость полета спутника обнаружили территориальную близость континентов и государств и со всей определенностью подчеркнули необходимость их мирного сосуществования, а его внушительный вес пошатнул иллюзии политиков «с позиции силы». Само слово «спутник», вошедшее во все языки, стало символом мира и созидания. «Скоро вечерней или утренней звездой Соединенных Штатов будет красная звезда, сделанная в Москве», — огорченно пророчествовала газета «Нью-Йорк таймс».
13.3.
Полутонный второй спутник укрепил подобные высказывания. Биение и трепет сердца собаки Лайки, принимаемые радиостанциями мира, еще раз показали, что советский спутник не безжизненный комок железа, как пытался представить его один туповатый американский генерал. Тут уместно привести суждения двух крупнейших представителей буржуазной науки, с которыми мне доводилось встречаться и беседовать. Их не удивишь чудесами техники, они многое совершили, многое видели, их усилиями разверзались апокалипсические врата «атомного века». Я имею в виду Луиса Альвареса и Эдварда Теллера.
Луис Альварес известен не только теоретическими работами; он, как пишут мемуаристы, самолично отлаживал боевой механизм атомной бомбы и сидел в одном из американских бомбардировщиков, совершавших атомный удар по городу Хиросима. Известный ученый-физик заявил: «Советская наука шла вперед с фантастической быстротой и теперь идет впереди всего западного мира в ракетостроении и физике высоких энергий. Через несколько лет Россия догонит Запад почти во всех областях».
Еще более темпераментно выразился Эдвард Теллер, яростный фанатик атомной войны, справедливо именуемый «отцом американской водородной бомбы». Он признал, что Соединенные Штаты проиграли важную битву, которую можно сравнить с Пирл-Харбором, позволив России вырваться вперед, и предупредил, что будет «трудно догнать русских за период менее 10 лет, если русские будут идти вперед так, как они идут сейчас».
Таковы произведенные спутниками сдвиги в сознании самых видных и верных слуг буржуазной науки, антиподов наших не только по месту на Земле, но и по политическим взглядам. Что же сказать о других людях буржуазного мира! Та рука, что силилась зачеркнуть штрихом недоверия знаменитый советский лозунг «Догнать и перегнать Соединенные Штаты Америки!», та же самая рука начертила в небе призыв, горящий ярче огней Бродвея: «Догонять Советский Союз!»
13.4.
Но разрыв между участниками соревнования неуклонно возрастал. Третий советский спутник Земли в полторы тонны весом, процаривший два года в небе, совершивший 10 тысяч кругосветных путешествий, пронизавший витками своей орбиты шаровой слой космоса столь же густо, как челнок пронизывает пряжу, этот спутник показал, что с СССР соперничать невозможно!
Я был в Париже в дни, когда был запущен третий спутник. Вот живые впечатления очевидца, которые я передал в тот день по телефону в одну из центральных газет:
«Слово «спутник», быть может, наиболее популярное слово в Париже. Огромные очереди выстраиваются по вечерам к билетным кассам крупнейших кинотеатров французской столицы, где идут советские документальные фильмы о спутниках Земли.
Какой-то предприимчивый швейцарский часовщик организовал производство музыкальной шкатулки «Спутник». Она увенчана моделью «усатого шарика», сверкающего никелем и позолотой. Модель заводится ключиком и играет нехитрую мелодию, снискавшую всемирную славу: «бип-бип-бип».
В магазинах продается детская игрушка «Спутник». Шарик из пластмассы взлетает ввысь, у него открывается люк, и оттуда на парашютике спускается фигурка собаки Лайки.
Нам предлагают приобрести две бумажные шутихи. На одной из них надпись «Спутник», на другой — «Авангард». Вы поджигаете шутихи спичкой, и бумажный «Спутник» с шипением взлетает к потолку, а бумажный «Авангард» взрывается на столе, разлетаясь в клочки с грохотом и дымом. Чувство юмора никогда не покидает французов. Но, помимо игрушек, на витринах немало пухлых книг, посвященных советским спутникам, сочиненных с завидной оперативностью, а в газетных киосках мелькает яркая обложка новоиспеченного научно-популярного журнала под названием «Спутник».
Известие о запуске третьего гигантского советского спутника Земли произвело настоящую сенсацию. Газеты посвящают спутнику полосу, а иные — и две полосы. Почти все газеты на видном месте дают диаграммы, остроумно сравнивающие вес и размеры советских и американских спутников Земли, и в подзаголовках подчеркивают, что эксперимент наших ученых является абсолютно рекордным.
Обозреватель газеты «Франс суар» сопоставляет массу нового спутника с весом легковых автомобилей, распространенных во Франции, и приходит к образному выводу, что русские «выстрелили во Вселенную большой легковой автомобиль». «Кадильяк» в космосе» — так звучит один из жирных заголовков.
Газета «Ле Паризьен» восторженно пишет «о фантастических успехах русских в строительстве ракет». «Сюрприз для Соединенных Штатов» — так озаглавливает газета одну из своих статей и подчеркивает, между прочим, что запуск гигантского советского спутника вызывает «мурашки в Вашингтоне».
День запуска советского спутника совпал во Франции с религиозным праздником Вознесения. Сообщая о новом спутнике, обозреватель французского телевидения сказал:
— Сегодня не только религиозный праздник, но и праздник науки. Вознесение состоялось. Вознесся советский спутник».
Американцы одно время гордились числом своих маленьких спутников и даже самими их небольшими размерами. Заметьте, не наивный тульский Левша, а синклит заокеанской профессуры похвалялся сегодня малостью подковок космической блохи! Но не будем иронизировать над наукой. Миниатюризация, конечно, важный, но не главный путь развития. Ведь конечная цель науки — не засылка в космос пусть сверхсложного и сверхминиатюрного автомата, а полет человека. Можно как угодно миниатюризировать спутник, но нельзя миниатюризировать человека.
13.5.
Затем свершилось событие столь значительное, что бледнеет бессмертная эпопея спутников, представая перед ним, выражаясь словами Циолковского, лишь как попытка «робко проникнуть за пределы атмосферы».
Ракета, запущенная советскими людьми, превзошла вторую космическую скорость—11,2 километра в секунду, число, магическое, как «Сезам, отворись», число, перед которым отверзаются врата Вселенной. Более правильным было бы говорить не о магии, а о диалектике чисел. Речь идет не о простом изменении цифры до или после запятой. Рост количества превратился в великий качественный рубеж, за которым открывается эра межпланетных полетов, эпоха вторжения в околосолнечное пространство.
Американцы в то же время тщетно гнались за этим числом, пытаясь достигнуть нужной скорости. Не раз палили они в мировое пространство системами четырехступенчатых ракет, но снаряды их возвращались обратно, словно стукнувшись о твердый небосвод. До тех пор пока не была достигнута заветная скорость, ракетный снаряд принципиально ничем не отличался от брошенного камня: взлетев до своего потолка, он бессильно падал на землю.
Лишь советская ракета, набрав необходимую скорость, превратилась в межпланетный снаряд, свободный от оков земного притяжения и летящий, как равный среди равных, через сонм небесных светил. Фантастика сделалась явью. Названия научно-фантастических романов стали заголовками газетных передовиц. Советская ракета летит в район Луны! Зеркала и антенны телескопов мира безотрывно следят за ее движением. Хор радиостанций, установленных на ее борту, сообщает ценные сведения о свойствах мирового пространства.
Ракета испытывает волшебные метаморфозы. Вот она превратилась в комету, выпустив призрачный шлейф натриевых паров. Как и в самой настоящей комете, ее хвост развевается капризной игрой сил тяготения и давления световых лучей. Почему так ярок этот хвост? В нем текут такие же процессы, как и в газосветной лампе, незримое ультрафиолетовое излучение заставляет облако натрия светиться желтым огнем. Суеверные считали кометы знамением войны, но все видят теперь, что советская комета — это знамение и знамя мира.
Наконец, ракета встретилась лицом к лицу с Луной, глянула в упор лунному диску!
Электронные математические машины, словно вещие прорицательницы, уже предсказали грядущую судьбу новоявленному небесному телу. Ракете суждено стать младшей сестрой Земли и новорожденной дочерью Солнца. Советские люди дополнили солнечную систему, сотворив десятую планету.
Великим классическим произведениям прошлого нередко предшествовал Пролог на небесах. Там, в небесной выси, в символическом действии, заранее предуказывались судьбы будущих героев. В преддверии XXI съезда партии, в звездной бездне, где-то близ созвездия Веги разыгрался новый Пролог на небесах. Советская ракета рванулась в космос, еще раз опередив Соединенные Штаты Америки. Это был символ дальнейших неизбежных событий на мировой сцене. Высокое предзнаменование открылось перед миром в безмолвных небесах.
13.6.
Вторая ракета достигла Луны и сбросила вымпел Советской державы между морем Спокойствия и морем Ясности. Таково было счастливое совпадение дат, что ракета явилась как бы небесным знамением, предрекающим добрый исход исторической миссии Никиты Сергеевича Хрущева в Америку. И вот президент США того времени, прищурясь, держит копию лунного вымпела в вытянутой руке, словно этот сияющий шарик слепит ему глаза и слегка обжигает пальцы. Вечерами, когда многие десятки миллионов американцев собирались у экранов своих телевизоров, чтобы услышать простые и горячие, доходящие к сердцу слова замечательного пропагандиста идей коммунизма, завернувшего к ним на огонек, сквозь окно им светил лик Луны с гербом СССР, отчеканенным на круглом, как медаль, диске.
В те памятные дни в Нью-Йорке я прогуливался по Бродвею, заглядывая, движимый журналистским любопытством, в конторы деловых людей, в приемные шарлатанов астрологов, предсказывающих судьбу по расположению небесных светил, в агентства частных детективов, где скучающие осведомители, развалившись на потертых диванах, ожидали очередных поручений по слежке за неверными женами и жуликоватыми управляющими имениями. Вот здесь, среди этих странноватых для взора советского человека вывесок, я наткнулся на контору компании «Розенблат и Розенблат», занимающейся, в частности, продажей земельных участков на Луне.
Это был солидный, богато обставленный, хотя и пустынный офис. Утрату мирового приоритета на рубежах космической науки и техники организаторы конторы попытались возместить приоритетом на поприще космической коммерции. Здесь вы получали возможность заблаговременно внести свои сбережения в область, явно и бурно развивающуюся и способную, по уверению организаторов, в самом недалеком будущем начать приносить незаурядную прибыль.
Мой приход был встречен приветливо и даже радостно. Правда, я разочаровал любезных хозяев, объявившись представителем той страны, которую даже самый предприимчивый негоциант не решился бы в данной ситуации поставить в положение покупательницы. Газеты аршинными буквами писали: «красная ракета «прилунилась» почти в центре лунного диска», и у бизнесменов был слегка смущенный вид людей, приступивших к распродаже чужого добра. Признаюсь, что я сделал все, чтобы успокоить вдруг зашевелившуюся совесть пионеров космического бизнеса.
Прощаясь, я не скрыл, что посещение этого солидного современного офиса было мне приятным. Само существование его внушает, понятными многим американцам средствами, уверенность в реальности великого дела, которое успешно решает наша советская космонавтика. А вопрос о том, какими из известных в политэкономии способами будут распределяться участки на Луне, решит история.
На улицах, соседствующих с отелем «Уолдорф-Астория», нью-йоркской резиденции Н. С. Хрущева, на тротуарах, напирая на дощатые барьеры, расставленные полицией, непрерывно росла толпа народа. Сотни рук взмывали в приветственном взмахе, раздавались сотни дружественных голосов.
Но на одном из коротких и узких участков тротуара, наискосок от отеля, циркулировала под строжайшей охраной полиции небольшая кучка проходимцев, следовавшая за нами по пятам из города в город. Они несли плакаты с провокационными лозунгами о «свободе». Один из плакатов гласил: «Свободу Луне». Это был своеобразный рекорд подлости в небогатом фантазией, плоском, иссушенном злобой мозгу политического прохвоста. Величайшую победу раскрепощенного изобретательского гения мракобесы пытались выдать за потерю свободы, а одно из благороднейших полей международного сотрудничества — за плацдарм раздора, «холодной войны»!
Буржуазная пропаганда изготовляет шоры, мешающие людям глядеть по сторонам. Но пусть подымут головы вверх, и правда глянет на них из космоса. Пуск космической ракеты — удар по «холодной войне».
13.7.
У нас выработался новый, советский метод справлять юбилеи: отмечать годовщины великих свершений не сонным журчанием мемориальных речей, но громом побед, стократно блистательнейших.
В юбилейную дату запуска первого в истории искусственного спутника Земли до наушников всех приемных радиостанций мира долетел из космоса непонятный и мощный радиошум. Казалось, могучий водопад гремит в глубинах Вселенной. То были радиосигналы третьей советской космической ракеты, уверенно легшей на курс вокруг Луны.
Как гигантский межпланетный бумеранг, пущенный рукой исполина, советская ракета должна была облететь Луну и вернуться в ближайшие окрестности земного шара. Целое содружество измерительных приборов, полномочно представляющих в космосе чувства и глаза человека, разместилось на ее борту. Их согласный хор, разносимый в эфире электромагнитными волнами, образовал гремящий радиоводопад, который был слышен во многих частях нашей планеты. Она несла не очень много энергии— эта космическая Ниагара и, пожалуй, не способна была зажечь даже нескольких лампочек накаливания. Но она несла могущество более высокое, чем грубая сила: водопадом низвергался на землю поток новых сведений о Вселенной, поток нового знания. Ну, а знание — самая высшая сила.
Для простого человеческого слуха непонятен межпланетный радиоязык. Но у наших людей есть надежные переводчики. Это мощные электронные математические машины координационно-вычислительного центра. Они переведут долетающие радиосигналы на язык понятий и цифр, а из стройных колонок цифр в головах ученых родятся новые правдивые представления о космическом климате и ландшафте, о неведомой, невидимой людям оборотной стороне лунной медали.
Исполинские советские реактивные двигатели устремили ракету в небо, развивая на отдельных отрезках ее пути мощность, равную сумме энергетических мощностей громадных гидроэлектростанций. Уникальные кибернетические системы корректировали ее полет с почти микрометрической точностью на всем участке разгона.
Но, помимо энергетики и кибернетики, еще одна область науки одержала здесь свою выдающуюся победу. Мы имеем в виду теоретическую астрономию, до сих пор существовавшую как одна из отвлеченных областей человеческого знания, а теперь становящуюся в ряд прикладных технических наук. Астрономия, опираясь на могучую поддержку электронных счетных машин, помогла предвычислить беспримерную по дерзкому остроумию траекторию ракеты, определить направление и момент ее пуска.
Когда кончилась работа двигателей ее последней ступени, ракета не достигла второй космической скорости. И здесь был преднамеренный расчет. Ракету ввязали в игру сил тяготения, изогнувших ее траекторию в мудрейшую пространственную кривую, расположенную в нескольких плоскостях и похожую, по образному выражению Н. С. Хрущева, на локон, завивающийся вокруг Луны. Электронные счетные машины в который раз предвещали будущее космической ракете, и было любо-дорого следить, с. какой точностью выполнялись все теоретические предсказания.
Ракета обогнула Луну, сфотографировала ее не известную людям поверхность, возвратилась в район Земли и стала кратковременной спутницей нашей планеты, обращающейся вокруг нее по вытянутой, неустойчивой орбите.
Что-то давно знакомое с детства напоминает нам внешний вид межпланетной автоматической станции, растопырившей усики антенн. Ну, конечно, это внешний облик марсианина из романа Г. Уэллса «Борьба миров». Кажется, что в металлическом корпусе с гибкими щупальцами заключается что-то живое, огромный пульсирующий мозг.
Да, можно с полным правом применить здесь знаменитое марксово выражение и назвать автоматику, заполняющую корпус станции, полномочными «органами человеческого мозга». Проследите за хитрейшим маневром, который выполняет автоматическая станция, чтобы сфотографировать Луну, и у вас сожмется горло от почти волшебной одухотворенности этого созданного гением советских изобретателей межпланетного робота.
Подлетая к Луне, межпланетная станция неизбежно кувыркается. Но. чтобы сделать снимок Луны, необходимо прекратить кувыркания. Тут на помощь приходят заключенные в ракете кибернетические устройства. Они начинают подымать тревожные электрические сигналы. Электронная логическая машина, «разобравшись» в этих сигналах, подает наиболее разумные команды небольшому оркестру управляющих двигателей системы ориентации. Под воздействием двигателей кувыркание автоматической станции успокаивается. Но таким соразмерным и чутким должно быть при этом совместное дыхание реактивных струй, что ему позавидовал бы и лучший ансамбль флейтистов!
Конечно, на автоматической станции имеется «электрический глаз» — оптическое устройство, следящее за источником света столь же неотвязно, как мотылек за лампой. Но как ему быть в межпланетном пространстве, где на угольно-черном небе космоса сияют три светящихся тела — Луна,
Земля и Солнце? Как ему не заблудиться в трех соснах? Как ему не увязаться за ярчайшим из них и не навести объективы фотоаппаратов на Солнце? Проблема решается с большим изобретательским остроумием. На спине у межпланетного фотографа установлен еще один «электрический глаз», и он-то включается в первую очередь. Согласованный вздох реактивных струй — и ракета, как истый фотограф, поворачивается спиною к Солнцу. Теперь включается передний «электрический глаз», уточняющий наводку объективов на Луну. В тот момент, когда лунный диск попадает в «электронный видоискатель», автоматически срабатывают фотозатворы. В общей сложности в течение сорока минут происходила фотосъемка на целую ленту кадров. И снова согласованный вздох реактивных струй — и станция приходит во вращение со строго определенной скоростью. Нельзя медленнее, потому что тогда не обеспечится равномерный солнечный обогрев, нельзя быстрее, потому что тогда нарушится работа приборов! Вот какой церемонный и трудный танец станцевала космическая балерина, облетая вокруг Луны!
Фотолюбители, конечно, оценят работу автоматического фотолаборанта, сумевшего в ходе космического полета без ошибок проявить и закрепить ценнейшие негативы снимков с Луны.
А какое изумительное чудо — передача телевизионных изображений на космическое расстояние! На обратном пути к Земле, для наибольшей верности, медленно, словно по складам читая телевизионную строчку, космический фотограф передал драгоценное изображение людям. Здесь приходится аплодировать не только передатчику на ракете, но и наземной приемной сети. Ведь она улавливает сигналы, в 100 миллионов раз более слабые, чем обычные сигналы, принимаемые телевизионной антенной!
После запуска второй лунной ракеты корреспондент агентства Юнайтед Пресс Интернейшнл передавал из Анн-Арбора, что профессор Мичиганского университета Хеддок, специалист по астрономии и электронике, заявил, что советские ученые «не могли следить за ракетой и управлять ею».
Перекошенный спазмой бессильной зависти, мистер Хеддок говорил: «Мы так мало знаем о космическом пространстве, что они (то есть советские ученые. — В. О.) могут утверждать почти все, что угодно, и все это может им пройти.
Я облазил всю стационарную радиоантенну Пулковской обсерватории, имеющую 390 футов в длину и 6 футов в высоту, — брюзжал Хеддок. — Она этого сделать не могла. Что касается ее астрономической ценности, то я считаю, что она не больше, чем ценность снегозащитного заграждения».
Можно обратиться к мистеру Хеддоку.
— Снегозащитное заграждение, говорите вы? Ну, а что вы скажете о фотографиях невидимой стороны Луны, публикуемых на первых полосах всех газет мира?
На булавочку мистера Хеддока! Вот еще один махровый экземпляр в коллекцию человеческой косности!
Великий праздник науки справляет человечество! Снова, как триста пятьдесят лет назад, мир переживает волнения Галилея, который, направив свой первый телескоп на лунный диск, вдруг увидел, что не сказочная улыбка застыла на лице ночного светила, а суровые горы, кратеры, моря избороздили лик спутницы нашей планеты. Но таким, как Хеддок, нет места на общем празднике. Светоносный бокал Разума для него горше яда.
На каком бы расстоянии ни находилась ракета, до нее долетит радиоволна земных радиостанций и, как чуткая рука, дотянувшаяся с Земли, подрегулирует исследовательские приборы и подправит, если надо, курс самой ракеты, плавно огибающей Луну. В этом, если коротко говорить, и заключался качественно новый, существенный шаг нашей советской межпланетной энергетики, нашей советской межпланетной кибернетики.
В который раз попадают впросак идейные противники наши! Не успели усомниться в существовании советской трансконтинентальной ракеты, как взлетел в космос советский спутник Земли. Не успел американский вице-президент Никсон усомниться в том, пропечатана ли советским гербом полная Луна, сияющая над Вашингтоном, как взлетает третья советская ракета, огибающая Луну, и ревет в космосе радиоводопад, повсеместно смывающий ложь и недоверие.
Все чаще приходится чернокнижникам буржуазной журналистики покидать свои похоронные амвоны и, не дописав ядовитой строки, взбегать на колокольни, чтобы бухнуть благовест в честь очередной советской победы. Не взбежишь — высмеют!
Все чаще приходит в голову здравомыслящим людям планеты — а не призвать ли к порядку рыцарей «холодной войны», превративших гуманнейший инструмент, перо, в разновидность финского ножичка, а не отобрать ли у них этот колющий инструмент: доиграются — глаз выколют!
Мы радуемся открытию острова, замурованного в ледяном панцире Антарктиды, открытию хребта Ломоносова на дне морей Арктики. Но романтика географических открытий уходит в прошлое, все меньше остается на нашей планете белых пятен, на которые не ступала человеческая нога. Современная каравелла переплывет через океан и уже не откроет нового континента.
Но советская межпланетная каравелла переплыла океан космоса и открыла новые горные хребты, новые моря, новые кратеры. Человечество было приглашено на торжественные крестины; вновь открытым объектам лунной поверхности открыватели дают имена: «Море мечты», «Горный хребет — Советский», «Море Москвы» с манящим «заливом Астронавтов».
«Кратер Ломоносов» — в мраморе и бронзе возникает перед взором монумент «отца русской науки»; «Кратер Циолковский» — вспоминается глуховатый голос, светлые глаза, устремленные в будущее, глаза гениального
человека, который предсказал межпланетный полет; «Кратер Жолио-Кюри»—так и видишь добрую улыбку бесстрашного рыцаря мира, героического исследователя атомного ядра.
Капитализму предшествовала эпоха великих географических открытий, и мы знаем, что ко многим из них толкала человека корысть.
Коммунизму предшествует эпоха великих исследований космоса — величайший пример бескорыстного служения науке. На подобные бескорыстные подвиги неспособен капитализм.
13.8.
Осуществилась вековая мечта человечества: советский летчик майор Юрий Гагарин шагнул в космос, горделиво пронесся в межпланетном пространстве. Радиотелеметрические и телевизионные системы наблюдали за состоянием космонавта в полете. Сам майор Гагарин в радиограммах из космоса извещал земных друзей, что чувствует себя хорошо. И, наконец, спуск, приземление. Первый человек, побывавший в космосе, снова на родной земле. Свершился подвиг, сделавший явью дерзновенные прогнозы русской научной мысли. Была взята еще одна, самая высокая ступень триумфальной изобретательской лестницы нашего, отечественного первенства в реализации идеи полета, лестницы, у начала которой находятся и первый полет Крякутного на наполненном горячим дымом воздушном шаре, и первые полеты Можайского на пыхтящем белыми клубами пара прототипе современного самолета.
Коллективный разум, коллективные руки советских людей оказались способными на новый величавый акт творения, по размаху превзошедший безудержную фантазию античных и библейских мифов. Человеческое деяние вторглось в сферу, относившуюся священным писанием к безраздельной компетенции бога. За какие-нибудь два с половиной года советские люди — коммунисты и атеисты — наяву повторили мифический календарь сотворения мира. Лишь недавно минули первые дни творения, когда люди, бросив вызов богам, сами создали новую твердь — небольшое, независимое небесное тело — искусственный спутник Земли. На нем создали далее все, что необходимо для жизни: свет и воздух, пищу и тепло; заселили его растениями и животными, примитивными и сложными, маленькими и большими. Наконец, наступил наивысший, все венчающий день творения — день шестой! — на искусственной планете появился человек.
Человек воцарился на искусственной планете и впервые ощутил великое безмолвие космоса, заглянул изумленными очами в до странности плоское, лишенное стереоскопической глубины межпланетное пространство и увидел острые звезды, и слепяще яркий, яростный диск Солнца на угольно-черном небе, и выпуклый бок Земли, прикрытый овчинами облаков. Земной шар был рядом с летчиком, поворачивался на глазах, как обыкновенный глобус. Сутки бешено ускорили свой бег: день и ночь сменялись с сорокаминутной частотой.
Давно ли считалось фантастическим название романа Жюля Верна «Вокруг света в 80 дней»? А сегодня не в фантазии, а наяву советский космонавт за один лишь вылет совершил кругосветное путешествие! «Вокруг света за полтора часа» — вот вполне реальный, даже деловой подзаголовок летописи его полета.
Американцы любят прихвастнуть количеством мелких спутников, запущенных в околоземное пространство. Но в науке количество опытов ценно лишь тогда, когда рождает новое качество. Если опыты множатся, а новое рождается туго, возникает подозрение, что наука повторяет сама себя, начинает буксовать, топтаться на месте.
Сила советской науки, советского изобретательства в том, что каждый бросок в космос знаменует собой качественно новое достижение. Штурм космоса ведется у нас единым, ритмичным, неуклонно восходящим движением.
Когда-нибудь, когда на земле поуменьшится число охотников подчинять величайшие мирные достижения науки человекоубийственным целям, мир узнает все подробности обо всей сумме научных и технических средств, позволивших встать на новую высокую ступень освоения космоса. А пока лишь вольная кисть воображения рисует исполинскую ракету, метнувшую тяжелый космический корабль, и перед умственным взором возникает как бы колокольня с пламенным хвостом жар-птицы, плавно возносящаяся вверх, — богатырская звонница русской славы.
Старинным мореплавателям, дерзнувшим плыть за океан, рисовались не только действительные, но и мнимые опасности. На краю океана им виделись смыкающиеся скалы, раздавливающие суденышки, как скорлупки, чудились морские змеи, глотающие корабли. Неведомые опасности рисовались и перед путешественником, перешагивающим границу космического пространства. Говорили о космических снарядах-метеорах — и не только о потоках больших камней, но и об отдельной маленькой крупинке, потому что даже горошинка, летящая столь стремительно, при столкновении с ракетой может произвести такие же разрушения, как несколько килограммов взрывчатки. Говорили о космических излучениях — и не только о потоках частиц, — нарушающих химизм обмена веществ в живой клетке настолько, что возникает лучевая болезнь.
Поэтому, перед тем как лететь человеку, советские спутники, вооруженные телеметрической аппаратурой, как саперы миноискателями, буквально «прочесали» космическое пространство, и люди убедились, что многие опасности перекочевали в разряд мнимых, таких же, как древние смыкающиеся скалы или змеи, глотающие корабли. Десятки и сотни миллионов километров налетали советские спутники и ни разу не столкнулись с метеором. Обнаружилось также, что зоны радиационной опасности можно очертить на звездной карте, как зоны рифов в море и проложить в космосе безопасные маршруты. Бледнеют и расступаются пугающие тени. Человек бесстрашно заглядывает в звездные бездны как покоритель и властелин.
Человек преодолел «физические барьеры» на пути в мировое пространство, пересилил мировое тяготение и сопротивление атмосферы. Но остался еще один неизведанный барьер, пролегающий внутри нас, через все элементы нашего организма. Перенесет ли человеческое тело условия заатмосферного пространства? Устоит ли? Выдержит ли?
Иностранные публикации по вопросам биологии и физиологии полета свидетельствуют, что человеческое тело подвергалось жесточайшим допросам с пристрастием. Человека подвергали воздействию грандиозных ускорений, при которых удельный вес его крови становился равным удельному весу ртути, а суммарный вес всего тела — весу крупного быка. Нам запомнилось (с иностранных фотографий), как меняется лицо летчика под воздействием чрезмерных ускорений. Нижняя губа отвисла, кожа как бы поползла с лица, над глазами нависли железные веки Вия. Одна физическая закономерность определяла характер этих изменений: под воздействием ускорений кожа стала тяжелей свинца, мягкость тканей при этом осталась прежней…
Да простят меня физиологи, но в потоке зарубежных исследований разнообразных порогов между жизнью и смертью мне чудится знакомая тенденция капитализма разрешать изобретательские проблемы — даже если дело идет об овладении космосом! — главным образом за счет человека. Сэкономить горючее, металл и электронику за счет человеческой крови, мышц и нервов, довести человека до порога, выжать все, что он может дать, — вот он, старый капиталистический принцип! Чем дряхлее становится капитализм, чем бессильнее он перед проблемами, которые свободно решает социалистический мир, тем все больше будет расплачиваться человек за хромающую кибернетику, калорийность горючего, слабость двигателей ракет.
«Все для человека!» — давно провозгласила советская социалистическая наука. И в труднейшую, героическую эпоху покорения космоса она не отступает от этого священного принципа. Ей чужды суета и вредная спешка, ей чуждо тщеславие пустого рекордсменства. Советский человек полетел в космос лишь тогда, когда была создана и сто крат проверена кабина с нормальными условиями существования, когда была отработана надежная система взлета и посадки.
Идет день шестой, когда вновь создаваемые миры в межпланетном пространстве заселяются человеком и на них создаются условия жизни, условия не худшие, чем на родной Земле. День шестой продолжается…
Ну, а что будет в день седьмой?
В день седьмой, если верить библии, господь бог попросил отдохновенья, чтобы любоваться делами рук своих.
Но наше коммунистическое вдохновенное творчество не знает отдохновенья, и нам чуждо праздное любование делами рук своих.
Планомерный штурм космоса продолжался.
13.9.
Пока американцы подпрыгивали в своих ракетах над Землей, не в силах выйти на орбиту, начался легендарный полет Титова… Мне посчастливилось. Вместе с авиационной поисковой группой я вылетел в район приземления нового советского космонавта. Я помню низкое серое предрассветное небо над одним из аэродромов близ района приземления. Летчики, врачи, конструкторы, парашютисты небольшими группками стояли на летном поле, разговаривая друг с другом вполголоса, как во время ответственной операции. Мы были всего лишь малым узелком огромной, напряженной и чуткой, как паутина, сети, привязанной к космическому кораблю. Я чувствовал себя примерно так, как Пьер Безухов во время Бородинского сражения — в поле зрения попадали лишь детали громадной панорамы событий. Там над всеми слоями облаков, под черным небом, над слоем атмосферы летел он, завершая последние круги своего маршрута, почти столь же длинного, как дорога в облет Луны. Он летел в безвоздушном пространстве по орбите столь же независимой, как орбита самой Земли, а мы, стоя на участке земного шара, поворачивающегося как глобус, неслись ему навстречу.
Раздалась команда. Мы помчались бегом к своим самолетам. Космонавт шел на снижение. Главный конструктор сообщил нам по радио точное место приземления.
Приземлился! Какое устарелое слово! Оно родом из старого словаря авиации, словаря самолетов — пленников Земли. Нет, не приземленье брезжило впереди, а равноправная встреча двух суверенных небесных тел — их торжественная встреча в космосе!
И вот она состоялась. В командирскую машину к нам по трапу поднимался неземной человек, неземной красоты в голубом комбинезоне-трико, похожий на героя какой-то великой драмы Шекспира.
То был Герман Титов — второй из покорителей и первый житель космоса.
13.10.
Ни полет американца Карпентера, ни полет американца Гленна не перекрыли результатов Титова. Отставание техники не позволило отважным американцам совершить более трех оборотов вокруг Земли. Буржуазные комментаторы строили всяческие предположения, каков он будет, следующий, новый шаг советского человека в космос. Одни из них уверяли, что будет повторено пройденное. Воображение других рисовало какой-то фантастический полет по сверхнеобычной орбите, совершаемый неким новым героем с мускулами из бронзы и нервами из стали. Как всегда, буржуазные пророки ошиблись, как всегда, по обычной своей, по одной и той же причине. Их фантазия двигалась по лестнице спортивного рекордсменства, где любая новая ступенька знаменует собой новое индивидуальное достижение, и, конечно, не учитывала качественных особенностей, привносимых во всякое дело советским социалистическим строем. Да, он был совершен, небывалый рекорд продолжительности полета в космическом пространстве. Космический корабль «Восток-3» находился в полете, почти четверо суток, совершил 64 оборота вокруг Земли, превысив почти в 7 раз расстояние от Земли до Луны. Корабль «Восток-4» находился в космосе 71 час, облетел 48 раз вокруг нашей планеты. Но случилось и то, о чем не смели думать даже самые смелые прорицатели. Новый шаг советских людей в космос оказался не только индивидуальным шагом. Советский Союз перешел к групповым космическим полетам.
На космическом корабле «Восток-3» вышел на орбиту Космонавт-Три, майор Андриян Николаев, через сутки на орбите оказался космический корабль «Восток-4» с Космонавтом-Четыре, подполковником Павлом Поповичем на борту. Два советских космических корабля закружились вокруг земного шара, эскортируемые целой флотилией советских спутников.
Только будущее позволит по достоинству оценить все революционное значение этого нового шага. Конечно, двое — это небольшой коллектив. Но о преимуществах его говорит бесхитростная и в то же время мудрая русская пословица: «Ум хорошо, а два лучше!» К ней присоединяется философская теория познания, утверждающая, что только коллективная, общественная практика является критерием истины. Коммунистический призыв к соединению усилий недаром начертан на нашем алом знамени.
Космонавты установили взаимодействие, наладили между собой радиотелевизионную связь в космосе.
Космонавты видели друг друга в лицо на телевизонных экранах, слышали друг друга так хорошо, как будто сидели рядом, переговаривались и даже пели вместе. Вдумайтесь в значение этого исторического момента! До сих пор существовала лишь связь по схеме «Земля—космос», «космос — Земля». Сейчас, кроме такой связи, впервые установлена связь между космическими объектами по схеме «космос — космос».
Циолковский предсказывал, что эти связи и взаимодействия непременно перерастут в более сложные производственные отношения, и обширные коллективы строителей-космонавтов будут строить в космическом пространстве из материалов, посылаемых с Земли, летающие острова — спутники нашей планеты, промежуточные базы для дальних звездолетов. И тогда с благодарностью и восхищением вспомнят о полетах Николаева и Поповича, о рождении первого космического коллектива, отрабатывавшего первые совместные действия. Космонавты вели в космосе научные эксперименты и не забывали о пропаганде научных достижений, демонстрируя по телевизору жителям Земли парадоксы невесомости, известные до того лишь по научно-фантастическим книжкам.
Все мыслящее человечество преклоняется сегодня перед подвигом двух героев. И нашлись лишь единицы, пытавшиеся утверждать, что после индивидуальных космических полетов коллективный полет—вещь сравнительно несложная и решается одной лишь организацией дела. Так способны рассуждать только полные профаны в ракетной технике, не сумевшие осмыслить уроки ее мирового развития. Не нужно обладать большой проницательностью, чтобы сообразить, что знакомая по газетным отчетам американская ракетная техника совершенно непригодна для коллективных полетов. Надо только припомнить вереницу неудач на мысе Канаверал из-за самых странных капризов ракеты-носителя. Есть теория, математическая теория «капризов» техники, теория надежности. Из ее формул вытекает, что для согласованного старта двух ракет необходимы высочайшая надежность и точность каждой ракеты. Да и без всяких формул любой ребенок докажет: техника, работающая «после дождичка в четверг», не способна обеспечить никаких согласованных стартов.
Тут нужны не только могучие, но и без всякой осечки действующие, абсолютно надежные ракеты. Их не видно у американцев, но они есть у нас! Сравните параметры траекторий кораблей Николаева, Поповича и Титова и вы убедитесь, что их корабли двигались в космосе, как поезда по одним и тем же рельсам. Корабли Николаева и Поповича сближались на ничтожное для космических масштабов расстояния в пять километров, и Попович видел сквозь иллюминатор пролетающий корабль Николаева, похожий на маленькую Луну. Диспетчерская служба советской ракетной техники работала, как часы. И в этом было еще одно наше великое опережение — венец больших усилий.
Николаев, Попович, а за ними «Сокол» и «Чайка» — Валерий Быковский и Валентина Терешкова.
За рубежом задают вопросы, а нужны ли эти усилия? Не вернее ли решать более выгодные экономические проблемы?
У капитализма устарелые понятия об экономической выгоде. Как бальзаковский Гобсек, он боится ссужать деньги под долгие проценты. Вслед за стуком товара о прилавок он торопится услышать ответный звон монеты. А когда этот звон запаздывает, он теряет интерес к торгу. В этом слабость капитализма и источник его нынешних отставаний. Капитализму трудно соревноваться в беге на дальние дистанции.
Только социализму по плечу планомерное движение к великим и дальним целям. Мы штурмуем космос потому, что это сулит небывалые победы науке, невиданное развитие производительных сил, неисчислимые блага всему человечеству. Давно прошло время, когда земные исследования помогали понять механику неба. Мы знаем, что сейчас все чаще физика неба помогает создавать новое на Земле. Когда мы достигнем соседних планет, мы откроем там многие драгоценные процессы, которые можно использовать в земных условиях. Это — дальняя награда за сегодняшний героизм.
Но есть дары ракеты, которыми она награждает повседневно. В ее гордом корпусе держат самые высшие экзамены все передовые области советской науки и техники. Советская ракета возвышается, как центральный, манящий ввысь обелиск в строящемся городе современной науки.
Публицисты не жалеют метафор, чтоб прославить советскую ракету с ее длинным шлейфом, расширяющимся книзу. Мне хотелось бы сравнить ее очертания с древним рогом изобилия, опрокинутым с небес на Землю. Пройдут годы, и оттуда посыплются щедрые дары.
13.11.
Советский народ высоко чтит своих героев, организаторов и вдохновителей наших побед. Свидетельство тому — широчайшие награждения работников науки, техники, промышленности за выдающиеся работы по освоению космоса.
Президиум Верховного Совета СССР наградил второй золотой медалью «Серп и Молот» семь видных ученых и конструкторов — Героев Социалистического Труда, присвоил звание Героя Социалистического Труда 95 ведущим конструкторам, руководящим работникам, ученым и рабочим, наградил орденами и медалями 6924 рабочих, конструкторов, ученых, руководящих и инженерно-технических работников, а также наградил орденами ряд научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и заводов.
Третьей золотой медалью Героя Социалистического Труда награжден Первый секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза Председатель Совета Министров СССР Никита Сергеевич Хрущев. Звание Героя Социалистического Труда члену Президиума ЦК КПСС присвоено Леониду Ильичу Брежневу.
Н. С. Хрущев руководит разработкой главных направлений технического прогресса в стране, определением основных направлений и составлением генеральных планов развития космической науки и техники. В его смелых предложениях проявляется еще и еще раз великая убежденность в торжестве советской ракетной техники. И этот тезис ежедневно подкрепляется семимильным шагом ее восходящего движения. Тот, кому посчастливилось слушать выступления Н. С. Хрущева, замечает, что, с какой бы трибуны он ни говорил —: в грандиозном зале ООН или бывшем помещении столовой в Целинограде, — всюду он возвращается к полетам в космос, как к всенародному делу, как к предмету упорного, неотступного думания.
Огромная мирная программа покорения космоса занимает особое место в обширной многогранной государственной деятельности Н. С. Хрущева. Он бывает на всех производствах и всех стендах исполинских космических верфей, знает в лицо и поименно всех ведущих работников. В напряженные периоды он участвует в обсуждении всех важнейших испытаний. Его колоссальный организаторский опыт, изобретательность и смелость мышления, любовное отношение ко всякому настоящему творчеству, внимание к людям, отеческий, добрый юмор вдохновляют героев космической техники на преодоление препятствий. Можно сказать, что в итоге посещений Никитой Сергеевичем космических верфей и возникла царящая здесь атмосфера счастливого творческого коммунистического труда.
Замечательный гуманизм руководства Никиты Сергеевича полетами человека в космос виден в том, что полеты готовятся осмотрительно, без ненужной спешки. Уже были, казалось бы, разработаны все необходимые средства, но ученые продолжали терпеливо и настойчиво отрабатывать приземление — сначала на безлюдной аппаратуре, на пяти тяжелых космических кораблях-спутниках, населенных, как Ноев ковчег, представителями животного и растительного мира. Полет человека разрешили тогда, когда был создан тот «полный комфорт» в космосе, о котором сообщали по радио все советские космонавты.
Никита Сергеевич держал с космонавтами связь по радио, следил за ними по телевизору и был первым, кто осведомлялся об их самочувствии по телефону. Ученые рассказывали мне, что биометрические приборы, чертившие графики состояния организма Германа Титова, находившегося в полете, объективно зарегистрировали знаменательное явление. Когда космонавт получил радиограмму Н. С. Хрущева, то приборы показали, что его дыхание стало еще более правильным, а биение сердца еще более спокойным.
Говоря о сердце космонавта, нельзя не думать о Коммунистической партии — вдохновенном строителе и ювелире человеческих сердец, укреплявшем нерушимую, как зубцы крепостной стены, кардиограмму космонавта, которую, может быть, стоит высечь на памятном обелиске, чтобы сохранить ее в веках как манифест бесстрашия.
— Все мы с большим удовлетворением восприняли высокую награду, которая была вручена Никите Сергеевичу, — говорили виднейшие ученые, — потому что все мы видели много раз, какое внимание он уделяет развитию ракетной техники и космическим исследованиям, развитию всех других отраслей науки.
Многие герои победы над космосом еще безымянны, но поборники «холодной войны» напрасно будут искать здесь свидетельно растворения выдающихся творческих индивидуальностей в общей массе, якобы имеющее место при социализме. Тут повинен капитализм, его тлетворное соседство.
Ведь самой извращенной природе капиталистического общества в высшей степени свойственно превращать величайшие мирные достижения человечества в тотальные средства уничтожения последнего. А поэтому рискованно открывать даже узкую лазейку в мир советской ракетной техники для изрядно поотставших технически, но пылающих воинственным возбуждением джентльменов, почему-то упорно уклоняющихся от честной программы всеобщего и полного разоружения и нудящих о праве досмотра содержания соседских чуланов и огородов. Потому-то замечательная плеяда героев, обеспечивших завоевание космоса, остается пока безымянной.
Но попробуем все же проникнуть в их характеры, в их душевный мир, разглядеть хотя бы их силуэты.
К. Маркс в подготовительных работах к «Святому семейству» называет мир вещей, созданных человеком, овеществленной психологией. В вещи, созданной человеком, воплотилось его деяние, а в деянии раскрывается характер людей. Да поймут и простят читатели, что публицист обратится ненадолго к методу археолога, восстанавливающего по отдельным свидетельствам материальной культуры черты эпохи и ее людей, и попробует в приметах современной космической техники разглядеть черты наших героических современников!
Современный космический корабль — совершенно небывалая вещь. Ничего подобного не было у нас, нет у наших соседей. Это, может быть, наиболее самобытный из всех итогов научного изобретательского творчества. Тут не отыскать следов влияний и заимствований. В нем кристаллизовалась та могучая сила души, что создала Самофракийскую Нику и Сикстинскую Мадонну — человеческое качество величайшей ценности, как когда-то назвал фантазию Ленин.
Я еще раз убедился в этом, побывав в кабинете Главного конструктора космического корабля, где лицо Циолковского глядит из портретной рамы на изображение спутников, на коричневую грифельную доску с полустертыми иероглифами формул. В волевом облике хозяина и окружавших его помощников угадывались души мечтателей.
Советская космическая ракета занимает немалое место в образной палитре публицистов.
Мне хотелось бы сегодня сравнить ракету и с советом народного хозяйства и с Академией наук. В ее вытянутом ввысь, поразительно легком, при громадных размерах, корпусе соединилась продукция почти всех отраслей советской промышленности, пересеклись направления развития главнейших наук. Для нее создавались и новые отрасли производства, например металлургия жаропрочных сплавов, для нее синтезировались особые виды горючего с необычно высокой калорийностью и необычно высоким удельным весом, создающие при горении то солнечно-яркое пламя, о котором вспоминают все участники запуска космических кораблей. Для нее изготовлялись рекордной точности детали в зданиях-недотрогах, возведенных на антисейсмических фундаментах, потому что проезд грузовика по соседней улице для столь тонкого производства почти равен землетрясению; в белоснежных цехах с постоянством среды столь строгим, что малейший подскок ртути в термометре вызывает такую же тревогу, как внезапное потепление лобика спящего ребенка.
Невозможно закрасить детали ракеты в разные цвета, соответствующие предприятиям и ведомствам, участвовавшим в их создании. Ни в одной палитре не хватило бы ни красок, ни оттенков.
Когда люди начали строить Вавилонскую башню, господь бог, всегда притеснявший новаторов, проявил коварство значительно более тонкое чем его олимпийские коллеги, покаравшие Прометея. Олимпийцы лишили Прометея мощи, приковали его к скале; господь бог смешал языки, помешав отдельным группам строителей координировать действия. Наказание оказалось не менее тяжким, чем оковы на руках Прометея.
Чем выше поднимается башня современной науки, тем все больше специализируются, разнятся языки ее отраслей, тем труднее ученым различных специальностей понимать друг друга. Плодотворный встречный процесс синтеза, координации наук, происходящий в условиях капитализма стихийно, осуществляется в нашей стране планомерно, сознательно, на основе большой организационной работы, опирающейся на фундамент философии диалектического материализма. И это безмерно умножает наши силы.
В самой конструкции ракеты как бы материализовался особый синтетический склад ума, беспрепятственно летящий над ведомственными барьерами, над межами классификации наук, как летят советские космонавты над границами стран и континентов. Здесь воплощен человеческий характер, способный объединять людей разных специальностей, разных склонностей, разных квалификаций в активное творческое содружество, более сложное, чем оркестр, потому что оркестр — это сообщество одних музыкантов.
На строительстве космических кораблей разнообразно и гибко пользуются всемогущим инструментом коллективизма. В сложнейших организмах космических ракет возникают иногда загадочные явления, нуждающиеся в быстром диагнозе. И вот по поводу одной из трудноразрешимых загадок был создан общественный совет, состоявший из сотни работников самых разных специальностей. Было бы наивным представлять этот совет как некое подобие Новгородского веча. То был умно организованный коллектив, разделенный на секции, комиссии, подкомиссии, сплетенные друг с другом, как извилины мозга. И свежая зоркость сотен глаз разрешила затруднения.
В рядах безымянных героев находятся творцы двигателей ракеты. Мощность всех двигателей космического корабля Ю. Гагарина составляла 20 миллионов лошадиных сил. Это значит, что в колесницу советского космонавта впряжено все поголовье лошадей царской России конца прошлого века. И опять-таки в этом сравнении интересно не количественное совпадение, а качественное расхождение. Как известно, даже шесть лошадей в одной упряжке начинают мешать друг другу. Никакой табун лошадей никогда не сравняется мощью с ракетным двигателем.
Современная машина характеризуется не только мощью, но и гибкостью управления. Слон силен не только тем, что способен вырвать с корнем дерево, но и тем, что может поднять иголку. Можно образно сказать, слегка сгущая краски, что огненная буря, вырывающаяся из сопел ракеты, так же чутко поддается управлению, как дыхание флейты пальцам флейтиста. Волшебную уздечку для огненных коней создали работники точной механики, приборостроения, электронной автоматики. Впрочем, можно ли сравнить даже со щедро инкрустированной уздечкой 10 тысяч деталей реактивного двигателя!
Мы находим в рядах героев и строителей грандиозных наземных сооружений, без которых невозможен полет ракеты, в том числе исполинских радиотелескопов, радиоприемных и передающих антенн, межпланетной дальнобойности, радиопередатчиков и радиоприемников и опять же вычислительных центров, ведущих обработку наблюдений. Это целая симфония радиоволн, исполняемая оркестром электроники, а серые пульты управления, перемигивающиеся разноцветными огоньками, похожи на листы партитуры этой симфонии, испещренные огненными знаками.
Особое слово надо сказать об испытателях, работающих на громадных испытательных стендах, сооружениях размером с гостиницу «Москва» и столь же тесно, как гостиница постояльцами, заполненных разнообразными приборами. Испытатели трудятся часто в нелегких условиях, подолгу живут с семьями в отдаленных от центров местностях. Они вносят черты героической самоотверженности в коллективный портрет безыменного героя.
В конструкции ракеты как бы воплотился и новый облик рабочего космической эры, когда все больше и решительнее стираются грани между физическим и умственным трудом, когда слесарь превращается в скульптора, монтажник — в хирурга, фрезеровщик — в математика, управляющего электронно-программным станком. Кто возьмет на себя смелость определить: интеллектуальным или физическим напряжением дышит облик рабочего, лелеющего деталь, как Страдивариус скрипку? Кто ответит: физический или умственный труд преобладает в цехе, где рабочий запросто совещается с ученым и пламенный отблеск общего вдохновенья играет на их сосредоточенных лицах?
Под высокими фермами космических верфей кристаллизуются новые моральные нормы человеческих отношений. Дружеское разъяснение и убеждение служит здесь наиболее действенной мерой поддержания коммунистической дисциплины труда. Был такой случай. Один рабочий, монтировавший сложный и замкнутый отсек космического корабля, явился к руководству в величайшем смятении. Ему показалось, что он обронил в отсеке болт. Отсек немедленно разобрали. Составили новый график сборки.
Но монтировать поручили тому же рабочему, который совершил ошибку. Позаботились прежде всего о том, чтобы восстановить доверие к человеку. Надо ли говорить, что повторный график был выполнен отлично и досрочно! В ходе строительства второго спутника Земли конструкторы и рабочие постановили: «За недостатком времени работать без брака». И свое обязательство сдержали.
Барабанщики «холодной войны» пытаются клеветать, что советские победы в космосе достались ценой безудержной траты денег, не знающих счета. Какой вздор! Инженеры, ученые, рабочие — изобретатели космических верфей сочетают полет фантазии и твердый расчет, проявляют большую заботу о народной копейке. За немногие годы после пуска первого спутника стоимость космических объектов понизилась во много раз. Зарубежные техники, похваляющиеся тем, что находятся далеко от политики, далеко от идеологии, удивляются совершенству и надежности советской технологии. Им, далеким от политики, трудно разъяснить, что у нас в стране идеологический фактор превратился и в фактор технологический. Когда руку токаря направляет высокая идея, то и качество деталей высоко.
Один токарь, перешедший на завод космических ракет из авиационной промышленности, сказал как-то: «Раньше я был токарем во всемирном масштабе, а теперь я токарь в масштабе вселенском». Он теперь действительно токарь во вселенском, звездном масштабе, и недаром под планкой с багряными ленточками орденов Ленина на груди его золотится звезда Героя Социалистического Труда. Здесь и заключен величайший секрет советской технологии.
Историки техники, вероятно, будут подробно обсуждать предполагаемые технические причины неполадок на мысе Канаверал: и чудовищные взрывы горючего, и коварные неполадки зажигания, и расстройства «электронного мозга», выводившие ракеты на самоубийственную параболу, уходящую в океанские волны. Но лишь историки общественных отношений установят, что не слепота кибернетики и не безрассудная сила взрыва, а бесчинствующий вихрь противоречий капиталистической экономики разметал на части сложные тела многих американских космических аппаратов.
В сумму времени отставания американской космической техники войдут не только длительность препирательств конкурирующих монополий, но и 84 тысячи человеко-дней, потерянных, по данным американской печати, вследствие забастовок рабочих на базе Канаверал, протестующих против эксплуатации. Запрещение забастовок на ракетных полигонах не поможет делу. Принудительный труд никогда не станет трудом творческим.
Космический корабль у нас, в Советском Союзе, перестал быть отвлеченным понятием, рисуемым в воображении миллионов и доступным для обозрения немногим избранным. Документальный фильм продемонстрировал всем его внешний облик, и на воздушном параде в Тушине мощный вертолет осторожно поднял в железных лапах точный макет космического корабля и пронес его над головами тысяч изумленных зрителей. Спуск на воду даже самого обычного морского корабля является волнующим событием. Исполинский корпус медленно скользит по стапелям, постепенно набирая ход, и торжественно врезается в расступающиеся волны. Гремят аплодисменты сотен зрителей, среди которых нередко присутствуют даже королевские особы.
Но неизмеримо более волнует пуск космического корабля. Ему аплодирует все прогрессивное человечество. Правда, королевским особам еще не выпало счастья присутствовать при церемонии пуска по той простой причине, что государственный строй, возглавляемый королями — помазанниками божьими, неспособен обеспечить надлежащих темпов развития космической техники. Неспособен, и баста! — как бы тут ни гневались их королевские величества, как бы не постукивали они скипетрами.
Тут со всей силой проявилась одна роковая для досоциалистических формаций особенность космической науки и техники, характерная, впрочем, и для многих других новейших областей современной науки. В эру атомных реакторов, синхрофазотронов, исполинских радиотелескопов ученый-изобретатель не может скрыться от противоречий общественной системы за хрупким частоколом колбочек и реторт. Каждый, даже самый незначительный его опыт неизбежно приобретает индустриальный размах. Установки его циклопической лаборатории имеют промышленные масштабы. Вместе с ними в его лабораторию врываются все противоречия капиталистической индустрии и экономики.
Энгельс в свое время предсказывал, что уже с внедрением электричества производительные силы приобретут такой размах, при котором они перерастут руководство буржуазии. Можно ли теперь сомневаться в том, что космическая наука и техника переросли руководство коронованных и некоронованных королей, руководство капиталистов?
Силуэт безыменного героя — Теоретика космических полетов возникает из размышлений над особенностями развития теории во всем комплексе проблем завоевания космоса. Развитие теории подчиняется здесь великой практической задаче, стимулируется и координируется ею. Было время, когда «чистая» теория третировала практику, и нередко истоком высокомерия была грубая низменность практических задач. Ведь в условиях досоциалистических формаций практическая деятельность служила эксплуатации, наживе, разжиганию истребительных войн. Но в условиях социализма великие практические задачи, подобные завоеванию космоса, наполняют животворным содержанием теоретическую мысль, вдохновляют ученых на важнейшие исследования. У подножия космической ракеты происходит ярчайшее цветение теоретических дисциплин, происходит их перекрестное оплодотворение. Теоретики космонавтики — это прежде всего люди, научившиеся сочетать высокий полет теоретической мысли с практикой жизни. Уравнения этих теоретиков при всей самоценной, классической мощи их развития приводят к окончательным формулам, несущим важный государственный результат. Иногда эти формулы приходят на помощь в драматическую минуту и становятся поистине спасительными формулами. Теоретика можно сравнить с прорицателем будущего: в его формулах открываются очертания будущих деталей ракет, небывалых траекторий баллистических межпланетных полетов. Теоретик работает, спираясь на быстродействующие электронные машины, приспосабливая к их возможностям свои математические результаты.
Когда ищут в прошлом аллегорию меткого стрелка, вспоминают о Вильгельме Теле, поразившем стрелой яблоко на голове своего сына. Но и эта аллегория бедна, когда думаешь о точности полета ракеты по ее космической траектории. Ведь стрельба идет с подвижной платформы, со стремительно несущейся Земли, по стремительным космическим целям. Потому так сложна и волнующа разработка траектории полета, осложненная тревогой за участь сына Родины, космонавта, отправляющегося в грядущий полет.
Электронные машины здесь особенно помогают. Они могут вести расчеты буквально перед носом молниеносно летящей ракеты, уточняя теоретические прогнозы в соответствии с новыми, поступающими с космической скоростью данными. Без электронных математических машин освоение космического пространства было бы невозможно.
Не случайно, что еще в докладе на XX съезде КПСС Н. С. Хрущев прозорливо отметил труд ученых и изобретателей, разработавших по заданию партии эту новую могучую технику.
Мы найдем в рядах героев ученых — следопытов космоса, которые с помощью спутников и автоматических космических станций постепенно превращают абстрактную схему звездного неба в практическую штурманскую карту для грядущих звездолетов, на которой уточняются не только масштабы солнечной системы, но и учитывается, привязывается к местности неоднородность космического пространства, в том числе такие коварные объекты, как потоки корпускулярного излучения Солнца; как недавно открытые венцы из потоков ускоренных частиц, сформированные магнитным полем Земли; как потоки метеорной пыли, хлопьев и камней.
Мы находимся у Теоретика космонавтики, человека с энергичным, загорелым, чуть усталым лицом и копною волос, тронутых сединой. Он всегда в коллективе ученых, с которыми решает сложнейшие проблемы космонавтики. На стене его кабинета — фантастический пейзаж чужой планеты. За окном шумит улица, но ученый, поглощенный вереницей земных дел, сидит к окну спиной. Не пейзаж ли, висящий на стене, служит ему окном, не оттуда ли льется свет на его рабочий стол, свет реального близкого будущего…
Космонавты Гагарин и Титов, Николаев и Попович, Быковский и Терешкова приземлились каждый в назначенном месте. Это была труднейшая техническая задача. Как затормозить космический корабль? Как перевести обратно в теплоту энергию его головокружительного движения, когда эта энергия способна при ударе мгновенно расплавить несколько десятков тонн стали, когда требуется такая же энергия торможения, как и для того, чтобы остановить несколько сотен тяжелейших и длиннейших железнодорожных составов, идущих с полной скоростью?
В плеяде безыменных героев, создавших необходимые средства, мы найдем теоретиков и конструкторов самых разнообразных специальностей. Есть среди них и врачи, обладающие мудростью Гиппократа и суровой нежностью спортивных тренеров.
Это теоретики рассчитали ту великолепную траекторию, на которую ложится корабль после включения тормозных двигателей, ту почти волшебную глиссаду, при которой грозный панцирь воздушной оболочки Земли, испепеляющий метеориты, сам становится спасительным тормозом до тех пор, пока не начнут срабатывать звенья целой цепи иных тормозных устройств.
Это конструкторы создали систему ручного управления, позволяющую космонавту стать хозяином космического корабля, ориентировать его в любом положении, направлять, куда понадобится, приземлять в назначенное место.
Это конструкторы, технологи, материаловеды обеспечили такую тепловую защиту, при которой космонавт, находящийся в кабине, окруженной клубком небесного огня, оболочкой светоносной плазмы с температурой во много тысяч градусов, оставался невредимым, словно сказочная Саламандра.
Это физиологи отважно и бережно вовлекали будущего космонавта в бешеный вальс центрифуг, неистовую тарантеллу вибростендов, приучая его мускулы и нервы к небывалым ускорениям и вибрациям, это они приучали космонавта к одиночеству в тишине сурдокамер, из которых безусый юноша выходит обросшим бородой.
Освоение космоса — это подвиг юного Геркулеса. На празднике безыменных героев мы увидели бы много молодых и счастливых лиц. Только тот из больших ученых, штурмующих космос, достигает успеха, кто умеет растить и выдвигать молодежь, терпеливо работать с нею. А поэтому у подножия космической ракеты неустанно действует замечательная кузница новых кадров.
Буржуазные «романы карьеры» изображают движение молодого человека по ступеням власти над людьми. Каждодневно расширяющийся фронт завоевания космоса открывает большой простор для выдвижения. Но и даже оставаясь на своем рабочем месте, близ космической ракеты выдвигаются все. Рост работника повышается в рамках его специальности. Он стремительно движется вверх по ступеням власти над природой.
Любо-дорого смотреть на эту молодежь, жизнерадостную, быструю, сообразительную, спаянную единой творческой дисциплиной.
Что еще сказать о стиле работы участников штурма космоса? Это стиль современного этапа развития социалистического общества, стиль Коммунистической партии, ленинский стиль, восстановленный в полной силе после XX съезда КПСС. Это новая Программа Коммунистической партии в действии.
В одном из исторических выступлений на Красной площади Никита Сергеевич сказал крылатую фразу: социализм — это и есть та надежная стартовая площадка, с которой Советский Союз запускает свои космические корабли.
В те минуты вся Красная площадь показалась нам стартовой площадкой, а кремлевские башни—устремленными ввысь ракетами, несущими нас в коммунизм.
И еще воображение рисовало нам грандиозные, почти фантастические сооружения советского космодрома Байконур. Расступились в стороны стальные фермы, поддерживающие космический корабль, и он стал похожим на обелиск, омываемый волнами пламени у подножия.
А там, из мглы веков, выступал еще один темный столб и под ним языки огня, лижущие основание. Это древняя римская площадь Цветов, на которой сжигают Джордано Бруно. Как похожи силуэты, как различно их значение! Там был мученик, здесь — герой; там — великая трагедия, здесь — триумфальная эпопея; там — гонимая мечта о множественности миров, здесь — начало их
завоевания.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ, в котором выводятся некоторые соображения о качествах, необходимых изобретательской голове, и еще раз подтверждается, что методики изобретательства пока не существует. Но метод — есть!
Пора закруглять затянувшееся повествование, начинать подводить итоги.
И пока еще кружится в памяти хоровод рассказов и притч, пусть читатель еще раз переберет их в уме и еще раз учтет, что от каждой притчи расходятся во все стороны разнообразные стрелки умозаключений. И, возможно, читатель поспешит отобрать из них в первую очередь те, которые указывают на качества, необходимые изобретательской голове. Ведь он понял, что методики изобретательства нет, что рецептов, как делать изобретения, пока не существует и что путь к изобретательству состоит в совершенствовании творческой личности, совершенствовании своей головы.
Он припомнит главу четвертую, разделы 4.1–4.7 и заметит, что многие изобретения только кажутся сделанными по счастливой случайности, по счастливому вдохновенью, а что счастье изобретателя в нем самом, в его знаниях, опыте, стремлении к цели, изобретатель сам накапливает в себе заряд вдохновенья.
Он припомнит раздел 4.8 и заметит, что изобретения не делают лежебоки, вдохновенье приходит к изобретателю в труде и борьбе.
Он припомнит разделы 4.9–4.10 и заметит, что большие изобретения обязательно сделаны по заказу. Значит, надо уметь чувствовать этот заказ. Жить потребностями своей страны, своего народа, нуждами строительства коммунизма. Лишь тогда можно сделать большое изобретение. Тут великий источник изобретательского вдохновенья.
Он припомнит главы первую, вторую, третью и заметит, что не всякая техническая выдумка имеет право называться изобретением. Изобретением будет лишь та, которая нова, полезна и целесообразна и технически осуществима. Эти главы опять говорят о качествах, необходимых изобретателю.
Он припомнит разделы 1.7–1.14, 3.14—3.15 и заметит, что изобретателем может быть лишь тот, кто умеет чувствовать новое, глядеть в грядущее, кто умеет фантазировать и мечтать и воплощать свои мечты в действительность.
Он припомнит разделы 2.1–2.9 и заметит, что большой изобретатель почти всегда — гуманист. Что идеи мира и созидания вдохновляют изобретателей на их лучшие творения.
Он припомнит разделы 3.1–3.13 и заметит, что изобретателем может стать лишь тот, кто умеет бороться с косностью, побеждая ее в себе и других.
Он припомнит главу девятую и, быть может, позавидует тем, кто сумел разглядеть в привычной машине черты неродившейся еще вещи. И, быть может, захочет получше изучить свою машину, чтобы видеть все в ней насквозь; стать специалистом своего дела. В постижении дела рождается вдохновенье.
Он припомнит главу 8. 1–8. 9 и заметит, что изобретения являются порой из соседних областей техники. Вдохновенье приходит со стороны. Значит, надо учиться широко глядеть по сторонам, знать не только одно свое дело, быть широко образованным, информированным человеком.
Изобретателю надо уметь видеть общее, быстро схватывать общую суть различных, казалось бы, вещей. Этому учит людей наука — теория, вдохновляющая изобретателей. Он припомнит раздел 7.4 и, быть может, захочет получше изучить математику. Математическая дорожка — это один из путей, по которым приходят изобретения. В математических формулах таится родничок вдохновенья.
Он припомнит главу десятую и заметит, что изобретения приходят порой из прошлого. Опыт прошлого вдохновляет изобретателя в его сегодняшнем творческом труде. Значит, надо обогащать свой разум всеми богатствами, уже завоеванными человечеством. Нужно изучать историю техники, делая из нее выводы и обобщения, полезные для решения сегодняшних задач.
Он припомнит главу пятую, шестую, тринадцатую и заметит, что изобретения делаются таким числом людей, что порой трудно сказать, кому принадлежит изобретение, и в работах великих изобретателей соединяются усилия многих поколений. Вдохновенье ярко разгорается в коллективе. Изобретатель должен быть коллективистом.
Читатель еще раз перелистает страницы, рассказывающие об изменениях вещей, в которых как бы отпечатались движения изобретательской мысли, ее «мыслительные фигуры».
Он заметит, что в разделах 6. 1, 6. 14 рассказано о том, что рост количества порождает в вещах новые качества.
Он заметит, что в главе восьмой говорится о взаимной связи вещей друг с другом.
Он заметит из главы десятой, что вещи, развиваясь, повторяют на высшей ступени свои первоначальные формы.
Он заметит, что в главе девятой говорится о единстве противоположных начал, заключенных в вещах.
Что же это за «мыслительные фигуры»? Это объективные законы развития материи, природы и общества, законы изменения вещей, отраженные в человеческой голове — диалектические законы. Значит, изобретатель, изменяющий вещи, должен уметь применять эти законы, развивать в себе способность диалектически мыслить.
Методики изобретательства пока не существует. Но метод есть. Это метод созидательного мышления — диалектико-материалистический метод. Материалистическая диалектика — муза всякого творчества. В ней — источник величайших творческих вдохновений. Тут изобретатель подходит к полке с книгами по общественным наукам. Невозможно обойтись без философии, политэкономии, конкретной экономики!
Быть может, читатель, захлопнув книгу, призадумается над рабской судьбой изобретателей в капиталистических условиях, и его еще сильнее охватит радость вольного творческого труда в нашей социалистической стране.
И, быть может, именно ты, читатель, протянешь руки, чтобы поддержать немеркнущий светоч знания, светоч открытий и изобретений, который несут через века, передавая друг другу, поколения славных русских ученых и изобретателей.
Ты работаешь на сильной, разумной, деловитой машине, а нельзя ли добавить машине ума, сделать ее еще сильнее, еще разумнее, еще деловитее? Изобретатели проделали долгий путь, пока дошли до той самой машины, на которой ты работаешь каждый день. Ты уже стоишь на той ступени, до которой с трудом взбирались изобретатели. Попытайся шагнуть еще на одну ступеньку! Не всякий пройдет лестницу, не всякий станет большим изобретателем. Но одна ступенька! Неужели она тебе не по силам?
Неизвестно, откуда нахлынет идея — может, из прошлого, может, со стороны. В каждом изобретении живут его предки, каждое изобретение — брат своих братьев.
Неисчислимы пути, по которым приходят изобретения. Приведи себя в готовность принять их с любого пути.
Думай! Ищи! Пробуй! Шагай!
Так выходят на дорогу изобретательства.
Крут и труден путь, но ведет он в страну исполнения желаний, мир будущего, мир чудес.
Его следовало бы яркими красками изобразить в заключенье, в финале. Но уж так ли нужен финал для книги об изобретательском вдохновенье, для которого нет ни потолка, ни предела? Может быть, просто поставить точку и воткнуть в стол перо!
Примечания
1
Мы имеем в виду Руд. Бершадского, написавшего в «Новом мире» № 4 за 1962 год интересную статью «Ученый, который знает все».
(обратно)2
В интересной книге П. М. Якобсона «Творчество изобретателя». Издательство Центрального совета Всесоюзного общества изобретателей. М.—Л., 1934.
(обратно)3
Подробнее об ошибке Эдгара По рассказал писатель А. Ивич в своей интересной книжке «Приключения изобретений».
(обратно)4
Книга К. К. Андреева не только яркая биография Жюля Верна, но и глубокое размышление о связи фантастики и реальности, действительности и мечты.
(обратно)5
А не Нерону, как путают некоторые.
(обратно)6
Самый факт взят мной из очерка Льва Гумилевского об А. Микулине, напечатанного в журнале «Техника-молодежи».
(обратно)7
О роли наблюдательности в изобретательском творчестве подробно рассказывается в талантливой книге В. Пяткова и О. Потаповой «Учись изобретать», изданной, к сожалению, крайне незначительным тиражом в 1962 году в Краснодаре.
(обратно)8
Мы имеем в виду содержательную книжку А. Морозова «Тайны моделей». «Молодая гвардия», 1955, 320 стр.
(обратно)9
В этом месте изобретательно мыслящий читатель непременно поставит «галочку». Рост количества породил новое качество, небывалое явление, невиданное в природе. Heт ли здесь какого-то общего пути, ведущего к новым изобретениям? Есть, конечно!
Поглядите на веселую струйку воды в фонтане, которую ручонкой дразнит ребенок. Увеличим напор до нескольких атмосфер, и струя превратится в землекопа. Это будет гидромонитор, размывающий холмы и карьеры. Увеличим напор до десятков атмосфер, и струя превратится в забойщика. Она будет способна рубить уголь в шахте. Увеличим напор до двух тысяч атмосфер, и струя превратится в камнереза. Она будет резать гранит.
Поля книги узки для дальнейших заметок. Но читатель уже намотал на ус полезный изобретательский принцип.
(обратно)10
Исторические документы свидетельствуют об еще одной версии изобретении Яблочковым электрической свечи. Устойчивая дуга будто бы образовалась случайно между угольными электродами, погруженными в соль, при попытке электролиза поваренной соли. Я однажды попытался в лаборатории повторить опыт Яблочкова с электролизом поваренной соли и очень старался получить здесь устойчивую дугу. Это не вышло. Дуга гасится бушующим соляным расплавом.
(обратно)11
Вот как хитро поступил Яблочков, заметит читатель. Сделал малость — изменил лишь среду, разделявшую угли, ввел прокладку между углями, и сейчас же полетели в хлам все колесики, пружинки, электромагниты, составлявшие сложный электромеханический регулятор.
(обратно)12
Вот, смекнет читатель, на этот раз изменена среда, в которой горит дуга, и опять родилось новое изобретение — электроды с обмазкой, вносящие в беспокойное дело сварки невиданную раньше устойчивость.
(обратно)13
Вновь знакомый ход мысли, еще раз изменена среда, в которой пылает электрическая дуга, и родилось в итоге новое изобретение — электросварочная машина, варящая швы небывалой прочности. Тут читатель уверенно берет на карандаш метод изменения среды, как некий путь, по которому приходят изобретения.
(обратно)14
Возможно, против этих строчек читатель пометит на полях две латинские буквы NB, что означает в сокращении «Nota bene» — примечательное место. Действительно, не является ли принцип возвращения отходов (утиля) обратно в процесс — утилизация— одним из путей, по которым приходят изобретатели? Ну-ка, ну-ка, нет ли в технике других примеров, подтверждающих это? Пожалуй, есть. Изобретатель Сименс повернул горючие газы, отходящие от мартеновской печи, и использовал их для дополнительного подогрева той же самой печи. Исторические примеры множатся… Читатель заносит в записную книжечку два памятных слова: «Принцип утилизации».
(обратно)15
Ага! — скажет внимательный читатель, — тут, опять во вредном раскрывается полезное, недостаток оборачивается достоинством. А не взять ли и эту мысль на заметку, как полезный изобретательский принцип?
(обратно)16
Здесь мы стараемся следовать замечательной книге И. Я. Конфедератова „История теплоэнергетики". Госэнергоиздат, М. — Л., 1954, где впервые дается история паровой машины во всей сложности технических и экономических проблем и человеческих отношений. Горячо советуем прочитать ее изобретателям.
(обратно)

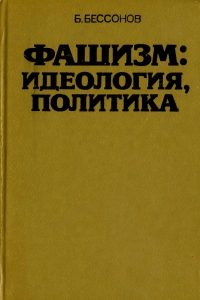
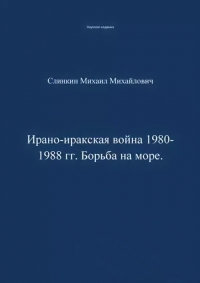
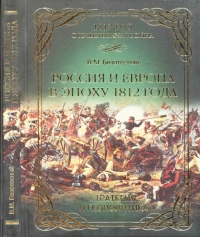
Комментарии к книге «Трактат о вдохновенье, рождающем великие изобретения», Владимир Иванович Орлов
Всего 0 комментариев