ЧЕРНАЯ КНИГА
”...Народ уничтожить невозможно!..”
Илья Эренбург. ”Эйникайт”, 25.6.1943.”Сегодня мало говорить об ответственности Германии за то, что произошло. Сегодня нужно говорить об ответственности всех народов и каждого гражданина мира за будущее.”
В. Гроссман, Треблинский ад.ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ ”ЧЕРНОЙ КНИГИ”
Настоящее издание осуществлено Институтом Памяти жертв нацизма и героев сопротивления ”Яд Вашем”, Израильским институтом исследования современного общества и издательством ”Тарбут”. Книга печатается по рукописи сборника, составленного под редакцией Василия Гроссмана и Ильи Эренбурга в 1944—1946 гг. ”Черная Книга” была подготовлена к печати, но так и не вышла в СССР: в 1948 г. ее набор был уничтожен.
В настоящее издание включены также материалы ”Черной Книги”, которые в свое время были опубликованы в советской периодике, но отсутствуют в рукописи, попавшей в Израиль; издатели снабдили текст примечаниями, краткими сведениями об авторах, именным и географическим указателями. Некоторые страницы, отсутствующие в экземпляре рукописи, воспроизводятся в обратном переводе с румынского по изданию Ilya Ehrenburg, Vasilii Grosman, Lew Ozerow, Vladimir Lidin... Cartea Neagra, Bucuresti [1946]. Незначительные пропуски, обнаруженные при сличении рукописи со сборниками
איליא ערענבורג, מערדער פון פעלקער (מאטעריאלן וועגן די רעציכעס פון די דייטשישע פארכאפער אין די צייטווייליק אקופירטע סאוויעטישע ראיאנען), ”דער עמעס”, מאסקווע, זאמלונג I-1944, II-1945.
внесены в обратном переводе с языка идиш. Неразборчивые строки и купюры в очерке В. Гроссмана ”Треблинка” восстановлены по его книге ”Треблинский ад” (Москва, 1945). Неясные места, имевшиеся в письме Р. Фрадис-Мильнер, помогла уточнить автор, живущая ныне в Израиле.
Все вставки выделены квадратными скобками, отмечены звездочками и оговорены в разделе ”Дополнения и примечания”, помещенном в конце книги. Постраничные сноски, отмеченные цифрами, принадлежат составителям ”Черной Книги”.
Рукопись ”Черной Книги” подготовили к печати и снабдили справочным аппаратом научные сотрудники Марк Кипнис и Хая Лифшиц.
Ответственный за издание Феликс Дектор.
УНИЧТОЖЕНИЕ ЕВРЕЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ НА ОККУПИРОВАННОЙ НЕМЦАМИ ТЕРРИТОРИИ СССР.
В годы Второй мировой войны нацисты уничтожили 6 миллионов евреев, в том числе полтора миллиона на оккупированной территории СССР.
Для политики нацистской Германии по отношению к евреям характерно постепенное усиление жестоких мер. С приходом Гитлера к власти в январе 1933 года и до начала Второй мировой войны нацистская политика в отношении евреев Германии была направлена на то, чтобы лишить их гражданских прав, вынудить их оставить Германию и конфисковать имущество, принадлежащее евреям. После начала Второй мировой войны и оккупации немцами территории западной и центральной Польши, на которой проживало около двух миллионов евреев, начался новый, более жестокий этап в нацистской политике. Евреи были загнаны в гетто. Они подвергались всяческим унижениям, голодали и должны были носить особый отличительный знак; их использовали на тяжелых принудительных работах, на них были наложены непосильные контрибуции. Евреи подвергались коллективным наказаниям, и многие из них были убиты за малейшее нарушение и неповиновение.
Физическое уничтожение евреев в Европе началось после нападения Германии на Советский Союз в июне 1941 года. Евреи СССР были первыми обречены на истребление.
Решение о тотальной физической ликвидации еврейского народа было принято накануне нападения на СССР и было обусловлено двумя факторами.
1-ый фактор: эскалация войны, ее всемирный характер сняли политические и гуманитарные ограничения мирного времени. Военные действия, которые велись в крупном масштабе, гибель миллионов людей сделали возможным полное уничтожение еврейского народа, самого ненавистного врага Гитлера и нацистов.
2-ой фактор: Представления Гитлера о роли евреев в СССР и о связи между большевизмом и еврейством. Гитлер рассматривал советское государство и коммунистическую идеологию как инструмент и средство, которыми евреи пользовались для установления мирового господства.
Физическое уничтожение евреев на территории Советского Союза явилось частью так называемого ”окончательного решения еврейского вопроса”, а также средством для разрушения советского государства и подготовки европейских территорий Советского Союза к немецкой колонизации.
В директивах плана ”Барбаросса” (шифр нападения на Советский Союз), который верховное командование вермахта утвердило 13 марта 1941 года, сказано: ”Для подготовки политического управления на территории действий армии рейхсфюрер СС (Гимлер) получает особые задания от фюрера, вытекающие из решительной борьбы, которая ведется между двумя противоположными политическими системами.
Практически эти ”особые задания” фюрера заключались в уничтожении всех евреев и коммунистических деятелей на территориях, которые были оккупированы.
В ”Приказах о военных полевых судах и комиссарах”, которые были отданы верховным командованием вермахта в мае-июне 1941 года, подчеркивалось, что граждан, подозреваемых во враждебной деятельности (коммунистов, военных комиссаров и политработников), следует казнить без суда и без следствия.
В этих приказах прямо не говорится о евреях, но поскольку евреи еще ранее были определены как враги Рейха — коммунисты, и во многих документах вермахта их называют основной вражеской силой, то эти приказы служили немецкой армии оправданием для массового уничтожения евреев на оккупированной территории.
Для осуществления этой задачи были созданы четыре оперативные группы СС (эйнзацгруппы), подчиненные Рейнхарду Гейдриху, которые занимались уничтожением евреев и комиссаров. В целях полной секретности эти группы получали приказы об уничтожении евреев в устной форме. Начальники ”эйнцацгруппен” подчеркивали этот факт во время процессов, которые проходили после войны.
”Эйнзацгруппа А” действовала в Прибалтийских республиках и на ленинградском направлении; ”Эйнзацгруппа В” — в Белоруссии и в московском направлении; ”Эйнзацгруппа С” зверствовала на Украине; ”Эйнзацгруппа Д” — в Молдавии, южной части Украины, в Крыму и на Северном Кавказе.
После них оставались лишь небрежно засыпанные рвы — общие могилы замученных и расстрелянных в Румбуле (около Риги), в Девятом Форте (Каунас), в Понарах (под Вильнюсом), в Бабьем Яру (в Киеве), в Травицкой долине (под Харьковом), в Малом Тростенце (под Минском) и во многих других местах, а в них сотни тысяч евреев — мужчины, женщины, старики и дети.
Оккупированная часть Советского Союза была разделена на четыре зоны: в одной, непосредственно примыкающей к линии фронта, была установлена военная администрация; во второй зоне, находившейся под военным управлением, вермахт предоставил свободу действий ”эйнзацгруппен”, и евреи были почти полностью уничтожены в первые же месяцы оккупации. Немецкие военные части, особенно ”Ваффен СС” и даже регулярные армейские подразделения непосредственно помогали ”эйнзацгруппен” в истреблении евреев.
В некоторых городах, находившихся под управлением немецкой военной администрации, нацисты были вынуждены оставить в живых определенное количество еврейских специалистов: столяров, жестянщиков, сапожников, портных и т.д. Это была вынужденная мера, так как им не хватало специалистов неевреев. Но и эти люди были уничтожены спустя несколько месяцев. Вторая зона, куда входили Эстония, Латвия, Литва, Западная Белоруссия со столицей Минск, часть Украины до Днепра были подчинены немецкой гражданской администрации, во главе которой стоял министр по делам восточных территорий Альфред Розенберг.
Истребление евреев на временно оккупированных территориях продолжалось полицией и СД, подчиненных немецкой гражданской администрации. Большинство евреев из республик Прибалтики были уничтожены до конца 1941 года. В Западной Белоруссии, в Минске и в Западной Украине евреи были уничтожены до конца 1942 года.
В третью зону входили Молдавия и широкие пространства юго-западной Украины, находившиеся между реками Днестр и Буг, включая Одессу. Эта область получила название Транснистрия и была передана румынским властям. На территориях под румынским управлением уничтожение евреев было проведено при участии румынской жандармерии и армии.
В четвертую зону входила Восточная Галиция с городом Львовом. Эта территория была присоединена немцами к Генеральному Губернаторству в Польше. Евреи, жившие там, разделили судьбу евреев оккупированной Польши. Большинство из них погибли в лагере смерти Бельзец. На всех оккупированных территориях активное участие в уничтожении евреев, включая массовые расстрелы, принимали полицейские, которых немцы вербовали из местных предателей.
Из-за нехватки рабочей силы, в особенности специалистов, немецкая гражданская администрация распорядилась частично сохранить гетто и трудовые лагеря в Вильнюсе, Каунасе, Риге, Минске, Львове, Транснистрии и некоторых других местах.
Жизнь в гетто была невыносимой — голод, холод, постоянный страх, каторжная работа. Это было существование в ожидании смерти. Немцы регулярно проводили так называемые ”акции”, во время которых в первую очередь уничтожали всех нетрудоспособных: детей, стариков и больных. А за ними на очереди были и трудоспособные.
Узникам гетто запрещались какие бы то ни было формы общественной деятельности, отправление религиозных обрядов, культурная деятельность, даже рождение детей. Перед смертью евреи должны были осознать, что они — люди низшего сорта. Немцы хотели их морально согнуть, измучить, унизить, а потом — убить.
Евреи гетто мужественно сопротивлялись варварским действиям нацистов. Игнорируя приказы немцев, они организовывали медицинскую помощь, проводили просветительные и религиозные мероприятия, оказывали социальную поддержку. Женщины продолжали рожать в подпольных родилках. Тайно сохраненные радиоприемники приносили узниками гетто сведения о поражениях гитлеровских войск. За колючую проволоку проносились запрещенные печатные издания. В некоторых гетто велись подпольные архивы, целью которых было сохранить письменные свидетельства об этом страшном времени, о том, как в те годы существовали, боролись и умирали евреи.
Все это было связано с большим риском, и тысячи евреев поплатились жизнью в борьбе за то, чтобы и в этих невыносимых условиях сохранить свое человеческое достоинство.
В течение 1943 года были ликвидированы оставшиеся до этого гетто и трудовые лагеря в Вильнюсе, Каунасе, Минске и ряде других городов. Большинство обитателей гетто было уничтожено в районах проживания, а остальных вывезли в лагеря смерти: Собибор, Треблинку, Бельжец. Последние трудовые лагеря, в основном, в Литве, Латвии и Эстонии были расстреляны, остальных перевезли в концентрационные лагеря в Германию, где большинство из них были убиты.
Те немногие евреи, которым удалось спастись из гетто и лагерей, искали убежища, но не часто могли найти поддержку у местного населения. Значительная часть жителей, особенно в республиках Прибалтики, в Западной Украине и Молдавии сотрудничали с гитлеровцами и даже активно участвовала в уничтожении евреев. Часть населения совершенно равнодушно отнеслась к судьбе своих бывших соседей и знакомых, обреченных на смерть. Мотивы такого отношения различны: страх перед репрессиями немцев, антисемитизм, корысть и т.д. Но были люди, хотя их было немного, которые, рискуя своей жизнью и жизнью своих семей, спасали своих евреев.
Евреи, оставшиеся на оккупированной территории, пытались оказывать сопротивление гитлеровцам, бороться. В гетто и в лагерях возникло еврейское подполье, которое включало членов молодежных организаций различных политических направлений. Евреи Вильнюсского, Каунасского, Белостокского, Минского и других гетто вступали в смелую, но неравную борьбу с темными силами расизма.
Члены этих подпольных групп вели подрывную деятельность в тылу, организовывали отряды сопротивления. Многие евреи — одиночки и группы, которым удалось вырваться из гетто и лагерей, присоединились к партизанам. В лесах Белоруссии и Украины, в Восточной Литве десятки тысяч евреев сражались в еврейских и многонациональных отрядах. Они шли в атаку на немецкие войска, устраивали засады на дорогах, закладывали мины, пускали под откос железнодорожные составы. Тысячи евреев отдали свою жизнь во время восстаний в гетто и в партизанской борьбе. Приблизительно полмиллиона евреев находились в годы Отечественной войны в рядах Красной Армии, многие пали смертью храбрых на фронте. Евреи СССР отличились в этой войне, и более 150 из них получили самую высокую награду: медаль ”Золотая Звезда” и звание Героя Советского Союза.
Освобождая временно оккупированные немцами территории, большинство из них летом 1944 года, Советская Армия почти не встретила там евреев. Из 2,75 — 2,95 миллионов евреев, которые оказались под немецким господством на оккупированной территории СССР (свыше миллиона из них жили на территории СССР до 1 сентября 1939 года), погибли почти все. Уцелели очень немногие, незначительное число, главным образом, в западных районах. Остались в живых те, которые нашли убежище у местных жителей, кому удалось выдать себя за арийцев, и те, которые скрывались в лесах, были в партизанских отрядах, а также те немногие, которые вернулись из лагерей. Среди евреев, проживавших в восточной части оккупированных немцами районов и оказавшихся там в оккупации, осталось в живых меньше одного процента. Исключением была Транснистрия, которая была под властью Румынии, там процент оставшихся в живых был немного выше. Подавляющее большинство евреев погибло, их пепел остался в многочисленных долинах смерти. Сотни еврейских общин и местечек, где евреи жили в течение веков, сохраняя свои культурные ценности, были стерты с лица земли. Для миллионов евреев победа над нацисткой Германией пришла слишком поздно. Они не увидели День Победы.
К количеству жертв среди советских евреев во Второй мировой войне нужно добавить около 200000 евреев — военнослужащих Советской Армии, павших на фронтах или расстрелянных в лагерях военнопленных. Кроме того десятки тысяч евреев, как и других советских граждан, умерли во время осады Ленинграда, Одессы и других городов и в глубоком тылу Советского Союза из-за тяжелых условий жизни там во время войны.
Годы немецкой оккупации, годы Катастрофы (”Шоа”) были самыми тяжелыми и трагическими в многовековой истории евреев Советского Союза. В День Победы евреи СССР вместе со всем еврейским народом и всем прогрессивным человечеством праздновали победу и одновременно оплакивали 6 миллионов своих жертв — жертв фашизма и антисемитизма.
Доктор Ицхак Арад.
ИЗ ИСТОРИИ РУКОПИСИ ”ЧЕРНОЙ КНИГИ”
После продолжительной работы над текстом ”Черной Книги”, полученной архивом Мемориального института памяти жертв нацизма и героев сопротивления ”Яд Вашем” еще в 1965 году, книга. наконец, выходит в свет.
Об этом монументальном собрании документов и материалов, собранных, в основном, И.Эренбургом и посвященных судьбе евреев в годы Второй мировой войны, я впервые услышал через несколько недель после окончания Второй мировой войны. Известный публицист Бен-Цион Гольдберг из Нью-Йорка, посетивший Центральную еврейскую историческую комиссию в Польше, рассказал нам, что он был приглашен Эренбургом в Москву для обсуждения возможностей издания сборника материалов, посвященных гибели и сопротивлению советского еврейства также на английском языке.
Еврейские исследователи освобожденной Польши долгое время с нетерпением ждали выхода в свет этого издания. Ждали его и оставшиеся в живых евреи, многие из которых передали спасенные ими документы не только Исторической комиссии, созданной в 1944 г., а непосредственно Илье Эренбургу — в то время самому популярному писателю и публицисту, который, начиная с нападения нацистской Германии на Советский Союз, своими статьями, полными гнева, в известной мере способствовал победе над фашизмом. Его статьями зачитывались бойцы Красной армии, перед ним преклонялась студенческая молодежь.
С первых дней войны И.Эренбург начал собирать документы и материалы о преступлениях немцев, о национальной трагедии еврейского народа, о его сопротивлении и героизме. Красноармейцы приносили ему дневники, завещания, фотографии, песни, документы, которые они находили в разрушенных городах и местечках. Немало документов и материалов, разоблачающих преступления нацистов, а также свидетельских показаний о героизме евреев в эти страшные годы было передано ему партизанами.
Поэт-партизан Авраам Суцкевер вспоминает, что, когда он встретился с Эренбургом и рассказывал ему о трагедии литовского еврейства, Эренбург записывал карандашом отдельные наиболее важные детали. ”Эренбург влюбился, — пишет Суцкевер, — в еврейских партизан-героев”. И потом действительно написал рассказ ”Смерть героя” — о трагической гибели командира партизан Вильнюсского гетто Ицика Витенберга. А самому А.Суцкеверу, поэту-партизану, он посвятил статью ”Торжество человека” (”Правда”, 29.IV—1944).
В годы войны Эренбург собрал огромный материал о массовом уничтожении еврейского населения. В это собрание вошли, среди прочих, прозаическое произведение о трагедии греческого еврейства на греческом языке, поэма на французском языке, написанная на папиросной бумаге в лагере уничтожения, драма, занимающая, примерно, 200 страниц, на иврите, несколько дневников еврейских детей, нашедших убежище в костелах, стихи и записи на идише. Все эти материалы были собраны Эренбургом в трех огромных альбомах. Есть сведения о том, что Эренбург мечтал передать эти уникальные материалы Еврейскому университету в Иерусалиме. Посетив Еврейский музей в Вильнюсе, он отдал собранные им материалы музею, однако с условием, что в случае закрытия музея, они будут ему возвращены (Эренбург уже в то время предвидел такую возможность). И действительно, после ликвидации музея альбомы (рукописи) были возвращены Эренбургу.
* * *
В начале 1943 года у Эренбурга уже созрел план издания трех книг: первая должна была рассказать об уничтожении евреев на территории Советского Союза (потом эта книга условно была названа ”Черной Книгой”); тему второй книги Эренбург предложил на пленуме Еврейского антифашистского комитета (март, 1943); его выступление было опубликовано под названием ”Нужен сборник о евреях-героях, участниках Великой отечественной войны”; третью книгу он предполагал посвятить евреям-партизанам, боровшимся на оккупированной немцами территории СССР.
Для осуществления этого грандиозного замысла при Еврейском антифашистском комитете была создана Литературная комиссия, которая, прежде всего, занялась подготовкой к печати первой книги. В этой работе принял активное участие известный советский писатель Василий Гроссман. Эренбург привлек к сотрудничеству ряд писателей и журналистов — евреев и неевреев, у которых уже имелись материалы, полученные от оставшихся в живых, а также воспоминания о том, что они сами пережили в годы войны. Так, например, А. Суцкевер написал для ”Черной Книги” около 200 страниц воспоминаний о гибели вильнюсских евреев (рукопись перевела на русский язык Рахиль Ковнатор).
Первый вариант ”Черной Книги” был закончен к началу 1944 года, и отрывки из нее были опубликованы в журнале ”Знамя” с предисловием Эренбурга под названием ”Народоубийцы”. В том же году издательство ”Дер Эмес” издает на идише, под редакцией Эренбурга, первую часть книги ”מערדער פון פעלקער” (”Народоубийцы”), а в 1945 году выходит вторая часть. К каждой части этой книги Эренбург пишет отдельное предисловие. В этих двух небольших по объему публикациях Эренбург поместил ряд свидетельских показаний и документов о преступлениях нацистов. Эренбургу приходилось самому допрашивать взятых в плен немецких офицеров высокого ранга. В этих случаях его первыми словами были: ”Я — еврей”, что повергало в страх нацистов. В этот сборник, кроме свидетельских показаний, сообщений, документов и отрывков из дневников, писавшихся в гетто, вошло много писем еврейских солдат и офицеров, отправленных ими из уничтоженных городов и местечек после освобождения. Они также присылали Эренбургу найденные ими письма погибших евреев. И в каждом из этих писем повторялся призыв: ”Не забывать”.
В этом же году Эренбург составил еще один сборник на русском и французском языках — ”Сто писем”. Это — избранные письма, написанные Эренбургу в годы Второй мировой войны. Среди них встречаются письма, посвященные еврейской трагедии. Французский текст этого сборника вышел в Москве в 1944 г., а издание русского оригинала было приостановлено. Единственный экземпляр верстки хранится в личном архиве Эренбурга.
Эренбург неизменно отвечал на сотни писем евреев из всех уголков Советского Союза, в которых они запрашивали о судьбе своих родных и близких. Он делал все возможное, чтобы разыскать этих людей или узнать об их судьбе.
В подготовке к изданию ”Черной Книги”, составителями и редакторами которой были И. Эренбург и В. Гроссман, приняли участие более сорока писателей и журналистов. Примерно третья часть свидетельских показаний, вошедших в ”Черную Книгу”, обработана непосредственно И. Эренбургом. ”Это не литература, а правдивые рассказы без каких-либо прикрас”, — говорил он о материале книги.
Большое значение имеют малоизвестные факты, свидетельствующие о мужестве и национальной гордости евреев, о том, как безоружные евреи пытались оказывать сопротивление палачам, как мужественно они встречали смерть.
Среди авторов были еврейские писатели, которые сегодня живут в Израиле — Авраам Суцкевер, Меер Елин, Герш Смоляр. Некоторые авторы стали жертвами репрессий сталинского режима — такие как Лейб (Лев) Квитко, расстрелянный вместе с другими деятелями еврейской культуры в начале 50-ых годов, или Гирш Ошерович, который семь лет томился в советских тюрьмах и лагерях (ныне проживает в Израиле).
В работе над ”Черной Книгой” принимали участие и другие известные советские писатели и журналисты — евреи и неевреи: В. Лидин, М. Алигер, В. Иванов, Р. Фраерман, В. Инбер, В. Шкловский, О. Савич, А. Дерман и другие.
Работа над сборником продолжалась с 1944 по 1946 год.
Первоначальный замысел Эренбурга состоял в том, чтобы сразу после издания ”Черная Книга” была переведена на несколько языков, в первую очередь — на английский. Об этом говорил встречавшийся с ним в 1945 году Бен-Цион Гольдберг — один из руководителей Американского комитета еврейских писателей, художников, ученых, который организовал поездку в Соединенные Штаты деятелей Еврейского антифашистского комитета в Москве — Соломона (Шлойме) Михоэлса и Ицика Фефера.
Подготовка ”Черной Книги” к печати была в самом разгаре, когда Литературная комиссия при Еврейском антифашистском комитете получила указание начальника Совинформбюро С. Лозовского, по совместительству официально возглавлявшего Еврейский антифашистский комитет, приостановить работу над изданием и передать все материалы ”Черной Книги” непосредственно Еврейскому комитету.
После ликвидации Литературной комиссии была опубликована в ”Правде” статья Г. Александрова ”Товарищ Эренбург упрощает”, которая резко осуждала Эренбурга за то, что тот, якобы, не провел четкой грани между немцами-фашистами и немцами-демократами.
Вот что Эренбург писал Суцкеверу о ликвидации Литературной комиссии:
Дорогой Абрам Герцевич!
По решению С.А.Лозовского, издание ”Черной Книги” поручается непосредственно Еврейскому антифашистскому комитету. Поэтому Литературная комиссия, созданная мною для подготовки к печати этой книги, прекращает свою работу.
Материалами, обработанными Вами, Вы можете распорядиться по своему усмотрению и опубликовать их.
Приношу Вам, Абрам Герцевич, сердечную благодарность за Ваше участие в работе комиссии. Я глубоко уверен, что проделанная Вами работа не пропадет для истории.
Уважающий Вас
И. Эренбург.Не подлежит сомнению, что после ликвидации Литературной комиссии Еврейский антифашистский комитет сократил объем книги и внес определенные изменения в ее текст. Об этом свидетельствуют исправления, сделанные в тексте содержания экземпляра, который был послан в Эрец-Исраэль.
Копии исправленного варианта рукописи ”Черной Книги” были разосланы для издания различным еврейским организациям мира в США, Румынию, Эрец-Исраэль (Палестину).
В варианте ”Черной Книги”, имеющемся в Израиле, также рассказывается о событиях середины и конца 1944 года — о победе союзников над Германией (май 1945 г.), о Нюрнбергском процессе (конец 1945 г.). Следовательно, рукопись была завершена не ранее 1946 года.
По словам Эренбурга, который продолжал делать все возможное для издания ”Черной Книги”, она была напечатана на русском языке в издательстве ”Дер Эмес”. ”Когда в конце 1948 г. закрыли Еврейский антифашистский комитет, книгу уничтожили”, — говорит Эренбург.
”Черная Книга” о гибели и героизме евреев, о немецких злодеяниях в годы Второй мировой войны стала помехой в послевоенной политике Советского Союза.
В те годы произошел коренной поворот в отношении Советского Союза к Германии: Восточная Германия вошла в орбиту советского влияния, что означало известное сближение с немцами.
По личному приказу Сталина была ликвидирована Комиссия по установлению и расследованию злодеяний военных преступлений немецко-фашистских захватчиков и их сообщников. Поступило распоряжение закрыть все дела о преступных деяниях немцев, в частности, дела, связанные с уничтожением евреев.
Только в шестидесятые годы расследование преступлений нацистов снова стало актуальным, и возобновились процессы шал военными преступниками.
Еще в 1944 году был ”похоронен” и другой важный замысел Эренбурга: издать так называемую ”Красную Книгу” — об участии евреев в Великой отечественной войне. Об этом косвенно рассказывает сам Эренбург: ”Летом Совинформбюро просило меня написать Обращение к американским евреям о зверствах гитлеровцев, о необходимости как можно скорее разбить Третий Рейх.
Один из помощников А.С. Щербакова — Кондаков забраковал мой текст, сказав, что незачем упоминать о подвигах евреев, солдат Красной Армии: ”Это бахвальство”.
Все же накануне ликвидации Еврейского антифашистского комитета была издана книга ”Партизанская дружба” — об участии еврейских партизан в Великой отечественной войне, об их героизме и подвигах.
Благодаря усилиям ныне покойного Беньямина Веста и помощи ”Яд Вашем” эта книга была издана в 1968 году в Израиле в переводе на иврит.
Как уже было упомянуто, издание ”Черной Книги” в Москве было приостановлено. Но в 1946 г. в Румынии вышла первая часть ”Черной Книги”, изданная ”Демократической организацией еврейского союза Румынии” совместно с Институтом документации Румынии.
В том же году в Соединенных Штатах, в Нью-Йорке, вышла в свет ”Черная Книга” на английском языке, изданная Еврейским комитетом по изданию ”Черной Книги”, в который вошли Всемирный Еврейский Конгресс, Еврейский антифашистский комитет СССР, ”Ваад леуми” (Национальный комитет Эрец-Исраэль), Американский комитет еврейских писателей, художников и ученых. В этой книге собраны материалы об уничтожении евреев на территории Европы. В разделах, посвященных уничтожению евреев и их сопротивлению в РСФСР, на Украине, в Белоруссии, Литве, Латвии, Эстонии, имеются обширные выдержки из основного источника — русского текста ”Черной Книги”, хотя нигде не говорится, откуда они взяты. Только в примечаниях иногда упоминаются писатели, которые участвовали в составлении основного материала ”Черной Книги” — Илья Эренбург, Авраам Суцкевер и другие.
По свидетельству Соломона Цирюльникова, передавшего рукопись ”Черной Книги” в ”Яд Вашем” в 1965 г., она была прислана в Эрец-Исраэль в 1946 г. Кроме свидетельских показаний, в рукопись входили документы из Государственного архива СССР, собранные академиком И.Трайниным, а также 36 фотоснимков, которые были найдены у убитых или попавших в плен немцев.
Научные работники архива ”Яд Вашем” немедленно приняли меры для восстановления рукописи, полученной в плачевном состоянии. На пожелтевших, частично испорченных страницах машинописного текста с трудом можно было разобрать поправки, сделанные от руки. К сожалению, до сих пор остались безуспешными все попытки разыскать утерянную часть рукописи ”Литва”. Надо надеяться, что она еще будет обнаружена и войдет в последующие издания книги.
Имеющийся в ”Яд Вашем” текст ”Черной Книги” готовили к изданию научные сотрудники Хая Лифшиц (”Яд Вашем”) и Марк Кипнис (Институт по исследованию современного общества). Они идентифицировали существующие и недостающие части, разыскивая различные варианты и фрагменты ”Черной Книги”, опубликованные в разные годы отдельными изданиями и в периодике на русском языке, идише, английском и румынском. Таким образом была восстановлена большая часть испорченных временем или утерянных страниц. В процессе работы были найдены тексты, которые по тем или иным причинам не попали в экземпляр, отправленный в Эрец-Исраэль.
Плодотворные результаты принесли контакты с оставшимися в живых свидетелями Катастрофы (теми, кто в свое время переслал свои воспоминания и документы И. Эренбургу), а также с авторами, живущими сейчас в Израиле, которые помогали И. Эренбургу и В. Гроссману при сборе и обработке материалов ”Черной Книги”.
* * *
В статье, опубликованной в еврейской советской газете ”Эйникайт” за 25 июня 1943 года, Илья Эренбург изложил свою точку зрения в отношении судьбы евреев в войне: ”Евреи не были истреблены до конца ни Египтом, ни Римом, ни фанатиками инквизиции. Уничтожить евреев также не может и Гитлер, хотя история еще не знала подобного массового истребления целого народа... Выродок Гитлер не понимает, что уничтожить народ невозможно. Евреев стало меньше, чем было, но каждый еврей стал большим, чем он был”.
Эта точка зрения Эренбурга ярко отражена в ”Черной Книге”, и Эренбург гордился тем, какие подвиги совершали евреи на всех фронтах Отечественной войны.
”Черная Книга” содержит сотни свидетельских показаний, особенно о глубинных областях СССР, как, например, Крым и Северный Кавказ. Невзирая на те или иные неточности, которые иногда встречаются в исторических источниках первой степени, несмотря на порой одностороннее освещение и субъективное восприятие отдельных фактов (в книге почти нет данных об участии местного населения в повсеместном уничтожении евреев, и в то же время значительное место уделяется освещению роли советских граждан в спасении евреев), книга как документ эпохи, со всеми ее достоинствами и недостатками, является одним из фундаментальных источников для изучения истории советского еврейства в годы Второй мировой войны.
Издание ”Черной Книги” и в настоящее время не менее актуально, чем 34 года тому назад, когда этот монументальный труд был запрещен. Не подлежит сомнению, что во времена Сталина выход в свет такой книги шел вразрез со всей политикой Советского государства, когда еврейскую тему старались обойти стороной и всячески замалчивали. ”Черная Книга” явилась последним словом еврейства СССР, осужденного на молчание.
Публикация ”Черной Книги” является также осуществлением мечты хранителя рукописи в Израиле Соломона Цирюльникова, который верил, что с выходом книги будет нарушен заговор молчания о гибели евреев, который существовал в то время в Советском Союзе.
Мы хотим также упомянуть и поблагодарить всех тех, кто не остался равнодушным к судьбе книги и выступал в печати и по радио с призывом, чтобы ”Черная Книга” как можно скорее увидела свет. Среди них — писатель-публицист Ш.-Л.Шнайдерман, журналист И.Шор, писатель [К.Сегал], член Кнесета (Парламента) X. Гроссман, педагог Л. Лурье и другие. Особую благодарность выражаем Шимону Дайчу, основавшему фонд для издания ”Черной Книги” на языке идиш.
Иосеф Кермиш.
БИБЛИОГРАФИЯ
Цирюльников Соломон, Свидетельские показания. Архив ”Яд Вашем”, 033-1026.
Герц-Коэн Нафтали, Воспоминания (на идише), Архив ”Яд Вашем” Е/1026.
Риндзюнский Александр, Свидетельские показания (на идише), Архив ”Яд Вашем”, 033—1026.
”אײניקײט”, נומ. 8-7 (29-28) 15 מערץ 1943
И. Эренбург, Война (июнь 1941 — апрель 1942), М., 1942; Война (апрель 1942 — март 1943), М., 1943; Война (апрель 1943 — март 1944), М., 1944.
И. Эренбург, Люди, годы, жизнь, книги 5 и 6, М., 1966.
מערדער פון פעלקער, געזאמלט און צוזאמענגעשטעלט פון איליא ערענבורג, (מאטעריאלן וועגן די רעציכעס פון די דייטשישע פארכאפער אין די צייטווייליק אקופירטע סאוויעטישע ראיאנען), ״דער עמעס״, מאסקווע, זאמלונג 1945 - II ,1944- I.
Партизанская дружба. Воспоминания о боевых делах партизан-евреев, участников Великой отечественной войны. М., изд. ”Дер Эмес”, 1948
הם היו רכים — פארטיזאנים יהודים בברית־המועצות במלחמת העולם השניה, ערוך על־ידי בנימין וסט, תל־אביב, תש׳׳ך-1968
The Black Book (The Nazi Crime against the Jewish People), New York. Duell Sloan and Pearce, 1946.
Ilya Ehrenburg, Vasilii Grosman, Lew Ozerow, Vladimir Lidin... Cartea Neagra. Bucuresti, 1946.
ש.ל. שניידערמאן, איליא ערענבורג, ניו-יארק, 1968
אברהם סוצקעווער, איליא ערענבורג (א קאפיטל זכרונות פון די יארן 1946-1944) — ״דאס שווארצע בוך״ און זיין שווארצער סוף. ״גאלדענע קייט״, נומ. 61, 1967
ОТ РЕДАКЦИИ ”ЧЕРНОЙ КНИГИ”
”Черная Книга” рассказывает о массовом, повсеместном убийстве советских граждан — евреев, организованном и осуществленном немецко-фашистскими властями на территории временно оккупированных районов России, Украины, Белоруссии, Латвии, Литвы и Эстонии[1].
Когда изложение касается судьбы евреев — советских граждан, вывезенных в лагеря уничтожения на территории Польши (Освенцим, Треблинка, Собибор), редакция сочла нужным включить в книгу описание этих лагерей, хотя они находились не на территории советских районов, а на территории Польши.
Обреченные на смерть оказали в ряде мест яростное вооруженное сопротивление палачам, причем довольно часто поводом к заранее подготовленным общим восстаниям явилось стремление сорвать вывоз эшелонов в Треблинский лагерь и другие лагеря уничтожения. По совершенно аналогичным причинам возникло восстание в Варшавском гетто[2] — здесь также поводом к общему, заранее подготовленному восстанию послужил вывоз варшавских евреев в Треблинку. Поэтому редакция в данном случае также нарушила принцип, ограничивающий описание событий оккупированной советской территорией, и поместила в книгу очерк о восстании в Варшавском гетто, ибо это восстание ярко характеризует аналогичные события, произошедшие на оккупированной немцами советской территории.
Все материалы, вошедшие в ”Черную Книгу”, строго документальны. Материалы следует разбить на три категории:
Первая — письма, дневники, застенографированные рассказы и показания свидетелей, очевидцев, спасшихся от гибели жертв фашистской расправы. Ряд писем принадлежит перу людей, казненных немцами. Письма эти были переданы в редакцию ”Черной Книги” родственниками и знакомыми погибших.
Вторая категория материалов — очерки советских писателей. Очерки написаны на основе показаний, писем, дневников, стенографированных рассказов. Эти материалы были предоставлены писателям редакцией ”Черной Книги”. Все изложенное в очерках находится в строгом соответствии с названными материалами. В некоторых случаях писатели лично беседовали со свидетелями, осматривали места массовых казней, территории гетто и лагерей уничтожения, присутствовали при вскрытии братских могил, при составлении официальных актов.[3]
Третья категория материалов предоставлена редакции ”Черной Книги” Государственной Чрезвычайной Комиссией по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских оккупантов.[4] Эти материалы состоят из показаний, данных официальному следствию непосредственными исполнителями и организаторами убийств, а также из показаний свидетелей.
Подготавливая к печати ”Черную Книгу”, редакция ставила перед собой следующие цели: ”Черная Книга” должна стать памятником над бесчисленными братскими могилами советских людей, замученных и убитых немецкими фашистами.
”Черная Книга” должна явиться материалом для обвинения фашистских злодеев — организаторов и участников убийств миллионов женщин, стариков и детей.
ПРЕДИСЛОВИЕ
За годы своего владычества германский фашизм обратил в пустыню целые края и области, разрушил столицы многих европейских государств и сотни городов, сжег десятки тысяч сел и деревень. За годы своего владычества германский фашизм уничтожил много миллионов человеческих жизней. Если окинуть мысленным взором те государства Европы, где господствовали гитлеровцы, ознакомиться с совершенными там жестокими злодеяниями, если измерить огромность разрушений общечеловеческих культурных ценностей, может показаться, что все происшедшее есть акт безумия, следствие умопомрачения. Может показаться, что стихийные силы, силы хаоса, подобные никем не управляемому урагану, царили в эти годы над Европой. Такая мысль невольно приходит в голову: столь бесчеловечны преступления, настолько бессмысленны и огромны разрушения. Кажется, разум человеческий непричастен к этому, не может быть причастным по самой природе своей. Но, однако, это не так. Смерч, прошедший по Европе, не возник стихийно. Смерч имел своих организаторов. Невиданные человечеством жестокости были обоснованы теоретическими рассуждениями, необходимость массовых убийств и закрепощение подкреплялись пространными размышлениями сторонников расовой теории жизненного пространства германской расы. Эти теории проповедовались и разрабатывались лидерами германского фашизма — Гитлером, Герингом, Розенбергом, Штрейхером, Геббельсом и многими другими. Для обоснования расовой теории были написаны сотни книг, созданы исследовательские институты, организованы кафедры. История новых и древних времен, право, законы экономического развития, история философии и история культуры, религиозные верования, этические, моральные представления человечества были пересмотрены сторонниками расизма. Народы мира теперь знают, что такое расовая теория и теория жизненного пространства германского народа, что такое фашистское право, этика, каковы все прочие элементы философии фашизма. Обо всем этом свидетельствуют развалины Европы и бесчисленные братские могилы.
Принципы, разработанные нацистскими теоретиками, нашли свое осуществление в германском законодательстве, в деятельности рейхсфюрера СС Гиммлера, его заместителя Кальтенбруннера, наместников оккупированных государств Коха, Франка, Зейс-Инкварта, сотен, тысяч, десятков тысяч чиновников гестапо, офицеров войск СС, руководителей СА, СД, жандармерии, полицейских батальонов и полков, комендатур, бесчисленных бригаденфюреров, оберштурмбанфюреров, ротенфюреров, обер- и унтершарфюреров, зондерфюреров и пр.
Массовые убийства, угон в рабство миллионов людей имели свой график, свои нормы, распределялись по срокам поквартального и месячного выполнения. Переброска миллионов обреченных на смерть либо на рабство людей требовала соответствующего планирования железнодорожных перевозок. В строительстве газовых камер и крематориев для сожжения трупов участвовали химики, теплотехники, инженеры и техники-строители; эти сооружения проектировались, проекты подвергались обсуждению и утверждались. Техника массовых убийств была разработана по отдельным операциям, как обычный производственный процесс. Драгоценности и деньги убитых поступали в государственные фонды; мебель, вещи, одежда, обувь подвергались сортировке, концентрировались на складах, а затем распределялись. Сельскохозяйственные и военные мыловаренные предприятия получали по соответствующим заявкам и распределяли женские волосы, пепел и дробленые кости убитых. Нет, это не был смерч, промчавшийся по Европе. То была теория и практика расизма. То был замысел и его осуществление. То была идея и воплощение идеи. То был чертеж и здание, построенное по этому чертежу.
Лишь упорная, кровопролитная, потребовавшая огромных жертв борьба свободолюбивых народов мира, в первую очередь советского народа, разрушила здание, построенное немецкими фашистами, уничтожила плаху народов, воздвигнутую Гитлером в центре Европы.
Гитлер, его генеральный штаб, его фельдмаршалы и советники считали своими главными смертельными врагами Красную Армию и советское государство. Гитлер, готовя молниеносный удар по Советскому Союзу, мобилизовал военные силы Германии и ее сателлитов, чтобы своим превосходством подавить сопротивление Красной Армии.
В смертном напряжении тяжкой борьбы Красная Армия проявила невиданную миром самоотверженность и мужество. Германской военной технике Красная Армия противопоставила военную технику, созданную молодой советской индустрией, черным идеям расизма советский народ и его Красная Армия противопоставили идеи советского гуманизма, в которых воспитаны красноармейцы, офицеры и генералы, вероломной и тупой стратегии немецко-фашистского командования Красная Армия противопоставила дальновидную и исполненную глубокого понимания движущих сил борьбы замечательную сталинскую стратегию.
На полях сражений восторжествовали над силами мрака и реакции великие идеи прогресса, демократии, национального равенства и дружбы народов, носителем которых был и будет советский народ.
* * *
С первых дней своего прихода к власти, да и в период борьбы за власть, нацисты объявили евреев главной причиной всех зол, постигших человечество.
Сторонниками расовой теории были мобилизованы все средства: ложь, бессмысленные дикие наветы, давно изжитые средневековые предрассудки, провокационные доводы изуверской псевдонауки, — словом, весь тот арсенал, которым извечно пользуются реакционеры, мракобесы и политические бандиты, желающие скрыть от народа истинные цели и подлинные причины затеянной ими злодейской игры. Почему реакция во все времена выступала под знаком антисемитизма? Потому, что реакция никогда не выступает в защиту подлинных интересов широких народных масс; потому, что реакция всегда борется ради интересов отдельных, привилегированных групп, выступает против интересов народа, против объективных законов развития общества, против правды. В такой борьбе, естественно, нельзя апеллировать к рассудку общества, к чувству справедливости, к законам гуманности, демократии. В такой борьбе, естественно, приходится апеллировать к предрассудкам, лгать, потакать низким инстинктам, обманывать, заниматься самой необузданной демагогией. Поэтому германский фашизм, собираясь ввергнуть в братоубийственную бойню народы Европы, и прибег к разжиганию расовой ненависти, к возрождению антисемитских бредней и предрассудков, к обману масс. Это делалось для того, чтобы затемнить сознание народных масс Германии, укрепить их в заблуждении мнимого превосходства над остальными народами мира, натренировать их чувства жестокости, высокомерия, презрения, подорвать идею братства трудящихся всего мира, без чего немыслима реакционная захватническая война. Демагогический принцип расового раскола, расовой ненависти, расового превосходства, расовых привилегий был принят Гитлером за основу партийной и государственной политики нацизма. Вершиной расовой пирамиды была объявлена германская раса — раса господ. Затем следовали англо-саксонские, признанные неполноценными, еще ниже оценивались романские расы. В основании пирамиды находились славяне — раса рабов. Евреев фашисты противопоставили всем народам, населяющим землю. Фашизм вменил евреям в вину совершенно фантастические преступления: стремление к мировому господству, к закабалению всех народов мира. Фашисты объявили себя защитниками человечества от евреев. Расовые различия, различия крови, были объявлены решающими элементами исторического процесса. История, с точки зрения гитлеризма, это история борьбы рас, законы истории приводят к торжеству высшей расы над низшими, к уничтожению и исчезновению низших рас.
Здесь следует вспомнить слова Сталина, которые были написаны им на запрос Еврейского Телеграфного Агентства в Америке:
”Отвечаю на ваш запрос. Национальный и расовый шовинизм есть пережиток человеконенавистнических нравов, свойственных периоду каннибализма. Антисемитизм, как крайняя форма расового шовинизма, является наиболее опасным пережитком каннибализма. Антисемитизм выгоден эксплуататорам, как громоотвод, выводящий капитализм из-под удара трудящихся, как ложная тропинка, сбивающая их с правильного пути и приводящая их в джунгли. Поэтому коммунисты, как последовательные интернационалисты, не могут не быть непримиримыми и заклятыми врагами антисемитизма. В СССР строжайше преследуется антисемитизм как явление глубоко враждебное советскому строю. Активные антисемиты караются по законам СССР смертной казнью.
И. Сталин”.Эти слова были написаны товарищем Сталиным 12 января 1931 года, в ту пору, когда немецкие фашисты, готовясь к захвату власти, изо всех сил раздували кадило расовой ненависти. История показала, на чьей стороне правда. Фашисты всегда стремились выделить отношение к евреям в особый раздел своей расовой программы. Всюду и везде — при наступлении на трудящихся, при расправе с интеллигенцией, при расправе с прогрессивными течениями в науке, литературе и искусстве, при погромах, учиняемых в научных учреждениях и университетах, при пересмотре школьных программ — фашисты прежде всего подымали шум по поводу евреев. Евреи объявлялись универсальным источником зла буквально везде и всюду — в профсоюзах, в государственных учреждениях, в заводских цехах, в редакциях журналов и газет, в торговле, в философии, в музыке, в адвокатских обществах, в медицинской науке, в железнодорожном транспорте и т.д.
Под флагом борьбы с евреями фашизм громил, уничтожал, выжигал дух сопротивления, дух протеста. На оккупированных немецко-фашистскими войсками территориях постоянно проводилось противопоставление евреев другим национальностям. Для чего это делалось? Расправы эти должны были создать ощущение того, что немецкий фашизм главной целью своей террористической деятельности ставит уничтожение евреев и якобы выводит из-под удара остальные народы.
Фашизм хотел величайшей в истории провокацией скрыть от народов мира свое подлинное лицо. Фашизм хотел зачеркнуть в людском сознании великое понятие ”человек”.
В свое время, в 1935 году, Союз национал-социалистических юристов предложил вычеркнуть из германского гражданского кодекса понятие ”человек”, заменив его другим понятием, ибо понятие ”человек”, по мнению немецко-фашистских юристов, ”затушевывает и искажает различия между соплеменником, имперским гражданином, иностранцем, евреем и т.д.”.
Но фашизму не удалось зачеркнуть понятие ”человек”.
* * *
Последовательность действий немецко-фашистского правительства не оставляет и тени сомнения в том, что убийство миллионов людей постепенно, шаг за шагом, подготавливалось Гитлером и его кликой. 15 сентября 1935 года в Нюрнберге был опубликован за подписью имперского канцлера Гитлера и имперского министра внутренних дел Фрика закон об имперском гражданстве. Второй пункт этого закона гласит: ”Имперским гражданином является только тот подданный немецкой или немецкородственной крови, который своим поведением доказывает, что желает и способен верно служить германскому народу и империи”. Этим законом лишались гражданства немецкие евреи, иностранцы и одновременно все немцы, враждебные гитлеровскому режиму.
В пункте 4 гитлеровской программы говорилось: ”Гражданином государства может быть только тот, в чьих жилах течет немецкая кровь. Поэтому евреи не могут принадлежать к немецкому народу”.
Одновременно с законом о германском гражданстве 15 сентября 1935 года был опубликован закон об охране немецкой крови и немецкой чести. Закон этот был объявлен за подписями канцлера Гитлера, министра внутренних дел Фрика, министра юстиции Гюртнера и заместителя фюрера Гесса — министра без портфеля. Параграф первый закона запрещал браки между евреями и германскими подданными немецкой и немецкородственной крови. В параграфе пятом значилось: ”Нарушающий запрещение, изложенное в параграфе 1, наказывается каторгой”. В другом параграфе объявлялось: ”евреям запрещено вывешивать имперский и национальный флаг, равно как пользоваться имперскими цветами”.
Далее, как из рога изобилия, посыпались законы, обязательные постановления, разъяснения. Пресса и юридическая печать запестрели такими определениями, как ”полный еврей”, ”еврей метис”, ”¾ еврея”, ”¼ еврея”, ”чистокровный немец”, ”немецкородственная кровь”. В обязательном постановлении от 14 ноября 1935 года объявлялось о лишении евреев права голоса, о запрещении евреям занимать общественные должности. После 31 декабря 1935 года все евреи-служащие государственных учреждений объявлялись вышедшими в отставку. У лиц, рожденных от смешанных браков, производилось исчисление процента еврейской крови по восходящей линии предков. Браки предков подвергались исследованию с 1800 года. Подробно обследовались деды, прадеды, прапрадеды лиц, желающих вступить в брак. Последовали новые трудовые запрещения. Евреям-врачам запрещалось лечить арийцев. Запрещения работать в университетах, печатать книги, читать лекции, выставлять картины, давать концерты обрушились на евреев-работников науки, литературы и искусства.
Это был начальный период законодательных и административных ограничений, период изоляции евреев, изгнания их из всех областей общественной жизни, науки, промышленности.
Но одновременно с этим гитлеровское правительство и нацистская партия все чаще и чаще организовывали и провоцировали открытые акты насилия — погромы, избиения, разграбления магазинов и квартир. Погромы, волна за волной, прокатились по Германии. Их организаторами и исполнителями были гестаповцы — активисты нацистской партии.
Одновременно, под прикрытием черного тумана расовой ненависти, демагогических воплей о защите крови, государства и немецкой чести, были разгромлены и уничтожены силы сопротивления немецкого народа, все демократические организации, Десятки тысяч передовых борцов, прогрессивных деятелей были заключены в концентрационные лагеря, казнены по обвинению в государственной измене. Процесс фашизации профсоюзов, государственных и частных учреждений, фашизации науки, искусства, высшей и средней школы, всех без изъятия областей общественной жизни шел параллельно с погромной, антисемитской деятельностью германского правительства.
Никогда, пожалуй, в истории связь реакции с антисемитизмом не выступала так выпукло и конкретно, никогда, пожалуй, не было с такой ясностью видно, что антисемитская кампания поднята для прикрытия общего наступления на права и свободы трудящихся классов Германии.
Второй период нацистской политики по отношению к евреям совпал с началом мировой войны, с успешным вторжением в Польшу, Францию, Норвегию, Бельгию и ряд других европейских стран. Германский империализм перешел к открытому осуществлению своих агрессивных планов. В этот период раскрылись в конкретной форме понятия ”жизненного пространства”, понятия ”полноценной германской расы”, понятия ”расы господ”.
Речь шла о мировой гегемонии Германии, о власти германского империализма над всеми народами мира.
Началось наступление на свободу народов: народы мира должны были убедиться, что германский фашизм полон решимости применить любые террористические средства, не остановится перед любыми насилиями для осуществления своих целей. Эта решимость была продемонстрирована.
Немецкий топор был занесен над народами Европы.
Верные своей тактике, фашисты, готовя втихомолку кровавую расправу с порабощенными народами, громогласно объявили непримиримую борьбу с евреями. Началась новая, невиданных масштабов, провокация. Если первый период преследования евреев напоминал увеличенную во много раз антисемитскую деятельность черносотенцев в царской России в тяжелые для народа времена реакции, то вновь наступивший этап возрождал самую мрачную пору средневековья. На территории восточных областей были устроены гетто. В гетто были согнаны миллионы евреев, населявших Польшу. В эти польские гетто немцы начали вывозить евреев из Германии, Австрии, Чехословакии. В больших гетто концентрировалось еврейское население маленьких городков и местечек.
В одном Варшавском гетто жило свыше полумиллиона людей. В Лодзинском — около двухсот пятидесяти тысяч[5]. Десятки тысяч людей насчитывались в Радомском, Люблинском, Ченстоховском гетто. Гетто окружались каменными стенами, в стены было вмазано битое стекло, вдоль стен проходила колючая проволока, в некоторых местах через проволоку был пропущен ток высокого напряжения. У ворот гетто стояла эсэсовская охрана с пулеметами. Все евреи, жившие в гетто, должны были носить опознавательные знаки — шестиконечную звезду, пришитую к одежде на груди и на спине.
Жизнь миллионов людей потекла в условиях невиданных лишений. Ужасны были страдания от холода и голода. Но не менее ужасны были моральные муки людей, обреченных на полное бесправие, выключенных из общественной и производственной жизни, клейменных каторжным клеймом, поставленных фактически вне всяких законов. Первая же зима в гетто принесла эпидемии, массовые случаи голодной смерти. В ту пору пессимистами считались люди, думавшие, что гетто будут существовать долгое время. Большинство полагало, что гетто — временная ”чрезвычайная” мера, связанная с войной.
Но самые мрачные пессимисты не разгадали действительных замыслов гитлеровцев. Концентрация людей в гетто лишь предшествовала поголовному истреблению еврейского населения. Это было звено в цепи продуманных мероприятий, еще одна ступень, приближающая миллионы людей к лобному месту. Фашистские оккупанты вновь, уже на захваченных территориях, повторили примененные внутри Германии приемы. Под гром юдофобских барабанов, под шумиху человеконенавистнической клеветы, в ядовитом тумане бессмысленных антисемитских наветов они быстро, методично расправлялись с сотнями и тысячами польских интеллигентов и демократических деятелей. Они кричали о расправе с евреями, но одновременно заковали в кандалы народы Польши и Чехословакии. Они печатали в книгах и газетах описания и фотографии Варшавского гетто и незаметно под шумок добивали поляков и чехов.
А в это время в тиши берлинских кабинетов подробно и детально разрабатывались планы последнего, заключительного этапа расправы, намечались пункты строительства лагерей уничтожения и фабрик смерти, утверждалась методика массовых убийств и захоронения трупов, рассматривались проекты газовых камер и крематориев.
22 июня 1941 года немецко-фашистские войска вторглись в страну Советов.
Это было высшее усилие фашистской Германии в ее борьбе за мировое господство. Гитлер объявил, что война будет молниеносной, что к концу 1941 года СССР перестанет существовать. Сопротивление Англии и Америки после разгрома Советского Союза казалось немыслимым. Фашисты полагали, что война вступила в свою решающую фазу. С этой последней, решающей, как казалось, фазой блицкрига фашизм связал кульминацию расовой политики. Никогда расовая пропаганда фашистов не достигала такого масштаба, как в эту пору. Заранее подробнейшим образом инструктированные, вооруженные до зубов эсэсовские банды ждали приказа убивать.
В июне 1941 года Гитлер дал этот приказ. Началась невиданная человечеством кровавая расправа над миллионами советских граждан и, в первую очередь, над евреями.
Эта расправа была звеном в общей цепи террористических мероприятий, которыми немецкие фашисты хотели парализовать волю к сопротивлению свободолюбивого советского народа. Невиданной жестокостью фашисты хотели ошеломить советских людей. Полились потоки крови. Фашисты расправлялись с сотнями и тысячами русских, белорусов, украинцев.
Тайный приказ Гитлера, изданный перед вторжением в Советский Союз, разрешал любые расправы над населением советских сел и городов. Военные суды, соответственно этому приказу, получили инструкции не рассматривать жалоб украинского, русского, белорусского населения на беззакония, чинимые солдатами и офицерами немецкой армии. Грабежи, поджоги, убийства, издевательства, изнасилования, производимые немцами на советской земле, не считались преступлениями — они творились с разрешения и с благословения Гитлера, его фельдмаршалов и генералов. Запылали сотни и тысячи сел и деревень. Целые районы были обращены ”в зону пустыни”. В Междуречьи, между Десной и Днепром, немцы сравняли с землей почти все деревни. Просторные районы Смоленщины, Орловской области были превращены в необитаемые пустыри. Население этих районов сознательно обрекалось германскими властями на величайшие страдания, на вымирание от голода и зимней стужи.
Миллионы людей, потерявших кров, жили в лесах, в землянках, в брошенных блиндажах. Беспримерны по жестокости были методы хозяйствования немцев в селах и городах — труд стал каторгой, проклятием, нависшим над крестьянством, — немецкие надсмотрщики, полицейские сельскохозяйственные фюреры, вооруженные до зубов плетьми и палками, выгоняли на работу крестьян, обрушивали на их головы десятки жесточайших репрессий за малейшие нарушения каторжного режима труда.
Цветущие промышленные районы были опустошены, прекрасные города разрушались, обреченные на голодную смерть хлынули в деревни в поисках пищи. Но и деревни почти начисто были ограблены. В Германию день и ночь шли эшелоны, груженные награбленным зерном, заводским оборудованием, предметами обихода, историческими ценностями, произведениями искусства. Бесконечно жестоки были условия, созданные для пленных красноармейцев — в лагерях гибли от голода и эпидемий тысячи людей, периодически организовывались массовые казни безоружных пленных, при таких расправах — под Вязьмой, в Минске, в районе Холма — гибли сотни тысяч людей.
Всю эту палаческую работу немцы рассматривали как предварительную подготовку к освоению ”восточного пространства”. Все это являлось лишь первыми пробными шагами к реализации намеченной Гитлером программы истребления славянских народов. Главное было впереди, немцы откладывали осуществление программы уничтожения славян на период, последующий после победного окончания войны. По отношению к евреям фашизм осуществлял свои кровавые замыслы сразу же, не откладывая. Истреблению подвергалось повсеместно все еврейское население, застигнутое немецкими оккупантами. На казнь, без изъятия, выводились как старики, так и дети. Детей, не умеющих еще ходить, парализованных больных, стариков, не могущих передвигаться от дряхлости, несли к месту казни на простынях, подвозили на грузовиках и на подводах.
Казнь совершалась единообразно в местах, отделенных друг от друга сотнями, а иногда и тысячами километров. Такое полное единообразие свидетельствовало о заранее разработанной тайной инструкции. Этой инструкции придерживались палачи. Форма и глубина ямы, порядок конвоирования к месту казни, объяснения, которые давались немцами людям, ведомым на казнь, часто до последних минут не знавшим своей судьбы, все это было одинаково в тысячах случаев. Заключение в гетто, тотчас же организованных немцами в оккупированных районах Советского Союза, было кратковременным. Оно непосредственно предшествовало убийству. Гетто являлось местом сбора приговоренных к смерти. Из гетто удобней было вести на казнь, в гетто легче контролировались все слои населения, в гетто производилось отделение способных к сопротивлению от беспомощных детей и стариков. Лишь в западных районах Советского Союза, в городах Минск, Каунас (Ковно), Вильнюс (Вильно), Шауляй (Шавли) и других, были устроены гетто, просуществовавшие год-два. В восточных районах оккупированной части Советского Союза убийства, как правило, совершались вскоре после того, как в занятый город прибывали немецкие гражданские власти, гестапо, жандармерия, СД, СА. Обычно от занятия города до совершения массовой казни проходило около двух, двух с половиной месяцев. Срок этот складывался из нескольких элементов — прежде всего восемь-десять дней проходило, пока вслед за войсками появлялись гестаповцы. Гиены Гиммлера предпочитали не подвергать себя опасности в районах, где военный успех не был прочно закреплен. Затем некоторое время требовалось для развертывания работы гестапо, полиции, комендатуры. Тотчас же после организации карательной и сыскной сети объявлялось о переселении евреев в гетто. Переселение это занимало 2—3 дня, иногда неделю. Вслед за переселением немцы вели тайную подготовку к убийству, выбирали удобное для казни место. Иногда братской могилой служили противотанковые рвы, иногда естественные яры, овраги. Но в большинстве случаев производилось отрытие могил. Могилы формой и размерами напоминали глубокие траншеи полного профиля. Работу эту производили крестьяне, согнанные из окрестных деревень, военнопленные красноармейцы, либо сами же евреи, которых пригоняли на эту работу из гетто. Никому из работавших не приходила в голову мысль об истинном назначении этих рвов, люди предполагали, что дело связано с обычными для военного времени работами. После окончания подготовки задержка в проведении казни происходила лишь в связи с одной причиной — эсэсовские полки, штурмовые и охранные отряды не справлялись с огромным количеством массовых убийств, ибо одновременно подлежали смерти миллионы детей, женщин, мужчин, стариков.
В некоторых случаях массовые убийства производились в еще более короткие сроки. Достаточно вспомнить Киев, где беспримерное по жестокости убийство многих десятков тысяч людей последовало через 9 дней после захвата Киева немецкими бандами.
Можно с полной уверенностью сказать, что за всю историю человеческого рода не было совершено преступления, подобного этому. Это было невиданное миром слияние садистского разгула убийц-уголовников с продуманными мероприятиями государственного масштаба. Население оккупированных районов было ошеломлено чудовищностью преступлений. Часто сами же жертвы до последней минуты не верили, что их ведут на казнь — настолько чудовищным, нелепым казалось внезапное убийство миллионов невинных.
В ”Черной Книге” публикуется рассказ немецкого офицера, свидетельствующего о том, как Гиммлер лично проверял, соблюдается ли заранее запланированный темп убийства, и обрушился на представителя СС, выполнявшего массовые убийства с некоторым отставанием от плана.
Немцы старались до последней минуты держать обреченных в неведении ждущей их судьбы. Существовала единая, строго продуманная система обмана. Среди обреченных распространялись слухи, что их концентрируют либо для обмена на немецких военнопленных, либо для вывоза на сельскохозяйственные работы, либо для последующей переброски в лагеря, в западные районы оккупированных областей. Часто за день или за два до массовой казни немцы приступали к строительству бань, либо других мест общественного пользования в гетто, дабы усыпить всякие подозрения. Людям, которых выводили на казнь, предлагалось запастись теплыми вещами, двухнедельным запасом пищи, хотя им оставалось жить несколько часов. Обреченных на смерть строили в колонны и сообщали фальшивый маршрут следования: им предстоит пройти пешком до ближайшей железнодорожной станции и там сесть в поезд. Колонна людей, с теплыми вещами и продуктами питания, выходила на шоссе и неожиданно меняла направление — оказывалась в лесу, перед вырытыми могилами.
Если обреченных везли на казнь поездом, то они до последней минуты не знали, куда их везут; их уверяли, что поезд доставит их к месту новой работы — в сельском хозяйстве либо на фабрике.
В Треблинском лагере уничтожения был построен фальшивый вокзал с кассами, расписанием поездов и пр., чтобы высадившиеся из эшелона не могли сразу ориентироваться и понять, что их привезли в глухой тупик. В некоторых случаях людей заставляли перед смертью писать письма родным; это усыпляло беспокойство и подозрения.
Логика такой системы обмана совершенно ясна. Гитлеровцы опасались сопротивления и восстаний.
В восточных районах оккупированных советских областей, где убийства осуществлялись сразу же после прихода оккупантов, такая система обмана часто удавалась гитлеровцам. Люди настолько были далеки от мысли, что все они обречены на казнь, настолько внезапно, врасплох, заставала их чудовищная расправа, что они не успевали организоваться для сопротивления палачам. Так было в Киеве, Днепропетровске, Мариуполе и в целом ряде городов и местечек на левобережье Украины. На руку гитлеровцам было и то, что боеспособное еврейское население восточных советских районов к моменту прихода оккупантов находилось в рядах красной Армии, а трудоспособные в большинстве эвакуировались с заводами, фабриками, советскими учреждениями. Таким образом, под удар палачей попадали наиболее беспомощные, слабые, неорганизованные: старики, больные, инвалиды, несовершеннолетние, либо люди, обремененные большими семьями, состоящими из нетрудоспособных и больных. Над ними-то, беспомощными и безоружными, и творили свое ужасное палаческое дело вооруженные совершенным автоматическим оружием моторизованные полки СС, полицейские полки, команды гестапо, штурмовые и охранные отряды. Ужасающе было несоответствие между силой вооруженных всеми видами военной техники палачей и слабостью жертв, между силой организованных фашистских армий, заранее разработавших во всех деталях план убийства, и неподготовленностью тех, кого внезапно с детьми и стариками поставили на край братской могилы.
Но все же и в этих безнадежных условиях обреченные пытались бороться, сопротивляться, осуществляли акты мести; женщины, защищая детей, бросались на вооруженных эсэсовцев, вступали с ними в борьбу и гибли под ударами штыков, падали, пронзенные пулями. В западных районах, где гетто существовали не дни и недели, а многие месяцы, иногда и годы, борьба евреев с оккупантами принимала организованный характер, приобретала больший размах. Во многих городах создавались подпольные боевые организации. Так было в городах Минск, Вильно, Белосток, Ковно и ряде других. Подпольщики в гетто налаживали связи с организациями сопротивления за пределами гетто, создавали боевые и диверсионные группы. С величайшими трудностями подпольщики доставляли в гетто пистолеты, гранаты, пулеметы. В некоторых случаях внутри гетто налаживалось производство оружия и взрывчатых веществ. Подпольщики гетто принимали участие в диверсиях на заводах и на железных дорогах, организовывали взрывы, поджоги, выводили из строя предприятия, обслуживающие германскую армию. Во многих случаях подпольщики гетто налаживали контакт с партизанскими отрядами, переправляли туда борцов, оружие и медикаменты.
Внутри гетто подпольщики устраивали тайные радиостанции, принимали сводки Совинформбюро, выпускали нелегальные листовки, газеты, воззвания, готовили боеспособную часть населения к восстаниям. Евреи, сумевшие уйти из гетто, вливались в партизанские отряды; имеются многочисленные свидетельства об их совместных действиях с партизанами Белоруссии, Литвы, во многих районах Украины, в Брянских и Смоленских лесах.
Организация подполья в столь нечеловечески трудных условиях, добыча оружия, налаживание боевых связей требовали огромных усилий, большого времени, опыта, умения.
Борьба с оккупантами внутри ограды гетто носила самый разнообразный характер.
Первичной формой протеста можно считать идейную борьбу. Немецко-фашистские власти лишили евреев, запертых в гетто, всех человеческих прав, приравняли их к животным, обрекли их на условия, в которых не мог бы существовать ни домашний скот, ни лесные звери.
Идейным протестом против такого низведения людей на уровень зоологического существования явилась культурная жизнь гетто. В гетто устраивались подпольные лекции, театральные представления, организовывались школы, где учились умиравшие от голода дети. Все это утверждало высокое человеческое достоинство, духовное право угнетенных и униженных оставаться до последнего дыхания своего людьми. В ”Черной Книге” ряд страниц посвящен описанию подпольной культурной жизни Виленского гетто. Может прийти мысль, что бессмысленно было организовывать школы и лекции для обреченных на смерть. Мысль эта неверна. Духовная, умственная жизнь, поддерживаемая в этих нечеловеческих условиях культурными людьми, явилась как бы фундаментом, предпосылкой для организации боевого партизанского сопротивления.
Следующей ступенью сопротивления являлись многочисленные формы саботажа немецких распоряжений, сокрытие и уничтожение ценностей, подлежащих сдаче, сокрытие квалифицированными рабочими своей специальности, могущей быть полезной оккупантам, вредительство на предприятиях — порча станков, оборудования, сырья, продукции.
Третьей, высшей ступенью являлась подготовка к вооруженной борьбе и сама борьба. Подготовка шла различными путями — агитация подпольными листовками и воззваниями, вербовка членов боевых отрядов, боевое обучение, изготовление внутри гетто взрывчатых веществ и снаряжение ими ручных гранат, бомб, мин, доставка из-за ограды гетто пистолетов, автоматов, пулеметов, минометов. Вооруженная борьба выражалась в двух формах. Первая форма борьбы — уход в партизаны вооруженных одиночек и организованных групп. Эта форма борьбы практиковалась в Минском, Ковенском и многих других гетто. Сотни людей шли в партизаны, размах партизанской борьбы был весьма велик. Подпольщики одновременно ухитрялись оказывать постоянную помощь партизанам не только живой, боевой силой, но и медикаментами, одеждой, оружием.
Вторая форма борьбы — восстание внутри самого гетто. Обычно эти восстания совпадали с периодом подготовки и осуществления фашистами массовых казней, ”акций”.
В ”Черной Книге” приводятся рассказы о восстаниях в различных гетто и лагерях: Белостокском, Варшавском, Треблинском, Собибурском (Собиборском) и других. Описания эти, конечно, не могут дать полной картины вооруженной борьбы. Случаи восстаний исчисляются не десятками, а сотнями. Течение и продолжительность восстаний были различны, начиная от однодневной ожесточенной борьбы ручными гранатами и револьверами, как это было в Луцке, и кончая сражениями в районе Кременца, где прорвавшиеся в горы евреи держались много дней. Одним из таких больших и величественных является восстание в Варшавском гетто, превратившееся в сорокадневное сражение евреев с танковыми, артиллерийскими, пехотными и авиационными частями немцев. Исход всех восстаний в гетто в большинстве случаев одинаков. Восстания кончались гибелью героев. Трагичный исход восстаний, заранее известный бойцам, лишь подчеркивает величие борьбы.
К исходу 1943 года немецко-фашистские власти почти целиком закончили повсеместное, поголовное убийство еврейского населения восточных районов оккупированных областей, а к началу 1944 года уже довершалось истребление евреев в западных районах.
Одновременно с убийствами евреев немецко-фашистские власти, оставаясь верными своей установившейся методе, осуществляли величайшие злодеяния и насилия над русским, украинским, белорусским населением оккупированных советских земель. Были убиты и замучены сотни тысяч военнопленных. Сотни тысяч крестьян, рабочих, интеллигентов, заподозренных в участии в партизанском движении либо в симпатиях к партизанам, подвергались величайшим мукам, пыткам, а затем казни. Появился термин ”Партизанская деревня”. Таких деревень было много сотен, немцы сжигали их дотла. Четыре миллиона человек, угнанных в рабство, пережили величайшие унижения и страдания, голод, многие из них подверглись побоям и пыткам. Так на этом последнем этапе своего существования германский фашизм снова и снова пытался использовать свою погромную деятельность для прикрытия террористических мероприятий против народов, населяющих оккупированные районы.
Один из разделов ”Черной Книги” приводит ряд свидетельств того, как русские, белорусы, украинцы, литовцы оказывали братскую поддержку евреям в самые тяжелые времена разгула расового террора. Мудрый разум народа разгадал, для чего затеяли фашисты чудовищную, кровавую провокацию. Чистое сердце народа содрогнулось, когда полились реки невинной крови. Старухи-крестьянки и молодые колхозники, рабочие, учителя, врачи, профессора, священники, часто рискуя собственной жизнью и жизнью своих близких (укрывательство евреев приравнивалось оккупантами к укрывательству активных партизан), делали все возможное для спасения невинно обреченных людей. Сотни еврейских детей были спасены русскими, белорусами, украинцами, объявлявшими этих детей своими, укрывавшими их в течение долгих месяцев, а иногда и нескольких лет. Среди черных туч расового безумия, среди ядовитого тумана человеконенавистничества сверкали вечные, неугасимые звезды разума, добра, гуманизма. Они вешали гибель страшному царству тьмы, вещали близкий рассвет. Фашисты были бессильны погасить, утопить в морях крови силы добра и разума, жившие в душе народа. Лишь моральное отребье, подонки человечества, жалкие кучки уголовников и садистов вняли преступному зову гитлеровских пропагандистов.
Ныне силы тьмы сокрушены. Армии свободолюбивых народов разгромили черные полчища Гитлера. Беспримерный подвиг Красной Армии, прошедшей от Волги до Эльбы, в тяжелых, кровавых боях нанесшей смертельное поражение немецко-фашистским войскам, штурмом овладевшей столицей мирового мракобесия и мировой реакции Берлином, на веки веков будет записан на золотых скрижалях человечества. Пока будут существовать люди на земле, не забудется этот подвиг.
Победа над германским фашизмом не есть только военная победа. Это победа сил прогресса над силами реакции. Это победа демократии и гуманизма, победа идеи равенства народов, победа идеи справедливости. Поражение фашистской Германии в войне это не только военное поражение фашизма. Это поражение всей идеологии гитлеризма. Это поражение идей расового терроризма. Это поражение идей мирового господства расы господ над народами мира.
Пришел день суда, день возмездия.
Перед судом народов в Нюрнберге предстали те, кто планировали, организовывали и осуществили преступления против человечества.
Суд разворачивает перед глазами мира бесконечный свиток чудовищных преступлений. Суд показал, что смерч, бушевавший над Европой, имел своих организаторов, что убийство миллионов было хладнокровно задумано, хладнокровно подготовлено, хладнокровно осуществлено.
Миллионы невинно убитых, чей прах зарыт в землю либо развеян по полям и дорогам, верили в пришествие часа возмездия. В свои последние минуты, стоя на краю братской могилы, переступая порог газовой камеры, приближаясь к костру, обреченные обращали к палачам слова проклятия, напоминали им о неминуемом возмездии.
И возмездие пришло. Торжество справедливости после страшных лет гитлеровского владычества дает нам право с надеждой и верой смотреть в будущее.
Фашизм убил миллионы невинных, но фашизму не удалось убить правду, добро и справедливость. Пусть же вечно живет в сердце человечества ненависть к страшным идеям расизма.
Пусть навечно сохранится память о страданиях и мучительной смерти миллионов убитых детей, женщин, стариков. Пусть светлая память замученных будет грозным стражем добра, пусть пепел сожженных стучит в сердца живущих, призывая к братству людей и народов.
Василий Гроссман.
УКРАИНА
КИЕВ, БАБИЙ ЯР. Статья написана на основании документальных материалов и показаний киевлян. Подготовил к печати Лев Озеров.
Немецкие войска вступили в Киев 19 сентября. И в тот же день на Бессарабке гитлеровцы начали грабить магазины, задерживали евреев, избивали их и увозили куда-то на грузовиках.
Киевляне видели, как на улице Ленина немцы били прикладами по ногам мужчин-евреев, заставляя их танцевать, затем жестоко избитых людей принуждали грузить на машину тяжелые ящики. Люди падали под непосильной ношей, и немцы снова били их резиновыми дубинками.
22 сентября киевлян разбудил взрыв страшной силы. Со стороны Крещатика тянуло дымом и гарью. Людей, находившихся в это время на прилегающих к Крещатику улицах, немцы гнали на Крещатик, прямо в огонь.
В этот же день на стенах домов появилась газета на украинском языке. В ней было сказано, что евреи, коммунисты, комиссары и партизаны будут уничтожены. За каждого выданного партизана или коммуниста была обещана сумма в 200 рублей. Такие газеты висели на улице Саксаганского, Красноармейской и на многих других улицах города.
Жизнь в Киеве становилась все нестерпимее. Немцы врывались в дома, забирали жильцов, увозили их куда-то, и люди эти уже не возвращались более домой.
22 сентября на улицах города, у водонапорных колонок и в садах происходило массовое избиение евреев.
Гестаповцы проверяли документы на улицах. Евреев избивали, уводили в полицию или гестапо. Ночью их расстреливали.
Многие жители Киева, особенно районов Подола и Слободки, видели, как уже на второй и третий день немецкого хозяйничания по Днепру плавали раздутые трупы замученных стариков и детей. В пятницу 26 и субботу 27 сентября евреи, ушедшие в синагогу, исчезли. Киевлянка Евгения Литощенко свидетельствует, что ее соседи — старик Шнейдер, Розенблат с женой — из синагоги домой не вернулись. Позже она видела их трупы на Днепре. То же подтверждает Т. Михасева. Немецкие автоматчики и полицейские оцепили синагоги и вывезли всех молящихся. В нескольких местах у Киева течение реки прибивало к берегу мешочки с молитвенными принадлежностями.
На пятый день прихода немцев в Киев В. Либерман вышел из дому и, пройдя по улице Короленко, свернул на площадь Толстого. К нему подошел мужчина высокого роста в кепи и черном пальто. Он приказал ему остановиться и потребовал паспорт. У Либермана паспорта при себе не оказалось. Агент полиции приказал ему следовать за собой. Либерман, проходя по Крещатику, видел, как по улице, часто останавливаясь, ехала машина, и в огромный рупор кто-то громовым голосом выкрикивал: ”Сообщайте в гестапо и полицию о местопребывании коммунистов, партизан и евреев. Сообщайте!”
Агент полиции привел Либермана в кинотеатр, находившийся на Крещатике, неподалеку от Прорезной улицы. Гестаповец ударил его по спине и втолкнул в фойе театра. Либерман прошел через фойе в зал. В зале сидело свыше трехсот евреев — в большинстве седобородые старики. Все сидели в глубоком молчании. Либерман подсел к одному молодому еврею, и тот шепотом сказал ему: ”Нас отправят работать на Сырец и там ночью расстреляют”.
Подойдя к открытому окну в фойе театра, Либерман долго смотрел на прохожих, снующих по Крещатику, и вдруг увидел соседа по дому и позвал его. Тот быстро подошел к окну. Либерман попросил его передать жене, что он задержан и находится в театре.
Вскоре жена Либермана — Валентина Березлева — уже была подле театра. Она подошла к гестаповцам и горячо просила освободить мужа. Один из гестаповцев изо всех сил толкнул ее. Несчастная женщина упала со ступенек театра и сильно ударилась головой о тротуар.
Становилось ясно, что все заключенные в кинотеатре обречены на смерть. Но случай спас их на этот раз. В два часа дня вблизи театра раздался взрыв огромной силы. По Крещатику бежали обезумевшие, испуганные люди. Возле театра показалась окровавленная женщина. Желтые густые клубы дыма стлались по улице. Вслед за первым взрывом раздался вскоре второй. Гестаповцы с криком ”фойер” (огонь) оставили свои посты. Арестованные выбежали на свободу.
По вечерам небо окрашивалось багровым отсветом гигантского пожара. Подожженный Крещатик пылал в продолжение шести суток.
27-28 сентября 1941 года, через неделю после прихода немцев в Киев, на стенах городских домов появилось объявление, напечатанное четким шрифтом на украинском и русском языках, на грубой синей бумаге:
”Жиды г. Киева и окрестностей! В понедельник 29 сентября к 7 часам утра вам надлежит явиться с вещами, деньгами, документами, ценностями и теплой одеждой на Дорогожицкую улицу, возле еврейского кладбища. За неявку — смертная казнь. За укрывательство жидов — смертная казнь и за занятие жидовских квартир — смертная казнь”.
Подписи под этим страшным приказом, обрекшим на смерть семьдесят тысяч человек[6], не было. До 29 сентября продолжались бесчинства гестаповцев на улицах и в квартирах.
Семидесятипятилетний Герш Абович Гринберг (ул. Володарского, 22), глава огромной и славной семьи, насчитывающей много инженеров, врачей, фармацевтов, педагогов, 28 сентября был задержан немцами на Галицком базаре. Его ограбили, раздели и зверски замучили. Жена Гринберга, старуха Теля Осиповна, так и не дождавшаяся мужа, на другой день, 29 сентября, сама погибла в Бабьем Яру.
Инженера И. Л. Эдельмана, брата известного пианиста, профессора Киевской консерватории А. Л. Эдельмана, немцы схватили на Желянской улице. Вниз головой бросили они его в бочку, стоявшую возле водосточной трубы.
Б. А. Либман рассказывает об одной еврейской семье, скрывавшейся несколько дней в подвале. Мать с двумя детьми решила уйти в село. Пьяные немцы остановили их на Галицком базаре и учинили над ними жестокую расправу. Они отрубили на глазах у матери голову одному из детей, затем умертвили второго ребенка. Потерявшая рассудок женщина, прижав к себе мертвых детей, стала танцевать. Немцы, насладившись вдосталь этим зрелищем, убили и ее. Тут подоспел к месту гибели всей своей семьи отец, — его постигла та же участь.
Многие киевляне знали юриста Циперовича, жившего на Пушкинской улице, дом 41. Его с женой расстреляли.
Молодой литератор Марк Чудновский не мог своевременно эвакуироваться из Киева: он был болен. Жена его, русская женщина, не пускала мужа одного на Лукьяновку: она понимала, что ждет его там. ”Мы были вместе в дни радости, и теперь я тебя не оставлю”, — сказала она. Они пошли на Лукьяновку вдвоем и погибли вместе. Профессор Киевской консерватории С. У. Сатановский с семьей был расстрелян немцами.
Из дома № 27 по улице Саксаганского немцы выволокли старую парализованную женщину Софью Голдовскую и убили ее. Она была матерью десяти детей.
Старая женщина, Сарра Максимовна Эвенсон, в дореволюционные времена была организатором кружков, пропагандистом, редактировала газету ”Волынь” в Житомире. Перу ее принадлежит много статей (под псевдонимом С. Максимов). Она была первой переводчицей Фейхтвангера и ряда других иностранных писателей нового времени на русский язык. Она отлично владела западноевропейскими языками и находилась в переписке с видными деятелями культуры и искусства.
Преклонный возраст и болезнь не позволили С. М. Эвенсон своевременно эвакуироваться из Киева. Последние два года она не выходила из дома. Эту женщину, у которой были уже правнуки, гитлеровцы выбросили из окна третьего этажа на ул. Горького, дом 14. Регина Лазаревна Магат (ул. Горького, дом 10), мать профессора медицины и биологии, погибшего на фронте, была убита немцами. Известный юрист Илья Львович Багат погиб от немецкой пули вместе с двумя внучками — Полиной и Мальвиной. В эти же дни погиб вместе со своей сестрой и племянницей пользовавшийся всесоюзной и европейской известностью профессор бактериологии Моисей Григорьевич Беньяш.
Но все это было лишь подготовкой к дальнейшим событиям, разыгравшимся со всей жестокосердной, изуверской силой в Бабьем Яру.
На рассвете 29 сентября киевские евреи с разных концов города медленно двигались по улицам в сторону еврейского кладбища, на Лукьяновку. Многие из них думали, что предстоит переезд в провинциальные города. Но многие понимали, что Бабий Яр — это смерть. В этот день было много самоубийств.
Семьи пекли хлеб на дорогу, шили походные вещевые мешки, нанимали подводы, двуколки. Поддерживая друг друга, шли старики и старухи. Матери несли младенцев на руках, везли их в колясочках. Шли люди с мешками, свертками, чемоданами, ящиками. Дети плелись рядом с родителями. Молодежь ничего с собой не брала, а пожилые люди старались взять с собой из дому побольше. Старух, тяжко вздыхающих и бледных, вели под руки внуки. Парализованных и больных несли на носилках, на одеялах, на простынях.
Толпы людей непрерывным потоком шли по Львовской улице, а на тротуарах стояли немецкие патрули. Огромное множество людей с раннего утра до самой ночи двигалось по мостовой; трудно было перейти с одной стороны Львовской улицы на другую. Это шествие смерти продолжалось три дня и три ночи. Люди шли, останавливаясь, и без слов обнимались, прощались, молились. Город притих. На Львовскую улицу, как потоки в реку, вливались толпы с Павловской, Дмитриевской, с улицы Володарского, Некрасовской. За Львовской улицей начинается улица Мельника, а дальше — пустынная дорога, голые холмы, овраги с крутыми склонами — Бабий Яр. По мере приближения к Бабьему Яру нарастал ропот, смешиваясь со стонами и рыданиями.
Дмитрий Орлов, старый киевлянин, наблюдал за экзекуцией со стороны Кабельного завода. Он не в силах был смотреть на ужасную картину больше нескольких минут и потом убежал, почувствовав, что мутится в голове.
Под открытым небом была развернута целая канцелярия, стояли письменные столы. Толпа, ожидавшая у заставы, организованной немцами в конце улицы, не видела этих столов. От толпы каждый раз отделяли по 30-40 человек и вели под конвоем ”регистрировать”. У людей отбирали документы и ценности. Документы тут же бросались на землю; свидетели говорят, что площадь покрылась толстым слоем брошенных бумаг, порванных паспортов и профсоюзных билетов. Затем немцы заставляли людей раздеваться догола — всех без исключения — и девушек, и женщин, и детей, и стариков; одежду их собирали, аккуратно складывали. У голых людей — мужчин и женщин — срывали с пальцев кольца. Потом обреченных, группами по 30-40 человек, палачи ставили на край глубокого оврага и в упор расстреливали их. Тела падали с обрыва. Маленьких детей сталкивали в яр живыми. Многие, подходя к месту казни, теряли рассудок.
Множество киевлян до последней минуты расправы не знали, что делали немцы в Бабьем Яру.
Одни говорили: трудовая мобилизация, другие — переселение, третьи заявляли, что немецкое командование договорилось с советской комиссией, и предстоит обмен: еврейская семья — на одного военнопленного немца.
Молодая русская женщина, жена командира-еврея, сражавшегося в Красной Армии, Тамара Михасева тоже пошла в Бабий Яр, рассчитывая выдать себя за еврейку: ее тоже обменяют, и она на свободной советской земле найдет мужа.
Тамара очутилась за изгородью.
Сначала она стала в очередь на сдачу вещей, затем в очередь к регистраторам.
Рядом с ней стояли высокая старуха в шляпе со страусовым пером, молодая женщина с мальчиком и рослый плечистый мужчина.
Мужчина взял мальчика на руки.
Михасева подошла к ним.
Мужчина посмотрел на нее и спросил:
— А вы разве еврейка?
— Муж у меня еврей.
— Вам следует уйти, если вы не еврейка, — сказал он, — подождите немного, мы уйдем вместе.
Он поднял ребенка, поцеловал его в глаза, простился с женой и тещей. Что-то резкое и повелительное сказал он по-немецки, и патрульный отодвинул доску. Этот мужчина был обрусевшим немцем, он проводил в Бабий Яр свою жену, сына и мать жены.
Михасева вышла следом за ним. Со стороны Бабьего Яра слышался лай многих десятков собак, треск автоматов и крики казнимых. Навстречу двигалась толпа. Вся мостовая была запружена людьми. Гремели радиорупоры — танцевальными мелодиями заглушались крики гибнущих жертв.
Приводим рассказы чудом спасшихся. Неся Эльгорт, проживавшая по улице Саксаганского №40, шла к обрыву, прижимая к голому телу дрожавшего сына Илюшу. Все близкие и родные ее затерялись в толпе. С сыном на руках она подошла к самому краю обрыва. В полубеспамятстве она услышала стрельбу, предсмертные крики и упала. Но пули миновали ее. На ее спине и на голове лежали еще горячие, окровавленные ноги, руки. Вокруг, грудой, друг на друге лежали сотни и тысячи убитых. Старики — на детях, детские тельца — на мертвых матерях.
”Мне сейчас трудно осознать, каким образом я выбралась из этого оврага смерти, — вспоминает Неся Эльгорт, — но я выползла, очевидно, инстинкт самосохранения гнал меня. Вечером я очутилась на Подоле, возле меня был мой сын Илюша. Поистине, не могу понять, каким чудом спасся сын. Он как бы сросся со мной и не отрывался от меня ни на секунду.
Русская женщина, Марья Григорьевна, фамилии я не помню, жительница Подола, приютила меня на одну ночь и утром помогла мне пройти на улицу Саксаганского”.
Вот другой рассказ женщины, спасшейся из Бабьего Яра.
Елена Ефимовна Бородянская-Кныш с ребенком пришла к Бабьему Яру, когда было уже совершенно темно. Ребенка она несла на руках. ”По дороге к нам присоединили еще человек 150, даже больше. Никогда не забуду одну девочку лет пятнадцати — Сарру. Трудно описать красоту этой девочки. Мать рвала волосы на себе, кричала душераздирающим голосом: ”Убейте нас вместе...” Мать убили прикладом, с девочкой не торопились, пять или шесть немцев раздели ее догола, что было дальше не знаю, не видела.
С нас сняли верхнюю одежду, забрали все вещи и, отведя вперед метров на 50, забрали документы, деньги, кольца, серьги. У одного старика начали вынимать золотые зубы. Он сопротивлялся. Тогда немец схватил его за бороду и бросил на землю, клочья бороды остались в руках у немца. Кровь залила старика. Мой ребенок при виде этого заплакал.
— Не веди меня туда, мама, нас убьют; видишь, дедушку убивают.
— Доченька, не кричи, если ты будешь кричать, мы не сможем убежать и нас немцы убьют, — упрашивала я ребенка.
Она была терпеливым ребенком, — шла молча и вся дрожала. Ей было тогда четыре года. Всех раздевали догола. Но так как на мне было старенькое белье — меня оставили в белье.
Около 12 часов ночи раздалась немецкая команда, чтобы мы строились. Я не ждала следующей команды, а тотчас бросила в ров девочку и сама упала на нее. Секунду спустя на меня стали падать трупы. Затем стало тихо. Прошло минут пятнадцать — привели другую партию. Снова раздались выстрелы, и в яму снова стали падать окровавленные, умирающие и мертвые люди.
Я почувствовала, что моя дочь уже не шевелится. Я привалилась к ней, прикрыла ее своим телом и, сжав руки в кулаки, положила их ребенку под подбородок, чтобы девочка не задохнулась. Моя дочь зашевелилась. Я старалась приподняться, чтобы ее не задавить. Вокруг было очень много крови. Расстрел ведь шел с 9 часов утра. Трупы лежали надо мной и подо мной.
Слышу, кто-то ходит по трупам и ругается по-немецки. Немецкий солдат штыком проверял, не остались ли живые. И вышло так, что немец стоял на мне и поэтому меня миновал удар штыком.
Когда он ушел, я подняла голову. Вдали слышен был шум. Это немцы ругались из-за вещей — шел дележ.
Я высвободилась, поднялась, взяла на руки дочь — она была без сознания. Я пошла яром. Отойдя на километр, почувствовала — дочь едва дышит. Воды нигде не было. Я смочила ей рот своей слюной. Прошла еще километр, стала собирать росу с травы и увлажнять ею ребенку рот. Понемногу девочка стала приходить в себя.
Я отдохнула и пошла дальше. Переползая по ярам, я дошла до поселка Бабий Яр. Вышла во двор кирпичного завода, забралась в подвал. Четверо суток просидела я там без еды, без одежды. Только ночью я выходила во двор, чтобы покопаться в мусорном ящике.
И я, и ребенок стали опухать. Что творилось кругом — я уже не знала. Где-то стреляли пулеметы. На пятые сутки ночью я забралась на чердак одного дома, нашла там сильно поношенную вязаную юбку и две старые блузки. Одну блузку надела на ребенка вместо платья. Я пошла к своей знакомой Литошенко. Она обмерла, увидев меня. Она дала мне юбку, платье и спрятала меня и ребенка. Я больше недели была у нее под замком. Она дала мне денег на дорогу, и я пошла к другой знакомой — Фене Плюйко, также оказавшей мне большую помощь. Муж ее погиб на фронте. У нее на квартире я была месяц. Ее соседи меня не знали. Когда они спрашивали, кто я, Феня говорила: ”Сестра мужа, из села”. После этого я переселилась к Шкуропадской. У нее я находилась две недели. Но на Подоле меня все знали, и днем выходить из дома я не могла”.
Дмитрий Пасичный, спрятавшись за памятником на еврейском кладбище, видел, как немцы расстреливали евреев.
Жена Пасичного, Полина, и ее мать Евгения Абрамовна Шевелева — еврейки. Он спрятал их в шкафу и распространил слухи, что они ушли на кладбище. Затем обе женщины перешли в домик Покровской церкви, на Подоле. Священник этой церкви Глаголев, сын священника, выступавшего в свое время экспертом со стороны защиты на процессе Бейлиса, дал возможность жене Пасичного прожить в церковном доме до августа 1942 года, а потом увез в Каменец-Подольский. Священник Глаголев спас еще многих других евреев, обратившихся к нему за помощью.
Немцы и полицейские, после убийства в Бабьем Яру, рыскали в поисках новых жертв. Сотни евреев, которым удалось избежать расстрела в Бабьем Яру, погибли в своих квартирах, в водах Днепра, в оврагах Печерска и Демиевки, были застрелены на улицах города. Немцы подвергали сомнению и тщательному исследованию документы всех людей, похожих на евреев. Заподозренных расстреливали по первому доносу. Немцы рыскали не только по квартирам, они проникали в подземелья, пещеры, взрывали полы, подозрительно замурованные стены, чердаки, дымоходы.
Несколько ушедших из Бабьего Яра киевских евреев сохранены судьбой, чтобы человечество услышало из их уст свидетельство жертв, правду очевидцев.
Когда спустя два года Красная Армия подошла к Днепру, из Берлина пришел приказ уничтожить трупы евреев, зарытых в Бабьем Яру.
Владимир Давыдов — заключенный Сырецкого лагеря — рассказывает о том, как осенью в 1943 году немцы, предчувствуя, что им придется оставить Киев, спешили скрыть следы массовых казней в Бабьем Яру.
18 августа 1943 года немцы отобрали из Сырецкого лагеря 300 заключенных и заковали в ножные кандалы. Все в лагере поняли, что предстоит какая-то особо важная работа. Эту группу заключенных сопровождали только офицеры и унтер-офицеры СС. Заключенных вывели из лагеря и перевезли в темные бункеры, землянки, окруженные проволокой. Возле бункеров на высоких вышках стояли пулеметы, днем и ночью дежурили немцы. 19 августа заключенных вывели из бункеров и повели под усиленной охраной в Бабий Яр. Там им выдали лопаты. Тогда люди поняли, что им предстоит страшная работа: выкапывать трупы евреев, расстрелянных немцами в конце сентября 1941 года.
Когда заключенные вскрыли верхний пласт земли, они увидели десятки тысяч трупов. Заключенный Гаевский, увидя груды трупов, сошел с ума. Трупы от долгого лежания под землей срослись, и их приходилось отделять друг от друга баграми. С 4-х часов утра до поздней ночи Владимир Давыдов и его товарищи работали в Бабьем Яру. Немцы заставили заключенных сжигать останки. На штабеля дров клали две тысячи трупов, затем обливали их нефтью. Гигантские костры горели днем и ночью. Было предано огню свыше 70 тысяч тел. Кости, оставшиеся после сожжения трупов, гитлеровцы заставляли толочь большими трамбовками, смешивать их с песком и разбрасывать их в окрестных местах. Во время этой страшной работы приехал из Берлина шеф гестапо Гиммлер — инспектировать качество работы.
28 сентября 1943 года, когда работа по уничтожению улик подходила к концу, немцы приказали заключенным вновь разжечь печи. Заключенные поняли, что теперь готовится расправа над ними самими. Немцы хотели убить, а зачем сжечь в печах последних живых свидетелей. Давыдов в кармане пальто одной мертвой женщины нашел ножницы. Этими ржавыми ножницами он расковал свои кандалы. То же сделали остальные заключенные. На рассвете 29 сентября 1943 года, ровно через два года после массового убийства киевских евреев, новые немецкие жертвы с криками ”ура” выбежали из своих землянок и кинулись к кладбищенской стене. Ошеломленные внезапным побегом, эсэсовцы не успели сразу открыть огонь из пулеметов. Они убили 280 человек. Владимир Давыдов и еще одиннадцать человек успели взобраться на стену и благополучно бежать. Их приютили жители киевских предместий. Затем Давыдов сумел уехать из Киева и жил в деревне Варовичи.
* * *
Не все трупы были сожжены, не все кости перемолоты, — слишком много их было, — и каждый, кто придет в Бабий Яр, даже теперь еще увидит осколки черепов, кости, вперемешку с углями, найдет ботинок со сгнившей человеческой ступней, туфли, галоши, тряпки, платки, детские игрушки, увидит чугунные решетки, выломанные из кладбищенской ограды. Эти решетки служили колосниками печей, на которых складывались для сожжения отрытые тела убитых в страшные сентябрьские дни 1941 года.
УБИЙСТВО ЕВРЕЕВ В БЕРДИЧЕВЕ. Автор Василий Гроссман.
В Бердичеве до войны жило 30 тысяч евреев — половина всего населения города. Хотя в юго-западных областях — бывшей черте еврейской оседлости — в большом количестве местечек и городов евреи составляли не меньше 60 процентов общего населения, т.е. больше, чем в Бердичеве, но почему-то именно Бердичев считался наиболее еврейским городом на Украине. Еще до революции антисемиты и черносотенцы называли его ”еврейской столицей”. Немецкие фашисты, изучавшие перед массовым убийством евреев вопрос о расселении евреев на Украине, особо отмечали Бердичев.
Еврейское население жило дружно с русским, украинским и польским населением городов и окрестных сел. За все время существования города в нем не было никаких национальных эксцессов.
Еврейское население работало на заводах: одном из крупнейших в Советском Союзе кожевенном заводе им. Ильича, на машиностроительном заводе ”Прогресс”, Бердичевском сахарном заводе, на десятках и сотнях кожевенных, сапожных, шапочных, металлообрабатывающих предприятий, на картонажных фабриках и мастерских. Еще до революции бердичевские мастера мягких туфель — ”чувяков” — пользовались большой славой, их продукция шла в Ташкент, Самарканд и другие города Средней Азии. Также широко известны были мастера модельной обуви и специалисты по производству цветной бумаги. Тысячи бердичевских евреев работали каменщиками, печниками, плотниками, ювелирами, часовщиками, оптиками, пекарями, парикмахерами, носильщиками на вокзале, стекольщиками, монтерами, слесарями, водопроводчиками, грузчиками и т. д.
В городе имелась многочисленная еврейская интеллигенция: десятки опытных старых врачей — терапевтов, хирургов, специалистов по детским болезням, акушеров, стоматологов; были бактериологи, химики, провизоры, инженеры, техники, бухгалтеры, преподаватели многочисленных техникумов, средних школ, были учительницы иностранных языков, учителя и учительницы музыки, воспитательницы, работавшие в детских яслях, садах, на детских площадках.
Немцы появились в Бердичеве неожиданно: к городу прорвались немецкие танковые войска. Только треть еврейского населения успела эвакуироваться. Немцы вошли в город в понедельник 7 июля 1941 года, в 7 часов вечера. Солдаты кричали с машин: ”Юде капут!”, махали руками и смеялись; они знали, что в городе осталось почти все еврейское население.
Трудно воспроизвести душевное состояние двадцати тысяч людей, внезапно объявленных вне закона и лишенных каких бы то ни было человеческих прав; даже страшные законы, установленные немцами по отношению к жителям оккупированных областей, казались евреям недостижимым благом.
Прежде всего на еврейское население была наложена контрибуция. Военный комендант потребовал представить в течение 3 дней 15 пар хромовых сапог, 6 персидских ковров и сто тысяч рублей. (Судя по незначительности этой контрибуции, она явилась актом личного грабительства со стороны военного коменданта.) При встрече с немцем евреи обязаны были снимать шапку. Невыполнявших это требование подвергали избиению, заставляли ползать на животе по тротуару, собирать руками мусор, нечистоты с мостовой, старикам обрезали бороды. Столяр Герш Гетерман, бежавший на шестой день оккупации из Бердичева и сумевший перебраться через линию фронта, рассказывает о первых преступлениях немцев по отношению к евреям. Немецкие солдаты выгнали из квартир группу жителей Глинищ, Большой Житомирской, Штейновской улиц — все эти улицы прилегают к Житомирскому шоссе, на котором расположен кожевенный завод. Людей привели в дубильный цех завода и заставили прыгать в огромные ямы, полные едкого дубильного экстракта; сопротивлявшихся пристреливали и тела их также кидали в ямы. Немцы, участвовавшие в этой экзекуции, считали ее ”шуточной”: они, дескать, дубили еврейскую шкуру. Такая же ”шуточная” экзекуция была проделана в Старом городе — части Бердичева, расположенной между Житомирским шоссе и рекой Гнилопять. Немцы приказали старикам одеться в ”талес” и ”тфилим” и устроить в Старой синагоге богослужение: ”Молите бога простить грехи, совершенные против немцев”. Дверь синагоги заперли, и здание подожгли.
Третью ”шуточную” экзекуцию немцы произвели возле мельницы. Они схватили несколько десятков женщин, приказали им раздеться и объявили несчастным, что тем, кто переплывет на тот берег, будет дарована жизнь. Река возле мельницы, запруженная каменной плотиной (”греблей”), — очень широка. Большинство женщин утонуло, не достигнув противоположного берега. А тех, кто переплыл на западный берег, заставили тотчас же плыть обратно. Немцы развлекались, они наблюдали, как утопавшие, теряя силы, идут ко дну, — они забавлялись этим зрелищем до тех пор, пока не утонули все женщины до одной.
Примером такой же немецкой ”шутки” может служить история гибели старика Арона Мизора, по профессии резника, жившего на Белопольской улице.
Немецкий офицер ограбил квартиру Мизора и приказал солдатам унести отобранные вещи, сам же с двумя солдатами остался развлечься — он нашел нож резника, предназначенный для домашней птицы, и таким образом узнал о профессии Мизора.
— Я хочу посмотреть твою работу, — сказал он и велел солдатам привести трех маленьких детей соседки.
— Режь их! — приказал офицер.
Мизор думал, что офицер шутит. Но тот ударил старика кулаком по лицу и повторил — ”режь!”
Жена и невестка стали молить и плакать, тогда офицер сказал: ”Тебе придется зарезать не только детей, но и этих двух женщин”.
Мизор упал без сознания на пол.
Офицер взял нож и ударил им старика по лицу.
Невестка Мизора Лия Басихес выбежала на улицу, моля встречных спасти стариков. Когда люди вошли в квартиру Мизора, то увидели мертвые тела резника и его старухи-жены в луже крови — офицер сам показал, как надо действовать ножом.
Население думало, что издевательства и убийства в первые дни происходили не по приказу, и пыталось обращаться с жалобами к немецкому начальству, просить помощи против самочинных расправ.
Сознание тысяч людей не могло примириться со страшной правдой, что сама власть, само гитлеровское государство одобряет все эти чудовищные расправы. Нечеловеческая истина, что евреи поставлены вне закона, что пытки, насилия, убийства, поджоги — все это естественно в применении к евреям — не укладывалась в сознании людей. Они приходили в городское управление, к военному коменданту. Представители немецкой власти с бранью и насмешками прогоняли жалобщиков.
Ужас навис над городом. Ужас вошел в каждый дом, он стал над кроватями спящих, он вставал с солнцем, он ходил ночью по улицам. Тысячи старушечьих и детских сердец замирали, когда в ночи слышался грохот солдатских сапог, громкая немецкая речь. Ужасны были и облачные, темные ночи, и ночи полной луны, ужасным стало раннее утро и светлый полдень, и мирный вечер в родном городе. Так продолжалось 50 дней.
26 августа немецкие власти начали подготовку общей ”акции”. По городу были расклеены объявления, предлагавшие всем евреям переселиться в гетто, организуемое в районе Яток — городского базара. Переселявшимся запрещалось брать с собой мебель.
Ятки — это самый бедный район города, вдоль немощеных улиц с вечными, непросыхающими лужами. Там стоят ветхие хибарки, одноэтажные домики, старые — из осыпающегося кирпича — постройки, во дворах растет бурьян, валяется мусор, кучи хлама, навоза.
Три дня продолжалось переселение. Люди, нагруженные узлами, чемоданами, медленно двигались с Белопольской, Махновской, Греческой, Пушкинской, с Большой и Малой Юридики, с Семеновской, Даниловской улиц. Подростки и дети поддерживали дряхлых стариков и больных. Парализованных, безногих несли на одеялах и носилках. Встречный поток двигался из Загребального района города, находившегося по ту сторону реки Гнилопяти.
Людей поселили по пять-шесть семей в комнату. В маленьких хибарках сгрудилось по многу десятков людей — матери с грудными детьми, лежачие больные, слепые старики. Клетушки-комнаты были завалены домашними вещами, перинами, подушками, посудой.
Были объявлены законы гетто. Людям запрещалось, под страхом сурового наказания, выходить из пределов гетто. Покупать продукты на базаре можно было лишь после шести часов, т.е. тогда, когда базар пустел и никаких продуктов уже не было.
Никто из переселенных в гетто, однако, не думал, что это переселение является лишь первым шагом к заранее разработанному во всех деталях убийству двадцати тысяч евреев, оставшихся в Бердичеве.
Бердичевский житель, бухгалтер Николай Васильевич Немоловский посещал в гетто семью своего друга инженера Нужного, работавшего до войны на заводе ”Прогресс”. Немоловский рассказывает, что жена Нужного много плакала и волновалась по поводу того, что сын ее, десятилетний Гарик, не сможет продолжать с осени занятия в русской школе.
Протоиерей бердичевского собора отец Николай и старик-священник Гурин все время поддерживали связь с врачами Вурнаргом, Барабаном, женщиной-врачом Бланк и другими представителями еврейской интеллигенции. Немецкие власти в Житомире объявили архиерею, что малейшая попытка спасать евреев будет караться самыми суровыми наказаниями, вплоть до смертной казни.
Бердичевские старики-врачи, как рассказывают священники, жили все время надеждами на возвращение Красной Армии. Одно время их утешала весть, якобы, слышанная кем-то по радио, что немецкому правительству передана нота с требованием прекратить бесчинства в отношении евреев.
Но в это время пленные, пригнанные немцами с Лысой Горы, на поле, вблизи аэродрома, там, где кончается Бродская улица и начинается мощеная дорога, ведущая в деревню Романовку, начали копать пять глубоких рвов.
4 сентября, спустя неделю после организации гетто, немцы и предатели-полицейские предложили 1500 молодым людям отправиться на сельскохозяйственные работы. Молодежь собрала узелки продуктов, хлеб и, простившись с родными, отправилась в путь. В этот же день все они были расстреляны между Лысой Горой и деревней Хажином. Палачи умело подготовили казнь, настолько тонко, что никто из обреченных, до самых последних минут, не подозревал о готовящемся убийстве. Им подробно объяснили, где они будут работать, как их разобьют на группы, когда и где им выдадут лопаты и прочие орудия труда. Им даже намекнули, что по окончании работ каждому будет разрешено взять немного картошки для стариков, оставшихся в гетто.
И те, кто остались в гетто, так и не узнали в недолгие оставшиеся им дни жизни судьбу, постигшую молодых людей.
— Где ваш сын? — спрашивали у того или другого старика.
— Пошел копать картошку, — был общий ответ стариков.
Этот расстрел молодежи был первым звеном в цепи заранее продуманных мероприятий по убийству бердичевских евреев. Эта казнь изъяла из гетто почти всех способных к сопротивлению молодых людей. В Ятках остались, главным образом, старики, старухи, женщины, школьники, школьницы, младенцы. Так немцы обеспечили себе полную безнаказанность при проведении общей массовой казни.
Подготовка к ”акции” закончилась. Ямы в конце Бродской улицы выкопаны. Немецкий комендант познакомил председателя городского управления Редера (обрусевшего немца, военнопленного Первой мировой войны) и начальника полиции — предателя Королюка с планом операции. Эти лица — Редер и Королюк — принимали активное участие в организации и осуществлении казни. Четырнадцатого сентября в Бердичев прибыли части эсэсовского полка, была мобилизована и вся городская полиция. В ночь с 14 на 15 сентября район гетто был оцеплен войсками. В четыре часа утра, по сигналу, эсэсовцы и полицейские начали врываться в квартиры, подымать людей, выгонять их на базарную площадь.
Многих из тех, кто не мог идти — дряхлых стариков и калек, палачи убивали тут же в домах. Страшные вопли женщин, плач детей, разбудили весь город. На самых отдаленных улицах люди просыпались, со страхом вслушиваясь в стоны тысяч людей, слившиеся в один потрясающий душу звук.
Вскоре базарная площадь заполнилась. На небольшом холмике стояли Редер и Королюк, окруженные охраной. К ним партиями подводили людей, и они отбирали из каждой партии 2—3 человека известных специалистов. Отобранных отводили в сторону, на ту часть площади, которая прилегала к Большой Житомирской улице.
Обреченных строили в колонны и под усиленной охраной эсэсовцев гнали через Старый город по Бродской улице, по направлению к аэродрому. Прежде чем построить людей в колонны, эсэсовцы и полицейские требовали, чтобы обреченные клали на землю драгоценности и документы.
Земля в том месте, где стояли Редер и Королюк, стала белой от бумаги: удостоверений, паспортов, справок, профсоюзных билетов.
Отобраны были 400 человек — среди них старики-врачи Вурнарг, Барабан, Либерман, женщина-врач Бланк, знаменитые в городе ремесленники и мастера, в их числе электро- и радиомонтер Эпельфельд, фотограф Нужный, сапожник Мильмейстер, старик-каменщик Пекелис со своими сыновьями каменщиками, Михелем и Вульфом, известные своим мастерством портные, сапожники, слесари, несколько парикмахеров. Отобранным специалистам разрешили взять с собой семьи. Многие из них не смогли отыскать потерявшихся в огромной толпе жен и детей. По свидетельству очевидцев, здесь происходили потрясающие сцены: люди, стараясь перекричать обезумевшую толпу, выкрикивали имена своих жен и детей, а сотни обреченных матерей протягивали к ним своих сыновей и дочерей, молили признать их своими и этим спасти от смерти.
— Вам все равно, вам не найти в такой толпе своих! — кричали женщины.
Одновременно с пешими колоннами по Бродской улице двигались грузовики: в них везли немощных стариков, малых детей, всех тех, кто не мог пройти пешком четыре километра, отделяющих Ятки от места казни. Картина этого движения тысячных толп женщин, детей, старух, стариков на казнь была столь ужасна, что и поныне очевидцы, рассказывая и вспоминая, бледнеют и плачут. Жена священника Гурина, живущая с мужем в доме, расположенном на той улице, по которой гнали на казнь, увидев эти тысячи женщин и детей, взывавших о помощи, узнав среди них десятки знакомых, помешалась и в течение нескольких месяцев находилась в состоянии душевного потрясения.
Но одновременно находились темные преступные люди, извлекавшие материальные выгоды из великого несчастья, жадные до наживы, готовые обогатиться за счет невинных жертв. Полицейские, члены их семей, любовницы немецких солдат бросались в опустевшие квартиры грабить. На глазах живых мертвецов тащили они платья, подушки, перины; некоторые проходили сквозь оцепление и снимали платки, вязаные шерстяные кофточки с женщин и девушек, ждущих казни. А в это время голова колонны подошла к аэродрому. Полупьяные эсэсовцы подвели первую партию в 40 человек к краю ямы. Раздались первые автоматные очереди. Место казни было устроено в 50—60 метрах от дороги, по которой проводили обреченных. Тысячи глаз видели, как падают убитые старики и дети, затем новые партии гнали к аэродромным ангарам, там ожидали они своей очереди и снова, уже для принятия смерти, шли к месту казни.
От аэродромных ангаров к ямам вели группами по 40 человек. Надо было пройти около 800 метров по неровному кочковатому полю. Пока эсэсовцы убивали одну партию, вторая уже, сняв верхнюю одежду, ожидала очереди в нескольких десятках метров от ям, а третью партию выводили в это время из-за ангаров.
Хотя подавляющее большинство убитых в этот день людей были совершенно немощные старики, дети, женщины с младенцами на руках, эсэсовцы, однако, боялись их сопротивления. Убийство было организовано таким образом, что на самом месте казни было больше палачей с автоматами, чем безоружных жертв.
Весь день длилось это чудовищное избиение невинных и беспомощных, весь день лилась кровь. Ямы были полны крови, глинистая почва не впитывала ее, кровь выступала за края, огромными лужами стояла на земле, текла ручейками, скапливалась в низменных местах. Раненые, падая в ямы, гибли не от выстрелов эсэсовцев, а захлебываясь, тонули в крови, наполнявшей ямы. Сапоги палачей промокли от крови. Жертвы подходили к могиле по крови. Весь день безумные крики вновь и вновь убиваемых стояли в воздухе. Крестьяне окрестных хуторов бежали из своих домов, чтобы не слышать воплей страданий, которых не может выдержать человеческое сердце. Весь день люди, бесконечной колонной проходившие мимо места казни, видели своих матерей, детей уже стоящими на краю ямы, к которой судьба сулила им подойти через час или два. И весь день воздух оглашали слова прощания.
— Прощайте! Прощайте, вскоре мы встретимся, — кричали с шюссе.
— Прощайте! — отвечали те, что стояли над ямой.
Страшные вопли оглашали воздух: выкрикивались родные имена, раздавались последние напутствия.
Старики громко молились, не теряя веру в бога даже в эти страшные часы, отмеченные властью дьявола. В этот день, 15 сентября 1941 года, на поле, вблизи бердичевского аэродрома, были убиты двенадцать тысяч человек. Подавляющее большинство убитых — это женщины, девушки, дети, старухи и старики.
Все пять ям были полны до краев, — пришлось навалить поверх холмы земли, чтобы прикрыть тела. Земля шевелилась, судорожно дышала. Ночью многие из недобитых выползли из-под могильных холмов. Свежий воздух проник через разворошенную землю в верхние слои лежавших и придал силы тем, кто был только ранен, в ком сердце еще продолжало биться, вернул сознание лежащим в беспамятстве. Они расползались по полю, инстинктивно стараясь отползти подальше от ям; большинство из них, теряя силы, истекая кровью, умирало тут же на поле, в нескольких десятках саженей от места казни.
Крестьяне, ехавшие на рассвете из Романовки в город, увидели: все поле покрыто мертвыми. Утром немцы и полиция убрали тела, добили тех, кто еще дышал, и вновь закопали их.
Трижды за короткое время земля над могилами раскрывалась, вздымаемая изнутри, и кровавая жидкость выступала через края ям, разливалась по полю. Трижды сгоняли немцы крестьян, заставляли их наваливать новые холмы над огромными могилами.
Есть сведения о двух детях, стоявших на краю этих раскрытых могил и чудом спасшихся.
Один из них, десятилетний сын инженера Нужного, — Гарик. Отец его, мать и младшая шестилетняя сестра были казнены. Когда Гарик вместе с матерью и сестренкой подошел к краю ямы, мать, желая спасти сына, закричала:
— Этот мальчик — русский, он сын моей соседки, он русский, русский!
Голоса других обреченных поддержали ее:
— Он русский, он русский! — кричали они.
Эсэсовец оттолкнул мальчика. До темноты он пролежал в кустах у дороги, а затем пошел в город на Белопольскую улицу, в дом, где прожил свою маленькую жизнь.
Он вошел в квартиру Николая Васильевича Немоловского, товарища отца, и, едва увидев знакомые лица, упал в припадке, захлебываясь слезами.
Он рассказал, как были убиты его отец, мать, сестра, как мать и незнакомые люди, из которых уже ни одного нет в живых, спасли его. Всю ночь рыдал он, вскакивая с постели, порываясь вернуться к месту казни.
Десять дней скрывали его Немоловские. На десятый день Немоловский узнал, что среди 400 ремесленников и мастеров-специалистов оставлен в живых брат инженера Нужного. Он пошел в фотографию, где работал Нужный, и сообщил, что племянник его жив.
Нужный ночью пришел повидаться с мальчиком. Когда Немоловский описывал пишущему эти строки встречу Нужного, потерявшего всю свою семью, с племянником, он разрыдался и сказал: ”Это нельзя рассказать”.
Через несколько дней Нужный пришел за племянником, забрал его к себе. Судьба их обоих трагична — при следующем расстреле были казнены и дядя и племянник.
Вторым, ушедшим от места расстрела, был десятилетний Хаим Ройтман. На его глазах были убиты отец, мать и младший братик Боря. Когда немец поднял автомат, Хаим, стоя на краю ямы, сказал ему: ”Смотрите, часики!” и указал на блестевшее неподалеку стеклышко. Немец наклонился, чтобы поднять часы, мальчик бросился бежать. Пули немецкого автомата продырявили ему картузик, но мальчик не был ранен, — он бежал до тех пор, пока не упал без памяти. Его спас, спрятал и усыновил Герасим Прокофьевич Остапчук. Таким образом, пожалуй, он единственный из тех, кто был приведен на расстрел 15 сентября 1941 года, но сохранился в живых до прихода Красной Армии.
После этого массового расстрела евреи, бежавшие из города в деревни, и жители окрестных местечек, где происходило в это время поголовное избиение еврейского населения, пришли спасаться в опустевшее гетто. Кто-то убеждал их, что здесь, на специально отведенных для евреев улицах, они избегнут смерти. Но вскоре снова сюда пришли немцы и полицейские, и начались новые кровавые бесчинства.
Маленьким детям разбивали головы о камни мостовой, женщинам отрезали груди. Свидетелем этого избиения был пятнадцатилетний Лева Мильмейстер; он бежал от места расстрела, раненый в ногу немецкой пулей.
В двадцатых числах октября 1941 года начались облавы на тех, кто тайно проживал в запретных для евреев районах города. В этих облавах участвовали не только немцы, но и полицейские, им помогали добровольцы-черносотенцы. К 3 ноября в древний монастырь монашеского ордена босых кармелитов, стоящий над обрывистым берегом реки и окруженный высокой и толстой крепостной стеной, были согнаны 2000 человек. Сюда же были приведены те 400 человек специалистов со своими семьями, которых Редер и Королюк отобрали во время расстрела 15 сентября 1941 года. 3 ноября согнанным в монастырь людям было предложено сложить на пол, на специально очерченный круг, все имеющиеся у них при себе драгоценности и деньги. Немецкий офицер объявил, что утаивших ценности не расстреляют, а они будут заживо закопаны в землю.
После этого стали выводить партиями по 150 человек на расстрел. Людей строили парами и грузили на машины. Сперва были выведены мужчины, около 800 человек, затем женщины и дети. Некоторые заключенные в монастырь, после страшных избиений, мучений, голода и жажды, после четырех месяцев немецкого палачества, после потери близких, были настолько душевно убиты, что шли на смерть, как на избавление. Люди становились в смертный черед, не стараясь еще на лишний час или два отсрочить миг смерти.
Какой-то человек, пробившись к выходу, кричал:
— Евреи, пустите меня вперед, пять минут — и готово, чего же бояться?
В этот день были расстреляны 2000 человек, среди них — доктор Вурнарг, Барабан, зубной врач Бланк, доктор Либерман, семья зубного врача Рубинштейна. Этот расстрел был произведен за городом, в районе совхоза Сакулино.
При новом расстреле снова были отобраны уже у самых ям 150 лучших ремесленников-специалистов.
Их поселили в лагере на Лысой Горе. Постепенно в этот лагерь были собраны лучшие специалисты, приведенные из других районов. Всего в лагере осталось около 500 человек.
27 апреля 1942 года были расстреляны зарегистрированные и жившие в городе еврейки, находившиеся в браке с русскими, а также дети, рожденные от смешанных браков. Их оказалось около 70.
Лагерь на Лысой Горе существовал до июня 1942 года; 15 июня, на рассвете, последних ремесленников и членов их семей, еще находившихся в лагере, немцы расстреляли из пулеметов, а лагерь закрыли. И опять у места казни немцы и полицейские отобрали 60 человек лучших из лучших специалистов — портных, сапожников, монтеров, каменщиков, заключили их в тюрьму и заставили работать на личные нужды сотрудников гестапо и украинской полиции.
Судьба этих последних 60 евреев, оставшихся в живых, была решена несколько позднее. Они были расстреляны немцами во время первого наступления Красной Армии на Житомир. Так, действуя по разработанному плану, немцы казнили двадцатитысячное еврейское население Бердичева — от дряхлых стариков до новорожденных младенцев.
Пережили оккупацию лишь десять-пятнадцать человек из 20000. Среди спасшихся упомянутые выше — пятнадцатилетний Лева Мильмейстер, десятилетний Хаим Ройтман, братья Вульф и Михель Пекелис[7], сыновья бердичевского каменщика и печника.
В заключение приведем несколько строк из красноармейской газеты ”За честь Родины”, напечатанных 13 января 1944 года.
”Одной из первых ворвалась в Бердичев рота гвардии старшего лейтенанта Башкатова. В этой роте служил рядовым Исаак Шпеер[8], уроженец Бердичева. Он убил трех немцев-автоматчиков, пока дошел до Белопольской улицы. Красноармеец с замиранием сердца оглядывался вокруг. Перед ним лежали развалины с детства знакомой улицы. Вышли на улицу Шевченко. Вот и родительский дом. Целы стены, цела крыша и ставни. Здесь Шпеер узнал от соседей, что немцы убили его отца, мать, сестру, маленьких Борю и Дору.
На Лысой Горе еще дрались немцы. Утром бойцы по льду перешли через Гнилопять, пошли на штурм Лысой Горы. В первых рядах шел Исаак Шпеер. Он дополз до немецкого пулемета и гранатами убил двух пулеметчиков. Осколком мины Шпееру раздробило ногу, но он остался в строю. Шпеер застрелил еще одного немца и умер, пронзенный разрывной пулей на Лысой Горе, где немцы убили его мать. Рядовой Исаак Шпеер похоронен в родном городе на Белопольской улице”.
ТАЛЬНОЕ. Автор Владимир Лядин.
Тот, кто проходил по высокой насыпи железной дороги возле города Тальное, мог увидеть на отлогом пригорке, в стороне от города, одинокое здание боен. Здесь завершилась величайшая трагедия города Тальное, — убийство немцами многих тысяч неповинных людей. Тальное, город Киевской области, больше чем наполовину населяли евреи; от всего этого еврейского населения остался в живых единственный человек, мясник на городских бойнях — Юлин.
19 сентября 1941 года немецкий комендант города Тальное издал приказ о регистрации проживающих в городе евреев. Когда евреи собрались на площади перед зданием комендатуры, им было объявлено, что несколькими партиями они будут отправлены в Умань. Старики, неспособные к работе, были отделены и отведены в кинотеатр и клуб; день спустя они там все были расстреляны.
За лесом Кульбида в нескольких километрах от города есть село Белашки. Здесь, возле села Белашки, огромная партия выведенных из Тального евреев была остановлена, и вся эта партия — свыше тысячи человек — расстреляна из пулемета.
Мария Федоровна Розенфельд — ныне заведующая учетом и заместитель секретаря райкома комсомола в Тальном — замужем за евреем; сама она украинка, ее девичья фамилия — Москаленко.
Русских и украинских женщин, которые были замужем за евреями и у которых были дети, немцы согнали в один дом, в три квартиры, где, кроме женщин с детьми, оказались еще старики. Около ста человек, согнанных в несколько маленьких комнат, ожидали часа своей гибели.
17 апреля 1942 года, в день рождения Гитлера, в пять часов, на рассвете все находившиеся в доме были выведены во двор. У матерей, мужья которых были евреи, начали отнимать детей. Мальчику Москаленко-Розенфельд было пять лет, девочке — три года. Но для матерей придумали казнь более изощренную, чем прямое убийство. Детей навалом, как поленья, накидывали на грузовую машину. Они падали на ее дно с глухим стуком. Потом их увезли. Возле городских боен, на том страшном и проклятом месте, которое можно увидеть с высокой насыпи железной дороги, все дети были расстреляны. Матерей оставили жить: они были уже душевно убиты, и немцы были уверены, что они никогда не воскреснут.
Фотограф Погорецкий, русский, был женат на еврейке: его сын был расстрелян вместе с матерью, отца в порядке мстительного глумления оставили жить. В селе Глыбочек был убит партизанами староста. День спустя, немцы полностью уничтожили два еврейских семейства: семейство Сигаловских и семейство Херсонских. Возле здания комендатуры долго качалось тело повешенной еврейской женщины Ратушной: к шее была привязана пустая бутылка, — одному из немцев, которому Ратушная обязана была поставлять молоко, оно показалось недостаточно густым. Эсэсовцы убивали еврейских детей так: эсэсовец поднимал еврейского ребенка за волосы одной рукой, другой стрелял ему в ухо из пистолета. Мальчика с лишаем на голове эсэсовец пытался поднять за ухо. Когда это не удалось и мальчик упал, немец содрал с него штанишки и с ненавистью, каблуком раздавил придатки. ”Теперь размножайся”, — сказал он под смех других солдат.
СОПРОТИВЛЕНИЕ В ЯРМОЛИЦАХ[9]. [Сообщение Е. Ланцман.] Подготовил к печати Илья Эренбург.
[В Остроге евреи встретили немецких палачей автоматными очередями. В Проскурове перестрелка продолжалась несколько часов. Евреи убили троих эсэсовцев и пятерых полицаев. Нескольким молодым людям удалось прорваться и уйти в лес.]
В Ярмолицах евреи сопротивлялись два дня. Оружие было заранее приготовлено; его принесли вместе с домашними вещами. Было это в Военном городке. Первого полицейского, который туда проник, чтобы отобрать партию обреченных, евреи убили, труп его выбросили в окно. Завязалась перестрелка, причем были убиты еще несколько полицейских. На следующий день прибыли грузовики с полицейскими из соседних районов. Только к вечеру, когда у евреев иссякли боеприпасы, осаждавшие проникли в городок. Казнь продолжалась три дня. При сопротивлении были убиты 16 полицейских, среди них начальник полиции и пять немцев.
В других зданиях Военного городка наблюдались случаи самоубийства. Отец выбросил из окна двух детей, а потом кинулся вниз вместе с женой. Одна девушка, стоя в окне, кричала: ”Да здравствует Красная Армия! Да здравствует Сталин!”
КАК ПОГИБЛА ЖЕНЩИНА-ВРАЧ ЛАНГМАН (Сорочицы). Подготовил к печати Илья Эренбург.
В Сорочицах проживала врач-гинеколог Любовь Михайловна Лангман. Она пользовалась любовью населения, и крестьянки долго скрывали ее от немцев. С ней пряталась ее дочь одиннадцати лет.
Когда Лангман находилась в селе Михайлики, к ней пришла повитуха и рассказала, что у жены старосты трудные роды. Лангман объяснила повитухе, что нужно делать, но положение роженицы с каждым часом ухудшалось. Верная своему долгу, Лангман направилась в избу старосты, спасла мать и ребенка. После этого староста сообщил немцам, что в его хате находится еврейка. Немцы повели женщину и девочку на расстрел. Сначала Лангман просила: ”Ребенка не убивайте”, но потом прижала дочь к себе и сказала: ”Стреляйте! Не хочу, чтобы она жила с вами”. Мать и дочь были убиты.
В ВИННИЦКОЙ ОБЛАСТИ
1. В городке Хмельник. Сообщение И. Беккера. Подготовила к печати Р. Ковнатор.
В маленьком городке Винницкой области — Хмельнике до войны жило 10000 евреев, это составляло большую часть населения. Евреи жили здесь десятилетиями, из поколения в поколение, дружба и любовь связывали их с украинцами и русскими.
За годы Советской власти городок бурно рос и развивался и в экономическом, и в культурном отношении.
В Хмельнике были текстильная, меховая, мебельная фабрики, механический, кирпичный, два сахарных завода, много артелей. Наряду с людьми других национальностей на предприятиях этих успешно работали евреи — рабочие, техники, инженеры.
Евреев — лучших стахановцев, изобретателей, добросовестных тружеников — знал и уважал весь город.
В городе были кино, театр, три полных средних школы, две семилетки, большая, прекрасно организованная больница бесплатно обслуживала все население.
Вся эта разумная жизнь точно рухнула в пропасть 22 июня 1941 года.
Почти никто из евреев не успел эвакуироваться, велико было их душевное смятение и горе, когда немцы приблизились к родному городу.
Благодатны июльские дни на Украине, природа здесь щедрой рукой делится с человеком своими богатствами и красотой. Но тогда точно и природа понимала, какие страшные дни наступили на земле. 18 июля 1941 года был ужасный ветер, небывалый в этих краях ураган, лил крупный, холодный осенний дождь.
В город ворвались немцы. На улицах раздавались их разбойничьи выкрики: ”Юден капут! Юден капут!”
Уже с 21 июля 1941 года все евреи — мужчины, женщины и дети от пяти лет — были обязаны носить на правой руке белые повязки в 15 см ширины, с вышитым голубым щитом Давида.
Приказы против евреев посыпались как из рога изобилия. Первый приказ гласил, что евреи не имеют права ничего покупать на рынке, кроме картошки и гороха. Но вскоре другой приказ разъяснил, что еврей, пойманный на рынке, получит 25—50 плетей. Так еврейское население было обречено на голод.
Специальный приказ категорически запрещал крестьянам вступать в какие бы то ни было деловые, торговые или личные отношения с евреями. Крестьянин, заходивший в дом к еврею, получал от 25 до 50 плетей, приговоры неукоснительно приводились в исполнение
Начался повальный грабеж еврейского населения: в 24 часа евреи должны были сдать велосипеды, швейные машины, патефоны, пластинки.
Еще более мародерский характер носило категорическое предписание о полной сдаче тарелок, ложек, вилок, мыла и т. п. Грабили не только ”организованным” порядком. Полицейские врывались в дома, били окна и двери и забирали все, что им заблагорассудится, а что не могли унести, разбивали и уничтожали.
Немцы и полицейские заходили в каждый дом и выгоняли евреев на работу. Их посылали восстанавливать взорванные мосты, мыть полы, копать огороды. Некоторые работы носили унизительный характер: евреев заставляли выгребать уборные, чистить сапоги полицейских и т. д. и т. п. Были и такие ”работы”: евреев заставляли наполнять водой дырявые баки. ”Работа” получалась бестолковой и безрезультатной, а евреи получали пинки и удары.
18 августа 1941 года в городе появилось гестапо: начался новый этап в жизни евреев.
Однажды вечером три еврейских мальчика сидели на улице. Среди них был Муся Горбонос. Это был тихий, хороший мальчик, отличный ученик восьмого класса. К ребятам подошел полицейский. Обращаясь к Мусе, он попросил закурить. Мальчик сказал, что он не курит, что у него никогда не было и нет махорки.
Немец пристально посмотрел на мальчика и в упор, спокойно застрелил его. Муся Горбонос был первой жертвой. Ужас и страх охватили население.
Евреи получили приказ регистрироваться. В первый же день из толпы отобрали 367 мужчин и двух женщин.
В Хмельнике в центре города, на бульваре, стоял памятник Ленину. Это было любимое место гуляния молодежи, отсюда открывался прекрасный вид на город. В торжественные народные праздники, в день Октябрьской социалистической революции, в день 1 Мая, сюда собиралась ликующая толпа демонстрантов. Ленин с протянутой рукой, с мудрыми, прищуренными глазами, казалось, благословлял народ.
Сейчас именно это место немцы избрали для публичного издевательства над несчастными людьми.
Отобранных 367 евреев загнали на бульвар. Побоями, ударами прикладов их заставляли взяться за руки, танцевать и петь ”Интернационал”. Старикам отрезали бороды, а молодых заставляли есть их волосы.
После этой ”первой” репетиции всех отправили в помещение районного союза потребительских обществ. Здесь евреев загнали в склад стекла, где их заставили босиком плясать по битому стеклу и по специально приготовленным доскам, утыканным гвоздями. Так страшно и подло издевались немцы над людьми перед смертью. В 6 часов вечера измученных вконец людей погнали за город. Там на Улановской дороге уже были заготовлены ямы. Палачи заставили евреев раздеться догола и вновь танцевать.
Перед смертью у некоторых нашлись силы и мужество духа крикнуть: ”Да здравствует Сталин! Все равно он выиграет войну. Пусть сгинет Гитлер!”
В этот день гестаповцы и их низкие пособники убили 367 евреев и 40 украинцев — членов партии.
Хмельник принадлежал к Литинскому гебитскомиссариату. Его генеральный комиссар, известный палач еврейского населения Кох, имел свою резиденцию в городе Житомир. С образованием Литинского гебитскомиссариата гонения против евреев приняли еще более планомерный характер.
Прежде всего был издан приказ, по которому все евреи, живущие на центральных улицах, должны были в трехдневный срок переехать на окраины.
25 декабря последовало распоряжение — всем жителям сдать теплые вещи для германской армии. Германская полиция в тот же день показала, как она понимает еврейскую помощь.
Немцы поймали десять женщин и одного мужчину, привели их в полицию, раздели догола и бросили в карцер. Сюда, с 9 часов утра до 6 часов вечера, то и дело заходили полицейские и избивали несчастных людей. В 6 часов вечера каждого заключенного втаскивали в отдельную комнату и давали по 15 шомполов. Женщины кричали и получали поэтому по 25 шомполов. После этого измученные жертвы выбрасывались на мороз.
”Сборы” для германской армии продолжались...
Но это все еще были только предвестники того всеобщего истребления, которое ожидало еврейское население. На больного Абрамовича донесли, что у него, якобы, есть оружие. Больного выволокли из дома, на центральной улице устроили виселицу. Перед смертью ему приказали сказать последнее слово, это было придумано тоже с издевательской целью.
Едва живой от побоев, тяжело больной старый человек, нашел в себе силы сказать ясным, чистым голосом:
”Пусть фашисты и их обер-бандит Гитлер будут сметены с лица земли”.
Полицейский посильнее затянул петлю, и Абрамович умолк.
2-го января 1942 года на своей машине примчался литинский гебитскомиссар Вицерман. Это был известный изверг и убийца.
Он вызвал к себе еврейского старосту и наложил новую большую контрибуцию.
Кроме того, он распорядился, чтобы евреи немедленно переехали из нового города в старый, где образовывалось гетто. В городе поднялась великая суматоха. Кто тащил свой скарб на санках, кто — на нескольких дощечках, а кто — на плечах. Гестаповцы и полицейские грабили и забирали все, что им нравилось.
Категорический приказ гласил: все русские и украинцы должны нарисовать крест на дверях: кто впустит в дом еврея, будет жестоко наказан.
Прошло несколько дней существования гетто. И разразилась неизбежная в условиях немецкой оккупации ”акция”.
5 часов утра. Глубокие сугробы, ветер, вьюга, пронизывающий мороз. Люди боятся выйти из своих домишек, точно предчувствуя ужасы и горе, которые несет им наступивший день.
Улицы уже окружены гестаповцами, их помощниками, литинскими и сельскими полицейскими, под руководством гебитскомиссара Вицермана. Казалось, они только ждут первого сигнала. Вот появляется несколько человек, которые спозаранку отправились за водой, среди них — член Еврейского совета Брейтман.
Их тут же убивают на месте. И начинается кровавое ”действие”. Сонных людей вытаскивали из кроватей, не разрешая даже одеться. Стариков и больных пристреливали на месте.
Мороз доходил до 40°, но всех безжалостно выгоняли на улицу. Люди идут босые, голые, кто в одном ботинке, кто в галошах на босу ногу, кто завернувшись в одеяло, а кто и в одной рубашке. Многие пытались бежать, но их тут же настигала пуля. Уцелевший от этого кровавого разгрома А. Бендер рассказывает: ”В шесть часов утра я услышал стрельбу. Когда я открыл дверь, там уже стоял полицейский с оружием в руках и кричал: ”А ну, выходи!” Меня погнали к следующему дому. Сколько я ни умолял разрешить мне идти вместе с моей семьей, чтобы жене легче было вести детей на смерть, ничего, кроме ударов прикладами, я не получил. Силой я был оторван от жены и троих любимых детей в этот самый страшный час моей жизни. Из колонны мне удалось бежать. Я спрятался на чердаке дома, откуда уже всех выгнали. Все было разбито вдребезги. Крики, стон и плач потрясали воздух. Детей погоняла жена председателя управы, немка. Она гнала их, приговаривая: ”Тише, детки, тише”.
Когда на площади стало полно людей, гебитскомиссар приказал огласить список специалистов, которым позволено было жить. Остальных погнали в сосновый лес за три километра от города. Там уже были приготовлены ямы. По дороге гестаповцы безжалостно издевались над людьми и избивали их. Одна пожилая женщина, Гольдман, упала. Полицейские ее подняли и в великой злобе разрубили тело на куски.
Двух девушек, сестер Лернер, гестаповец подгонял уколами кинжала в спину.
Ребенок четырех лет — Май — отца у него не было, а мать немцы убили, как взрослый шел в колонне, вместе со всеми к яме...
У ямы людей поставили в ряд, побоями и угрозами заставили их раздеться и раздеть детей. Стоял лютый мороз. Дети кричали: ”Мама, зачем ты меня раздеваешь, на улице так холодно”...
Каждые пятнадцать-двадцать минут подводы с одеждой убитых отправлялись на склад.
Таким образом 9 января 1942 года, в кровавую пятницу, были убиты 5800 евреев.
16 января вновь было убито 1240 человек. Жестокость гестаповцев и полицейских не имела предела. Мать доктора Абрамсона, глухая старая женщина 60 лет, не слышала приказа и не сразу вышла из подвала, где она ютилась. Гестаповец схватил ее за седые волосы и саблей отрубил голову.
Так, с седой старушечьей головой в руках, он стоял перед людьми...
Некоторым жертвам удалось спрятаться в подвалах, на чердаках, у крестьян; многие блуждали в поле, без пристанища. Немало людей замерзло, их нашли лишь весной, когда стаял снег.
Среди тех, кому удалось спрятаться и спастись, были дети Гольдман. Они несколько часов пролежали под кроватью. Наконец, старший мальчик 18 лет сказал, что пойдет на чердак посмотреть — нет ли там отца. В это время в комнату вошел полицейский, он вонзил в него кинжал, мальчик успел крикнуть только одно слово: ”ой” и умер.
Когда стемнело, девочка взяла братишку пяти лет и убежала к знакомым в Слободку.
Уцелела от первоначальных ”акций” небольшая часть евреев, живших на Еврейской улице. Начальник немецкой жандармерии выделил из оставшихся еврейского старосту — Эльзона и приказал ему, чтобы все евреи пришли в полицию за документами. Евреев, мол, больше трогать не будут. Если же поймают незарегистрированного еврея, то будут расстреляны староста и еще три еврея с Еврейской улицы. Люди испугались и пошли. Они получили голубые документы, которые нужно было каждый день, в восемь часов утра, отмечать в полиции.
Обещания, естественно, не имели никакого реального значения: дикий произвол и издевательства в отношении евреев не прекращались.
25 января 1942 года гестаповец увидел хмельникского раввина Шапиро. Он выволок его из убежища и начал избивать, требуя золото. Наконец, он вытащил его на улицу и вонзил ему нож в горло. Тело Шапиро лежало несколько дней: немцы не разрешали его хоронить.
5 февраля у еврейского старосты потребовали 24 женщины для очистки стадиона от снега. Девушки, явившиеся на работу, начали очищать снег лопатами. Полицейскому это не понравилось, он сказал, что заставит женщин работать по способу, который ему больше нравится.
Вскоре он приказал женщинам плясать в глубоком снегу, а затем лечь на живот и ползти по снегу. Когда несчастные женщины легли в снег, полицейские начали их избивать своими подкованными сапогами.
В течение последующих месяцев евреи все время чувствовали занесенный над ними Дамоклов меч.
В пятницу 12 июня, в 5 часов утра, приехавшие накануне в город венгерские солдаты окружили Еврейскую улицу и стали всех гнать в полицию, якобы для перерегистрации. Возле полиции мужчин отделили от женщин и детей. Мужчин увели, а женщин, детей и стариков посадили на машины и повезли в лес. Был чистый, солнечный день. Малыши, которые ничего не понимали, бегали около ямы, играли, рвали цветы...
В эту кровавую пятницу было убито 360 человек. Немецко-венгерские бандиты разрывали детей на части и бросали их в яму.
В начале 1943 года немцы решили окончательно ликвидировать гетто.
5 марта в семь часов утра полицейский Шур приказал охране не пропускать евреев через мосты. Людей выгнали на улицы, дома окружили полицейские с оружием и топорами в руках.
Подъехали машины. Тех, которые хоть сколько-нибудь замешкались, влезая в машину, избивали прикладами и топорами.
В этот день было убило 1300 человек. На Еврейскую улицу было страшно взглянуть: она была залита кровью, засыпана перьями, разбитой посудой, сломанной мебелью, — следы бессмысленного разрушения и гнусного уничтожения человеческой жизни и трудов человеческих рук... После этой резни осталось 127 мужчин и 8 женщин, оставленных для работы в артелях и на заводах.
Этих специалистов отвели в школу, где устроили лагерь. Лагерь тщательно охранялся днем и ночью, окна были затянуты колючей проволокой. Но несмотря на такую сильную охрану, из лагеря в течение двух недель убежали 67 человек. Некоторые убежали на румынскую территорию, то есть на территорию, временно переданную немцами румынам.
Четыре человека убежали в партизанский отряд. В рядах народных мстителей самоотверженно сражались и евреи Хмельника. В прошлом активный работник хмельникских общественных организаций, Вайсман, решил ни за что не покориться немецким захватчикам.
До октября 1943 года Вайсман прятался в деревне Крыловка. Он раздобыл оружие; собрал и объединил вокруг себя одиннадцать надежных и стойких человек, готовых с ним идти в огонь и воду. 25 октября Вайсман ушел в лес. С ним и его группой ушла и еврейская девушка из Литина — Калерман.
В партизанском отряде имени Хрущева — Вайсман получил первое боевое задание: спускать под откос воинские поезда на жмеринском участке пути.
Бесстрашный партизан спустил три воинских эшелона противника. Вскоре Вайсман и его группа получили важное оперативное задание: обеспечить отряд продовольствием. Надо было проявить много находчивости и смелости, и Вайсман, действовавший буквально под носом у немцев, был неуловим.
В партизанском отряде имени Ленина сражались и другие славные еврейские борцы из Хмельника — Изя Резник и Лева Кнелгойз.
Немецкие бандиты издевались, физически уничтожали еврейское население. Но они были невластны над честью и душой народа.
В отряде имени Меньшикова сражались еврейские женщины Сима Мазовская и Рахиль Портнова. Они мстили врагу за все страдания и несчастья страны, своего народа и родного города.
В Хмельнике продолжалась расправа над небольшой группой уцелевших евреев, влачивших тяжкую жизнь в лагере. В субботу 26 июня чуть свет туда прибыли гестаповцы. Всех выгнали на улицу. 14 человек отделили, а остальных погрузили на машины. Люди знали, что их везут на смерть, но они не кричали, не плакали, а безмолвно прощались друг с другом в последнем братском объятии.
В лесу уже были вырыты ямы.
С места казни убежали тринадцать человек, четырем удалось спрятаться, остальные были расстреляны при побеге. В этот день было убито 50 человек.
Четыре человека, которые убежали от расстрела, пришли ночью в деревню. Крестьяне накормили их, дали им одежду, спрятали. За простой разговор с евреем, не говоря уже об активной помощи, крестьянам угрожала смерть. И все же были славные люди, которые пренебрегали угрозами и опасностью. Они презирали людоедские немецкие приказы и по-братски помогали евреям. А. Бендер, вторично спасшийся при ”акции” 3 марта, рассказывает: ”Я и мой брат с 3 марта по 23 июня 1943 года прятались в деревне Куриловка, где мы родились. Украинцы Иван Цисap, Емельян Шевчук, Трофим Орел, Нина Кирницкая, Сергей Брацюк, Виктор Безволюк, Марко Сиченко, презирая опасность, спасли нашу жизнь и готовы были разделить нашу судьбу. Крестьяне часто ходили в город и приносили разные вести. 15 апреля пришла Ярина Цисар и рассказала, что наш дядя находится в лагере. Мы очень обрадовались и решили его спасти. 20 июня Марко Сиченко пошел в Хмельник, выкрал дядю из лагеря, когда их вели на работу, и привел к нам. Мы решили пойти к партизанам.
Найти партизан и соединиться с ними беглецам, однако, не удалось. После долгих мытарств они попали в Жмеринку. Здесь они жили в гетто и работали на самых тяжелых работах. Работать приходилось все время ночью.
16 марта 1944 года румыны ушли из Жмеринки, и туда пришли немцы. На другой день был издан приказ о том, что все еврейское население от 16 до 60 лет должно пройти перерегистрацию. Все, кто пришел, были перебиты. Начинался немецкий кровавый ”новый порядок”. Гетто охватило волнение и ужас, все понимали, что близок конец.
На этот раз явилось настоящее спасение. Воины Красной Армии подошли к Жмеринке. 20 марта немецкие власти удрали из города.
А. Бендер рассказывает: ”21 марта мы услышали песни наших братьев. Когда красноармейцы увидали колючую проволоку вокруг гетто, они спросили: ”Что это?” Им ответили: ”Гетто”. ”Что это за гетто?” — спросили они. Тогда им объяснили, что здесь живут евреи. Немедленно колючая проволока была сорвана.
В городе еще шли бои. Евреи, освобожденные из своей темницы, сразу же включились в борьбу.
Вместе с воинами Красной Армии они освободили железнодорожную станцию, на которой укрепились немцы. Фрицы удрали. Евреи помогали выносить раненых красноармейцев из огня. Доктор Малкин и еврейские сестры стали на свой пост, они не уходили из госпиталя.
Стрельба прекратилась. Жмеринка была очищена от захватчиков. В городе стало по-праздничному. Все наперебой приглашали к себе красноармейцев. Измученные, исстрадавшиеся, люди с любовью глядели на своих избавителей. Командир полка, по рассказу А. Бендера, ”сделал доклад и говорил слова, которых евреи не слышали 2 года и 9 месяцев”. Это были слова о нерушимой дружбе народов, о равенстве и братстве народов, — великом законе советской жизни.
2. В местечке Ярышево. Сообщение О. Яхота[10] и М. Брехмана. Подготовил к печати Илья Эренбург.
Ярышево — небольшое местечко. Здесь был еврейский колхоз. Были ремесленные артели. Была десятилетка. Жили тихо и счастливо.
15 июля 1941 года в Ярышево ворвались немцы и румыны. В первый день они расстреляли 25 человек.
Но самое страшное началось потом. Когда вели евреев на работу, приказывали ложиться, вставать и снова ложиться. Кто не сразу ложился — убивали на месте. Шесть месяцев спустя евреев загнали в гетто. Холод, голод, слезы. 21 августа 1942 года в Ярышево приехал карательный отряд. Собрали евреев, сказали: ”Соберите все ценное — вас отправят на работу”. Повели по Жуковской дороге, будто к поезду. Есть там разветвление — налево дорога на кладбище. Скомандовали: ”Налево!” Тогда учительница математики Гита Яковлевна Телейснин обратилась к обреченным с речью: ”Есть наши братья на фронте. Они вернутся. Есть советская власть. Она бессмертна. Есть Сталин. Он этого не забудет”.
Ее убили вместе с шестилетним сыном Левой. Потом убили и других, свыше 500 человек. Восемь человек чудом спаслись. Никогда они не забудут последних слов Гиты Яковлевны.
3. В селе Цыбулево. Подготовил к печати Илья Эренбург.
В Цыбулеве, Винницкой области, проживало около 300 еврейских семей. Зима 1941/42 г. была суровой. Немцы гнали раздетых женщин и босых стариков на работу. Однажды они отобрали около ста детей, увели их в поле. Через некоторое время полицейские вернулись, объявили матерям: ”Пойдите, подберите ваших щенят...” Матери с криком бросились в поле. В яру они увидели трупы детей.
Весной 1942 года всех евреев убили. Их вывозили за село, раздевали, расстреливали. Детей сажали в клетки, везли на телегах. Малышей зарывали живыми.
Тамара Аркадьевна Розанова спрятала в погребе еврея. Немцы подожгли ее дом. Розанова спаслась случайно.
Надя Розанова рассказывает: ”Дусю Калитовскую везли на казнь с ребенком. Муж Дуси — офицер, он на фронте, ребенку было восемь месяцев. Дуся бросила сына через головы немцев прохожим и крикнула: ”Дорогие, сына спасите! Пусть хоть он живет!”
Ребенок упал на дорогу. Подошел немец, поднял младенца за ножку и ударил его головой о борт автомашины...”
Студентке Люсе Сапожниковой было 19 лет. Когда Люсю раздели перед расстрелом, даже немцы смутились — так она была красива. А она закричала: ”Стреляйте, палачи! Но знайте, что Сталин придет...” С этими словами она погибла.
4. В местечке Ялтушково. Сообщение Героя Советского Союза младшего лейтенанта Кравцова. Подготовил к печати Илья Эренбург.
Я расспрашивал соседей, уцелевших чудом, и узнал всю правду. Их долго мучили. Гетто устроили возле базара, отгородили высокой стеной из колючей проволоки. Люди там голодали.
20 августа 1942 года всех погнали на станцию. Идти пришлось четыре километра, гнали прикладами детей и дряхлых стариков, приказали всем раздеться...
Я видел клочья одежды и белья.
Немцы экономили пули, клали людей в четыре ряда, а потом стреляли, засыпали живых. Маленьких детей перед тем как бросить в яму, разрывали на куски. Так они убили и мою крохотную Нюсеньку. Других детей, и среди них мою девочку, столкнули в яму и засыпали землей.
Два месяца спустя мою жену. Маню, в числе других увезли в село Якушинцы. В Якушинцах был концлагерь. Там над ними издевались, а потом всех убили.
Две могилы рядом. В них полторы тысячи человек. Взрослые, старики, дети.
Мне осталось одно: месть.
5. На родине (Браилов). Автор — капитан Ефим Гехтман.
Лет семь назад в теплый весенний день я выехал к родителям. Был я в служебной командировке в городе Кировограде, завершил все свои дела, и, когда уже собрался возвращаться в Москву, мне пришла в голову мысль заехать на несколько часов повидаться с родными, посмотреть родные места.
На следующий день я уже обедал дома. Неожиданный мой приезд очень обрадовал стариков. Вся родня, соседи и знакомые пришли навестить меня. Мать хлопотливо бегала по дому, долго возилась на кухне, готовя для меня кисло-сладкое мясо, — она говорила, что в детстве я очень любил это блюдо. По правде сказать, я успел это забыть.
Меня допытывали, как я живу, что слышно на белом свете вообще и в Москве в частности, видел ли я кого-нибудь из земляков. Во время беседы пришел почтальон, принес два письма — одно было от меня самого — я писал, что нахожусь на Украине в командировке и еще не знаю, успею ли заехать, другое письмо — из Америки. На большом конверте было напечатано наименование отправителя: ”Комитет Браиловского землячества в Соединенных Штатах Америки”.
В пространном письме, подписанном президентом и генеральным секретарем комитета, сообщалось, что на расширенном заседании были заслушаны письма и отчеты с родины, что решено приветствовать земляков, поздравить их с наступающей пасхой и послать в Браилов из фонда комитета одну тысячу долларов — двести долларов выдать раввину Давиду Либерману, на сто долларов купить подарок одной девушке к ее свадьбе. Остальные деньги мой отец уполномочивался распределить к пасхе между сиротами и беднейшими людьми, с тем, чтобы каждый мог как следует отпраздновать пасху.
Признаюсь, нам показалось немного забавным это письмо. Я подумал: авторы его уехали сорок лет тому назад из Браилова, живут и преуспевают в далекой Америке, озабочены своими делами, и, однако, у них хватает времени съезжаться из различных городов на ежегодные конференции, помнить о продырявленной крыше на бане, держать на учете девушек-невест и в шумном Нью-Йорке проявлять такой наивный интерес ко всем деталям жизни и быта маленького местечка. Но я ловил себя на мысли, что я сам мчался сюда за несколько сот километров, ехал тремя поездами, и все для того, чтобы побыть несколько часов в родных краях...
Во время войны я не раз вспоминал письмо из Америки. Почти три года я не получал писем из Браилова и не мог туда съездить; в родном городе были немцы. Но часто-часто думал я о маленьком местечке Винницкой области, где провел детские годы, думал об отце, матери, сестре, которые остались там. На каком бы фронте за время войны я ни был — в лесах Северо-Запада, на Сталинградских улицах, в Донецких степях, в освобождении каких городов ни участвовал, — мыслями я бывал на родине. Я думал о том дне, когда вернусь домой, широко распахну знакомые двери и скажу:
— Есть там живые? Выходите встречать...
* * *
...23 марта 1944 года в предвечерний час я увидел издали Браилов. Мне было очень тяжело ходить — сказывались недавние ранения, — правая нога опухла, и я еле вытаскивал ее из липкого чернозема. И вот, наконец, дорожный столб с табличкой и на нем только одно единственное слово: ”Браилов” — дорогое сочетание букв, с которым связано столько воспоминаний.
Триста километров пришлось мне одолеть, пока я добрался сюда с другого участка фронта. Моя автомашина застряла в грязи, и последние десятки километров я пробирался пешком. Я знал, что по реке Буг шла граница между германским генерал-губернаторством и румынским губернаторством Транснистрия[11]. что в Транснистрии сохранилось несколько гетто. Но у Винницы эта граница шла где-то западнее Буга. Где же находился Браилов — в германском губернаторстве или Транснистрии? Мне до сих пор никто не мог на это ответить. Осталось пройти всего несколько сот метров до местечка, — там я узнаю все достоверно.
Но уже через несколько минут на другом придорожном столбе мне бросилась в глаза табличка. По-немецки и по-украински было написано:
”Город без жидов”.
Все сразу стало ясно. Торопиться уже было некуда.
Я окликнул шустрого паренька, выглянувшего из хаты, велел ему взять топор и срубить столб с этой надписью.
— Разве можно это сделать, дядя?
— Не только можно, но обязательно нужно срубить, — сказал я, — помимо всего, надпись не соответствует действительности. Видишь, я пришел в Браилов, значит, уже один еврей там будет.
Не раз входил я в только что освобожденный город. Мне хорошо знакомо чувство радостного волнения, когда вступаешь в город, отбитый у врага и возвращенный Родине. Но никогда, казалось, нервы мне так не изменяли, как в этот раз. Здесь я знал историю чуть не каждого дома, мне были знакомы все их обитатели. Вот дом Якова Владимира, не раз я бывал в этом доме, готовился здесь к зачетам, веселился. Сейчас дом безлюден и мрачен. Вот в этом доме жил Айзик Кулик, мой школьный друг, впоследствии ленинградский инженер-железнодорожник. Заглядываю в окно — на полу валяются полусгнившие обломки мебели — видно, давно здесь не бывали люди. В следующем доме жил часовщик Шахно Шапиро — ни живой души. По ту сторону улицы проживал портной Шнейко Прилуцкий — картина та же...
Вместе с Красной Армией я прошел путь от Волги до Карпат, на моих глазах разрушен был Сталинград, я видел развалины Ржева и Великих Лук, пепелища Полтавы и Кременчуга. Меня трудно теперь удивить видом руин. Но то, что я встретил в родном местечке, меня потрясло. От Миргорода до Днепра, на протяжении ста километров немцы сожгли все села. Летом 1943 года там нельзя было встретить ни одной уцелевшей хаты; гитлеровцы создавали ”зону пустыни”. Но между обломками сгоревших украинских хат, откуда-то из-под земли неизменно пробивался мирный дымок. В опустевшем солдатском блиндаже люди устраивали себе очаг, бегали детишки, у глиняной печки готовился обед. И верилось — здесь будет жизнь. Пусть сгорели все хаты, пусть разбиты в щепки пчелиные ульи и колхозные амбары. Но там остались люди. И это — лучшая гарантия, что жизнь возвратится.
А здесь я хожу по местечку, совершенно уцелевшему, во многих домах сохранились даже все стекла в окнах, но не встречаю ни одного живого человека. Мои шаги одиноко раздаются в этой пустыне. Надо было знать нравы городов и местечек нашего юга: главная улица здесь всегда являлась и местом встреч, и аллеей для гулянья. А теперь — я на ней единственный прохожий. Только одичавшие кошки изредка перебегают пустую улицу.
Иду дальше, и мне страшно повернуть голову направо: там должен стоять дом, в котором я родился, где жили самые близкие для меня люди. Вот и дом — внешне он почти цел. Я подхожу к окнам и рассматриваю стены, сохранившие следы крови, свалившийся пух из подушек на полу, и мне не о чем уже расспрашивать. Да и кого спросить? По соседству жил Иосиф Суконник, дальше работал шапочник Груцкин, вот квартиры Лернера, Гольдмана, Лумера, Харнака — нигде никаких следов жизни.
Полчаса я ходил по некогда шумному местечку в полном одиночестве. Стало темнеть, и я ушел ночевать в соседнее село. Крестьянка, которая приютила меня, рассказала вкратце историю гибели Браилова. Я расспрашивал о судьбах знакомых семейств, называя фамилии, имена.
— А откуда вы их всех знаете? Вы что, раньше приезжали в Браилов? — спросила она меня.
— Да, приезжал, и не раз приезжал. Вот был у вас фельдшер Гехтман. Не знали такого?
— Как же было не знать его? Кто же его не знал?
— Где он сейчас?
— Убит.
— А про жену его не слыхали?
— Зарезали...
— Ну, а дочка у фельдшера была, студентка?
— Там, где все...
...Больше я уже не мог спрашивать. Крестьянка долго всматривалась в меня, потом тихо сказала:
— Вы, конечно, извините меня, но скажите — вы не фельдшера нашего сын?
— Да, моя фамилия Гехтман.
— Как вы на отца своего покойного похожи!
Не знаю, каким образом, но о моем приезде узнало вскоре все село. В хату, где я остановился, пришло много людей. Многих я знал, многие помнили меня. Всю ночь напролет мы говорили о войне, о людях на войне, о нашей грядущей победе.
Утром я еще раз пошел в местечко. Вдруг меня кто-то окликнул по-еврейски:
— Товарищ Гехтман.
Ко мне бежало пять человек — трое мужчин, одна женщина, еще девочка-подросток. Они бросились наперебой обнимать, целовать, и вдруг все навзрыд расплакались, тесно прижимаясь ко мне. Для них я был не только офицер Красной Армии, но родной и близкий человек. Наши родители зарыты в одной общей страшной яме.
Портного Абрама Цигельмана я узнал сразу: с его старшей дочерью Соней я учился в одном классе начальной школы и потом бывал частым гостем в их доме. Второго мужчину я никак не мог вспомнить. Он это понял, горько покачал головой и спросил меня:
— Не узнаете меня, Гехтман? Да, трудно узнать. Фамилия моя Бас, Моисей. Бас, парикмахер. Сколько раз вы брились у меня!
Я никогда не думал, что за три года человек может так измениться. Стоял он с согнутой спиной, с потупленным взором. Передо мной был человек, потерявший опору в жизни, уверенность в своих силах, в своем праве существовать на земле.
— Вы смотрите на мои лохмотья? Да, когда-то я считался щеголем, а за последние полтора года я не сменил ни разу белья.
Это были чуть ли не единственные жители Браилова, оставшиеся в живых. Мы перебрали по пальцам все местечко и установили, что удалось спастись только немногим.
...Мой отец на протяжении нескольких лет описывал ”Браиловскому комитету в США” все дела и события, происходившие в Браилове. Моего отца немцы расстреляли. Он уже никогда ничего не напишет, и я, его сын, взял на себя добровольный труд описать, как погибло местечко Браилов. Я здесь ничего не выдумал и не добавил, — рассказываю так, как мне об этом поведали очевидцы.
* * *
Немцы вступили в Браилов 17 июля 1941 года. Случилось так, что значительная часть населения Браилова не эвакуировалась и осталась на месте. Я часто задавал себе вопрос: почему многие не тронулись с места, не ушли подальше от коричневой чумы? Почему мои родные не выехали на восток? Очевидно, сказалось много причин, — в частности, моя мать была серьезно больна, а отец и сестра не хотели оставить ее одну, больную, беззащитную, и решили разделить ее судьбу.
В день вступления немцев в Браилов погибло около 15 человек — Иосиф Суконник, Илья Пальтин, Исаак Копзон и другие. Проходящие немецкие солдаты проверяли пригодность своего оружия на людях и, походя, между прочим, извели пятнадцать жизней. Местечко насторожилось, все сразу поняли, что над ними нависла грозовая туча.
Вскоре приехал немецкий комендант, появилась полиция и в Браилове был установлен ”новый порядок”. В условиях еврейского местечка ”новый порядок” выглядел примерно так: все евреи должны были носить на спине и на груди по большой шестиугольной звезде (”Щит Давида”). Никто не имел права выходить за пределы местечка, общаться с украинским населением соседних сел. Хотя испокон веков в самом центре Браилова существовал базар, ни один еврей не мог появляться на нем под страхом получить немецкую пулю.
Только на десять минут в сутки по свистку полицейского евреи могли выбежать на базар. Немецкому коменданту Крафту очень нравилось зрелище: бег евреев на базар, и он почти неизменно присутствовал при этом. На третьей или четвертой минуте полицейский давал свисток отбоя, и все, побросав свои покупки, спешно убегали с базара. Затем объявлялось, что сигнал был ошибочный, и все повторялось сызнова. Комендант Крафт забавлялся.
Ежедневно свыше тысячи жителей Браилова выходили по нарядам коменданта на тяжелую работу. Но не было дня, чтобы все возвращались домой — то проезжавшие немецкие солдаты начинали ”охотиться”, то полицейские приканчивали уставших и замученных людей. Раз в месяц население Браилова получало ”заказ” от ортскомендатуры с предупреждением, что если предметы, перечисленные в ”заказе”, не будут доставлены в комендатуру к указанному сроку, то все будут расстреляны.
Я видел один из этих ”заказов” — ноябрьский. В длинном списке значилось... 10 золотых дамских часов... 12 золотых браслетов... концертный рояль для офицерского клуба... 2 автомашины... 3 тонны бензина.
Ноябрьские и последовавшие за ними декабрьские ”заказы” были выполнены. До сих пор не понимаю, каким образом община, зажатая запретами выхода за пределы местечка, могла во время войны достать автомашины и бензин. Председателя общины Иосифа Кулика и его помощников уже нет в живых, и спросить об этом некого. Хана Кулик — девушка-студентка, единственная уцелевшая из этой семьи, рассказывает, что отец никому не говорил, как ему удавалось добывать вещи для выполнения немецких ”заказов”.
— Не расспрашивай, Хана, — сказал он ей однажды. — Достаточно будет, если я один сойду с ума. Зачем еще тебе голову ломать?
В морозную февральскую ночь Браилов был оцеплен полицейскими и гестаповцами, и перед рассветом началась резня. Это была, по выражению одного полицейского, которого я допрашивал, ”первая акция”. Каждый полицейский получил указание обойти две-три еврейские квартиры, выгнать всех на площадь к месту сбора, и если кто не сможет или не захочет пойти, — прикончить его на месте. Но делать это бесшумно: при помощи штыков, прикладов и кинжалов.
В 6 часов утра мой отец был разбужен ударами прикладов в дверь. Он спал одетым в эту ночь и быстро открыл дверь. В комнату ввалились двое полицейских.
— Быстро на площадь! Все!
— Моя жена больна, она не сможет подняться.
— Это уже нам знать, что делать со здоровыми и что с больными.
Действуя прикладами, они выгнали отца на улицу. Сестра Роза начала быстро одеваться. В это время она увидела, что один из полицейских замахнулся кинжалом над матерью. Она бросилась на выручку, но ее ударили прикладом по голове, и, босую, в одном легком платье, выгнали на сорокаградусный мороз. Отец приподнял Розу, помог ей дойти к месту сбора — на торговую площадь, напротив костела.
Сюда стягивались жители Браилова. Но не все. Многих, как и мою мать, прикончили дома. Семью бакалейщика полицейский выстроил у дома и на пари расстрелял ее всего одной очередью из автомата.
После полуторачасовой проверки списков полицейские объявили, что 300 человек, главным образом, портные, сапожники, шубники и их семьи, остаются для обслуживания германской армии, — остальные будут расстреляны. Под сильным конвоем процессия тронулась в путь. Вышло так, что впереди колонны шел мой отец с сестрой, за ними Оскар Шмарьян, шестнадцатилетний парень, наш родственник из Киева, который приехал на каникулы в Браилов. У аптеки колонну остановили: начальник полиции вспомнил, что они забыли Иосифа Шварца, проживавшего вне местечка, недалеко от православного кладбища. Послали за ним полицейского. Через несколько минут пришел Шварц с женой, и они оказались во главе печальной процессии.
Все шли молча, сосредоточенно, последним взглядом прощаясь с родными местами, с жизнью. И вдруг над колонной раздалась песня. Звонкий девичий голос запел о стране родной, о ее широких просторах, о ее лесах, морях и реках, о том, как в ней вольно дышится человеку. То запела моя сестра Роза. Через несколько минут песня захлебнулась...
Я переспросил нескольких очевидцев и несколько раз перепроверял этот факт со всей тщательностью и придирчивостью. Все было именно так, как здесь написано. Сестра моя никогда не считалась певуньей. Она пробыла в это страшное утро около двух часов на сильном морозе босая и почти раздетая, ноги ее к этому времени были уже отморожены. Почему вдруг она запела? Откуда у нее взялись силы для этого последнего подвига?
Полицейский приказал замолчать, но песня не умолкла. Раздались два выстрела, и все затихло. Навсегда. Отец поднял тело единственной дочери и полтора километра своего последнего пути пронес на руках драгоценную и святую для него ношу к месту своей казни...
Когда колонна прибыла к вырытой яме, первой группе приказали раздеться догола, сложить одежду в общую кучу и лечь на дно ямы. Мой отец бережно положил тело сестры в яму и стал раздеваться. Со стороны села подъехало около десятка крестьянских саней для транспортировки одежды расстрелянных в склады полиции. В это время у ямы произошла небольшая заминка — молодая девушка Лиза Перкель наотрез отказалась раздеваться, требуя, чтобы ее расстреляли в одежде. Ее били прикладами, кололи штыками, но ничего не смогли с ней сделать. Она вцепилась в горло одному гестаповцу, и когда тот пытался оттолкнуть ее от себя, девушка зубами вгрызлась в его руку. Гестаповец завопил истошным голосом, к нему бросились на выручку другие палачи. Их было много — все были вооружены до зубов, но она не сдавалась, не уступала врагу.
Каратели повалили Лизу Перкель на землю, пытаясь содрать с нее платье, но она не унималась. Ей удалось освободить на мгновение ногу, и она изо всех сил ударила в лицо одного гестаповца. Комендант Крафт решил сам навести ”порядок”, он подошел поближе, отдавая на ходу распоряжения. Девушка поднялась на ноги, изо рта у нее лилась кровь, платье было изодрано в клочья. Спокойно встретила она взгляд подошедшего коменданта и плюнула ему в лицо.
— Огонь! — крикнул комендант.
Раздался залп. Лиза Перкель погибла стоя, встретив смерть в борьбе. Что могла сделать юная безоружная девушка с толпой палачей? Но немцам не удалось сломить ее волю. Последнее свое желание она осуществила — немцы не смогли заставить ее повиноваться. Убить ее они могли — у них было оружие, — но сокрушить ее волю, достоинство и честь было немцам не под силу.
Мой отец решил воспользоваться тем, что внимание коменданта, гестаповцев и полицейских было отвлечено ”инцидентом” и, увидев знакомую колхозницу, которую он когда-то лечил, шепнул ей: ”Гарпина, спрячьте мальчика”, — и толкнул Оскара Шмарьяна в кучу одежды. Крестьянка быстро накинула на него чье-то пальто и вместе с одеждой положила его в сани. Так мальчик пролежал минут пятнадцать, затем обоз тронулся в путь. Крестьянка прятала Шмарьяна несколько дней, приодела его, и тот скоро примкнул к партизанскому отряду. Он жив и сейчас. От него я узнал, как погибла моя семья, — Оскар Шмарьян видел отца моего в последнюю минуту... Последнее, что мог сделать отец, он сделал. Он сохранил для нашего народа еще одного мстителя, молодого, непримиримого и беспощадного.
Когда уже было казнено около 200 человек, подошла очередь председателя общины Иосифа Кулика. Полицейские и гестаповцы о чем-то между собой советовались и затем начальник полиции сказал:
”Кулик, можете с семьей отправляться в местечко, будете по-прежнему председателем общины”.
Жена Кулика взяла свой платок из горы одежды и дрожащими руками начала поспешно закутываться. Ей показалось, что каким-то чудом у самой могилы неожиданно пришло спасение.
— Бася, брось платок, — сказал ей муж тихо и вместе с тем строго. Обращаясь к полицейскому, он ответил: когда вы расстреливаете две тысячи моих земляков, мне, председателю общины, нечего делать на этом свете.
— Так вы не хотите спасти свою жизнь?
— Я народом избран председателем общины и останусь там, где будет большинство.
— Последний раз, Кулик, вас спрашивают: пойдете вы в местечко или нет?
— Только в том случае, если вы оставите евреев в живых.
... Иосифа Кулика, последнего председателя еврейской общины Браилова, отца четырех сыновей-инженеров, ныне воинов Красной Армии, расстреляли вместе с женой.
К месту казни подошел с семьей портной Яков Владимир. Полицейские порылись в списке и долго говорили между собой.
— Владимир, вам же было сказано остаться в местечке. У нас нет других дамских портных.
— Я останусь, если оставите со мной всю мою семью.
— Мы вам их оставляем.
— А моя дочь Соня? А внуки?
— Нет, это уже не ваша семья. У нее есть муж в Ленинграде.
— Это моя родная дочь, плоть от моей плоти, и без нее не останусь.
Пять минут шло препирательство Якова Владимира с полицейским. Им нужен был этот высококвалифицированный портной — одежды было уже награблено много, полицейские хотели перешить ее для своих жен и шлюх. Но жажда крови была сильнее даже ненасытной тяги к наживе. Яков Владимир был расстрелян вместе с женой, детьми и внуками.
”Акция” приближалась к концу. И вдруг к месту казни прибежал восьмидесятилетний старик Хаим-Арн со свитком Торы в руках. Вышло так, что утром полицейские не нашли его дома, и он просидел до полудня в погребе. После этого он вышел на улицу — она была безлюдна.
— Где все люди? — спросил он прошедшего мимо сына врача Яницкого.
— Как где? Их сейчас расстреливают за мельницей.
— Так я один остался! Нет, один я не останусь.
И схватив свиток Торы, он побежал. Единственное, о чем он просил полицейского — позволить ему лечь в яму вместе с Торой. Так его и расстреляли в обнимку с Торой, старого местечкового балагулу Хаима-Арна.
Всего в этот день было расстреляно свыше двух тысяч человек. Произошло это в четверг, 12 февраля 1942 года, на 26-й день месяца Шват (5702 год по еврейскому летоисчислению).
Яму не засыпали. Ждали возвращения конвоя из соседнего местечка Межуров с тамошними евреями. У ямы осталось дежурить двое полицейских. На следующее утро из ямы выползла окровавленная женщина. 20 часов лежала она под трупами, но, несмотря на то, что была сильно ранена, нашла в себе силы выбраться и отползти. Это была невестка Чесельницкого, женщина-врач, приехавшая за день до войны из Киева в Браилов погостить. Она умоляла полицейских дать ей возможность добраться до местечка, но те ее бросили в могилу и затем расстреляли.
...Трое суток, по утверждению местных жителей, ямы колыхались, оттуда неслись стоны и хрипы...
Кроме трехсот человек, оставленных в Браилове гестаповцами, из погребов и тайников к вечеру вышли еще человек двести. Для них было отведено гетто. Только в голове немцев могли родиться ”законы”, которые были утверждены для этого гетто: мертвых из гетто не выносить, а глубоко зарыв в землю, заровнять место. В случае рождения ребенка, расстреливается вся семья. Если в доме будет найдено хоть несколько граммов масла, мяса, хоть одно куриное яйцо — семья подлежит расстрелу.
Через полтора месяца состоялась вторая ”акция”. На этот раз из пятнадцати портных было оставлено пять, из восемнадцати сапожников — шесть и т. д. Кто мог — бежал из Браилова. Река Ров, протекающая через местечко, служила границей с Транснистрией, и через нее перебралось около трехсот человек. Большинство из них нашло убежище в Жмеринском гетто. В апреле были расстреляны последние евреи Браилова. Через месяц румынская жандармерия Жмеринки выдала германской полиции 270 браиловчан, их погнали строем в Браилов и там расстреляли у этой же гранитной кручи.
...В июне 1942 года у въезда в Браилов немцы повесили плакат: ”Город без жидов”.
* * *
Мне пора было уезжать.
У меня к вам большая просьба, — обратился ко мне портной Абрам Цигельман. — Вы дружили с моими детьми и хорошо знали всю семью, вам я могу открыть свое сердце. Знаете, мне бывает страшно жить на свете. Сейчас мне уже шестьдесят лет. Я остался на старости совсем одиноким — без семьи, без друзей, без родных. Жить не для кого. Но у меня кипит злость в душе. Неужели Браилов, откуда вышло 25 врачей, 20 инженеров, бог знает сколько юристов, художников, журналистов, командиров, неужели Браилов превратился в пустыню? Вы правильно сделали, что приказали срубить вывеску ”Город без жидов”, но вот вы уезжаете. А я не хочу, чтобы Браилов был без евреев, я останусь здесь. Пусть первое время даже один. Единственное, о чем я вас прошу: помогите вернуть мою швейную машину, я ее узнал в доме бежавшего полицейского. Можете не беспокоиться, портной Цигельман сумеет заработать себе на жизнь. А в свободные часы я буду сидеть там, на мельнице, у ямы. Там похоронено все, что у меня было, там ведь и все ваши...
Через несколько часов машина была водворена в дом Цигельмана. Когда я уезжал, в местечке был слышен порывистый стук швейной машины. Единственный портной Браилова приступил к работе...
ЧТО Я ПЕРЕЖИЛА В ХАРЬКОВЕ. Письмо Марии Марковны Сокол. Подготовил к печати Илья Эренбург.
24 октября 1941 года в Харьков вступили немцы. Трудно передать охвативший меня ужас. Ведь только безвыходное положение заставило меня, еврейку, остаться в Харькове.
Фашисты показали себя уже в первый день. На площадях висели повешенные. На следующий день немцы начали грабить. В квартире нельзя было сидеть, то и дело раздавался стук в дверь: ”Открывай!” Они брали все — продукты, носильные вещи. Потом начали хватать заложников. Гостиница ”Интернационал” была переполнена несчастными жертвами. Стекла там были выбиты, комнаты переполнены: ни лечь, ни сесть. При допросе арестованных избивали. Их держали дней десять, потом полумертвых расстреливали.
Однажды народ собрался на площади перед зданием обкома — там было радио. Я шла мимо за водой. Вдруг мы видим, как с самого верхнего балкона спускают на веревке молодого человека. Мы сначала не поняли, в чем дело. Думали, это — какое-то представление. Раздался раздирающий душу крик: ”Спасите!” Несчастный повис на балконе. Народ в ужасе разошелся по домам.
Это было утром после тяжелого сна.
Как будто я во сне предчувствовала будущее: из нашего дома потребовали десять евреев на работу. Я в их число не попала. После работы эти люди были отправлены в ”Интернационал” как заложники. Я стала ждать, когда придет мой черед.
15 декабря 1941 года потребовали в заложники всех евреев нашего дома. Я решила не дать себя в руки злодеям и покончить жизнь самоубийством. Яда у меня не было, но я нашла лезвие для бритвы. Раз десять я резала руку, но по неопытности не могла добраться до вены. От потери крови я лишилась сознания. Очнулась я от стука в дверь. Мне сообщили, что сегодня, 15 декабря 1941 года, все евреи обязаны покинуть город и направиться в бараки за тракторным заводом — это в 12 километрах от Харькова. У меня текла кровь из раны, я плохо соображала. Я направилась на Голгофу.
Трудно описать эту картину — 15 тысяч, а может быть, и больше, шли по Старо-Московской улице к Тракторному. Многие тащили вещи. Были больные, даже парализованные, их несли на руках. Путь от Старо-Московской до Тракторного был усеян трупами детей, стариков, больных.
К ночи мы дошли до нашего нового местожительства. Я вошла в барак. Вместо окон были большие просветы без стекол, двери не закрывались. Сидеть было не на чем. Дул ледяной ветер. Я ослабла от потери крови и, ничего не помня, свалилась на землю. Очнулась я от крика: кричали женщина и ребенок. Народ все прибывал, было очень тесно, и в темноте кто-то упал на женщину с грудным ребенком. Крошка вскрикнула. Мать, видя, что дитя больше не шевелится, стала кричать: ”Спасите! Это все, что у меня осталось, — мужа и сына повесили”. Но что можно было сделать? Свет зажигать запретили. Крошка погибла.
Я попала в плохой барак. Нас было пятьдесят человек. Счастливцы купили кровати, на каждой помещалось пять-шесть человек. Морозы стояли очень сильные. Я спала на полу, руки и ноги коченели. Меня ожидало новое испытание. У меня есть единственная сестра. Она давно, тридцать лет тому назад, крестилась, и в паспорте у нее значилось ”русская”. Я лежу на полу и вспоминаю прошлое. Вдруг как-будто кто-то меня толкнул. Я оглянулась, и вижу мою единственную дорогую сестру. Четыре дня она провела в бараке со мной. Нашлись добрые люди, они помогли ей убежать. У нее был ”русский паспорт”, и ей было легче помочь, чем мне. Чтобы не вызвать общего внимания, мы с ней не простились. Я только посмотрела на нее, хотела взглядом передать все.
Рана на руке не закрывалась. Я страдала от холода и голода. Немцы пускали нас на базар или за водой, если мы им давали за это вещи. Иногда немцы убивали. Я видела, как шел мальчик. Немец его подзывает: ”Эй, жиденок!” Когда мальчик подошел, немец швырнул его в яму и придавил ногой, потом выстрелил. До приказа об общем расстреле каждый день они убивали человек пятьдесят. Однажды они объявили: ”Если ночью будет слышен детский плач, расстреляем всех”. А как можно было требовать от малюток, чтобы они не кричали? Перепеленать их нельзя было, они лежали мокрые, на морозе, молоко у матерей перегорело от всех переживаний, кормить было нечем.
Мне удалось перейти в другой барак — №9. Этому бараку повезло — он пошел на расстрел последним.
Немцы хотели вывезти нас на казнь обманом. На третью неделю они объявили: желающие уехать на работу в Польшу, Лубны, Ромны, выйдите вперед. Меня как иголкой кольнуло в сердце, и я вспомнила свой зловещий сон. Записались 800 человек. Я видела, как их сажали в машины, вещи не позволили взять с собой.
Вскоре мы услышали выстрелы. На следующий день уже не спрашивали, кто хочет ехать: хватали женщин, отрывали от них детей и швыряли в фургоны. Мужчин гнали пешком.
Набравшись сил, я пошла в соседний барак. Это был ад: мертвые люди, посуда, пух из подушек, одежда, продукты, кал — все было перемешано. В одном углу на кровати лежала мертвая женщина, опустив руки, а маленький ребенок сосал ее мертвый палец. В другом углу лежал мертвый старик.
Не помню, как я добежала до своего барака. Мне тогда очень хотелось жить. Я завидовала собаке, кошке, — они имели право на жизнь, их никто не преследовал, а я, только за то, что я — еврейка, должна умереть.
Каждый день мы с раннего утра сидели и ждали смерти. Однажды нам дали передышку. Из Салтова доносились орудийные выстрелы. Обреченные думали, что это подходят наши войска. Они говорили: ”Нас спасут”. Обнимали друг друга, плакали. Должно быть, у меня крепкие нервы, если я все это выдержала.
Наконец, наступил предпоследний день. Вечером привели молодую беременную женщину и поместили ее в наш барак. На следующий день начались роды. От ее крика я не могла уснуть. В ту ночь я решила бежать.
Рано утром я собралась, положила в карман пальто простыню — чтобы перевязывать рану, и отправилась в путь. На каждом шагу стояли гестаповцы с ружьями. Что делать? Куда идти? Ведь они уложат наповал... Долго думать не приходилось: дорога была каждая секунда. В это время офицер позвал солдат, чтобы разобрать еврейские вещи, сложенные на машине. Я легла на землю и ползком добралась до яра. Немцы вернулись назад. Я заползла в снег и покрылась простыней. Так я пролежала на сильном морозе до утра. Как только начало светать, я ползком добралась до противоположной стороны яра. С трудом я поднялась наверх. Был жуткий мороз, и патрулей возле яра не было. С замиранием сердца я шла через поселок. Я боялась каждого взгляда.
Куда идти? Ведь все боятся приютить меня — за это грозит смерть. Моими самыми близкими друзьями была семья Кирилла Арсентьевича Редько. Они, рискуя своей жизнью, укрывали евреев. На них был донос, и они чуть не погибли. Я об этом знала и не хотела их подвести. Я пошла к своим приятелям, которые жили у меня до прихода немцев. Они мне говорили, что в случае чего помогут мне спрятаться, но теперь они безжалостно выгнали меня, хотя я и говорила, что поздно и меня могут схватить.
Куда идти? Скоро ночь. Из города я не успею выбраться. Я нашла уборную, состоявшую из трех отделений. Там я просидела три дня и три ночи. Трудно описать все муки. Стояли очень сильные морозы, ветер насквозь меня пронизывал. Я окоченела. У меня не было ни крохи хлеба, ни капли воды. Каждую минуту меня могли найти. На четвертые сутки я начала замерзать.
Вдруг мне сделалось тепло. Я слышу, как говорю: ”Воды! Капельку воды...” Не знаю, как я дотянула до утра. Через силу я поднялась с грязного пола и вышла. Я пошла к Кириллу Арсентьевичу. Что ни шаг, я падала. Хорошо, что они жили близко от того места, где я пряталась. Они меня тепло приняли. Я у них пробыла три дня, немного отдохнула душой — в этом доме я снова почувствовала себя человеком. Они мне дали продукты и с болью в сердце простились со мною.
Ноги меня больше не держали, — это были колоды. Я пошла по направлению к Пюботииу. Жутко идти, не зная куда. Кто меня приютит? Кому я нужна? А паспорт...
Кое-как я добрела до Коротича. Я решила найти место, где меня никто не заметит, и там замерзнуть. Но перед этим хотела еще раз попытать счастья в крайней хате. Здесь-то мне и повезло. Меня оставили ночевать. На утро поднялась сильная метель, и хозяйка сжалилась, оставила меня в доме. Я прожила у них три недели. В хату часто приходили немцы, искали партизан. Чудом меня не нашли.
Пришлось уйти из этого дома, но идти я не могла, мои ноги представляли собой обугленную массу, из которой сочился гной. Старуха, когда я уходила, сказала: ”Погоди”. Она меня отвела к врачу в хату-лабораторию. Осмотрев меня, доктор сказал: ”Ваши ноги погибли”. Это было равносильно смертному приговору — что делать в моем положении без ног? Я хочу рассказать о докторе, к сожалению, не знаю его фамилии, а звали его Петро. Он отослал меня в Люботинскую больницу, приходил делать мне перевязки. Это был чудный советский человек. Он догадывался, кто я, когда сестра, записывая мою фамилию, ему что-то шепнула, он ей ответил: ”Нас это не касается, наше дело оказать этой женщине помощь”.
И вот я оказалась в Люботинской больнице. Я лежала на мягкой постели, никто меня не гнал. Два раза в день меня кормили, хоть это была бурда, но все-таки, теплая. Так я пролежала пять месяцев — с 7 февраля 1942 года по 2 июля 1942 года.
Страшно вспомнить, как отнимали пальцы на обеих ногах, потом пилили внутренние кости. С месяц у меня был жар 40°. Я могла лежать только на спине, не засыпала от боли. Мне хотелось одного — умереть в больнице. Ведь вот — выпишут, а куда я пойду? Я завидовала каждой умирающей. Я тогда поняла, какое счастье умереть естественной смертью.
Когда привозили больных из Харькова, я пряталась с головой под одеяло, выглядывала одним глазом — вдруг знакомое лицо? Персонал прекрасно ко мне относился, помогали, как могли. Врач-хирург тоже проявил большое участие.
Однажды привезли из Харькова больную, она была при смерти, и вскоре скончалась. Ей было 38 лет. Меня все время преследовала мысль, что ее паспорт может меня спасти. Я получила этот паспорт.
Выйдя из больницы, я прожила две недели у больничной сестры. Потом я двинулась в путь. Я решила попытаться разыскать мою сестру. Я догадывалась, куда она уехала. Теперь я могла идти во все стороны — у меня был ”русский паспорт”.
Но нелегок был путь — раны на ногах еще не зажили, а идти пришлось пешком, да еще голодной. Дойдя до Мерчика, я почувствовала, что дальше не могу идти — слишком ослабла. Я хотела сесть в поезд, но немец спросил, есть ли у меня пропуск. Он меня выкинул из вагона; полицейский посоветовал мне просить пропуск у коменданта, но комендант оказался зверем, даже не выслушав меня, он закричал: ”К черту! Пошла вон!”
Я просидела у станции до вечера, потом пошла в дом, где жили железнодорожники, там я встретила добрую женщину, она меня накормила и оставила до утра. Она мне помогла раздобыть пропуск.
Я не могла себе представить счастье — неужели я скоро увижу мою единственную, мою дорогую сестру? А вдруг эти звери ее убили? Поезд шел из Харькова. Я забилась в угол — боялась, что меня кто-нибудь узнает. В два часа дня я приехала в местечко Смородино. Я поплелась по улицам и вдруг поняла, что не найду сестру — ведь я не могу расспрашивать, это вызовет подозрение.
Одна женщина увидела мой растерянный вид. Она спросила: ”Что с вами?” Я ответила, что устала и голодна. Она меня привела к себе. Передо мной поставили еду, хлеб. Мне было стыдно — я набросилась на все. Я сказала: ”Вы меня простите, я один раз поем, а потом больше не буду”. Я прожила там полтора месяца, готовила, убирала. Эта женщина сыграла большую роль в моей судьбе: оказалось, что она знает мою сестру.
Как передать нашу встречу? Мне хотелось броситься к сестре, обнимать, целовать — ведь мы считали друг друга погибшими, но разговор был холодный, мы делали вид, что едва знакомы. Нужно было много выдержки.
Год и три месяца я прожила в Смородино. Была и кухаркой, и нянькой, и нищенкой, ютилась по разным углам.
Видела я, как немецкие варвары расправлялись с молодежью. Их сразу после осмотра запирали в особое помещение, не давали проститься с семьями. Родные бежали вслед, а разбойники в них стреляли. Было много случаев, когда подростки калечили себя, чтобы не ехать в Германию, или кончали жизнь самоубийством. Страшная картина была, когда уходили поезда. На вокзале стоял стон. Несчастные дети кричали: ”Куда вы нас везете, душегубы?” Родных к вагонам не подпускали.
Фронт приблизился. Две недели мы просидели в подвале. В наш дом попали два снаряда. Наконец-то вошли в Смородино наши. Сколько у меня было счастья в душе! Наши!
Я снова в родном Харькове. Я могу свободно ходить по улицам, смотреть всем в глаза...
ПЕТР ЧЕПУРЕНКО — СВИДЕТЕЛЬ ПИРЯТИНСКОГО УБИЙСТВА[12]. Подготовил к печати Илья Эренбург.
6 апреля 1942 года, на второй день Пасхи, в городе Пирятине Полтавской области немцы убили 1600 евреев — стариков, женщин, детей, которые не могли уйти на восток.
Евреев вывели на Гребенскую дорогу, довели до Пироговской Левады в 3-х километрах от города. Там были приготовлены вместительные ямы. Евреев раздели. Немцы и полицейские тут же поделили вещи. Обреченных загоняли в яму по пять человек и стреляли из автоматов.
Триста жителей Пирятина были пригнаны немцами на Пироговскую Леваду, чтобы засыпать ямы. Среди них был Петр Лаврентьевич Чепуренко. Он рассказывает:
”Я видел, как они убивали. В пять часов дня скомандовали: ”засыпать ямы”. А из ямы раздавались крики, стоны. Под землей люди еще шевелились. Вдруг я вижу — из-под земли поднимается мой сосед Рудерман. Он был ездовым на валечной фабрике. Его глаза были налиты кровью. Он кричал: ”Добей меня!” Сзади тоже кто-то крикнул. Это был столяр Сима. Его ранили, но не убили. Немцы и полицейские начали их добивать. У моих ног лежала убитая женщина. Из-под ее тела выполз мальчик лет пяти и отчаянно закричал: ”Маменька!” Больше я ничего не видел — я упал без сознания”.
ГИБЕЛЬ ЕВРЕЕВ-КОЛХОЗНИКОВ ЗЕЛЕНОПОЛЯ[13]. Подготовил к печати Илья Эренбург.
(Зеленополе — старая еврейская земледельческая колония. Здесь в свое время был образован и процветал богатый колхоз ”Эмес”. До войны в колхозе ”Эмес” работали евреи, русские, украинцы. Люди жили хорошо, зажиточно. Я каждый год ездил туда повидать эту счастливую, дружную семью.
Но вот в Зеленополе пришли немцы: значительная часть еврейского населения эвакуировалась. Остались только несколько семей, да еще некоторые старые люди, не хотевшие покидать места, где они родились и выросли. Это были немощные старики: Калманович Идл, Козловский Гирш-Лейб с женой, Камсорюк Шлойма с женой и другие.
Как только немцы заняли колонию, они решили ”очистить воздух и землю” от евреев. Убить — этого им было недостаточно. Согласно их плану, обреченные на смерть должны были пройти все круги ада. Калманович Идл был всеми уважаемый старый верующий еврей. Немцы расстелили талес на земле и приказали стать на него перед бандитами на колени. Старик отказался. Тогда немцы сбрили его белоснежную бороду. Но и это им показалось мало. Они бритвой содрали кожу с его лица, искромсали лицо старика и отрезали ему уши. Несмотря на ужасные муки, Калманович не просил у немцев пощады.
Камсорюк Шлойма был инвалидом и честным тружеником. Мерзавцы безжалостно пытали его. Они разрезали Шлойму на куски и бросили расчлененный труп собакам.
Другие оставшиеся в колонии евреи долгое время прятались в дожди и морозы. Но всех их постигла та же участь.
Семья Ханы Патурской была уничтожена злодейским образом. Ее старшую дочь, шестнадцатилетнюю Рахиль изнасиловали и застрелили. Двое других ее детей и мать были расстреляны. Младшую дочь, Таню повесили на глазах матери.
Всего в Зеленополе было убито 74 человека (из числа местных жителей) и 14 военнопленных. В этой округе было очень много жертв. Ведь это был национальный еврейский район.]
ПИСЬМА ИЗ ДНЕПРОПЕТРОВСКА. Подготовил к печати Г. Мунблит.
1. Письма супругов Индикт
Я родился в 1895 году. До войны жил в Днепропетровске, где работал в артели Промкооперации. С приближением немцев мне поручили вывезти оборудование артели, и я погрузил его в вагон. Но вагон не прицепили, и я остался вместе с оборудованием.
25 августа 1941 года в город вошли немцы. Я не выходил на улицу, так как евреев хватали. Моя жена русская, она могла ходить по городу, она мне и рассказала про все.
26 августа я решил пойти на предприятие, где работал. Там я встретил уборщицу, она мне сообщила, что утром во дворе изнасиловали еврейскую девушку семнадцати лет, а потом убили. Она сказала: ”Если хотите, можете посмотреть”. Я ушел и больше не выходил из дому.
25 сентября появился приказ коменданта города: евреи должны уплатить 30 миллионов рублей контрибуции. Деньги будет собирать еврейская община. Жена хотела пойти в общину, но я ей сказал: ”Не нужно. Внесем мы деньги или не внесем, все равно — они уничтожат нас”.
Жена нашла мне работу на другом конце города. Моя фамилия Индикт, но теперь я стал Индиктенко.
12 октября хозяин мне сказал: ”Уходи”. Я ушел с женой. Была ночь, мы слышали страшные крики. Утром 13 октября было темно, когда постучали: ”выходите”. Полицейские удивились, что моя жена не значится в списке, я ответил, что она русская. Я знал, что меня ведут на расстрел. Повели меня к универмагу, там уже было много евреев.
Первая партия была 1500—2000 человек. Я попал во вторую партию. Не доходя до еврейского кладбища, мы услышали стрельбу и вопли. Мы решили убежать. Многих при этом застрелили. Мне удалось бежать.
Два дня я бродил по степи, потом отчаялся и вернулся домой. Пришел ночью, постучал в окно. Месяц я просидел на чердаке. Затем мы решили, что мне нужно уйти из дома, так как хозяин что-то подозревал.
Жена достала мне трудовую книжку, где я мог изменить фамилию и национальность. Потом она нашла для меня паспорт на имя Ступки, 1905 года рождения. Мой возраст казался иногда подозрительным.
Три месяца я проработал в одном месте; потом хозяин сказал, чтобы я ушел. За это время жена разыскала одинокий домик около города. Полов там не было, но она сделала пол, под кроватью три доски приподымались. Я мог поместиться под полом. Чтобы никто не поселился во второй комнате, мы превратили ее в сарай, держали там кур, кошку и собаку.
Несколько слов напишу о собаке, так как и она участвовала в спасении моей жизни. Ее звали ”Альма”, она была очень злая. Никто не решался войти в дом, пока не привяжут собаку. Тем временем я успевал залезать под пол.
Рядом с нами жил полицейский. Зная, что его соседка — одинокая женщина, он, выпив, приходил к жене, приставал, ругался. Я сидел в яме и должен был слушать, как он говорил жене: ”ты б... что ты из себя строишь честную женщину? Долго ли ты будешь водить меня за нос?”
Однажды жена не вытерпела и говорит: ”Иди ты к такой-то матери!” Он ее назвал в ответ ”жидовской мордой” и ушел. Я вылез из ямы и начал смеяться.
Я прожил в яме два с половиной года и все время ждал наших. Последние месяцы мои нервы не выдерживали. Много раз жена предлагала мне вместе отравиться, но я ее отговаривал, и наши пришли.
Михаил Петрович Индикт. Днепропетровск, июль 1944 г.Меня зовут Надежда Ивановна Индикт. Когда пришли немцы, мне было 34 года, но в связи с создавшейся обстановкой я выглядела жутко, не умывалась, ходила в изодранной одежде и с минуты на минуту ждала смерти.
Когда я жила с мужем в хатенке, пришел сосед — полицейский, говорит: ”Слушай, мне сказали, что твой муж — жид, и сын у тебя жид, и он скрывается в Одессе”. Я его схватила за рукав и кричу, как в истерике: ”Идем в гестапо”, и тащу его. Он тогда сказал: ”Отвяжись, зараза”, и ушел.
Когда наши летчики налетели на Днепропетровск, я молила бога, чтобы бомба упала нам на голову.
Я часто уходила далеко за продуктами, а муж оставался в яме. Однажды зимой, во время сильных морозов, я пошла в село. Ночевать никто не пускает без особого разрешения. Наконец, пустили, я сильно замерзла, залезла на печь и там угорела. Выбралась из хаты, а чувствую, что плохо, идти не могу, а идти необходимо, я не имею права умереть, я стала молиться: ”Боже, спаси меня ради Миши! Что с ним? Как он меня ждет!” В это время подъехала подвода и подобрала меня.
Что мне оставалось делать? Только плакать и плакать. В Каменском я увидела объявление, что если русские будут прятать евреев, всех расстреляют до грудного ребенка. Я шла и в голове было одно: жив ли еще Миша? Я думала, он мне обрадуется, а он только руками щупал мое лицо и глядел на меня как сумасшедший, а по лицу его текли слезы. Оказалось, я отморозила лицо.
Я никогда не выходила на улицу без того, чтобы не было у меня кошелки с продуктами и денег; искала евреев. А чтобы достать деньги, я продавала вещи на базаре и нанималась на работу.
Иду раз по улице вместе с соседкой Варей. Я ей доверяла. Вижу, идет молодой человек и осматривается. Я говорю Варе: ”Постойте, кажется, это еврей”, — подошла к нему. Он спрашивает, где комендатур». Я по акценту поняла, что он еврей. Он рассказал: сам он из Крыма, добрался сюда, а на вокзале ему говорят — нужен пропуск комендатуры. Я стала просить, чтобы он не ходил, потому что евреев расстреливают, дала ему сто рублей и умоляла пробираться окольными путями. Он меня послушался. А я пошла домой и плакала: ”Боже, за что люди страдают?..”
Мужу тяжело было: весь день меня нет, дом заперт на замок, а он слушает каждый шорох. Я и форточки не открывала, так что свежего воздуха не было. Но мне тяжелее было: я ходила по городу и все видела. Ходила я к тете — это на проспекте номер 84 — там стояла немецкая часть. Приводили евреев на работу. Мы с тетей их тихонько кормили, совали хлеб, сало, помидоры. Немецкий офицер был очень жестокий, подобных нет на свете.
Что только не делали немцы с евреями! Запрягали в большой фургон, и те должны были тащить. Наливали похлебку в корыто, чтобы евреи на четвереньках лакали еду.
Я ходила во все лагери. Один раз немец в меня стрелял, три пули пролетели над головой. Стоял лагерь возле тюрьмы, я увидела много подвод, спрашиваю — откуда гонят? Говорят — издалека. Были только мужчины, а их семьи уже расстреляли. Я им дала еду. Немцы заметили. Я сказала, что торгую табаком, потому что у меня дети маленькие. Немец меня ударил, я убежала. Прихожу домой, рассказываю мужу про людское горе.
Был среди пленных евреев мальчик лет пятнадцати. Мать его давно умерла, отец был на фронте. Он с сестричкой жил у бабушки, бабушка у него была русская. Пришли немцы, кто-то донес, и мальчика забрали. Они шли на работу, и мальчик увидел на тротуаре старуху, бросился к ней: ”Бабуся!” Они его стали бить, а бабуся упала без чувств.
На Херсонской жила старушка с дочерью и двумя внучатами. Я им помогала. Раз эта старушка стала меня благодарить и плачет. Я ее поцеловала. Это увидели и начали кричать. Мне пришлось убежать. Домой я не решилась идти и до поздней ночи просидела на кладбище, хотя я раньше и боялась покойников. А сейчас, сидя на кладбище, я говорила: ”Я ничего плохого не делаю, и вы немцы, мне не сделаете ничего”.
Дома муж говорит: ”Ты себя погубишь, а поцелуями ты им не поможешь”, но я ему сказала, что мои поцелуи дороже денег, потому что от этих людей все отказались, как от прокаженных.
Носила я еду одной семье — там старик был, дочь и две внучки. Приносила продукты Гершону.
Я достала мужу паспорт, но нужна была фотография. Нашла одного человека на окраине города, он сказал, что он мастер на все руки. Я ему объяснила, что ко мне приезжают колхозники, им нужны фотографии для немецких справок с печатью. Мы договорились, что я буду приводить людей, а он будет брать за три фото 500 граммов сала. 200 из них — мне. Поглядела, и когда никого не было, повела мужа к фотографу. Он его сфотографировал, потом я принесла сало. Так я водила к нему Гершона и Веру Яковлевну.
Мой муж стал учиться граверному делу. Первую печать он сделал Гершону. Потом он сделал печать для прописки, и, кому нужно было, мы ее ставили. Я все ходила и искала евреев.
Много раз гестапо на нашей улице делало обыски. Я через окно надевала дверной замок, а сама молилась богу. Когда гестапо доходило до соседей, им говорили: ”Там одинокая женщина, она работает”, и они уходили.
Я говорила мужу: ”Давай мы умрем спокойно. Я не могу жить и видеть все это”. Муж отвечал, что мы все переживем и будем жить с нашими. Он читал немецкие газеты, и я обязательно должна была покупать ему газету. Если я не доставала, он укоризненно на меня глядел: ”Не принесла?”
Я ему говорила, что ничего в них нет интересного, одна ложь. Но он так научился читать, что каждое слово у него получалось совершенно иначе. Он говорил мне: ”Увидишь, в следующем номере будет написано, что укорачивают фронт и такой-то город оставили”. И, действительно, так получилось. Он мне говорил: ”Все равно, наши будут здесь”.
Я узнала, что одному немцу требуется уборщица, и нанялась. Этот немец имел химическую фабрику. У него оказались бланки и печать. Я все это достала. И пишущая машинка была немецкая, но мне трудно было писать, и я попортила много бланков, потом написала, наконец, поставила печати. После этого я ушла с работы.
Я должна была явиться в полицию для заполнения анкеты и приложения печати к прописке. Первый вопрос, который мне задали, был — национальность моего мужа. Я ответила: ”Болгарин, румынский подданный”. Чиновник мне сказал: ”Такого быть не может, я сам болгарин”. Тогда я сказала: ”Значит, вы плохо знаете историю своего народа. Болгария граничит с Турцией, и когда турки избивали болгар, как бьют сейчас евреев, то болгары бежали в Румынию и там приняли румынское подданство”. Полицейский сказал мне: ”Спасибо за прочитанную лекцию”, и поставил печать.
Началось наступление наших. Мы готовились уйти под землю: выкопали подземелье от подвала до водопроводного колодца.
Муж должен был там сидеть, а я ему давала кушать. В последние дни муж начал заговариваться, твердил только одно слово, пока не терял сознания: ”Переживем, переживем”.
Всего не опишешь, это большое горе мы пережили, но мы дождались прихода наших войск.
Н. Индикт. 2 августа, 1944 г.2. День 13 октября 1941 года. Рассказ А.М. Бурцевой
Мне не удалось эвакуироваться из Днепропетровска до прихода немцев потому, что у меня в это время была опасно больна дочь. Вместе со мной остались моя мать, отец и брат — мальчик тринадцати лет. Они не захотели уехать без меня.
Когда в город вошли немцы, они сразу же приказали, чтобы все евреи надели на рукава белые повязки с шестиугольной звездой. Некоторые сопротивлялись, не хотели носить повязку, и я сама видела, как немецкий бандит убил на улице молодую девушку за то, что она отказалась надеть повязку.
Потом на евреев наложили контрибуцию в 30 миллионов рублей. Начались издевательства и грабежи. Однажды эсэсовцы ворвались в нашу квартиру и увели моих отца и мать в полицию. Там их избили и, отобрав все ценные вещи, выпустили. Мать и отец боялись показаться на улице.
Так, в страхе за свою жизнь и за жизнь детей, мы прожили до 13 октября 1941 года.
К этому времени мой муж (я замужем за русским) разыскал комнату, где нас никто не знал и куда он собирался нас перевезти. Но мы не успели осуществить этот план. В шесть часов утра к нам постучали и сказали, чтобы мы с вещами пришли к универмагу по улице Маркса, где, якобы, собирают всех евреев для того, чтобы заставить их уплатить контрибуцию.
Когда мы пришли к магазину, огромное четырехэтажное здание было уже наполнено людьми. Особенно много было стариков и женщин с детьми. У входа у всех отобрали вещи. Так как я была без вещей, меня в магазин не пустили, и я осталась стоять на улице в толпе, в которой было несколько тысяч человек. Через некоторое время, тех, что были в магазине, тоже вывели на улицу.
Я нашла мать и брата. Отца мы потеряли, и я больше его никогда не видела. Нас построили в колонну по шесть человек и в сопровождении вооруженных жандармов куда-то повели. Моя мать стала убеждать меня, чтобы я передала мою девочку кому-нибудь из знакомых на улице с тем, чтобы как-нибудь переправить ее моему мужу. Я стала вглядываться в лица людей, шедших навстречу, и вскоре увидела нашего соседа, который искал в колонне свою жену (еврейку) и ребенка. Я отдала ему Леночку и вскоре увидела, что мой муж идет рядом с колонной и ведет Леночку за руку. Через несколько минут около меня оказался знакомый мужа (я шла с краю колонными ему удалось подойти ко мне) и стал убеждать меня незаметно снять повязку и убежать. Он сказал мне, что нас ведут на убой. Но я не хотела оставлять своих и продолжала идти в колонне. Тогда моя мать, которая слышала наш разговор, начала умолять меня, чтобы я бежала. ”Нам ты все равно не поможешь,— говорила она,— а ради Леночки ты должна это сделать”.
Тут мимо нас проехала машина, в которой везли стариков и детей. И вдруг один из сидевших в машине вскочил на ноги и бритвой перерезал себе горло. Немец толкнул его в кузов, чтобы его никто не увидел, машина проехала дальше.
На Юрьевской улице я сняла повязку, незаметно выскользнула из колонны и пошла по адресу, который дал мне знакомый мужа.
Здесь я прожила недели две, и мой муж только изредка мог приходить ко мне, так как мы боялись, чтобы его не проследили. Потом он перевез меня домой, и два месяца я безвыходно просидела в комнате, прячась в шкаф всякий раз, как слышала шаги на лестнице. Но заболела Леночка, и мне пришлось начать выходить, чтобы доставать ей еду. Меня спасло то, что внешне я не похожа на еврейку, а соседи у нас были хорошие люди и во всем, в чем могли, помогали нам.
Так, в постоянном страхе, каждый день ожидая смерти, я прожила два года. Сказалась эта жизнь и на ребенке. Достаточно мне было где-нибудь задержаться, как Леночка начинала биться в истерике, с криком: ”Мою мамочку убили”. Временами казалось, что мы всего этого не перенесем.
Судьба всех остальных, с которыми я шла в колонне, ужасна. Их всех расстреляли в противотанковом рву за городом. Та же участь постигла и моих родных.
3. Рассказ Е.А. Ревенской
К великому моему горю, я не успела вместе с родственниками уехать из Днепропетровска в 1941 году. В тот день, когда в город вошли немцы, я находилась в квартире моего племянника. И в тот же вечер туда явилось несколько немцев и мадьяр, которые заявили, что им дано право все забрать в еврейских квартирах.
Несколькими днями позднее была произведена перепись евреев, живших в Днепропетровске, и нас стали выгонять на работы, которые нельзя назвать иначе, как каторжными. Тех, кто не в силах был работать, немцы избивали до смерти.
Потом настал роковой день, в который всем евреям было приказано собраться у магазина ”Люкс”, взяв с собой вещи и еду на три дня.
В этот день погода была совсем осенняя. Шел дождь вперемежку со снегом, ветер валил с ног.
Когда мы шли к зданию магазина, я увидела, что оно оцеплено полицией. Я решила, что лучше отравлюсь, чем дамся живой в руки немцев.
Я вернулась домой, и там мой сосед П. И. Кравченко посоветовал мне уйти из города и дал мне письмо к своей приятельнице, которая жила в селе Краснополье, в восьми километрах от Днепропетровска. В Краснополье я пробыла два дня, а потом должна была бежать и оттуда, потому что немцы не досчитались восьмисот человек евреев и стали искать их в окрестных деревнях.
Когда я вернулась в город, я узнала, что всех евреев, пришедших в тот день к магазину, расстреляли. Идти мне было некуда, домой возвращаться было нельзя, и я долго бродила по закоулкам, пытаясь что-нибудь придумать. Но что тут можно было придумать? И я решила умереть. Мне удалось достать бутылочку нашатырного спирта, я пошла в городской сад и, сев на скамейку, выпила ее всю залпом.
Очевидно, я стонала, потому что ко мне подошли какие-то немцы. Они прежде всего спросили меня, не еврейка ли я. Говорить я уже не могла и только отрицательно качала головой. И тогда они отправили меня в больницу.
В больнице я пробыла один день. Наутро ко мне подошла сестра и сказала, что предстоит обход немецких врачей и чтобы я поскорей уходила.
И вот я опять очутилась на улице, и опять мне некуда было идти. Целые сутки я ничего не ела, потому что горло у меня было обожжено и в больнице мне есть ничего не дали.
Бродя по улицам, я столкнулась с группой людей, оказавшихся красноармейцами, бежавшими из плена. Они собирались идти в свои деревни и позволили мне к ним присоединиться.
И я пошла, сначала с ними, а потом одна, и, пройдя шестьсот километров, пришла в Николаев, где прожила когда-то девятнадцать лет.
Здесь знакомые спрятали меня, потом достали мне фальшивый паспорт, словом, сделали все, чтобы спасти мне жизнь.
За все это время я столько перенесла и видела столько горя, что нужно было бы много писать. А я писать не умею. И разве можно передать на бумаге, что я испытывала, когда видела, например, как двое гестаповцев гнали по снегу молодую женщину в одной сорочке с маленьким ребенком на руках, или как в Николаеве швырнули в машину и увезли на расстрел четырех лучших врачей города.
Мне сейчас пятьдесят два года, я прожила трудную жизнь, была свидетельницей двух войн, но от того, что пришлось испытать и увидеть в немецком аду, у меня до сих пор стынет кровь в жилах.
4. Рассказ Б.Я. Тартаковской
Немцы вошли в Днепропетровск 24 августа 1941 года. И с первого же дня их прихода начались истязания, грабежи и убийства. Евреи, носившие на рукаве белую повязку с шестиконечной звездой (нам приказали носить ее под угрозой расстрела), не могли получить воды из водопроводной колонки, боялись выходить на улицу даже за хлебом.
Потом всем евреям приказано было собраться у магазина ”Люкс”. Мне сказали, что это делается для организации гетто. Собрав немного вещей, я с двумя детьми тоже пошла к магазину. Здесь нас построили в колонну и куда-то повели. На все вопросы о том, куда ведут, немцы отвечали: ”В лагерь”. Когда прошли еврейское кладбище и вышли на пустырь у железной дороги, впереди послышались выстрелы. Тогда мы поняли, зачем нас сюда привели. Но на этот раз очередь до нас не дошла, потому что на дворе стало темнеть. Толпу в несколько тысяч человек согнали к какому-то забору и оцепили со всех сторон. Было холодно, и люди стояли плечо к плечу в ледяной грязи, здесь же лежали больные и умирающие. Мой младший мальчик сидел у меня на спине, а старший (ему было три года) стоял, уткнувшись лицом в мои колени. Так мы провели длинную осеннюю ночь.
Когда рассвело, на пустыре появились немецкие солдаты с патронными ящиками в руках. Они показывали нам эти ящики и хохотали. Потом нас стали гнать к ямам, которые были в конце пустыря. Толпа шарахнулась в сторону, слабые падали под ноги обезумевшим от ужаса людям, слышались крики, выстрелы, детский плач. Немцы подтаскивали к ямам задавленных в толпе стариков и детей и закапывали их вместе с расстрелянными. Я упала на колени и обняла своих детей, мне казалось, что я схожу с ума от ужаса.
В этот момент ко мне подошел какой-то человек и сказал, что он выведет меня с детьми из толпы. Как ему это удалось, я до сих пор не понимаю, но через несколько времени мы уже оказались с ним на кладбище у дороги. Тут мы увидали подводу, на которой ехал молодой крестьянин. Мы его ни о чем не просили, но он сам предложил мне довезти меня с детьми до города. Я попрощалась со своим спасителем, и мы поехали.
Когда я пришла домой, я застала моего мужа в слезах. Ему сказали, что нас увели не в лагерь, а на расстрел. Мой муж украинец, и мы надеялись, что ему удастся помочь мне и детям бежать из лагеря.
На следующее утро мы все вышли из города и пошли в Сумы, где у мужа были родные. Шли мы без денег и без документов, и дорога отняла у нас полтора месяца. В Сумах нам удалось достать для меня фальшивый паспорт, и некоторое время нас не трогали. Потом мы узнали, что на меня донесли. Мы снова бежали и долгое время скитались по селам и деревням.
Можно ли описать нашу радость, когда в одной деревне мы встретились с передовым отрядом Красной Армии.
Теперь мой муж в армии, а я работаю в госпитале. Мне 27 лет, но я совсем старуха. Я живу только для детей и еще для того, чтобы увидеть, как будут наказаны немецкие звери. Нет, не звери, потому что звери не грызут лежачих и потому что недостойны названия зверей те, кто бросали в могилы живых детей.
ПИСЬМО ОФИЦЕРА ГРАНОВСКОГО (Екатеринополь). Подготовил к печати Илья Эренбург.
Это письмо сохрани. Это все, что осталось от нашего любимого Екатеринополя — мое письмо, развалины, могилы земляков и девочка Соня. Там, где мы с тобой росли, учились, любили — трава, а близкие в земле.
Нет больше Екатеринополя, его уничтожили немцы. Осталась только девочка Соня.
Когда я приехал в наше местечко, — это было 9 мая 1944 года, — я не нашел своего дома. Голое место... Я ходил среди развалин, искал людей, но никого не нашел, все расстреляны. Никто меня не встретил, никто не подал руки, никто не поздравил с победой.
Потом я встретил Соню Диамант. Ей теперь пятнадцать лет. Чудом она спаслась, немцы трижды ее вели на казнь. Она мне рассказала о трагедии Екатеринополя.
Приехали эсэсовцы, начались обыски, грабежи, погромы. Всех евреев загнали в особые лагеря. В Звенигородке был лагерь для негодных к труду. Там заперли стариков, больных, женщин с грудными детьми и детей до четырнадцати лет.
Кто мог работать, попал в лагерь возле станции.
6 октября 1941 года в Екатеринополе расстреляли первую партию: коммунистов, колхозный актив, много евреев.
Всех, кто был в Звенигородском лагере, убили в апреле 1942 года. Убили восьмидесятилетнюю Хану Лернер за то, что она слишком стара, и младенца Мани Финенберг — ему был месяц от роду — за то, что он слишком молод.
В лагере у станции долго мучили, заставляли работать по восемнадцать-двадцать часов в сутки, издевались. Девушек насиловали. Стариков пороли розгами. Наконец, осенью 1942 года расстреляли всех — из Екатеринополя, Шполы, Звенигородки — 2000 человек.
Ты помнишь старого парикмахера Азрила Прицмана? Ему было семьдесят лет. Он крикнул перед смертью: ”Стреляйте в меня! Мои сыны отомстят”. Его пять сыновей на фронте. А бондарь Голиков! Восемьдесят лет ему было, а они его ранили, он приподнялся, окровавленный, и закричал: ”Гады, стреляйте еще! Одной пулей меня не возьмете!” Двадцать восемь родственников Голикова на фронте — сыновья, внуки, зятья, племянники.
Первый наш колхозник, старый Мендель Ингер, гордо встретил врага. Это было в первый день, когда пришли немцы. Менделю было семьдесят лет. Он не хотел с ними разговаривать. Его сразу расстреляли.
Я был у могил, и я как будто видел родных, земляков; они мне говорили из-под земли: ”Мсти!” Я обещал, что отомщу. Дважды в жизни я присягал на верность своему народу: когда мне вручили мою грозную боевую машину, и второй раз — у могил Екатеринополя.
Абрам ГрановскийДНЕВНИК САРРЫ ГЛЕЙХ[14] (Мариуполь). Подготовил к печати Илья Эренбург.
8 октября. Немцы в городе. Дома — все, кроме Фани, которая на заводе. Она утром пошла на работу. Жива ли она? А если жива, как доберется сюда, ведь трамваи не ходят. Бася у Гани, которая больна брюшным тифом. В 6 часов вечера Фаня пришла с завода пешком, на заводе немцы с двух часов дня, а рабочие и служащие завода сидели в бомбоубежище. Директор завода пытался организовать отряд, раздавали оружие, но, кажется, ничего не вышло. Говорят, что секретаря Молотовского райсовета, Гурбера, немцы убили в кабинете райсовета. Председатель горсовета Ушкац успел уйти.
9 октября. Дома абсолютно нечего есть. Пекарни в городе разрушены, нет света, воды. Работает пекарня в порту, но хлеб только для немецкой армии. Немцы расклеили вчера объявления, обязывающие всех евреев носить отличительные знаки — белую шестиконечную звезду, на левой стороне — без этого выходить из дома строго воспрещается. Евреям нельзя переселяться из квартиры на квартиру. Фаня с работницей Таней все же переносят свои вещи с заводской квартиры к маме.
10 октября. По приказу еврейское население должно избрать правление общины в количестве тридцати человек. Община отвечает жизнью за ”хорошее поведение еврейского населения”, так гласит приказ. Глава общины доктор Эрбер. Кроме Файна, никого из членов общины я не знаю. Еврейское население должно регистрироваться в пунктах общины (всего зарегистрировано 9000 евреев). Каждый пункт объединяет несколько улиц. Наш пункт на ул. Пушкина, 64. Эти пунктом ведают Бору — бухгалтер, юрист Зегельман и Томшинский. Фаня должна специально идти на завод регистрироваться. Председатель заводского пункта — доктор Белопольский, Спиваков — член общины. Массовых репрессий пока нет, наш сосед Триевский говорит, что еще не прибыл отряд гестапо, потом будет иначе.
13 октября. Ночью у нас были немцы. В 9 часов вечера началась зенитная стрельба. Мы все были одеты. Владя спал, папа вышел во двор посмотреть, есть ли кто-нибудь в бомбоубежище, и наткнулся на трех немцев. Они были во дворе, искали евреев. Появление папы разрешило вопрос — папа привел их в квартиру. Тыча в лицо наганом, спрашивали, где масло и сахар, потом стали ломать дверцы шифоньера, хотя шифоньер был открыт; забрали все у Баси, она была у Гани. Потом перешли к нашим вещам, двое грабили без передышки, взяли все, вплоть до мясорубки.
Увязав все в скатерть, ушли. В доме все разбросано, раскидано, разбито. Решили не убирать, если придут еще, пусть видят сразу, что у нас уже им делать нечего. Утром узнаем, что в городе — повальные грабежи. Грабеж продолжается и днем. Забирают все — подушки, одеяла, продукты, одежду. Ходят группами в три-пять человек. Их слышно издалека — сапоги гремят.
После ухода немцев мама плакала, она говорила: ”Нас не считают за людей, мы погибли”.
13 октября. Ночью опять приходили мародеры. Таня, работница Фани, спасла остатки вещей, выдав их за свои. Немцы ушли ни с чем. Зашли к Шварцам, забрали одеяла и подушки.
Гестапо уже в городе.
Общине дан приказ — собрать за два часа с еврейского населения 2 кг горького перца, 2500 коробок черной мази, 70 кг сахара. Ходят по домам и собирают; все дают, что у кого есть, ведь община отвечает за ”хорошее поведение еврейского населения”.
На пунктах общины зарегистрировано 9000 евреев. Остальное еврейское население ушло из города или спряталось.
17 октября. Сегодня объявили, что завтра утром все зарегистрировавшиеся должны явиться на пункты и принести ценности.
18 октября. Сегодня утром пошли на пункт — я, мама, папа. Бася, сдали три серебряных столовых ложки и кольцо. После сдачи нас не выпускали со двора. Когда все население района сдало ценности, нам объявили, что в течение двух часов мы должны оставить город. Нас всех поселят в ближайшем колхозе, идти будем пешком, велели взять на четыре дня продуктов и теплые вещи. Через два часа надо собраться всем с вещами. Для стариков и женщин с детьми будут машины.
Еврейки, у которых мужья русские или украинцы, могут оставаться в городе в том случае, если мужья с ними. Если муж в армии или вообще по какой-либо причине отсутствует, жена и дети должны оставить город. Если русская замужем за евреем, ей предоставлено право выбирать — или оставаться, или идти с мужем. Дети могут оставаться с ней.
Рояновы пришли просить Фаню отдать им внука. Папа настаивал, чтобы Фаня с Владей шли к Рояновым. Фаня категорически отказалась, плакала и просила, чтобы папа ее не гнал к Рояновым, она говорила: ”все равно я без вас руки на себя наложу. Я жить все равно не буду, я пойду с вами”. Владю не отдала и решила взять его с собой.
Таня, работница Фани, шла все за нами следом, просила Владю отдать Рояновым, обещала следить за ним. Фаня слушать не хотела.
На улице простояли до вечера. На ночь всех согнали в здание, нам досталось место в подвале — темно, холодно и грязно.
19 октября. Объявили, что завтра с утра пойдем дальше, а сегодня воскресенье, и гестапо отдыхает. Пришли Таня, Федя Белоусов, Ульяна, принесли передачу, съестное. Вчера в суматохе Фаня оставила на столе часы. Тане дали запасной ключ от квартиры, ведь ключи все сдавали вчера на пункте.
Гестапо наклеило на всех еврейских квартирах специально отпечатанные бумажки: запрещен вход всем посторонним — поэтому также нужно проникнуть в квартиру тайно.
Знакомые и друзья приносят всем передачу, многие получили разрешение взять из дому еще вещи, народ все прибывает и прибывает.
Полиция разрешила общине организовать приготовление горячей пищи.
Разрешили приобрести лошадей и подводы. Распоряжение: на всех мешках и узлах ясно написать на русском и немецком языках — фамилию; один из членов семьи будет ехать с вещами, остальные пойдут пешком.
Владе здесь надоело, он просится домой. Папа, Шварц, отчим Нюси Карпиловской сложились и купили лошадь и линейку. Выходить за ворота нам не разрешают, покупку сделал Федя Белоусов. Нюсе удалось проскользнуть за ворота, и она вернулась обратно расстроенная, считает, что мы не должны были сюда идти, много народа осталось в городе, говорит, что даже встречала их на улице.
Завтра в семь часов утра мы должны оставить наше последнее пристанище в городе.
20 октября. Всю ночь шел дождь, утро хмурое, сырое, но нехолодное.
Община в полном составе выехала в семь часов утра, затем потянулись машины со стариками, машины с женщинами, с детьми. Идти нужно 9—10 км, дорога ужасная. Судя по тому, как немцы обращаются с теми, кто пришел с нами проститься и принес передачу, будущее не сулит ничего хорошего. Немцы избивают всех приходящих дубинками и отгоняют от здания на квартал. Стал вопрос о том, чтобы мама, папа и Фаня с Владей сели в машину.
Мама и папа уехали в 9 часов утра. Фаня с Владей задержались, поедут следующей машиной. У машины распорядители: В. Осовец и Рейзинс. Во дворе все меньше и меньше людей, спасаются только те, которые, по разъяснению немцев, будут следовать за вещами. К нам подошли Шмуклер, Вайнер, Р. и Л. Колдобские. Я высказала опасение за жизнь стариков, так как носятся нехорошие слухи: говорят, что машины идут под откос. Кто-то высказал предположение, что нас увезут за город и там уничтожат.
Вайнер выглядит ужасно: оказывается, его только вчера выпустили из гестапо. Несколько немцев вошли во двор и дубинками стали выгонять на улицу, из здания слышны крики избиваемых. Я и Бася вышли. Фаня с Владей были у машины. В. Осовец помог ей сесть, и она уехала. Мы шли пешком, дорога ужасная, после дождя размыло, идти невозможно, трудно поднять ногу, если остановиться, получаешь удар дубинкой, избивают, не разбирая возраста.
И. Райхельсон шел со мной рядом, потом куда-то исчез. Здесь же возле нас шли Шмерок, Ф. Гуревич с отцом, Д. Полунова. Было часа два, когда мы подошли к агробазе им. Петровского. Людей здесь много. Я кинулась искать Фаню и стариков. Фаня меня окликнула, стариков она искала до моего прихода и не нашла они, наверное, уже в сарае, куда уводят партиями по 40—50 человек.
Владя голоден, — хорошо, что я захватила с собой в кармане пальто яблоки и сухари. Владику это хватит на день, больше у нас все равно ничего нет, но взять съестное с собой нельзя было: немцы при выходе все отбирали, даже продукты.
Дошла очередь и до нас, и вся картина ужаса бессмысленной, до дикого бессмысленной и безропотной смерти предстала перед нашими глазами, когда мы направились за сараи. Здесь уже где-то лежат трупы папы и мамы. Отправив их машиной, я сократила им жизнь на несколько часов. Нас гнали к траншеям, которые были вырыты для обороны города. В этих траншеях нашли себе смерть 9000 человек еврейского населения, больше ни для чего они не понадобились. Нам велели раздеться до сорочки, потом искали деньги и документы. Гнали по краю траншеи, но края уже не было: на расстоянии в полкилометра траншеи были наполнены людьми, умиравшими от ран и просившими еще об одной пуле, если одной было мало для смерти. Мы шли по трупам. В каждой седой женщине мне казалось, что я вижу маму. Я бросалась к трупам, за мной Бася, но удары дубинок возвращали нас на место. Один раз мне показалось, что старик с обнаженным мозгом — это папа, но подойти поближе не удалось. Мы начали прощаться, успели все поцеловаться. Вспомнили Дору. Фаня не верила, что это — конец: ”Неужели я уже никогда не увижу солнца и света”, — говорила она. Лицо у нее сине-серое, а Владя все спрашивал: ”Мы будем купаться? Зачем мы разделись? Идем домой, мама, здесь нехорошо”. Фаня взяла его на руки, ему было трудно идти по скользкой глине; Бася не переставала ломать руки и шептать: ”Владя, Владя, тебя-то за что? Никто даже не узнает, что с нами сделали”. Фаня обернулась и ответила: ”С ним я умираю спокойно, знаю, что не оставляю сироту”. Это были последние слова Фани. Больше я не могла выдержать, я схватилась за голову и начала кричать каким-то диким криком, мне кажется, что Фаня еще успела обернуться и сказать: ”Тише, Сарра, тише”, и на этом все обрывается.
Когда я пришла в себя, были уже сумерки. Трупы, лежавшие на мне, вздрагивали, это немцы, уходя, стреляли на всякий случай, чтобы раненые ночью не смогли уйти, так я поняла из разговора немцев. Они опасались, что есть много недобитых, — они не ошиблись, таких было очень много. Они были заживо погребены, потому что помощи им никто не мог оказать, а они кричали и молили о помощи. Где-то под трупами плакали дети, большинство из них, особенно малыши, которых матери несли на руках (а стреляли нам в спину), падали, прикрытые телами матерей, невредимы и были засыпаны и погребены под трупами заживо.
Я начала выбираться из-под трупов, (я сорвала ногти с пальцев ноги, но узнала об этом только тогда, когда попала к Рояновым 24 октября), выбралась наверх и оглянулась — раненые копошились, стонали, пытались встать и снова падали. Я стала звать Фаню в надежде, что она меня услышит, рядом мужчина велел мне замолчать, это был Гродзинский — у него убили мать, он боялся, что я своими криками привлеку внимание немцев. Небольшая группа людей, которые сообразили, что делать, и прыгнули в траншею при первых залпах, оказались невредимыми — Вера Кульман, Шмаевский, Пиля (фамилии Пили я не помню). Все время они просили меня замолчать, я умоляла всех уходящих помочь мне разыскать Фаню. Гродзинский, который был ранен в ноги и не мог двигаться, советовал уйти, я пыталась ему помочь, но одна была не в состоянии. Через два шага он упал и отказался идти дальше, посоветовал догонять ушедших. Я сидела и прислушивалась. Какой-то старческий голос напевал: ”Лайтенах, лайтенах”, и в этом слове, повторяющемся без конца, было столько ужаса! Откуда-то из глубины кто-то кричал: ”Паночку, не убивай меня...” Случайно я нагнала В. Кульман, она отбилась в темноте от группы людей, с которой ушла, и вот мы вдвоем, голые, в одних сорочках, окровавленные с ног до головы, начали искать пристанище на ночь и пошли на лай собаки. Постучали в одну хату, никто не откликнулся; потом в другую — нас прогнали, постучали в третью — нам дали какие-то тряпки прикрыться и посоветовали уйти в степь, что мы и сделали. Добрались в потемках до стога сена и просидели в нем до рассвета, утром вернулись к хутору — это оказался хутор им. Шевченко. Он находился недалеко от траншеи, только с другой стороны; до конца дня к нам доносились крики женщин и детей.
23 октября. Вот уже двое суток, как мы в степи, дороги не знаем. Сегодня случайно, переходя от стога к стогу, В. Кульман обнаружила группу мужчин, среди которых оказался Шмаевский. Они, голые и окровавленные, все время сидят здесь. Решили идти днем к заводу Ильича, потому что ночью дороги не можем найти. По дороге к заводу встретили группу парней, по виду колхозники, один посоветовал оставаться в степи до вечера и ушел, второй предупредил, чтобы скорее уходили, потому что его товарищ нас обманул своим советом, он приведет сюда немцев. Мы поторопились уйти. Утром 24 октября постучались к Рояновым. Меня впустили. Узнав о смерти всех, ужаснулись, помогли мне привести себя в порядок, накормили и уложили...[15]
ОДЕССА. Автор Вера Инбер. По материалам и показаниям одесситов.
I
Вблизи Одессы раскинулась широкая равнина. Изредка только вздымается невысокий холм, зеленеет искусственно выращенный лесок, — и снова простирается черноморская степь между морем, лиманами и рекой Буг.
Все здесь открыто взору. Трудно в этих местах укрыться человеку, за которым охотится смерть в образе румынского или немецкого солдата.
Пролетая на самолете, можно увидеть сверху разбросанные хутора, совхозы, села, местечки Дальники, Сортировочную, Сухие Балки. А дальше — уже ближе к Бугу — Березовку, Акмечетку, Доманевку, Богдановку.
Эти имена звучали некогда мирно и не внушали никому страха, а теперь их нельзя произносить спокойно, каждое из них связано с убийством, мучительством, пытками.
Здесь были лагеря смерти, здесь пытали, разрывали на части, разбивали детские головы, заживо сжигали людей, обезумевших от страданий, от ужаса, от непереносимой муки.
Из сотен тысяч выжило всего несколько десятков. От них мы и узнали подробности зверской расправы.
Во всех устных и письменных рассказах уцелевших очевидцев, в их письмах и воспоминаниях, мы встречаемся с одним и тем же утверждением, что изобразить пережитое им не под силу.
”Надо обладать кистью художника, чтобы описать картины ужаса, который творился в Доманевке”, — рассказывает одесская женщина Елизавета Пикармер. ”Здесь погибали лучшие люди науки и труда. Сумасшедший бред этих людей, выражение их лиц, их глаз потрясали даже самых сильных духом. Однажды тут на навозе, рядом с трупами, рожала двадцатилетняя Маня Ткач. К вечеру эта женщина скончалась”.
У В. Я. Рабиновича, технического редактора одесского издательства, мы читали: ”Много-много можно написать, но я не писатель, и нет у меня сил физических. Ибо я пишу и вижу это вновь перед глазами. Нет той бумаги и пера, чтобы все описать в подробностях. Нет и не будет человека, который нарисовал бы картину нечеловеческих страданий, перенесенных нами, советскими людьми”.
Но они не могут молчать, они пишут, и к тому, что они поведали, ничего не нужно прибавлять.
Старый одесский врач Израиль Борисович Адесман диктовал воспоминания о пережитом своей жене, тоже врачу — Рахили Иосифовне Гольденталь.
Лев Рожецкий — ученик 7-го класса 47-ой школы Одессы — в очерках описал быт лагерей смерти, от Одессы до Богдановки.
”Мы жили в Одессе, — пишет В. Я. Рабинович, — и мы знали и понимали жизнь. Жить — это значило для нас работать, создавать культурные ценности. И мы работали. Сотни книг изданы мной (я был техническим редактором). В свободное время можно было проехаться с женой и детьми в Аркадию, к морю, покататься на лодке, ловить рыбу, купаться. В свободное время я мог почитать, побывать в театре. Мы жили просто, как жили миллионы людей в великом нашем Советском Союзе. Мы не знали, что такое национальный гнет, мы были равноправны в многонациональной нашей Родине!
Трагические даты Одессы: 16 октября 1941 года — в этот день Одессу заняли румынские войска; 17 октября 1941 года — день, когда румынские власти объявили регистрацию еврейского населения, 24 октября — день отправки евреев в гетто, в местечко Слободка, то было преддверием к лагерям уничтожения, расположенным на равнине смерти, за городом. Изгнание туда евреев наступило несколько позднее.
Ночь на 16 октября была страшна для евреев, которые не успели или не могли эвакуироваться. Страшна для стариков и старух — они не в состоянии были уйти, для матерей, чьи дети ходить еще не умели, для беременных женщин, для больных, прикованных к постели.
Это была страшная ночь для разбитого параличом профессора математики Фудима. Его вытащили из кровати на улицу и повесили. Профессор Я.С. Рабинович, невропатолог, выбросился из окна, но к несчастью, не убился насмерть. Он получил тяжелые увечья, он еще дышал и находился в сознании. У его разбитого тела стояла вооруженная охрана. Ему плевали в лицо, в него кидали камнями”.
Гитлеровцы, заняв Одессу, в первую очередь начали уничтожать врачей. Это была ненависть профессиональных убийц к тем, чье призвание — продлить жизнь людей, избавлять их от страданий.
В первые же дни убиты 61 врач с их семьями.
В смертном списке — исконные врачебные фамилии, известные с детства каждому одесситу: Рабинович, Рубинштейн, Варшавский, Чацкин, Поляков, Бродский... Доктор Адесман спасся только благодаря тому, что был зачислен консультантом больницы в гетто, в Слободке. Но до этого ему пришлось пройти через все издевательства и пытки, связанные с регистрацией, а потом — испытать все ужасы Доманевки, одного из самых страшных лагерей смерти на черноморской равнине.
17 октября 1941 года, на другой день после занятия Одессы румынами, началась регистрация евреев.
Регистрационных пунктов было несколько. Оттуда часть людей вели на виселицы или к могильным рвам, часть отправляли в тюрьму. Меньшинству было разрешено вернуться в свои разграбленные квартиры. Это была отсрочка смерти, не более.
— Тот пункт, куда погнали меня и мою жену, — рассказывает доктор Адесман, — помещался в темном и холодном здании школы. Нас там собрали свыше 500 человек. Сидеть было негде. Мы провели всю ночь стоя, тесно прижатые друг к другу. Мы изнемогали от усталости, голода, жажды и неизвестности. Всю ночь слышался плач детей и стоны взрослых.
Утром из нескольких групп, подобных нашей, был составлен эшелон в 3—4 тысячи человек. Всех погнали в тюрьму. Тут были и глубокие старики, и калеки на костылях, и женщины с грудными детьми. В тюрьме многие умерли от истощения и побоев.
Многие покончили жизнь самоубийством.
23 октября 1941 года партизаны взорвали здание румынского штаба, где погибло несколько десятков румынских солдат и офицеров. В ответ на это оккупанты залили город еврейской кровью.
На стенах было развешано объявление, что за каждого погибшего офицера подлежит повешению 300 русских или 500 евреев. Но в действительности, эта ”расценка” была превышена в десятки и сотни раз.
23 октября 1941 года из тюрьмы было выведено 10 тысяч евреев. За городом их всех уложили из пулеметов... 25 октября снова было выведено несколько тысяч евреев, и динамитом был взорван амбар, в котором они находились.
Технический редактор В. Я. Рабинович, тот самый, который летом отправлялся с детьми в Аркадию (как чудовищно звучит теперь это идиллическое название), описывает город в первые недели оккупации. ”23 и 24 октября, куда ни кинешь глазом, кругом виселицы. Их тысячи. У ног повешенных лежат замученные, растерзанные и расстрелянные. Наш город представляет из себя страшное зрелище: город повешенных. Долго нас вели по улицам, напоказ. А немцы и румыны разъясняли: ”Все эти евреи, вот эти старики, старухи, женщины, дети — виновники войны. Это они напали на Германию. И теперь их за это надо уничтожать” ...Ведут и постреливают. Падают убитые, ползут раненые. А вот и Ново-Аркадийская дорога к морю (к знаменитым курортам). Тут глубокая яма. Приказ: ”Раздеваться догола!.. Быстро, быстро!..” Крики. Прощания. Многие рвут на себе одежду, и их колют за это штыками. Убийцам нужны вещи.
Румыны и немцы пробуют силу штыка на крошечных детях. Мать дает ребенку грудь, а румынский солдат сумел штыком забрать его от матери и с размаха бросить в яму мертвых”.
Другие два очевидца, Большова и Слипченко, тоже рассказывают, как евреев в городе становилось все меньше и меньше. Каждый день по улицам шли этапы оборванных людей. Адская машина уничтожения работала безотказно.
”Вот идет в толпе человек небольшого роста, голова глубоко втянута в плечи. Высокий, выпуклый лоб, вдумчивые глаза. Кто он? Варвар, убийца, преступник? Нет, это крупный ученый, невропатолог, доктор Бланк, настолько отдавший себя науке, своим больным, своей клинике, что пренебрег приближающейся опасностью. Он до конца выполнил свой долг врача — не оставил больных. Рядом с доктором Бланком идет другой врач, с повязкой Красного Креста на рукаве. Это немолодой, грузный человек, страдающий одышкой, с больным сердцем. Постепенно он отстает, но тут румынский жандарм бьет его палкой по голове. Из последних сил врач ускоряет шаги, но скоро падает... Его бьют палкой по глазам. ”Убейте”, — раздается его вопль. И две пули пробивают его голову.
Вот еще один худой, высокий старик, с ясными и умными глазами. Русские женщины, глядя ему вслед, вытирают слезы. Какая мать не знает его? Это доктор Петрушкин, старый врач по детским болезням.
Не было такой клеветы, такой нелепицы, которую румыны не возводили бы на евреев.
Анна Маргулис, бывшая стенографистка на судостроительном заводе им. Марти, пожилая женщина, рассказывает:
— 29 октября 1941 года мой умирающий отец пытался зажечь лампу. Зажженная им спичка выпала из его слабой руки, и загорелось одеяло. Я все погасила в одну секунду. В тот же вечер сосед-румын донес полиции, что я хотела поджечь дом. Утром я была арестована и брошена в тюрьму, где было еще 30 женщин. При допросе меня начали избивать дубинками, прикладами, резиновыми шлангами. Я потеряла сознание.
Ночью, когда кругом была беспросветная тьма, к нам ворвалась толпа румынских солдат. Бросив на сырой пол свои шинели, они начали насиловать девушек. Мы, старые женщины (мне 54 года) сидели и плакали. Многие девушки сошли с ума.
Но все это было только преддверием к ужасам городского гетто, а само гетто — к равнине смерти.
”Евреи, погибшие в первые дни оккупации, были наиболее счастливыми из своих собратьев”. Эта фраза одного из одесских евреев не требует пояснений.
”В гетто на Слободку должны были явиться все: паралитики и калеки, инфекционные больные и умалишенные, и роженицы. Одни шли сами, других вели их близкие, третьих несли на руках. Лишь немногие имели счастье умереть на своей постели. В первый же день, проведенный на Слободке, люди поняли, что ”жизни” в гетто не может быть”. Помещений не хватало. Люди толпились на улицах. Больные стонали и валились прямо в снег. Румыны топтали упавших лошадьми. Раздавался плач замерзающих детей. Крики ужаса, мольбы о пощаде.
Уже к вечеру этого первого дня на улицах Слободки валялись трупы замерзших. Раздавались вопли людей, изгоняемых из Одессы в лагеря смерти. Слободка превратилась в гигантскую ловушку, скрыться было некуда. Везде румынская жандармерия и полицейские.
Здесь, в больнице гетто, состоял консультантом доктор Адесман. Больница была скопищем умирающих. При высылке евреев из Одессы всех, не успевших умереть, перевели в больницу водников и там уничтожили. Сам доктор Адесман был отправлен отсюда с последним эшелоном 11 февраля 1942 года. Он вспоминает: ”На станции Сортировочная произошла посадка в товарные вагоны, доставившие нас в Березовку. Отсюда нас погнали дальше пешком. В темную, холодную ночь, по дороге, покрытой то глубоким снегом, то льдом, тащились мы с котомками за плечами 25 километров. Краткие остановки стоили нам дорого, мы отдавали за них жандармам последние наши вещи. В Доманевку мы прибыли нищими”.
Здесь им были отведены полуразрушенные дома без окон и дверей, сараи, коровники и свинарники.
Болезни стали валить людей: дизентерия, тиф, гангрена, чесотка, фурункулез. Сыпнотифозные валялись в сараях без присмотра, в бреду, в агонии. Но никто уже не обращал внимания на трупы.
В других воспоминаниях читаем: ”На станции Сортировочная начинается посадка. В вагон впихивается столько людей, что можно только стоять без движения, плотно прижавшись друг к другу. Вагон снаружи наглухо закрывают тяжелым засовом, и люди остаются в совершенной темноте. Но постепенно начинаешь различать в полумраке испуганные, расширенные от ужаса глаза, заплаканные лица детей и женщин. Поезд тронулся. И лица озаряются надеждой. Старые женщины восклицают: ”Да поможет нам бог!”. Люди начинают надеяться, что действительно их везут туда, где им дадут возможность жить и работать. Поезд движется медленно. Куда он идет? Каждый толчок, каждая остановка вызывают ужас. А вдруг пустят состав под откос? Или подожгут его. Единственная надежда — пожалеют поезд. Но куда он все-таки идет? Люди все больше коченеют от холода, застывают без движения. Дети плачут, просят пить, есть. Сначала ребята, а потом взрослые, начинают отправлять тут же свои естественные потребности.
Внезапно раздаются стоны, мольбы о помощи. Это женщина корчится в тяжелых родовых муках, но помочь ей никто не может. Наконец, раздается скрип засова, и оставшихся в живых выгоняют из вагона. Теперь они идут пешком, погоняемые дубинками жандармов, рассыпающих удары на обессиленных и уже замерзающих детей. А те мечтают только об одном: дойти до гетто. Остановиться, не двигаться больше. Но пока они падают, падают...
Дороги густо усеяны трупами, напоминая недавнее побоище, с той только разницей, что на поле лежат не трупы воинов, а жалкие тельца младенцев и скрюченные тела стариков”.
Весь план изгнания евреев из Одессы был составлен именно с таким расчетом, чтобы как можно больше людей погибло так называемой ”естественной смертью”. Партию, направленную в Березовский район, три дня водили по степи в пургу, в снег, несмотря на то, что села, предназначенные для гетто, находились в 18 километрах от станции.
В докладной записке юриста И. М. Леензона, побывавшего в Одессе в мае 1944 года, сказано, что количество истребленных евреев в городе Одессе составляет около 100 тысяч человек.
Лев Рожецкий, ученик 7-го класса 47-й одесской школы, сочинил очерки, песни и стихи, в большинстве случаев в уме, но кое-что записывал на клочках бумаги, на дощечках, на фанере. ”Конечно, это грозило мне смертью, но я написал две антифашистские песни ”Раскинулось небо высоко” и ”Нина” (памяти женщины, сошедшей с ума). Иногда мне удавалось читать свои стихи моим товарищам по несчастью. Как мне было отрадно, когда сквозь стоны и слезы люди пели мои песни, читали стихи”.
Рожецкий рассказывает, как его избили до полусмерти за то, что нашли у него стихи Пушкина. ”Хотели убить, но не убили”.
Юноша, почти мальчик — он побывал во многих лагерях смерти и подробно описал их. По его очеркам мы ясно представляем себе весь этот ад — цепь лагерей от Черного моря до Буга: Сортировочная, Березовка, Сиротское, Доманевка и Богдановка. ”Я хочу, — пишет Рожецкий, — чтобы с особенной ясностью запечатлелась каждая буква этих названий. Эти названия нельзя забыть. Здесь были лагеря смерти. Здесь уничтожались фашистами невинные люди только за то, что они евреи”.
Число убитых в Доманевке евреев дошло до 15 тысяч, в Богдановке было убито 54 тысячи евреев. Акт об этом составлен 27 марта 1944 года представителями Красной Армии, властей и населения.
”11 января 1942 года — маму, меня и маленького брата Анатолия, только что вставшего после тифа, выгнали на Слободку. В три часа ночи нас позвали.
Был жестокий мороз, снег по колено. Много стариков и детей погибло еще в самом городе, на окраине его, на Пересыпи, под завывание пурги. Немцы хохотали и снимали нас фотоаппаратом. Кто мог — дошел до станции Сортировочная. На пути дамба была взорвана. Образовалась целая река. Вымокшие люди замерзали.
На станции Сортировочная стоит состав. Никогда не забуду картины: по всему перрону валялись подушки, одеяла, пальто, валенки, кастрюли и другие вещи.
Замерзшие старики не могут подняться и стонут тихо и жалобно. Матери теряют детей, дети — матерей, крики, вопли, выстрелы. Мать заламывает руки, рвет на себе волосы: ”Доченька, где ты?” Ребенок мечется по перрону, кричит: ”Мама”.
В Березовке со скрипом растворяются двери вагона, и нас ослепляют зарево огня, пламя костров. Я вижу, как, объятые пламенем, мечутся люди. Резкий запах бензина. Это жгут живых людей.
Это душегубство совершалось у станции Березовка.
Внезапно — сильный толчок, и поезд медленно движется дальше, все дальше от костров. Нас погнали умирать в другое место”.
О Доманевке Рожецкий говорит, что она занимает среди лагерей смерти ”почетное место”. Он описывает ее подробно.
”Доманевка — кровавое, черное слово. Доманевка — центр смертей и убийства. Сюда пригоняли на смерть тысячные партии. Этапы следовали один за другим беспрерывно. Из Одессы нас вышло три тысячи человек, а в Доманевку дошла маленькая кучка. Доманевка — районный центр, небольшое местечко. Вокруг тянутся холмистые поля. Вот лесок, красивый, небольшой лесок. На кустарниках, на ветках до сих пор висят лохмотья, клочки одежды. Здесь под каждым деревом могила... Видны скелеты людей”.
На середине Доманевки находились две полуразрушенные конюшни, под названием ”Горки”. Даже в Доманевском гетто это было страшное место. Из бараков не выпускали, грязь по колено, тут же скапливались нечистоты. Трупы лежали, как в морге. Тиф. Дизентерия. Гангрена. Смерть.
”Из трупов постепенно образовывались такие горы, что страшно было смотреть. Лежат в разнообразных позах старики, женщины. Мертвая мать сжимала в объятиях мертвого ребенка. Ветер шевелил седые бороды стариков.
Сейчас я думаю: как я тогда не сошел с ума? Днем и ночью сюда со всех сторон сбегались собаки. Доманевские псы разжирели, как бараны. Днем и ночью они пожирали человеческое мясо грызли человеческие кости. Смрад стоял невыносимый. Один из полицейских, лаская пса, говорил: ”Ну, что. Полкан, наелся жидами?”
В 25 километрах от Доманевки, на берегу Буга, расположена Богдановка. Аллеи прекрасного парка ведут здесь ко рву, яме, где нашли себе могилу десятки тысяч человек.
”Смертников раздевали донага, потом подводили к яме и ставили на колени, лицом к Бугу. Стреляли только разрывными пулями, прямо в затылок. Трупы сбрасывались вниз. На глазах мужа убивали жену. Потом убивали его самого”.
Свиносовхоз ”Ставки” стоял, по выражению Рожецкого, ”как остров в степной пустыне”. Те, которые уцелели в ”Горках”, нашли свою гибель в ”Ставках”.
Здесь загнали людей в свиные закуты и держали в этих грязных клетках до тех пор, пока милосердная смерть не избавляла их от страданий.
”Лагерь был окружен канавой. Того, кто осмеливался переходить ее, расстреливали на месте. За водой разрешали ходить по десять человек. Однажды, увидев, что ”порядок” нарушен, полиция выстрелила в одиннадцатого. Это была девушка. ”Ой, маменька, убили”, — закричала она. Полицейский подошел и прикончил ее штыком”.
Тех, кому удалось выжить, посылали на самые тяжелые мучительные работы.
”Помню, как мы подъезжали к баракам. Я вел лошадь под уздцы, мама толкала телегу сзади. Мы брали трупы за ноги и за руки, заваливали их на телегу, и, наполнив ее до краев, везли свой груз к яме и сбрасывали вниз”.
Елизавета Пикармер рассказывает:
”Я со своей соседкой по дому и ее ребенком очутились у ямы первыми, несмотря на то, что в толпе мы стояли сотыми. Но в последнюю минуту появился румынский верховой с бумажкой в руках и подскочил к конвоирам. И пленных повели дальше, на новые муки. На другой день всех нас бросили в реку. Отдав нашим мучителям последние вещи, мы купили себе право выйти из воды. Многие потом умерли от воспаления легких”.
В Доманевке румыны раздирали надвое детей, ухвативши за ноги, били головой о камни. У женщин отрезали груди. Заживо закапывали целые семьи или сжигали на кострах.
Старику Фурману и 18-летней девушке Соне Кац было предложено танцевать, и за это им было обещано продлить жизнь. Но их жизнь длилась недолго, через два часа их повесили.
Обреченные на смерть люди двигались как автоматы, теряли рассудок, бредили, галлюцинировали.
Коменданты села Гуляевки — Лупеску и Плутонер[16] Санду — еженощно посылали своих денщиков в лагерь за красивыми девушками. Утром они с особым наслаждением наблюдали их предсмертные муки.
Сыпнотифозные валялись без присмотра. Смерть косила людей сотнями и трудно было отличить живого от мертвого и здорового от больного”.
Таня Рекочинская пишет брату в действующую армию: ”Меня с моим мужем и двумя детьми в лютую, морозную зиму выгнали из квартиры и отправили этапом за 180 километров от Одессы, к Бугу. Грудной ребенок — девочка, в дороге умерла. Мальчика, вместе с другими детьми этапа, расстреляли. Мне досталась участь пережить все это”.
И этих ужасов еще недостаточно. В бредовое существование лагеря смерти, в безмолвие, нарушаемое стонами и хрипами умирающих, врывается тревожный крик: ”Село оцеплено. Приехали румыны и немцы-колонисты из села Картакаева с пулеметами”.
Появляются полицейские верхом на лошадях и сгоняют всех евреев в один сарай, а оттуда к смертным окопам. Некоторые решают умереть гордо, не унижая себя мольбами о пощаде, не показывая палачам страха смерти. Другие хотят умереть сами. Бегут и бросаются в лиман. Мужчины успокаивают женщин, женщины — детей. Кое-кто из самых маленьких смеется. И этот детский смех кажется странным в обстановке кровавого побоища.
— Мамочка, куда это нас ведут? — раздается звонкий голосок шестилетней девочки.
— Это нас, детка, переводят на новую квартиру, — успокаивает ее мать... Да, квартира эта будет глубокая и сырая. И никогда из окон этой квартиры не увидит ее дочка ни солнца, ни голубого неба.
Но вот и окопы. Вся процедура человекоубийства производится с немецкой аккуратностью и точностью. Немцы и румыны, как хирурги перед операцией, надевают белые халаты и засучивают рукава. Смертников выстраивают у окопов, раздев их сначала догола. Люди стоят перед своими мучителями трепещущие, нагие и ждут смерти.
На детей не тратят свинца. Им разбивают головки о столбы и деревья, кидают живыми в разведенные для этого костры. Матерей отталкивают и убивают не сразу, давая раньше истечь кровью их бедным сердцам при виде смерти малюток”.
Особой жестокостью отличалась одна немка-колонистка, раскулаченная жительница села Картакаева. ”Она как бы пьянела от собственной жестокости и с дикими криками разбивала детские головки прикладами с такой силой, что мозги разбрызгивались на большое расстояние”.
Летом 1942 года у обитателей Доманевки был такой страшный вид, что в день, когда ждали приезда губернатора Транснистрии, всем евреям велено было покинуть местечко, удалиться за его пределы на 5—6 километров и вернуться только к вечеру.
Прежде, чем уничтожить людей в лагерях смерти, их грабили. Румыны и полицейские брали деньги за все — за глоток супа, за час жизни, за каждый вздох и каждый шаг. В марте 1942 года Елизавета Пикармер заболела сыпным тифом и в числе прочих заболевших была отправлена на сыпнотифозную свалку. Шестерых, которые были не в силах [встать], расстреляли. ”Я, — рассказывает Пикармер, — тоже упала в грязь. Но за 20 марок была вытащена полицаем на горку при помощи железной палки”.
7 мая 1943 года был издан приказ — всех оставшихся в живых отправить на сельскохозяйственные работы. ”Здесь положение несколько улучшилось, так как мы получили возможность ежедневно после работы купаться в реке Буг, и один раз в неделю вываривать свои лохмотья, из конопли мы себе связали юбки, кофты и туфли״...
Но эта близость к реке Буг, так радовавшая людей летом 1943 года, принесла им новые ужасы.
”23 марта 1944 года переправился через Буг карательный отряд эсэсовцев, и нас, евреев, обрекли на расстрел. Ждать спасения было неоткуда. Всюду на пути мы встречали этапы, которых гнали по направлению к Тирасполю. От голода и холода у всех опухли руки и лица. Дальше продолжать путь не было сил, и мы молили учинить над нами расстрел на месте. Женщин и детей посадили на машины и увезли в неизвестном направлении. Оставили только 20 человек (в том числе и меня) с немецким унтер-офицером и мы продолжали путь. Двое суток мы ничего не ели, дрожали от холода. Мы теряли рассудок”.
II
На степной равнине Одесской области, в стороне от железнодорожной станции Колосовка есть село Градовка. Летом 1944 года там очутился подполковник Шабанов. Он увидел на окраине села три варницы, печи для обжига известняка, заросшие бурьяном и чертополохом. В шахтах печей Шабанов различил обугленные кости предплечья, лопатки, позвонки. Под ногами хрустели мелкие обломки черепов. Земля была густо усыпана ими, как морской берег ракушками.
Это было все, что осталось от сожженных людей.
Убийцам не понадобились здесь сложные, специально оборудованные кремационные печи с особой вихревой тягой системы ”Циклон” — для своего кровавого дела они обошлись нехитрыми варницами.
Главными палачами были немцы-колонисты. Их здесь было много: русские названия деревень и сел перемежались с названиями немецкими: Мюнхен, Радштадт и т.д. Вместе с названиями немецкие колонисты перенесли на русскую землю кровавую жестокость, свойственную этим ”арийцам”. Эти люди обагрили кровью невинных землю, их приютившую. Как на праздник, съезжались они к степным варницам. Они грабили с наслаждением. Убивали со сладострастием. В Градовке обреченных на смерть долго не держали. Здесь был в ходу ”конвейерный” способ. Людей сжигали с учетом емкости той или иной варницы. Каждая ”закладка” требовала примерно трех суток. Пока горела одна печь, казнь происходила в другой.
Перед варницами людей раздевали донага, выстраивали у края шахты и расстреливали в упор из автоматов, стреляли, главным образом, в голову. Осколки хрупких черепных костей разлетались в стороны, их не убирали. Трупы падали в печные шахты.
Когда шахта наполнялась до краев, трупы обливали керосином. Пучки соломы заранее были разложены по углам. Жир, вытапливаясь из трупов, усиливал горение. Вся округа была затянута дымом, отравлена смрадом горящего человеческого мяса.
Вещи казненных увозились на железнодорожную станцию, где происходила сортировка и погрузка награбленного в вагоны. Все производилось со знанием дела, методично. В Германии и Румынии были, вероятно, довольны присланными вещами. Единственный досадный их недостаток заключался в том, что они пропитались запахом гари.
В трех варницах было сожжено около 7 тысяч человек. В Радштадте и Сухих Балках число погибших дошло до 20 тысяч. Подполковник Шабанов так заканчивает свое сообщение: ”Я много видел за войну, но не могу передать того, что я пережил при посещении варниц. Но если я, сторонний свидетель, испытал все это, то что же должны были перечувствовать и пережить сами обреченные, прежде чем упасть с размозженной головой в огонь печи? Рассказывают, что одна женщина схватила и увлекла за собой в жерло печи одного из палачей”.
Баржи, груженные еврейскими женщинами и детьми, через полчаса после выхода в открытое море возвращались пустыми, забирали новые партии, снова уходили и снова возвращались.
Разминирование минных полей и поиски мин — это тоже было обязанностью интернированных евреев, из которых не спасся ни один. Какие свидетельские показания, какие акты о зверствах, какие протоколы опишут все это? Кто изобразит набитые до отказа эшелоны? Вагоны стояли на путях неподвижно по нескольку суток, двери были запломбированы. Трупы выбрасывались в степь и сжигались на кострах. Вся равнина от Черного моря до Буга была освещена пламенем этих костров.
Смерть от огня, от стужи, от голода, жажды, от истязаний, пыток, расстрелов, повешенья... Все виды гибели, весь кровавый арсенал пыток, все виды мучения — все это обрушилось на безоружных, беспомощных стариков, женщин, детей”.
III
Одесса была превращена в застенок, терроризирована, залита кровью, покрыта виселицами. Одесские газеты, издаваемые румынами, были наполнены изуверским бредом о ”еврейской опасности”, о том, что, по словам фюрера, в Новой Европе скелет еврея будет редкостью в музее археологических древностей.
В такой обстановке каждое слово сочувствия, обращенное к евреям, каждый соболезнующий взгляд, каждый глоток воды и корка хлеба, поданные еврейскому ребенку, грозили смертью русским и украинским людям. И все же, и русские, и украинцы, рискуя жизнью, помогали евреям: прятали в подвалах целые семьи, кормили их, одевали, лечили.
”А только скажу спасибо вам, Шура, и вам, товарищ Чмир, что прятали нас. Вы, наши покровители, ежедневно читали приказы зверей — немцев и румын, чем вам грозит прятание нас. И все-таки, рискуя жизнью своей, вы это делали. Спасибо вам”, — пишет Рабинович. Он написал незабываемые страницы обвинительного акта о зверствах румынско-немецких оккупантов в его родном городе.
Елизавета Пикармер спаслась от смерти только благодаря тому, что в лагере смерти ее случайно увидела русская женщина, отдыхавшая в санатории, где Пикармер была сестрой-хозяйкой.
Украинец Леонид Суворовский, инженер одного из одесских заводов, приобрел широчайшую известность среди еврейского населения Одессы. Суворовский не только предостерег своих знакомых евреев, чтобы они не шли на объявленную румынами регистрацию, но поселил многих в своей квартире, превратив ее в подлинный штаб, где по ночам изготовлялись фальшивые русские паспорта для десятков еврейских семейств. С помощью своих русских и украинских друзей Леонид Суворовский укрывал и содержал двадцать две еврейских семьи, для чего днем продавал папиросы и даже собственное платье. В конце концов, Суворовский был арестован немецко-румынскими властями и приговорен военно-полевым судом к семи годам каторги. Но еще накануне ареста Суворовский успел дать прибежище спасенным им еврейским семьям у своих друзей.
Яков Иванович Полищук, в самом центре города, в недостроенном доме, с группой лиц, которым он доверял, вырыл обширный подвал, в котором два года скрывалось 16 еврейских семейств. С опасностью для жизни, ночью Полищук приносил туда продукты. Все 16 семейств были спасены.
Андрей Иванович и Варвара Андреевна Лапины, старики, прятали в своих комнатах еврейских детей. Когда опасность сделалась слишком явной, Лапина отправила детей в надежное место, в деревню. Арестованная, она словом не выдала их местонахождения. Варвара Андреевна Лапина была расстреляна.
Константин Спаденко, украинец, портовый рабочий, совершил с товарищем несколько смелых нападений на одесскую тюрьму, где были заключены тысячи евреев. Некоторых из них удалось переправить к партизанам.
Степная равнина не могла служить защитой партизанам, но земля укрывала их в своих недрах. Заброшенные каменоломни, знаменитые одесские катакомбы, были превращены в партизанские гнезда, соединенные между собой подземными ходами.
Румыны и немцы со страхом ощущали у себя под ногами эту полную угрозы почву. Люди оттуда производили взрывы зданий, нападали на тюрьмы, оттуда шла месть.
Две сестры Канторович, Елена и Ольга, две еврейские девушки, их брат, его товарищ У кули, работник почтамта (грек) и еще несколько человек образовали сплоченную группу борьбы с оккупантами. Дважды арестованные ”по обвинению в еврействе” и дважды вырвавшиеся на волю, сестры Канторович связывались с партизанскими отрядами ближних и дальних катакомб. В подвале своей городской квартиры Елена и Ольга скрывали радиоприемник и пишущую машинку. Сводки Совинформбюро распространялись по городу непостижимым для оккупантов образом.
Сводки проникали в трамваи, булочные, кино, даже в тюрьму, куда их приносили в печеном хлебе и в складках одежды. В этой смертельно опасной работе наряду с еврейскими девушками и юношами плечом к плечу стояли русские и украинские их товарищи..
Школьнику Льву Рожецкому, прошедшему все круги фашистского ада, ”видится памятник” над знаменитой богдановской ямой, одной из ям в лагерях смерти... Этому памятнику жертвам фашизма он посвятил стихи:
Кто бы ни был ты, остановись, Приблизься, путник благородный, К могиле сумрачно-холодной, На лоне грусти осмотрись, Объятый гневом и волненьем, Слезою не тумань очей. Испепеленный прах людей Почти безмолвным поклоненьем.Румыны и немцы не жалели сил для того, чтобы превратить советскую Одессу в город Антонеску, столицу пресловутой Транснистрии. Но город не покорился, он жил, и боролся, и победил вместе со всей страной.
НЕМЕЦКО-РУМЫНСКИЕ ЗВЕРСТВА В КИШИНЕВЕ (МОЛДАВИЯ). Автор Л. Базаров[17].
***
ЧЕРНОВИЦЫ В ПЕРИОД НЕМЕЦКО-РУМЫНСКОЙ ОККУПАЦИИ. Сообщение Е. Гросберг. Подготовил к печати Л. Гольдберг.
4 июля первые германо-румынские войсковые части вступили с разных сторон в Северную Буковину; 6 июля они уже были в Черновицах. Одним их первых шагов гитлеровского Главного командования было объявление еврейского населения Буковины вне закона. По деревням и местечкам прокатилась неслыханная до того волна погромов. Так, в местечке Гзудак было около 470 еврейских семейств; все они были убиты, за исключением трех человек, которым удалось бежать. Во многих деревнях не осталось в живых ни одного еврея. В Черновицах было убито свыше 6000 человек.
Румынский крестьянин Корда Никола, работавший во время румынской оккупации на резиновой фабрике ”Кадром” в Черновиках, рассказывал, что в его родной деревне Волока не осталось в живых ни одного еврея.
В некоторых селах отдельным евреям удалось спастись, благодаря соседям, прятавшим их в погребах и на сеновалах.
Когда, наконец, в Буковину прибыли немногие представители гражданских властей, оставшиеся в провинции в живых евреи были частично перевезены в местечко Сторожинец, частично в Баюканы. Оттуда вскоре их отправили в лагеря, расположенные вблизи этих местечек. Там они оставались несколько дней (в Сторожинце — 11 дней), подвергаясь нечеловеческим издевательствам. Затем лагеря были распущены, а евреи загнаны в гетто.
В Черновицах, где было около 60000[18] евреев, мужчин и женщин хватали на улицах, извлекали из домов и уводили в полицию, откуда их группами, от 50 до 300 человек, гнали под конвоем на различные работы. Румынские дамы, постепенно наводнившие город и занявшие еврейские квартиры, приходили в полицию, где им предоставляли по 20-30 евреев или евреек для уборки квартир ”от грязи, оставленной большевиками”. Очень много евреев было передано германской комендатуре, угнавшей их на строительство железнодорожного моста через Прут. Многие погибли в волнах бурной реки, но еще больше погибло от бесчеловечного обращения и истощения. Магазинов в городе не было, одни только хлебные лавки. Но евреям хлеб не продавали.
Одним из первых распоряжений румынского Национального Банка был приказ об обмене советских денег по определенному паритету. Но у евреев, когда они приходили в разменную лавку, деньги просто-напросто отбирались, а взамен им ничего не выплачивали.
Ежедневно по утрам, когда евреи шли на работу, их встречали полицейские патрули, задерживали, не обращая внимания на удостоверения с мест работы, жестоко избивали их, тащили в полицию и только оттуда, уже под конвоем, отправляли на работу.
Спустя несколько недель был издан приказ о том, что все евреи обязаны носить на левой стороне груди заплату со ”звездой Давида”. Эта звезда фактически ставила евреев вне закона: заметно усилились нападения, так как преступники были уверены в своей безнаказанности. Евреев, захваченных без звезды или носивших ее не на предписанном месте, угоняли в концлагеря... Тогдашний губернатор Буковины, генерал Галатеску издал даже специальный приказ, широко распространенный и опубликованный в местной прессе. Генерал требовал, чтобы звезда была крепко пришита за все шесть концов и носилась на положенном месте, так как наблюдалось, что некоторые евреи недостаточно выпячивают звезду и даже время от времени снимают ее.
Нищета среди еврейского населения все возрастала, большинство голодало в буквальном смысле слова, кормясь исключительно подачками сердобольных соседей... Работать евреи должны были безвозмездно. Одни врачи имели право заниматься своим делом, причем на их вывесках должно было быть четко обозначено ”еврей”. Лечить неевреев евреям-врачам было строго запрещено. В синагогах нельзя было совершать богослужений, а городская синагога было сожжена, как только германо-румынские войска вошли в город.
Повсюду были расклеены афиши, предостерегавшие против ”актов большевистского саботажа”. В качестве репрессивной меры была предпослана угроза расстрела 20 заложников-евреев и 5 неевреев. Тюрьмы были переполнены... Число людей, взятых в качестве заложников, было весьма значительно, и большинство из них было убито.
Среди них был черновицкий главный раввин Марк и главный кантор Гурмон. Еще через некоторое время власти учредили так называемый ”Еврейский комитет” с д-ром Нейбургом во главе. В Комитет вошли, главным образом, бывшие сионистские лидеры. Этот Комитет должен был играть роль рупора оккупантов в их отношениях с еврейским населением. Единственное, чего добился Комитет, это сохранения пяти еврейских организаций (еврейская больница, родильный дом, дом для престарелых, дом для умалишенных и сиротский дом) и то на очень тяжелых условиях.
На основании одного декрета было конфисковано все недвижимое имущество евреев. Евреи-домовладельцы должны были платить квартирную плату за проживание в собственном доме. Любой румын мог занять любую приглянувшуюся ему квартиру еврея, забрав одновременно и всю обстановку в квартире.
Так продолжалось до 10 октября 1941 года, когда Еврейскому комитету было поручено передать устно всем евреям, что они должны перейти в гетто, в район, где до того проживали беднейшие слои еврейского населения. Рано утром 11 октября двинулись толпы народа. У всех на руках и на спинах — узлы с одеждой и постелью. Кое-кто волочил свои вещи на тачках, ручных тележках или детских колясках. Для устрашения населения военные власти выпустили несколько танков, с грохотом кативших по улицам.
О создании гетто не было опубликовано никаких приказов. Только три дня спустя в бухарестской газете ”Курентул” появилась небольшая заметка о том, что это ”необходимое мероприятие” было осуществлено ”самым гуманным образом”.
Кое-кто из евреев, ссылаясь на отсутствие официального приказа, попытался остаться в своих квартирах. Однако 11 октября, после 18 часов, когда вокруг гетто был уже возведен высокий дощатый забор, жандармы извлекли этих евреев из квартир и угнали под конвоем в гетто. В наказание им ничего не разрешили взять с собой.
Жилищные условия в гетто были невыносимы: в маленьких комнатушках умещали по 5-8 семейств. Входы в гетто строго охранялись, и никто из евреев не смел покидать гетто.
Спустя два дня явился один из членов Еврейского комитета, сообщивший решение властей о том, что все евреи Буковины, включая и Южную Буковину, выселяются в так называемую Транснистрию, т. е. в оккупированный румынами район между Днестром и Бугом. Переселение, как правило, должно было производиться по железной дороге, но поскольку многие районы были лишены железнодорожной сети, а других способов передвижения нет, часть пути придется проделать пешком. Каждому переселенцу рекомендовалось поэтому захватить лишь такое количество ручного багажа, сколько он в состоянии нести сам. Для организации ”переезда” были назначены так называемые руководители групп, которые должны были наблюдать за приготовлениями к отъезду.
Уже на следующее утро от евреев под угрозой смертной казни потребовали сдачи всех ценных вещей: золота, драгоценностей, иностранной валюты. В этот же день транспорты евреев из других городов проследовали через Черновицы. А еще через день началась отправка черновицких евреев. Длинные колонны физически и душевно разбитых людей, овеянных дыханием смерти, потянулись по улицам города к товарной станции. Репортеры румынских и немецких газет засняли это ”событие” и затем воспели в своих газетах ”мудрое решение еврейской проблемы” в Буковине.
Первые транспорты ушли 14 октября 1941 г., следующие — 15-го. Вечером 15 октября в помещение Еврейского комитета явился тогдашний бургомистр Черновиц, доктор Трайан Поповичи, сообщивший, что из Бухареста получено разрешение на оставление нескольких тысяч евреев в Черновицах. По требованию бургомистра были составлены списки еврейского населения по профессиям и возрасту — в результате около 17000 евреев осталось в городе. Сюда вошли представители разных профессий; кроме того, лица старше 60 лет, женщины с беременностью свыше шести месяцев, матери с грудными детьми, государственные пенсионеры и бывшие офицеры запаса.
Фактически разрешения на дальнейшее пребывание в Черновицах в большинстве случаев продавались за сказочные суммы. Люди, не обладавшие достаточными средствами, не могли получить разрешения даже в том случае, если они по своей профессии или иным условиям подходили по инструкции.
В еврейской больнице, например, сестрами работали женщины из Бессарабии с большим стажем — от 10 до 20 лет. К моменту создания гетто больница была переполнена, во всех коридорах и даже в саду были размещены больные.
Тогда в качестве сестер было взято несколько уроженок Черновиц, и даже некоторые ”дамы из общества” посвятили себя этой работе, чтобы лично ухаживать за больными родственниками.
Когда встал вопрос о разрешениях, почти все уроженки Черновиц получили соответствующие документы, а бессарабкам в них было отказано под предлогом, что все бессарабки — коммунистки и, следовательно, недостойны этой милости.
Какова же была судьба остальных евреев Черновиц? Необходимо учесть, что перед румынскими властями стояли задачи восстановления торговли и промышленности в городе. Чтобы привлечь в торговлю румын, был издан декрет, по которому все румыны, возглавляющие в Черновицах торговые заведения, освобождаются от военной службы. Эта приманка возымела свое действие. За короткое время в Черновицах открылось очень много магазинов. В основном, это были магазины, принадлежавшие до того евреям, которые сейчас лишены были права быть собственниками торговых предприятий. Та же самая картина наблюдалась и в промышленности: все промышленные предприятия, принадлежавшие раньше евреям, были объявлены собственностью государства, и тут же по смехотворно низким ценам отданы в аренду румынам. Но румынские новоиспеченные промышленники не в состоянии были справиться со своими новыми задачами без помощи специалистов и квалифицированных рабочих, которых можно было найти лишь среди еврейского населения. Каждый предприниматель-румын получил возможность оставить на месте ”своих” евреев.
Лица, получившие разрешения на жительство в Черновицах, могли оставлять и свою семью, т. е. несовершеннолетних детей, жену, а в некоторых случаях и родителей. Все остальные евреи были постепенно высланы. Отправка их тянулась до середины ноября, когда она из-за транспортных затруднений была приостановлена. Таким образом, в Черновицах осталось еще около 5000 евреев, не имевших разрешений. Частично это были лица, укрывшиеся и уклонившиеся от переселения, частично инвалиды, неспособные к передвижению.
Обладатели разрешений могли оставить гетто и вернуться в свои, полностью разграбленные квартиры. Немедленно была создана контрольная комиссия с целью проверки правильности выдачи разрешений. Эта комиссия заседала в большом зале ратуши под председательством губернатора и при участии представителей гражданских и военных властей, а также сигуранцы (тайная полиция). Комиссия аннулировала и отобрала немало разрешений, оказавшихся будто бы неправильными. Обладатели их были немедленно высланы в Транснистрию. Та же участь постигла и всех тех, кто числился в ”черных списках” сигуранцы.
Еще не успела закончиться эта ревизия, как назначена была новая регистрация, через которую должны были пройти и евреи, оставшиеся в Черновицах без официального на то разрешения. Им были впоследствии выданы разрешения другого типа, подписанные, однако, не губернатором, а бургомистром Трайаном Поповичи (почему эти разрешения носили название — ”поповичские”). Эта вторая перепись установила, что в Черновицах — около 21000 евреев, из них — около 16000 с так называемыми ”разрешениями Галотеску” и примерно 5 тысяч — с ”поповичскими” разрешениями. Ликвидация гетто в Черновицах отнюдь не была актом благоволения, а лишь результатом распоряжения Санитарного управления с целью предупреждения эпидемий.
На протяжении двух с половиной лет одна ревизия следовала за другой, сопровождаясь каждый раз новыми гонениями и преследованиями. Каждому еврею полагалось иметь множество всяких справок и удостоверений. В Бухаресте был создан специальный департамент по еврейским делам, начальник которого был наделен властью министра. Не надо забывать, что все эти документы продавались за огромные деньги; бесконечные прошения должны были снабжаться печатями, и все только для того, чтобы выколачивать все больше и больше денег. Помимо всего, за каждый документ взимались еще ”экстратаксы”.
Но за исключением врачей никто не имел права на самостоятельную работу. Много сотен евреев были вынуждены работать задаром в разных военных и гражданских учреждениях, часто им приходилось даже приплачивать, чтобы добиться мало-мальски человеческого обращения со стороны начальства.
Для лиц, занятых в торговле и промышленности, были установлены следующие правила: возбранялось брать на работу еврея без специального разрешения биржи труда. Для получения такого разрешения приходилось выполнять массу формальностей и, между прочим, доказать, что данный еврей ”незаменим” и что предприниматель не в состоянии найти для данной работы румына; после всего этого разрешение нуждалось еще в подписи сигуранцы. Каждый еврей — рабочий или служащий — обязан был иметь своего дублера, которого этот еврей должен был в кратчайший срок обучить, с тем, чтобы подготовить таким образом себе замену. Все евреи призывного возраста (19—55 лет) должны были вносить военный налог в размере от 2000 до 12000 лей. Мужчины, не работавшие на предприятиях, забирались в рабочие батальоны и отправлялись на работу в глубь страны, причем кормиться и одеваться они должны были за собственный счет.
Таково было положение евреев до июня 1942 года. К этому времени генерал-губернатор Маринеску добился отставки бургомистра Поповичи. Сразу же был издан приказ о том, чтобы выслать в Транснистрию всех обладателей разрешений, подписанных Поповичи. Одновременно подверглись высылке и те, у кого были отняты разрешения на работу, а также инвалиды, не попавшие в рабочие батальоны. Всего в июне 1942 года было выслано около 6000 евреев.
В том же году в Черновицы прибыла небольшая партия евреев беженцев из Польши — 60—80 человек. Хотя польские граждане находились сначала под защитой Чили, а потом Швейцарии, Маринеску выдал этих польских евреев немцам, которые немедленно отправили их обратно в Польшу. Даже полицейский чиновник, сопровождавший несчастных к польской границе, говорил, что никогда в жизни ему не приходилось видеть такого жестокого обращения с людьми. И случись ему еще раз получить такое задание, — заявил он, — он предпочитает покончить с собой.
Таким образом, к августу 1942 года в Черновицах оставалось около 16000 евреев. Вместе с тем, беспрерывно росло количество ограничений для евреев.Так, евреям было запрещено ходить по улицам в недозволенные часы, т.е. от часу дня до 10 часов следующего утра. Рабочим были выданы специальные пропуска, которые, однако, давали им только право ходить на работу и обратно. Евреи не имели права выходить за пределы городской черты. В апреле 1942 года была создана еврейская религиозная община, в обязанности которой входило также выполнение распоряжений властей.
В функции общины входила, между прочим, мобилизация евреев для рабочих батальонов. Многочисленные денежные контрибуции, возлагавшиеся на евреев, также должны были взиматься через общину. Весной 1943 года в Черновицы был назначен новый генерал-губернатор — Драгалина. Этот Драгалина числится в первом десятке преступников в списках виновников войны, опубликованных Советским правительством. Его вступление в должность Черновицкого губернатора совпадает с тем временем, когда уже всем было ясно, что Германия проиграла войну, и близится час расплаты для виновников войны. Драгалина воздержался поэтому от того, чтобы еще более ухудшить режим, установленный для евреев. Во время инспекторской поездки по концентрационным лагерям он даже выпустил из лагерей часть евреев, попавших туда из-за отказа носить желтую звезду. В январе 1944 года он приказал, наконец, снять желтые повязки.
Когда в марте 1944 года фронт вплотную приблизился к Буковине, евреи стали опасаться, что немцы уничтожат город и жителей, как они это сделали во всех других украинских городах. Драгалина обещал эвакуировать евреев; на самом же деле он выдал очень немного пропусков, распределив их, главным образом, среди служащих общины. Когда, однако, 24 марта Красная Армия форсировала Днестр, несколько сот еврейских семейств успели, воспользовавшись паникой, бежать из города. В тот же день управление городом перешло в руки немцев. 26 марта передовые части Красной Армии вошли в предместья Черновиц и после трехдневного боя, происходившего вне города, немцы отступили, не успев причинить населению ущерб... Разрушения в городе были не очень значительны. Немцы подожгли две фабрики, телефонную станцию, здание полиции и два жилых дома в центре города. За день до отступления они подожгли также резиденцию архиепископа, — провокационный акт, долженствовавший вызвать эксцессы против евреев. Но сторож здания сумел локализировать пожар и обнаружил преступников.
В период немецко-румынской оккупации в Черновицах существовала нелегальная коммунистическая организация, в нее входило около 80 человек: евреи, поляки, украинцы.
ПИСЬМО РАХИЛЬ ФРАДИС-МИЛЬНЕР[19] (Черновицы). Подготовили к печати Илья Эренбург, Р. Ковнатор.
Мы жили в Черновицах. 6 июля пришли враги. Мы не смогли эвакуироваться: муж работал в военном автогараже, ребенок заболел.
Евреев согнали в гетто и стали отсылать в Транснистрию. [После того, как выслали 50000[20] людей, высылки были временно приостановлены. 7 июня 1942 года их возобновили и][21] мы попали в первую очередь.
Ночью пришли румынские жандармы. Мы знали, что нас ждет смерть, а трехлетний ребенок безмятежно спал. Я его разбудила, дала ему игрушку — медвежонка, и сказала, что мы едем в гости к его двоюродному братику.
Нас повезли в Тульчинский уезд на каменоломню. Там мы пробыли 10 дней почти без еды, варили борщ из травы. Вместе с нами отправили умалишенных из еврейской больницы, их не кормили, и они душили друг друга. Потом нас перевели в Четвертиновку, так как на каменоломню прибыла новая партия евреев из Черновиц.
Всех разместили в селах Тульчинского уезда — в конюшнях и свинарниках. Били, издевались. В середине августа приехали немцы, вызвали всех и спросили, хотели бы мы работать. Они сказали, что возьмут нас на работу и будут хорошо кормить.
13 августа прислали грузовики, приехали две легковые машины с немецким начальством из Винницы. Стариков, больных, матерей с грудными детьми и многодетных отделили, работоспособных и матерей с одним или двумя детьми погнали пешком.
Мы перешли через реку Буг. Там разделили навеки людей. Многие мужья остались без жен, дети без родителей или наоборот... Нам повезло: мы оказались вместе — я, муж и Шура. Мы прибыли в Немиров. Там был лагерь для местных евреев — их было человек 200-300, все молодые и здоровые (остальные были уже убиты). Нас привезли к ним во двор, мы просидели ночь, а на рассвете показались немировские евреи в лохмотьях, с ранами на босых ногах. Когда они увидели наших детей, они стали кричать и плакать. Матери вспоминали своих замученных малюток. Мы с трудом верили их рассказам. Один рассказал, что убили его жену и трех детей, другой, что у него убили родителей, братьев и сестер, третий, что замучили его беременную жену.
К утру возле лагеря собрались украинцы. Мой ребенок выделялся золотыми волосами и голубенькими глазенками. Он всем нравился, и одна украинка предложила мне, что она его усыновит: ”Все равно вас убьют, жалко ребенка, отдайте его мне”. Но я не могла отдать Шуру.
В три часа дня нас перевели в наш лагерь. Когда мы к нему приблизились, еще больший ужас охватил нас. Это было здание старой синагоги, полное перьев от разодранных подушек.
Всюду валялись кофточки, детские туфельки, старая посуда, но больше всего было перьев. Оказалось, что в эту синагогу немцы согнали немировских евреев и отсюда повели их на казнь. Хорошие вещи забрали, а старые остались. В подушках искали золото и потому разорвали их. Нас окружили колючей проволокой и заперли. Приезжали полицмейстер Гениг и его помощник ”Крошка”.
Вечером пригнали к нам стариков, больных и детей, которых румыны отказались оставить на их стороне. Это было страшное зрелище...
20 августа утром устроили перепись: отобрали работоспособных, человек 200, оставались еще 100 стариков и больных, 60 детей. Полицмейстер Гениг, улыбаясь, сказал: ”Еще один нескромный вопрос — кто из женщин в положении?” Назвалась Блау, женщина на восьмом месяце, мать пятилетнего ребенка. Он ее записал, потом всем приказал собраться, идти без детей на работу. Оставались только матери с грудными детьми. Я решила — пусть застрелят, а Шуру я не оставлю. Я стою с ним. Ко мне подошла молодая женщина в слезах и сказала: ”У меня ребенок десяти месяцев, я боюсь остаться, чтобы меня не застрелили”. Я ей предложила, чтобы она оставила ребенка мне.
Я осталась в лагере. Другие уходили работать — на шоссе и возвращались, когда уже смеркалось. Запрещалась всякая связь с населением. Выдавали раз в день гороховую похлебку без соли и без жиров и 100 г хлеба. Дети умирали от голода. На счастье, некоторые украинки бросали детям немного фруктов и хлеба. Я как единственная смыслящая в медицине (по образованию я провизор) была назначена врачом лагеря и имела возможность иногда ходить в аптеку и украдкой приносила детям немного еды. Это была капля в море. Люди работали как рабы, не могли даже помыться, чуть что — палка. Стражники напивались и ночью избивали всех. Немецкое начальство забирало все пригодные вещи. 6 сентября адъютант полицмейстера проверял нас. Он подозвал меня, чтобы помочь ему разобрать имена. Шура заплакал, я ему рукой показала, что нельзя стоять рядом со мной. Немец заметил и сказал: ”Пусть ребенок подойдет к своей мамочке”.
13 сентября, в два часа дня подъехала машина: полицмейстер Гениг, ”Крошка” и его помощник — украинец, которого звали ”Вилли”. Они объявили, что 14 сентября все дети и нетрудоспособные будут направлены в другой лагерь, чтобы ”не мешать работать”. Они составили списки больных, стариков и детей. Остальных осматривали, как лошадей. Кто небодро шел или чем-либо не понравился, попадал в черный список. Мы поняли все. Муж схватил Шуру, зажал ему рот и перелез через проволоку. В дом его не впустили, но оставили в огороде.
Ночь с 13 на 14 сентября. Большое двухэтажное здание синагоги. Света не было. У некоторых нашлись огарки, зажгли их. Каждая мать держит на руках ребенка и прощается с ним. Все понимают, что это— смерть, но не хотят верить. Старый раввин из Польши читает молитву ”О детях”, старики и старухи ему помогают. Раздирающие душу крики, вопли, некоторые дети постарше стараются утешать родителей. Картина такая страшная, что наши грубые сторожа и те молчат.
14 сентября. Людей подняли до рассвета, погнали на работу, чтобы они не мешали... Я тоже пошла. Я не знала, что с мужем и ребенком — живы ли они, или попали в лапы убийц.
Некоторые матери пошли на работу с детьми, некоторые старухи принарядились и тоже пошли на работу, пытаясь уйти от смерти.
Эсэсовцы тщательно осматривали ряды, извлекали всех детей. Шесть матерей пошли на смерть со своими детьми, они хотели облегчить детям последние минуты. Сура Кац из Черновиц (муж ее был на фронте) пошла на смерть с шестью мальчиками. Вайнер пошла с больной девочкой, Легер, молодая женщина из Липкан, молила палачей, чтобы ей разрешили умереть с ее двенадцатилетней дочкой, красавицей Тамарой.
Когда мы шли на работу, мы встретили машины со стариками и детьми из лагеря Чуков и Вороновицы. Мы видели издали, как машины останавливались, как стреляли. Потом палачи рассказывали, что заставляли обреченных раздеться догола, грудных детей бросали живыми в могилы. Матерей заставляли смотреть, как убивали их детей.
В лагере Чукове находился наш приятель из Единец, адвокат Давид Лернер с женой и шестилетней девочкой, а также родителями жены — Аксельрод. Когда в сентябре убивали детей, им удалось спрятать девочку в мешок. Девочка была умная и тихая, и она была спасена. В течение трех недель отец носил девочку с собой на работу и ребенок все время жил в мешке. Через три недели наш зверь ”Крошка” приехал забирать хорошие вещи. Он подошел к мешку и ударил его ногой. Девочка вскрикнула и была раскрыта. Дикая злоба овладела палачом, он бил отца, бил ребенка и забрал у них все вещи, оставив всю семью почти без одежды. Все-таки девочку он не убил, она осталась в лагере и всю зиму прожила в смертном страхе, ожидая каждый день смерти. 5 февраля при второй ”акции” девочка была взята вместе с бабушкой. Безумный страх овладел ребенком, она так кричала всю дорогу на санях, что детское сердечко не выдержало и оборвалось. Бабушка принесла ребенка к роковой яме уже мертвым. Мать, узнав об этом, сошла с ума, ее расстреляли, вскоре убили отца, так погибла вся семья.
Когда вечером мы вернулись в лагерь, было тихо и пусто, как на кладбище. Вскоре приехал полицмейстер и вызвал меня. Он спросил, где я была и где теперь мой ребенок. Я ответила, что была на работе, а где мой ребенок — это он знает лучше меня. Он ничего не сказал, уехал.
Ночью вернулся муж. Он оставил ребенка у одной украинки Анны Рудой, и та обещала найти ему пристанище. Мы успели кинуть ей все наши вещи через ограду, и ребенок был на время обеспечен. На другой день явился ”Крошка”, обыскал погреб, чердак — повсюду искал моего мальчика. ”Твоего блондинчика не было на машине, — сказал он мне. — ”Я хорошо знаю твоего мальчика”. — Он его заметил, когда была перекличка...
Анна Рудая передала моего ребенка Поле Медвецкой, которой я навеки обязана. Шесть месяцев она его берегла, как зеницу ока...
Он называл ее мамой и очень любил.
21 сентября нас перевели в село Бугаков. Там был другой немецкий комендант, но он подчинялся немировским властям: Генигу, ”Крошке” и ”Вилли”. Меня назначили медицинским работником для трех еврейских лагерей: Бугаков, Заруденцы и Березовка. Трудно рассказать, что испытывали люди в этих лагерях. Немцы мне говорили: ”лечи их кнутом”. Немногие старые люди, ускользнувшие от расстрела, не выдержали и свалились. Их палками гнали на работу. Старика Аксельрода из Буковины в субботу палками погнали на работу. В воскресенье он умер. У старой Брунвассер была закупорка вен на обеих ногах. Ее тащили за волосы, сбросили вниз с лестницы, два дня спустя она умерла. Вскоре умерли все остальные. Заболели молодые. Пришла зима.
Мы спали на морозной земле. Ели впроголодь. Начались эпидемии. Теплых вещей не было, а стояли сильные морозы. Били. Больше всех над нами издевался старший надсмотрщик Майндл, особенно он терзал моего мужа, которого он называл ”проклятым инженером”.
Ребенка я все время не видела и с ума сходила от мысли, что, может быть, немцы его нашли. В начале января мне удалось тайно пробраться к нему. Когда я подошла к калитке, сердце так билось, будто выскочит. Я оглядывалась, чтобы меня не заметили. Дверь открыла Медвецкая и крикнула: ”Шура, посмотри, кто пришел?!” Но Шура меня не признал, был тихий и грустный, прятался за Полю. Только когда я взяла его на руки и сняла с себя платки, он начал все вспоминать. Медвецкая мне рассказала, что он не выходит из комнаты, даже двора не видит. Его научили, что он племянник из Киева и зовут его Александр Бакаленко. Когда входили чужие, он прятался. Когда я уходила, Шурик дал яблоко: ”Для папы”. Он спросил меня, правда ли, что всех детей убили, и назвал своих товарищей по именам. Я горячо поблагодарила Медвецкую и ушла.
Я ходила из лагеря в лагерь, старалась, как могла, облегчить страдания больных. А больных становилось все больше, больных и босых — последняя пара ботинок или туфель сносилась... Утром больные не могли встать. У меня начальство требовало списки больных, я не давала, зная, что это означает верную смерть. Многие понимали, что нам не уйти от смерти. Единственная была надежда, что придет Красная Армия, хотя мы были уверены, что в последнюю минуту нас немцы убьют.
2 февраля поздно вечером меня отозвал в сторону полицейский и сказал: ”Докторша, смотрите, чтобы завтра все, кто держится на ногах, вышли на работу”. Я поняла, что дело серьезное, и предупредила больных, но они не поверили. Муж мой был болен, он остался, остались почти все больные. В 12 часов дня подъехала вереница саней и много полицейских во главе с немцем Майндлом. Подъехал также ”Вилли” из Немирова. Я слышала, как Майндл сказал: ”Больных и босых...”
Я спряталась позади, чтобы меня не заставили указать больных. Началось нечто ужасное: за волосы полуголых людей вытаскивали на снег. Забрали всех, кому было больше 40—45 лет, а также всех, у кого не было одежды или обуви. Во дворе делили на две группы. Те, кто еще может работать, и смертники. Рядом со мной стояла моя подруга, Гринберг из Бухареста, красивая женщина 30 лет, хорошо одетая, но в рваных туфлях. Ее заметили и потащили к смертникам, а вслед и меня, потому что на мне тоже были старые фланелевые туфли. Она говорила: ”Я здорова”, ей отвечали: ”У тебя нет обуви”.
Я подумала о Шурике, и это придало мне силы. Мой муж стоял в группе трудоспособных. В последнюю минуту, когда нас повели к саням, мне удалось перебежать в другую группу и спрятаться. Моя подруга тоже попыталась перебежать, ее заметили и сильно избили. Молодая девушка 18 лет умоляла, чтобы ей разрешили пойти на смерть с матерью, ей разрешили. А когда она уже сидела в санях, она испугалась и захотела вернуться, но ее не пустили. Одна женщина приняла яд и давала дочери, но та отказалась. Один парень пытался убежать, его застрелили. Через час смертников увезли, а остальных погнали в лагерь. В 10 часов вечера, когда вернулись здоровые с работы, они увидели, что нет матери, сестер или отца.
4 февраля 1943 года нас перевели в Заруденцы — там расстреляли две трети лагеря, и освободилось место.
Я приходила сюда 1 февраля проверить больных, и моим глазам представилась страшная картина. Люди, покрытые лохмотьями, босые, с телами, истерзанными чесоткой и столь разнообразными язвами, которых в обычное время никогда и не встретишь, сидели на полу на каких-то тряпках и серьезно, озабоченно били вшей. Они были так заняты своей работой, что даже не обратили внимания на мой приход. И вдруг движение, крики, люди вскакивают, глаза блестят, некоторые плачут. В чем дело? Привезли хлеб... и, о счастье, дают по целой буханке хлеба на каждого человека! Это что-то небывалое, новое, вероятно спасение близко, думают несчастные. Оказалось, что аккуратные немцы, зная, что 5-го будет ”акция” и несколько дней нельзя будет точно знать количество необходимого хлеба, так как сразу будет неизвестно, сколько людей останется, решили выдать авансом по целому хлебу. Об этом расчете мы узнали уже после того, как сами очутились в Заруденцском лагере смерти.
По дороге снова отобрали всех, кто плохо шел, и посадили на сани. Смертников собрали в Чукове — из Немирова, Березовки, Заруденец, Бугакова. Там их продержали двое суток голыми, без еды и без воды, а потом убили.
На работе мастер Дер рассказывал нам, что он присутствовал при казни (он назвал ее ”die Action”) и что это вовсе не так страшно, как мы думаем. Потом мы узнали, что мастера Дер и Майндл, хотя и числились служащими фирмы, где мы работали, были эсэсовцами.
...Суровый, зимний рассвет, еще темно, а нас уже нагайками выгоняют на работу. Наспех несчастные завязывают мешочки с соломой вокруг порванных ботинок, чтобы не отморозить ноги. Одевают старые одеяла на голову, обвязывают веревками и становятся в ряды. Нас несколько раз тщательно пересчитывают и выгоняют на дорогу. Тяжело поднимаются измученные, израненные ноги; намокшие тряпки с соломой мы еле вытягиваем из глубокого снега, а снег все сыплет и сыплет без конца. Нас гонят около 5 километров. Дойдя до места работы, мы облегченно вздыхаем, берем лопаты и начинаем чистить снег. Вдруг волнение: ”Черный” едет!” (Майндл). В глазах у всех дикий страх, неистово движутся лопаты, каждый старается сделаться меньше, незаметнее, чтобы не обратить на себя внимание. ”Оставляйте работу, — кричит он, — вы должны пройти 8 километров отсюда с лопатами и там очистить дорогу”.
Белая безбрежная степь, глубокий снег, вьюга, кружат хлопья снега так, что почти ничего не видать. На санях сидит черный высокий немец и с пеной у рта, с длинным кнутом в руке, гонит 200 несчастных человеческих теней. Ноги становятся все тяжелее, сердце готово выскочить из груди, кажется, мы не выдержим этого дикого марша. Но инстинкт жизни силен, мы боремся и приходим к назначенному месту. Сани останавливаются, и злобный насмешливый взор, полный наслаждения, останавливается на измученных людях.
Я ходила с другими на работу: счищали снег.
7 февраля ко мне подошла незнакомая женщина и сказала:
”Я сестра Поли Медвецкой. Заберите Шуру, на нее донесли, и она его спрятала у дальней родственницы”.
Она сказала, что в Немирове прятали несколько еврейских детей, но их нашли и 5 февраля всех убили. Остался только Шура.
Что мне делать? Когда я еще работала докторшей в лагерях, я иногда заходила к крестьянам и лечила их. Делала я это с большой опасностью, так как Майндл сказал: ”Если узнаю, что ты зашла в украинский дом, я тебя застрелю на месте”.
Но в этих деревнях не было врача, и я не могла отказать, когда меня просили зайти к больному. Рядом с нашим лагерем жила семья Кирилла Баранчука. Я часто туда заходила, потому что у них был болен отец. Баранчук мне однажды сказал, что таких людей, как мы, он бы у себя на груди спрятал и перенес бы через Буг.
О нем я и вспомнила. Я попросила сестру Поли Медвецкой пойти к Баранчуку и сказать, что я его на коленях прошу поехать в Немиров, взять к себе на несколько дней мальчика, а там что-нибудь надумаем.
Дорогой дядя Кирилл спас Шурика, привез его из Немирова, завернув в свою шубу. Там жена его и дети — Настя и Нина — окружили мальчика любовью. Они приходили на шоссе и рассказывали, что мальчик жив и молится за нас.
Мы решили убежать — надо было спасти Шурика.
26 февраля в 2 часа ночи муж сказал: ”Поднимайся”. Мы выждали, когда полицейский зашел греться, и перелезли через проволоку. Мы пошли к Кириллу Баранчуку. Они нас хорошо приняли, а ведь это грозило им смертью. Мы пробыли там 4 дня, пришли в себя, и 2 марта Кирилл Баранчук вместе со своим дядей Онисием Змерзлым отвезли нас в Перепелицы, к Бугу. Село было полно немецких пограничников, никто не хотел нас впустить. Мы знали, что терять нам нечего, и в 3 часа ночи мы пошли наугад через Буг. Муж с ребенком на руках шел впереди. Была темная ночь. Лед начал таять, я попала по колено в воду и вывихнула ногу, но не вскрикнула. Шурик заметил это, но и он молчал. Наконец, мы на том берегу.
Крестьяне нас впустили в хату, мы отогрелись, отдохнули, потом нам дали крестьянскую одежду. Мы пошли пешком к Могилеву-Подольскому, выдавая себя за киевских беженцев. 10 марта мы пришли в Могилев и там попали в гетто. Было еще много издеватепьств и мучений, но мы дождались того дня, когда пришла Красная Армия. Мы можем свободно жить... Но на всю жизнь останутся страшные раны: от рук немцев погибли мои дорогие родители, два молодых брата, старший с женой и двумя детьми, младший — талантливый музыкант. Погибли мать и сестра мужа. Сердце мое как камень — мне кажется, если бы его резали, так и кровь не текла бы.
ИСТРЕБЛЕНИЕ ЕВРЕЕВ ВО ЛЬВОВЕ. Сообщение И. Герц и Нафтали Нахта. Подготовили к печати Р. Фраерман и Р. Ковнатор.
Немцы вошли во Львов утром 1 июля 1941 года.
Немцы маршируют, поют и сеют ужас. Никто не выходит из дома.
На каждом углу — немецкий патруль. Гитлеровец показывает собравшейся вокруг него толпе городских подонков, как будут вешать. Он кричит беспрерывно: ”Юден капут”.
Началась облава на евреев. Местные фашисты в сопровождении эсэсовцев стали вытаскивать евреев из квартир и отводить их во львовские тюрьмы и казармы.
У входа на сборный пункт срывали одежду, забирали ценные вещи и деньги. Фашисты избивали людей до крови, издевались над ними. Их заставляли лизать языком пол, куриным пером чистить окна.
Евреев строили в ряд и заставляли бить друг друга. Когда эсэсовцам казалось, что удары слишком слабы, они вытаскивали намеченную жертву из рядов и показывали, как надо бить насмерть. Остальных, при смехе палачей, заставляли бить друг друга по щекам. Потом их расстреливали.
При первой акции, названной ”кровавым вторником”, было убито 5000 евреев.
Не успели еще несчастные люди опомниться от нее, а уже в четверг, 5 июля, стали забирать мужчин и женщин, якобы, на работу.
Их собирали на площади, рядом с Пельчинской улицей, откуда после двухдневных пыток всех повели на расстрел. Некоторым мужчинам удалось бежать. Из квартир эсэсовцы забирали все, что им нравилось, и грузили вещи на машины. Первые погромы и грабежи производили регулярные войска. За ними появились гестаповцы и аппарат немецкой администрации.
Генерал-лейтенант Фридерик Кацман, главный палач евреев Западной Украины, издал 15 июля 1941 года приказ, в котором говорилось:
1. Все евреи с двенадцатилетнего возраста должны носить белую повязку с вышитой на ней шестиконечной звездой. Появление на улице без повязки карается смертью.
2. Евреи под угрозой смертной казни не имеют права менять местожительство без разрешения немецкого отдела по еврейским делам.
Фридерик Кацман был начальником отдела по еврейским делам по всей Западной Украине. Он назначил своих заместителей: в Тарнополе — Лекса и Крюгера в Станиславе. В каждом городе и местечке он имел своих подчиненных, которые организовывали концентрационные лагеря и систематически истребляли евреев.
Во Львове, на Пельчинской улице, помещалось гестапо с майором Энгельсом во главе.
Палачи стремились к тому, чтобы разобщить еврейские массы, разделить их на группы, убить даже самую мысль о возможности организованного сопротивления. Они создавали видимость безопасности для тех, кого хотели использовать, отвлекая тем самым их внимание от истинного положения дел.
Среди евреев было много слесарей, механиков, искусных мастеров, которые были необходимы для нужд немецкой промышленности. Немцы пользовались их трудом на военных предприятиях и заводах. Среди евреев было, наконец, много здоровых и рослых людей, которых немцы заставляли работать в концлагерях на черных работах.
В первую очередь они убивали стариков, детей, женщин и людей больных, непригодных к труду. Их уничтожали во время погромов, бросали в тюрьмы, вывозили в ”леса смерти”.
Еврейский рабочий был очень выгодным: в преобладающих случаях он не только не получал платы за свой труд, но еще доплачивал, чтобы получить ”Арбейтскарте”*, и тем хоть ненадолго отдалить смерть или избавиться от лагеря, где его тоже поджидала смерть.
Если во время облавы еврей не мог показать эсэсовцам удостоверение о работе, то его убивали.
С декабря 1941 года каждый работающий еврей должен был носить повязку с вышитой на ней буквой ”А” (Арбейтсюде) и номером удостоверения с работы. Кто не имел повязки, выданной Арбейтсамтом, того тоже убивали во время ликвидационных облав.
Неработающие подделывали удостоверения о работе и вышивали повязки наподобие тех, которые выдавались Арбейтсамтом.
Находились, однако, шпионы, которые доносили об этом чиновникам Арбейтсамта. Тогда были аннулированы прежние удостоверения и вместо них выданы ”Мельдекарте”. Таким путем немцы добились точного контроля над всеми ”Арбейтсюден” и ”Нихтсарбейтсюден”.
Еврей-рабочий не получал платы за труд. Сто граммов хлеба в день, какие полагались ему, он тоже не получал, так как начальник продавал их по дорогой цене.
* * *
С ноября 1942 года евреи, работавшие в немецких фирмах, должны были носить, кроме повязки, еще белую заплату с вышитой на ней буквой ”W” (Вермахт) или ”R” (Ристунг), которая означала, что данный еврей работает непосредственно для военной промышленности.
Территорию гетто немцы отгородили высоким забором.
Двенадцатого ноября у ворот появилось множество вооруженных гестаповцев. Они задерживали каждого выходящего на работу. У кого не было заплаты с буквой ”R” или ”W” — тот шел на казнь. В результате двухдневного контроля у ворот в ноябре погибло 12000 человек.
В декабре гетто закрыли. У ворот были построены две сторожевые будки, в которых стояли охранники — гестаповцы. Выйти из гетто можно было только по утрам, группами. Уже в конце декабря 1941 года немцы стали переводить рабочих на казарменное положение. Каждому предприятию выделили бараки. Таким образом отделили работающих от неработающих. Первым отвели дома на ул. Замарстыновской, Локетка, Кушевича и Кресовой, а вторым — в Кленарове.
Те, кому не удалось поступить на работу, понимали, что Кленаров будет скоро ликвидирован.
Правда, немцы через свою агентуру распространяли провокационные слухи об организации гетто для ”Нихтсарбейтсюден” (для неработающих), и это несколько успокаивало несчастных, измученных людей, вселяло в их сердца слабую надежду.
Но всякие надежды рассеялись после трагических событий в Кленарове.
В ночь с 4 на 5 января на улицах гетто началась стрельба. Это было сигналом к новой ”акции”. Евреи стали прятаться, бежали к родственникам в казармы.
Утром 5 января началась ”январская резня”. Работающих угнали на работу, а на остальных начали охотиться.
В ноябрьскую ”ликвидационную кампанию” евреев вывозили в Белжец и там убивали. Но многие евреи выламывали доски в вагонах и бежали; немцы так и не поймали их. Чтобы избежать повторения этого, немцы стали проводить ”январскую кампанию” несколько иначе. Они убивали, жгли и вывозили евреев на Пяскову Гору. Дома, в которых после тщательного обыска никого не находили, немцы сжигали. И люди, укрывшиеся в тайных убежищах, в подвалах, на чердаках, в печах, погибали в огне.
Разнузданные представители ”высшей расы” не пропускали во время этой кампании ни одной женщины. Они насиловали или убивали их, или бросали в горящие дома.
Весь Кленаров был опустошен, остались лишь улицы, на которых были казармы.
Теперь, на нескольких уличках, оставалось в живых около 20 тысяч евреев, которым предстояло перед смертью испытать еще самые разнообразные мучения.
Около сторожевых будок стояли шуповцы и начальники гетто. Они проверяли, не подделаны ли заплаты ”R” и ”W”. Это легко можно было определить.
Многие сами вышили себе эти буквы, чтобы иметь возможность вместе с группой работающих выбираться ежедневно из гетто в ”арийский район”. Оставаясь в гетто, они подвергались смертельной опасности, так как немцы ежедневно обыскивали казармы и всякого пойманного отправляли в тюрьму. Буквы, выданные немецкими предприятиями, были вышиты на машине специальным стежком, и с совершенной точностью подделать их никто не мог. Специалистом по вылавливанию людей с фальшивыми буквами был шарфюрер Зиллер, который в награду за умелую поимку евреев был переведен в Яновский лагерь.
...Вот тюрьма для евреев. Низкие, темные камеры без нар и лавок. Сырость, запах гнили; маленькие, зарешеченные окна, сквозь которые не прорваться свету.
Тюрьма находилась на улице Лоницкого. Она окружена со всех сторон эсэсовцами и сворой немецких солдат, которые сдирают с каждого вновь прибывшего обувь и одежду. Вахмистры бьют, когда им вздумается.
В камере разговаривать друг с другом не разрешается. Арестованным пища не полагалась. Зачем кормить? Немцы расчетливы и скупы. Больных в тюрьме убивали и по ночам вывозили на кладбище.
Сам господин Энгельс часто навещал тюрьму. Для того, чтобы развлекать этого бандита, евреев выводили во двор. Он издевался над ними, избивал до крови. Он любил поиграть с жертвой, — пообещает жизнь и свободу, а заметив на лице арестованного искру надежды, смеясь убивал пулей из револьвера.
Когда тюрьма переполнялась, немцы производили ”чистку” или ”вывозку”. Арестованных грузили в машины и партиями вывозили на Пяскову Гору, где их расстреливали.
Впрочем, тюрьма всегда была полна. Один вышел на улицу без повязки — в тюрьму! У другого повязка оказалась слишком узкой, или кто-нибудь не поклонился немцу — тоже в тюрьму! Забирали в тюрьму без всякого повода. Ворвутся эсэсовцы в квартиру и арестуют кого-либо из семьи. — ”За что?” — спрашивает жертва. — ”Не знаешь? Потому что ты еврей. Все равно — раньше или позже — ты должен погибнуть”.
Начальник Энгельс не прибегал к массовым погромам. Он устраивал в тюрьме ”чистки”. Он убил таким образом много тысяч стариков, детей, мужчин и женщин.
Осенью 1941 года вошло в жизнь распоряжение губернатора Франка о принудительной работе евреев в концлагерях на территории Западной Украины. Уже в начале 1942 года Львовский, Тарнопольский и Станиславский округи были покрыты сетью концлагерей.
Самым страшным был лагерь во Львове по Яновской улице, называемый сокращенно ”Яновский”. Туда согнали несколько тысяч евреев со всей Западной Украины, которые должны были выровнять гористую местность, чтобы подготовить территорию, предназначенную для нового лагеря. В лагере голодные люди, изнуренные побоями, работали до изнеможения. Они спали под открытым небом, на земле, пока не выровняли почву и не построили бараки.
Работы продолжались всю осень и всю зиму. Люди гибли от голода и холода. На место погибших сгоняли новые толпы еврейских рабочих.
По утрам, до начала работ, происходили проверки, так называемые ”апель”. Собирались все рабочие группы со старостами группы — ”оберюде”. ”Оберюде” докладывали дежурному эсэсовцу о наличии людей в своей группе. После доклада начиналась ”утренняя гимнастика”, которую проводили эсэсовцы. После прыжков разного рода и повторяемых нескончаемое количество раз приказом ”ауф”, ”нидер” вылавливали больных и слабых.
Этих отводили в сторону и выводили потом за проволоку, где их расстреливали очередью из автоматов; мертвых укладывали в ряды. Живые походным маршем отправлялись на работу. В дороге на походе вылавливали еще тех, кто хромал. Их тоже убивали. К работе допускались только сильные и здоровые.
После того, как территория лагеря была подготовлена, ее вымостили надгробными памятниками, взятыми с еврейского кладбища.
Даже мертвых евреев немцы не оставляли в покое. Во многих городах и местечках Западной Украины надгробные памятники употребляли для мощения дорог. Когда закончились работы по выравниванию территории, лагерь оцепили колючей проволокой. Охрану несла фашистская полиция.
Из главного входа один путь вел в лагерь, где были расположены бараки и кухня, а другой — на ”площадь смерти”, откуда людей уводили в горы на расстрел. Вокруг лагеря были построены будки для стражников — одноэтажные и двухэтажные: с высоты стражники могли наблюдать за лагерем, так что бегство было почти невозможно.
Вид лагеря очень мрачный: будки стражников, печальные бараки, молча бредущие люди и невыносимо приторный трупный запах.
Вокруг пустынного обширного двора, служившего местом утренних перекличек, расположено было около двадцати бараков для лагерников. В каждом бараке — пятиэтажные нары, на которых валялось небольшое количество грязной соломы. За бараками находилась кухня, где два раза в день варили жидкую бурду, а по утрам выдавали два ломтика черствого эрзац-хлеба.
”Новички” спали на голой земле.
В лагере действовали сливки эсэсовских бандитов — заслуженные ученики мастеров из Дахау и Маутхаузена. Яновский лагерь — это немецкий Оксфорд, профессорами которого были аристократы гитлеровской Германии.
Быстро окончив ”университет”, вчерашние ученики начальника лагеря Гебауэра разъезжались в разные стороны Западной Украины и начинали ”самостоятельную” деятельность.
Во Львов привозили также неопытных эсэсовцев, где их обучали искусству убивать и пытать свои жертвы и разным другим жестокостям. Когда начальство приходило к заключению, что молодые эсэсовцы уже достаточно подготовлены, их отправляли на кровавую работу в провинциальные лагеря.
И, наоборот, если кто-либо в провинции приобретал славу утонченного палача и знатока своего ”дела”, его переводили в Яновский концлагерь. Здесь его с почтением встречали менее талантливые коллеги. Обычно эти палачи соревновались друг с другом, совершенствуя средства и способы пыток.
Ученики Гиммлера, под непосредственным руководством Кацмана, устраивали сверх обычной программы особый род пыток, к которым можно было отнести ”бега” и ”доски”. Чаще всего это проводилось в воскресенье.
”Бега” состояли в том, что надо было бежать 300—400 метров беспрерывно, с обеих сторон около бегущих стояли эсэсовцы и нарочно подставляли им ноги. Если кто-нибудь спотыкался, его выводили ”за проволоку” и убивали. А таких было много, потому что лагерники еле таскали опухшие от голода, истерзанные ноги.
Пытка под названием ”доски” заключалась в следующем. Замученные тяжким ежедневным трудом, евреи должны были по воскресеньям переносить с места на место бревна, заготовленные для строительства бараков. Каждый должен был бегом перетаскать по 150 килограммов на своих плечах. Кто не выдерживал тяжести и падал, того настигала пуля эсэсовца.
Страшны были пьяные оргии, устраиваемые немцами. Они врывались в первый попавшийся барак, вытаскивали его обитателей и истязали их. В дни оргий эсэсовцы не расстреливали. Они прокалывали лагерникам головы пиками или разбивали молотами, душили или распинали на крестах, вбивая гвозди в живое тело.
Каждый эсэсовец имел свою страсть. Гебауэр душил жертву в бочке или между двумя досками, другой вешал за ноги, третий стрелял несчастному в затылок. 23-летний эсэсовец Шейнбах измышлял новые способы мученической смерти. Однажды в воскресенье, он привязал человека к столбу и бил его резиновой дубинкой. Когда тот терял сознание от ударов и опускал голову, Шейнбах приводил его в чувство: он подавал ему воду и еду, чтобы через минуту снова пытать свою жертву. Все заключенные принуждены были глядеть на своего товарища — их специально для этого согнали в круг. Вина несчастного заключалась в том, что он оправлялся за бараком. Он нарушил порядок в лагере. Это заметил стражник. В воскресенье его судили. Его привязали к столбу — он мучился весь день. Кровь брызгала у него изо рта и носа. К вечеру Шейнбах устал. Он приказал всем разойтись, а около умирающего поставил караул. Утром глазам представилась страшная картина: окровавленный столб с клочьями человеческого тела.
Когда управление лагерем перешло к шарфюреру Вильхаузу, убийства приняли массовый характер.
Время от времени заключенных проверяли. Больных и истощенных расстреливали из автоматов.
Заключенные в лагерях не носили белой повязки. Им давался номер на спину и на грудь и желтая заплата. Тела их были прикрыты лохмотьями.
Евреи из гетто различными путями искали спасения. Скрывались у знакомых поляков и украинцев, убегали под вымышленными фамилиями, пробирались на соединение с партизанами.
Заключенный в лагере жил за колючей проволокой. Он не мог вырваться оттуда и был настолько психически подавлен, что ему трудно было думать о сопротивлении.
Все же, благодаря жертвенной, героической работе еврейских поэтов Сани Фридмана и А. Лауна на территории лагеря были созданы партизанские группы. Удалось даже добыть оружие. К несчастью, немцы напали на след организации и расстреляли в одном бараке всех заключенных. С тех пор немцы показывались в лагере реже и всегда вооруженные.
Когда адвоката Манделя вели на смерть, он в последнюю минуту крикнул: ”Да здравствует Советский Союз! Да здравствует свобода!” Возглас этот широко распространился по всему лагерю оказал большое влияние. Люди точно очнулись от тяжелого сна, даже те, кого убийцы считали своими покорными жертвами, поняли, что пассивность — только на руку немцам.
Среди лагерников началась вербовка молодежи для борьбы против немцев. Один молодой львовский мясник бросился на гестаповца и задушил его. В лагере на Чвартакове молодой поляк застрелил начальника лагеря. Такие случаи происходили все чаще.
Евреев, предназначенных к ”ликвидации”, приводили на сборный пункт Яновского лагеря. У входа немец с карандашом в руках педантически считал и записывал свои жертвы. Молодых мужчин оставляли в лагере, остальных вывозили на железнодорожную станцию, где грузили в пригородные вагоны. Все понимали, что это значит. В лагере разыгрывались трагические сцены. Люди плакали. Потерявшие рассудок танцевали, громко смеясь. Непрерывно рыдали голодные дети.
Один из главных палачей Яновского лагеря ”музыкант Рокита” вышел однажды на балкон своей квартиры, помещавшейся при лагере. Ему помешали поспать после обеда. Он спокойно и долго стрелял из автомата в толпу.
Августовское солнце немилосердно жгло. Люди задыхались от жажды. Умоляли дать им воды, но палачи, несущие охрану, оставались жестоки и неумолимы. Поезда отходили ночью. У людей отнимали всю одежду. Многие в пути выламывали доски вагона и выскакивали из поезда. Голые, они бежали по полям. Немецкая охрана, находившаяся обычно в последнем вагоне, стреляла в них залпами.
Железнодорожное полотно от Львова, через Бруховицы — Жулкень, до Равы Русской покрыто было трупами евреев.
Через Раву Русскую проезжали все новые поезда с евреями — брюссельскими, парижскими, амстердамскими.
А к ним присоединялись транспорты из Тарнополя, Коломыи, Самбора, Бржезян и других городов Западной Украины.
В 15 километрах от Равы Русской и Белжеца евреев, которых везли под видом ”переселенцев”, выводили из вагонов; Белжец — страшное место истребления евреев; немцы окружали его глубокой тайной.
Но железнодорожники, которые водили поезда с обреченными жертвами, рассказывали своим близким правду о том, как истреблялись евреи в Белжеце.
Евреев вводили в огромный зал, вмещавший до тысячи человек. В стенах зала немцы провели электрические провода. Они были без изоляции. Такие же провода были проведены и в полу. Как только зал наполнялся голыми людьми, немцы пускали по проводам сильный электрический ток.
Это был гигантский электрический стул, какого, казалось, не могла придумать никакая преступная фантазия.
В другом месте, в том же Белжецком лагере, находилась огромная мыловаренная фабрика. Немцы отбирали более полных людей, убивали их и варили из них мыло.
”Еврейское мыло” — так было написано на этикетках этого мыла, которое Артур Израилевич Розенштраух — банковский служащий из Львова, один из свидетелей, со слов которого мы это рассказываем, держал в своих руках.
Молодчики из гестапо не отрицали существования подобного ”производства”. Когда они хотели припугнуть еврея, то так и говорили ему: ”Из тебя сделают мыло”.
В начале февраля 1943 года управление гетто перешло к эсэсовцу Гржимеку — фольксдойче из Познани. Высокий, откормленный, всегда с автоматом, он был страшен.
Гржимек любил чистоту. По его приказу появились надписи на заборе гетто: ”Работа! Чистота! Дисциплина! Должен быть порядок!״
По гетто он разъезжал на лошади, окруженный своей свитой. Во время проверки он выбивал стекла в домах, стрелял в людей.
При Гржимеке выход на работу стал каким-то адским мучением.
Иногда он заставлял проходить через ворота с заплатами ”W” и ”R” в руках, чтобы он мог проверить их подлинность, в другой раз надо было держать над головой удостоверения о работе. Все обязаны были снимать шапки перед своим господином.
Гржимек издал приказ — всем постричь волосы. У ворот стоял парикмахер, выстригавший у каждого проходившего волосы посередине головы.
При выходе на работу, у ворот гетто оркестр играл военные марши. Под эту музыку надо было стройно маршировать. Кому это не удавалось, тот становился жертвой резиновой дубинки Гржимека.
В гетто в каждом флигеле были сторож и уборщица. Улицы были чисто выметены, дома выбелены, за этим следил сам Гржимек. Но в этих выбеленных домах в страшной тесноте валялись распухшие от голода, обреченные на смерть, полуживые люди.
В гетто вспыхнул тиф. Почти все население его перенесло эту болезнь. В гетто была больница. Но все знали, что это — место смерти. Многие умерли, а оставшиеся в живых стали калеками. Больных не лечили, а время от времени выводили на Пяскову Гору на расстрел.
Близкие люди прятали больного в убежище, где он находился в холоде, нередко без пищи.
Предприятие вычеркивало больного из списка работающих и передавало его фамилию в гестапо. Специальная комиссия, состоявшая из эсэсовцев, обыскивала квартиры, чтобы разыскать больного. Разыскиванием больных прославился тяжелый, как медведь, эсэсовец Хейниш. Это была его специальность. Потерявших сознание он пристреливал на месте, выздоравливающих отправлял в тюрьму.
* * *
Честные поляки и украинцы глубоко возмущались этим невиданным преступлением — поголовным истреблением ни в чем не повинных людей. Необходимо было каким-нибудь образом успокоить местное население. Этим занималась пресса: немецкая газета ”Лембергер дойтше цайтунг”, ”Газета львовска” и ”Львовские висти”.
Ежедневно в этих бульварных листках появлялись юдофобские заметки и статьи о том, что ”немецкий гений демонстрирует свою непримиримость к низшей расе” (евреям) и что ”немецкой рукой историческая справедливость карает проклятых жидов”.
Такие ругательства имели одну цель: возбудить ненависть поляков и украинцев к еврейскому населению. Кацман опубликовал извещение, в котором говорилось, что за укрывание евреев грозит смертная казнь.
Немецкие газеты повели ”разъяснительную кампанию”. Они писали, что ликвидация евреев проводится немцами в интересах арийских народов. ”Евреи давно готовятся к господству над миром”. Чтобы аргументировать эту глупую мысль, подтасовали цитаты из Библии и Талмуда. Немцы писали, что евреев ”ликвидируют” в ответ на погромы, которые они устраивали против немецкого населения в Быдгоще, Познани и других городах. Но на эту глупую провокацию никто не поддавался.
* * *
В условиях жесточайшего террора и чудовищных насилий еврейское население пыталось всеми доступными средствами спасаться от гибели. Многие уходили из Львова и под чужой фамилией проживали в Варшаве, Кракове, Ченстохове и других городах Западной Польши. Другие стали выдавать себя за арийцев и переселялись в ”арийский район” Львова, где жили и работали под видом поляков и украинцев. Об этом вскоре узнало гестапо, немцы решили покончить с ”фальшивыми арийцами”. С этой целью они наводнили Львов тайными агентами, которые очень охотно выполняли доверенную им миссию. Их вертелось великое множество на улицах, на почте, на железнодорожных станциях.
Они хищно вглядывались в каждого человека, подозреваемого в еврейском происхождении. Свою жертву они отводили в ”Крипе” (Криминальполицай), где чиновники быстро выясняли, еврей ли данное лицо, а женщин мучили до тех пор, пока они сами не признавались в том, что они еврейки. Немцы щедро награждали агентов, вылавливавших ”фальшивых арийцев”. Но случалось, что и евреи награждали агентов пулями. К молодому еврею, у которого были фальшивые ”арийские” документы, подошел на площади Стрелецкого тайный агент, требуя показать документы. Очевидно, он узнал в нем еврея. Тот, долго не раздумывая, вынул вместо документов револьвер, убил агента и бежал. Во Львове нашумела история Лины Гауе, ученицы еврейской гимназии. Лина проживала на улице Яховецкой как полька. Она изменила фамилию и работала в немецкой фирме. Один тайный агент заподозрил ее. Он пошел к ней на дом, чтобы проверить ее документы.
Его нашли мертвым, с полотенцем на шее. Немцы расклеили объявление об убийстве, совершенном еврейкой, приложили ее фотографию и обещали большую сумму тому, кто ее поймает. Но все было напрасно — Лина Гаус исчезла.
Случалось, евреи, знавшие хорошо французский язык, переодевались в форму военнопленных-французов и жили вместе с ними в концлагерях.
Немало евреев пряталось у поляков и украинцев. Как ни старались немцы растлить души людей смертным страхом, казнями, предательством и алчностью, находились смелые, честные люди, способные на подвиг. Польская интеллигенция спасла многих еврейских детей от смерти. По известным причинам они, однако, могли взять к себе, главным образом, девочек.
Многие польские священники брали еврейских девочек, прятали их в костелы и так спасали от смерти. Не один из этих благородных людей заплатил собственной жизнью за спасение еврейских детей...
В январе 1943 г., после поражения немцев под Сталинградом, в Львовском гетто организовался комитет для вооруженной борьбы с немцами. В комитет этот, среди других, вошел еврейский поэт Шудрих от имени гетто и поэт Саня Фридман — от лагеря.
Организация связалась с польским комитетом и начала издавать подпольную газету, распространявшуюся из рук в руки. На собранные комитетом средства были куплены револьверы; некоторым, работавшим в немецких военных организациях, удалось выкрасть оружие. Вскоре началось втайне военное обучение. Делегаты комитета пробрались в Броды, чтобы связаться с волынскими партизанами. Среди них была и женщина — врач Лина Гольдберг, которая с энтузиазмом приступила к организации партизанского движения во Львове. Приток оружия в гетто не прерывался. Люди, возвращаясь с работы, приносили его вместе с продуктами. Однажды, во время обыска у ворот, эсэсовцы нашли у одного юноши оружие. Его расстреляли на месте. С этого дня начались частые обыски в казармах. На улице Локетка был обнаружен склад оружия. Немцы искали организаторов, но найти их не смогли.
Группами и в одиночку люди стали убегать из гетто. Комитет
Комитет изыскивал всякие способы, чтобы перебросить людей в Броды и сделать его центром вооруженного сопротивления.
За большие деньги, с величайшей предосторожностью, были наняты три машины.
Первые три транспорта бойцов гетто удалось благополучно отправить. Они стали успешно действовать в среде партизан. Среди этой группы много молодежи, хорошо знавшей все места, дороги, тропинки края.
Партизаны с успехом нападали на немецкие усадьбы и добывали продовольствие. Они устраивали засады и отнимали у немецких солдат оружие.
Они не были одиноки в своей борьбе. Волынские партизаны прислали своих представителей и снабдили их взрывчаткой — толом и динамитом — для диверсионных действий.
Бродские партизаны уничтожали немцев на каждом шагу.
Они напали однажды на немецкий пост около Бродов, на самой границе между генеральным губернаторством и ”остгебитом”.
Часовой был убит, захвачены автоматы и гранаты. Партизаны стали грозой для немцев во всем районе.
[Немецкие жандармы делали все возможное, чтобы обнаружить месторасположение отряда. Но штаб партизан они не смогли захватить, так как он все время переходил с места на место.
Когда комитет получил информацию о том, что приближается время уничтожения гетто, евреи решили укрыться в лесах и продолжать борьбу. С группой из семнадцати человек в лес должен был уйти Шудрих. Уход был назначен на 8 часов утра 8 мая 1943 года. Но на следующий день машина, которая транспортировала партизан на ул. Зыблишкевич, была окружена отрядом эсэсовцев. Партизаны поняли, что они попали в ловушку, и решили дорого продать свою жизнь. Началась перестрелка, во время которой несколько немцев было ранено. Подоспевший на помощь отряд эсэсовцев разоружил партизан. Погибли все до одного. Утром 9 мая лес около Бродов прочесывался батальоном немецкой пехоты.
Борьба партизан с втрое превосходящими немецкими силами продолжалась три дня. Немногим партизанам удалось выйти из окружения и пробраться в леса Люблинской области, чтобы там продолжить борьбу. Другие же погибли геройской смертью храбрых с оружием в руках. Ни один не сдался немцам живым.
* * *
Чувствуя, что приближается конец, немцы стали спешить с уничтожением евреев.
Гетто исчезали одно за другим: Перемышль][22], Самбор, Рудки, Бржезяны, Тарнополь, Яворов, Жолкев, Пржемысляны, Ярычув.
Во Львове перед ликвидацией гетто вдруг наступило некое затишье.
У ворот нет стражи. Немцы устраивают в гетто футбольные матчи, концерты. Гржимек редко показывается на улицах. Он не стреляет и не бьет. Эсэсовцы не нападают на еврейские квартиры. Однако все понимают, что это — затишье перед бурей. 25 апреля немцы вывезли на Пяскову Гору на казнь последние 4 тысячи заключенных Яновского лагеря.
1 июля, в 3 часа ночи, эсэсовцы вошли в гетто, чтобы закончить свою кровавую работу, начатую в 1941 году. Это была окончательная ликвидация. Забирали всех, даже работающих на немецких предприятиях. Удостоверения с печатью СС, заплаты ”W” и R” были аннулированы.
”Кампанией” по ликвидации руководили Кацман, Энгельс, Ленард, Вильхаус, Ингуарт и Шейнбах. Отряды СС и фашистской полиции весь день обыскивали дома, бросали гранаты в погреба, где скрывались люди. На третий день в гетто въехали пожарные машины. Евреев начали заживо сжигать. Были сожжены улицы Локетка, Кресова, Шарановича. Спрятавшиеся в убежищах люди задыхались от дыма и выскакивали в последнюю минуту. Гестаповцы не стреляли, они старались поймать жертву живьем и бросить в огонь.
Первые дни кое-кто пытался сопротивляться. Те, у кого было оружие, начали беспорядочную стрельбу. Были убиты два полицейских и ранено несколько эсэсовцев. Это привело палачей в еще большую ярость. Они убивали женщин и детей, сбрасывая их с балконов домов, мужчинам отрубали топорами головы. Улицы гетто были полны трупов.
Небо над гетто было черным от дыма пожаров, и к нему долго и безответно возносился страшный крик убиваемых детей.
* * *
Мы рассказали правду. Это преступление фашистов не может быть скрыто от человечества, хотя убийцы и старались всеми силами не оставлять свидетелей в живых.
Свидетели остались. Это Нафтали Нахт — юноша из Львова, бежавший к украинским советским партизанам. Это Леопольд Шор — тоже беглец из Львова. Это Лихтер Урих, спасшийся от палачей у партизан в Зологовских лесах. Это Артур Штраух — банковский служащий из Львова. Это Лиля Герц, тринадцать дней просидевшая в замурованном убежище в гетто.
Это преступление не может быть забыто и прощено человечеством.
ТРИНАДЦАТЬ ДНЕЙ В УБЕЖИЩЕ (Рассказ Лили Герц). Сообщение Лили Герц. Подготовили к печати Р. Фраерман и Р. Ковнатор.
Мы сидим в убежище. На улицах гетто идут убийства, слышны выстрелы немцев и крики убиваемых ими людей.
Убежище на чердаке. Оно состоит из двух частей, разделенных кирпичной перегородкой. Вход хорошо замаскирован.
Нас сорок человек. Душно. Воды мало.
Ночью немцы отдыхают, поэтому тихо до утра.
Около пяти часов начинают доходить звуки, словно кто-то раскачал колокол. Сначала тихие, просящие, одинокие звуки, а потом страшный крик, уносящийся куда-то вверх и заглушающий выстрелы. Это кричат те, кого убивают.
В убежище никто не шевельнется. Крохотный ребенок Розенбергов тихо стонет. Наконец, он расплакался, и мы все во власти маленького крикуна. Он может выдать нас. Мы отдаем матери сахар, у кого-то оказалась бутылка с молоком, лишь бы младенец успокоился.
* * *
Ночью, когда все утихло, мы вышли из убежища. Двери в квартирах открыты. Мы ложимся на разбросанную постель, чтобы поспать несколько часов после мучительной ночи.
Но скоро снова слышны выстрелы. Мы быстро уходим в убежище. Там тесно.
Все ближе слышны шаги полицейских. Они искали нас, но найти не могли. Обозленные неудачей, но уверенные, что в доме кто-то есть, они орали: ”Выходите вон! Глупые люди! Мы будем стрелять!”
Ребенок заплакал... Мы замерли. Значит, конец. Они нас найдут. Что делать?
— Мы не выйдем. Пусть стреляют.
— Открывайте! Быстрее! Проклятые жиды!
Кто-то нажал на выходную дверцу. Немцы не входят. Они боятся. Ребенок кричит изо всех сил. Я прощаюсь с мужем.
Немцы взобрались на крышу и разбирают ее, чтобы оттуда стрелять. Вот уже затрещали балки над нашими головами. Все в панике бросаются к выходу.
Я пытаюсь спрятаться. На чердаке никого нет. Влезаю под матрац в углу. Может быть, они уйдут. Но чья-то рука тащит меня за пальто.
* * *
Нас выгнали в маленький коридор. Прислонившись к стене, напротив меня стоит муж, мой дорогой Левка. Он бледен, ничего не говорит. Я подхожу к нему, и мы опять прощаемся.
Нас считают — раз, два... тридцать пять.
Вдруг поднимается суматоха. Кто-то бежит по лестнице. Иська заслоняет меня собой и вталкивает в открытую дверь чужой квартиры.
— Если сможешь, спасайся! — говорит он тихо и исчезает.
Я бегу через кухню в комнату. Все разбросано. Я влезаю под гору наваленных подушек и перин и лежу неподвижно. Ничего не слышу и ничего не чувствую. Тело мое одеревенело, только сердце стучит. Я задыхаюсь. Во рту пересохло. Жду. Знаю, что они заметят исчезновение человека и придут.
Боже, что это? Как близко раздался выстрел. Должно быть, в кухне.
— Даже напиться нельзя, — говорит кто-то по-немецки. Он открывает шкаф. Ищет водку. А потом входит в комнату. Смотрит, оглядывается по сторонам. Я задерживаю дыхание. Только бы поскорее: пусть бы он выстрелил, только бы поскорее. Глотаю слюну. Он оглянулся, в руках какие-то бумажки — это деньги. Нога моя торчит из-под перины, я не успела ее убрать. Он споткнется, и я погибла.
Нет! Он уходит. В самом деле, уходит. Еще минута большого напряжения. Я прислушиваюсь к быстро удаляющимся по лестнице шагам. Наконец, полная тишина. Я вылезаю — однако не время отдыхать. Надо хорошенько спрятаться. Встаю. В этой комнате есть кто-то. Это Броня, сестра Иськи.
— Каким чудом ты оказалась здесь?
— Иська втолкнул меня сюда в последний момент.
У нас нет времени для разговоров. Мы вбегаем обратно на чердак. За кирпичной перегородкой есть еще люди, которых не нашли. Это хозяева дома... Мы стучимся к ним.
— Впустите нас! Скорее, потому что немцы могут опять появиться!
В убежище осталось 16 человек. Женщины, девушки, мужчины и трехлетний мальчик Дзюня. Мы не разговариваем. Июньское солнце немилосердно печет через крышу.
* * *
Наступила желанная ночь. Мы выползаем из убежища, набираем в бутылки воду, чтобы сделать запас на следующий день.
На чердаке засыпаем мертвым сном. Уже солнце светит в щели, а мы все спим.
Нас тревожно будит Люся.
— Вставайте! Скорее в убежище. Приехали какие-то пожарные машины.
Мы опять залезаем в нашу нору. Слышны взрывы, это немцы гранатами выгоняют людей из убежищ. За взрывами слышатся стоны и крики, возгласы немцев: ”Леонард, гляди, я уложил ее одним выстрелом, а она ведь далеко стояла!”
— Э-э-х! — кричит другой немец. — Ну-ка выпорхните, птички! Та-ак! А теперь мы вас поджарим на огне, проклятые жиды!
— Только не бросайте в огонь! Стреляйте! О, боже! — кричит высоким голосом женщина.
Сквозь щели в крыше проникает тонкая струйка дыма, от нее щиплет в горле, пересохшем от жары и страха.
Маленький Дзюня заткнул себе ручонками рот. Он знает, что нельзя разговаривать. С лица его падают крупные капли пота.
— Может, лучше выйти. Не лучше ли погибнуть от пули, чем сгореть заживо, — говорю я.
— Мы не пойдем, — говорит Броня. — Наш дом немцы не подожгут, потому что рядом немецкая больница.
— Они сожгут нас живьем. Откройте! — просит Лида.
— Поджигать! — слышим мы голос немцев на крыше.
— Накачай бензин! — кричит пожарный.
Раздается зловещий звук, и жидкость, выпущенная из кишки, ударяется в крышу. Она просачивается сквозь щели и капает на наши разгоряченные головы. И странно — она освежает.
— Это не бензин, а вода, — объясняем мы друг другу жестами. Они хотели нас запугать. Они думали, что, услышав приказ — ”поджигать”, мы выйдем.
Только бы не нашли нас те, которые стоят на крыше. Но они продолжают лить воду, а шум воды заглушает наше дыхание.
— Вода, стоп! — кричит пожарный.
Очевидно, они охраняют наш дом от пожара, чтобы огонь не перекинулся на больницу.
Голоса удаляются.
Слышно только, как громыхает раскаленная от огня жесть, гудит пламя и кричат перед смертью люди.
Ночью мы выходим из убежища, чтобы сквозь отверстия в крыше поглядеть на пылающую улицу Локетка.
Откуда-то, с конца улицы, доносится голос умирающего мальчика:
— Прошу вас еще одну пулю, я в-а-а-с прошу, ещу одну п-у-у-лю!
* * *
К утру крики сжигаемых людей утихли. Наше убежище превратилось в настоящий ад. Голод и жажда мучают и немилосердно кусают вши. Мы потеем и задыхаемся.
Дзюня все время просит сахара и воды. Он колотит мать и дергает меня за волосы. Мы разговариваем шепотом. Кто-то вполголоса причитает. Шепотом раздаются жалобы и стенания тех, кто оплакивает своих погибших детей.
— Если бы я могла своими руками задушить хоть одного из этих палачей, какой роскошью показалась бы мне смерть. А я сижу здесь беззащитная и жду... — говорит Лида.
Наступает вечер. Я в первый раз спускаюсь вниз. У меня кружится голова. Мы не ели уже несколько дней. Надо найти белье, вши не дают покоя. Я бесшумно крадусь в свою квартиру, чтобы не услышал немецкий патруль.
В темноте нахожу баночку с сахаром и беру ее для Дзюни. На веревке висит что-то белое. Белье! Я жадно хватаю его и снова иду на чердак.
Белье вырывают у меня из рук. Мы сменяем его тут же.
— Господи, неужели человек может так хорошо себя чувствовать! — восклицает при этом одна женщина. — Если бы ты нашла еще еду, вот была бы радость! Ты не боишься, сходи еще раз!
Я снова спускаюсь вниз и вхожу в другую квартиру, падаю на труп убитой женщины. Под руку попало что-то мягкое, холодное. Я поспешно иду, иду назад без хлеба. Есть больше не хочется.
Я стою в коридорчике, ведущем на балкон. Слышны выстрелы. Это гитлеровские стражники стреляют в тех, кто пытается бежать...
* * *
Кто-то подглядел нас ночью, потому что на седьмой день под утро мы услышали рядом с собой немецкую речь.
— Здесь, наверное, есть евреи. Надо тщательно проверить.
— Кто с ним будет шутки шутить! Гранаты! — приказывает немец.
Раздается взрыв, один, другой. Одна граната взрывается на чердаке. От сотрясения поднимается пыль и садится нам на лица.
Мы сохраняем спокойствие. Нас не испугаешь гранатами. Нас уже ничем не испугаешь. Мальчик Дзюня, наш маленький герой, помогает нам. Он успокаивает других.
— Мама, если я буду тихо сидеть, ты мне дашь сахару?
— Все дам.
— Мама, мы всех гестаповцев убьем, когда выйдем отсюда.
— Да, только сиди смирно...
А в это время гетто продолжает гореть. Мы слышим на улице голос человека, которого убивают немцы. Он перед смертью просит у своих убийц воды. Какой странный человек!
С нашим маленьким Дзюней творится что-то невообразимое. Он много говорит и плачет. Снова обыскивают наш дом, обстукивают потолок, пол, стены.
— Расскажи мне сказку! Слышишь! А то я буду кричать, — говорит маленький Дзюня.
— Дорогой, пойми, как только утихнет, я расскажу тебе замечательную сказку.
— А я хочу сейчас. Слышишь? Или я буду кричать!
Над нами вдруг раздается стук. Все замирают от ужаса.
Я начинаю шепотом рассказывать сказку, растягивая каждое слово, лишь бы как можно дольше удержать внимание мальчика.
— Знаешь, Дзюня, — говорю я, — когда мы выйдем из убежища, придет папа, он купит тебе лошадку.
Дзюня отвечает мне, также растягивая слова:
— Все ты врешь, папа не придет, его убили гестаповцы.
— Знаешь, Дзюня, дерни меня за волосы, — говорю я.
Он рвет мои волосы. Но это недолго его развлекает.
Лицо у него горит. Он все время пьет воду. Мы даже обтираем его водой. Но все напрасно. Он вертится, вскрикивает при каждом звуке, доносящемся снаружи.
Мы в полном изнеможении от страха, голода и жажды.
К вечеру к нам в дом входят немцы. Они разговаривают громко, как обычно.
Вдруг Дзюня встает и смотрит по сторонам безумными глазами:
— Теперь, — говорит он, — я буду так громко кричать, что они придут.
Мы зажимаем ему рот. Мать умоляет, целует его и плачет. Ничего не помогает. Он кусает ей руки, колотит ногами в живот.
Как велики были наши страдания, если даже маленький мальчик сошел с ума!
Он умер, и ночью мать выносит тельце бедного Дзюни и закапывает его в погребе.
На тринадцатый день, в воскресенье, в гетто наступила тишина. По улице снует немецкая охрана, выстрелы раздаются редко. Решаем убежать этой ночью.
Ночь благоприятствует нам. Она без звезд, без луны, без огней. Мы прислушиваемся, нет ли поблизости стражников. Но кругом тишина, прерываемая только отдельными выстрелами.
— Мы идем на верную смерть, — говорит Лида.
— Лучше умереть от пули, чем здесь от грязи, голода и страха, — говорит Броня, которая двенадцать дней поддерживала в нас мужество.
Мы разделяемся на две группы. Одна идет вправо, мы — влево. Мне кажется, что я была погребена все эти дни живьем, а теперь вышла на свободу. Напротив — улица Локетка. Чтобы туда добраться, надо сделать несколько шагов. Но мы не в состоянии двигаться. Броня заставляет нас силой. Идем гуськом, держась за стены домов. В некоторых местах еще горят костры, которыми освещают гетто, чтобы отпугивать беглецов.
Львов спит. Окна квартир завешены шторами. Из какого-то дома выходят пьяные мужчины. Они громко поют. Мы втискиваемся в ворота, чтобы они нас не заметили. Они благополучно проходят мимо. Недалеко домик одной моей знакомой польской женщины. Она, наверное, нам поможет. Стучу в окно.
— Кто тут? — спрашивает.
— Это я, Лейля, откройте, прошу вас! — говорю я тихо. Хозяйка принимает нас. Она варит кофе и яйца и подает нам все это на стол.
— Я вас спрячу в сенном сарае, потому что есть приказ — под угрозой смертной казни не впускать евреев в квартиры, — говорит она.
— Нам в сарае будет очень хорошо, лишь бы нас не нашли.
Мы сидим, спрятавшись в сене, и разговариваем шепотом. Около 10 часов вечера я иду к хозяйке. Хочу узнать, нет ли сведений об Иське. Прокрадываюсь к заднему окошку и тихонько стучу в стекло. Отсюда меня не видно, в этом уголке я могу поговорить с хозяйкой.
Во двор въезжают вдруг немцы на мотоциклах.
Очевидно, кто-то донес, — мелькнула у меня мысль...
Я не ошиблась. Один из них подходит прямо к сараю и вытаскивает оттуда Броню.
— Я вас умоляю, пустите меня, мне всего девятнадцать лет. На что вам моя жизнь?
— Молчи ты! Проклятая тварь!
Я вижу это из моего уголка. Броня стоит бледная, выпрямившись.
— А где та, другая? — спрашивают немцы.
— Она ушла еще утром. Я не знаю, где она.
— Мы ее найдем!
Они толкают Броню прикладом, и она идет, шатаясь.
Я спаслась еще раз.
МОЙ ТОВАРИЩ — ПАРТИЗАН ЯКОВ БАРЕР[23]. (Письмо Бориса Хандроса, Львов). Подготовил к печати Илья Эренбург.
Я родился в 1924 году. Когда мне было четырнадцать лет, стал комсомольцем. Писал стихи. В 1941 году кончил десятилетку. Пошел добровольцем на войну. При обороне Киева был ранен в ногу. Меня спрятала струшка, вылечила. Фронт был далеко. Я вернулся в Приднестровье. Вместе с сельской учительницей Тамарой Бурык организовал подпольную группу. Мы пережили тяжелое лето 1943 года. Я снова воевал с немцами, хотя фронт был за тысячи километров.
С Яковом Барером я встретился в начале 1944 года. Это был крепкий, хорошо сложенный юноша. Он прекрасно говорил по-немецки. Он вошел в наш отряд и мужественно сражался. 17 марта
1944 года я был тяжело ранен в грудь — прострелено легкое. Яков меня вынес из-под пуль.
До мая 1943 года Яков жил во Львове. Он был меховщиком. С 1939 года он смог учиться; готовился поступить в университет. Но тогда пришли немцы. Как все евреи Львова, Яков был обречен.
Немцы взяли его на работу. Вернувшись вечером, он не застал ни бабушки, ни тринадцатилетнего брата — их увезли в Белжец, на ”фабрику смерти”. Там убивали евреев из Львова, из Польши, из Франции. Вскоре туда повезли и Якова. Он выпрыгнул из поезда.
Осенью 1942 года Яков попал в концлагерь близ Львова.
Комендант этого лагеря никогда не посылал евреев на расстрел. Он подходил к обреченному, говорил о намеченных улучшениях, о гуманности фюрера и, когда человек начинал верить в спасение, комендант его душил. Его прозвали ”Душителем”. Он построил стеклянную клетку на вышке. В клетку сажали еврея: он умирал у всех на виду. ”Душитель” заставлял евреев рыть котлованы, потом снова засыпать их землей. Однажды евреи копали землю у самой границы лагеря. Яков спрятался; колонна ушла в барак. Раздался окрик часового. Тогда Яков вскочил и убил немца лопатой.[24] Он снял форму, проверил удостоверение на имя Макса Валлера. После этого Яков направился в барак, где находились его младший брат и восемь друзей из Львова. Он заговорил чужим голосом, даже брат его не узнал: ”Собирайтесь!” Молча все собрались в последний путь. Часовой у ворот не удивился: каждую ночь выводили евреев на расстрел. Часовой пошутил: ”Что, брат, очищаешь воздух?”
Это была первая удача Якова Барера.
Яков решил пробиться на восток. Они дошли до товарной станции. Яков заметил в одном из вагонов ящики с книгами для Днепропетровска. За ящиками спрятались девять евреев, а Яков, в форме эсэсовца, сторожил груз.
Расстались в Днепропетровске. Яков остался с братом.
Они долго странствовали. Якову пришлось сбросить форму: жандармы ловили дезертиров. В сентябре 1943 года они добрались до Первомайска. Там Яков подружился с бывшим учителем Миколайчиком. Яков достал радиоприемник, они слушали советские сводки и передавали другим. В СД заинтересовались Яковом. Он ушел, но немцы убили его маленького брата.
Я видел фотоснимки и документы убитых им немцев. Яков не любил рассказывать о своих похождениях — ему тяжело было вспоминать гибель родных и друзей.
Мы расстались с ним в госпитале. Он шел на Запад с Красной Армией. Он жил одним: увидеть советский Львов. Сибиряк — хирург Киевской дивизии спас мне жизнь, скоро я снова пойду воевать. Но я не знаю, что с Яковом Барером? Жив ли он? Увидел ли он свой родной Львов?
22 июля 1944 года.
В ПЕНЯЦКИХ ЛЕСАХ (Львовская область). Письмо М. Перлина. Подготовил к печати Илья Эренбург.
В Пеняцких лесах были расположены два села. Одно в четырех километрах от другого. В селе Гута, Пеняцкого района, было 120 дворов, теперь не осталось ни одного. В этом селе жило 380 человек поляков и евреев — их нет в живых: 22-23 февраля село окружили немцы, облили дома и сараи бензином и сожгли село вместе с населением. В селе Гуте Верхобужеской из 120 дворов уцелело два двора. Из жителей Гуты Верхобужеской не спасся никто. Неподалеку от этих сел я, Перлин Матвей Григорьевич, разведчик Красной Армии, случайно наткнулся в лесу на две землянки, где жило 80 евреев. Здесь были и 75-летние старухи, и молодые парни, и девушки, и дети — самому меньшему было 3 года.
Я был первым представителем Красной Армии, которого они увидели после почти трехлетней жизни под страхом ежедневной смерти, и все они старались поближе протиснуться ко мне, пожать руку, сказать теплое слово. Эти люди прожили в лесных норах 16 месяцев, скрываясь от преследования. Их было больше, но осталось 80. Из 40 тысяч евреев Бродского и Золочевского районов, по их словам, осталось в живых не больше 200 человек. Как они выжили? Их поддерживали жители окружающих сел, но никто не знал, где именно они скрываются. Уходя из ”своего” леса или приходя домой, они засыпали свои следы снегом, просеиваемым через специально сделанное сито. У них было оружие — несколько винтовок и пистолетов. И они не пропускали случая уменьшить число фашистских зверей.
Все три года они говорили только шепотом. Громко разговаривать не разрешалось, даже в землянке. Лишь с моим приходом они запели, засмеялись, заговорили во весь голос.
Меня особенно взволновало во время этой встречи то страстное нетерпение, та твердость веры, с которыми эти люди ждали нас — Красную Армию. Этим были проникнуты их песни и стихи, их разговоры и даже сны. Трехлетняя Зоя не знает, что такое дом, а лошадь она впервые увидела, когда я приехал к ним. Но когда ее спрашивают, кто должен прийти, она отвечает: ”Должен прийти к нам батько Сталин, и тогда мы пойдем домой”.
НЕМЦЫ В РАДЗИВИЛЛОВЕ. Сообщение Люси Гехтман. Литературная обработка Марии Шкапской[25].
***
ПИСЬМО СЮНИ ДЕРЕШ (Изяславль). Подготовил к печати Илья Эренбург.
14.IV.44 г.
Здравствуй, дядя Миша!
Пишу из родного города Изяславля, который вы бы не узнали. От нашего местечка осталась жалкая половина. Но зачем оно совсем осталось? Лучше бы его не было, не было бы всего, лучше бы я на свет не родился. Теперь я уже не тот Сюнька, которого вы знали. Я сам не знаю, кто я теперь. Все кажется сном, кошмарным сном. В Изяспавле я и Фельдман Кива, наш сосед — больше никого не осталось от восьми тысяч людей. Нет моей дорогой мамы, папы, нет милого брата Зямы, Изы, Сары, Боруха... Все милые, дорогие люди, как тяжело вам пришлось!.. Я не могу прийти в себя, не могу писать. Если бы я начал рассказывать, что я пережил, — не знаю поняли бы вы это. Я три раза удирал из концентрационного лагеря, не раз видел смерть в глаза, шагая в рядах партизан. Лишь пуля фрица вывела меня из строя. Но я уже здоров — нога зажила, и я буду искать врага, чтобы отомстить за все. Я хотел бы повидаться с вами хотя бы на пять минут. Не знаю, удастся ли... Пока сижу еще дома, хотя от этого дома остались одни развалины, но называется ”дома”. Получил письмо от Тани. Очень обрадовался, что есть еще близкие...
Жду ответа на мое письмо. Милые, дорогие, как бы поскорей увидеться... Дядя Миша, помни, что это наш злейший враг — фашистский людоед. Какой ужасной смертью погибли все наши! Бей его до конца, режь по кускам! Никогда не попадайся к нему в руки. Письмо вышло бессвязное, как бессвязна и никчемна моя жизнь.
Но все-таки, я еще жив... Для мщения над врагом. До свидания, дядя Миша. До скорой, желанной встречи! Привет всем, всем, всем! Я как будто бы вернулся с того света.
Теперь начинаю новую жизнь — жизнь сироты.
Как? Я сам не знаю, как.
Пишите почаще, ожидаю ответа. Почему не пишут дядя Шлема, Иосиф с Гитой и т.д.? С приветом, ваш племянник Сюня Дереш.
Мой адрес тот же. В общем я получу, куда ни напишете, потому что, кроме меня, здесь никого нет.
ПИСЬМА СИРОТ [Ботошаны][26]. [Подготовил к печати Илья Эренбург.]*
[Дорогой товарищ Эренбург!
Я, Дина Лейбл, родилась в деревне Брегомет, у реки Серет, в районе Черновиц. Мне 16 лет.
В 1941 году, когда немцы заняли Северную Буковину, нас угнали на Украину, в лагерь Красное, Винницкой области. В 1942 году немцы убили моих родителей. Из большой семьи я осталась одна.
Я удрала в Румынию. Живу у хозяина. Он немного меня кормит. Я Вас прошу: возьмите меня обратно в Россию. Я хочу учиться и стать человеком. Ведь я зря теряю свою молодость, а в Советской России я буду работать.
Дина Лейбл]
В 1941 году, когда немцы заняли местечко Калиновка, Винницкой области, они погнали всех евреев на работу. Они нас мучили и били нагайками, они нам давали листья с деревьев и траву. Трех евреев запрягли в повозку, они должны были на себе тащить немцев. У них не было сил, их убили. В 1942 году нас загнали в гетто. Мы не могли оттуда выйти. Там многие умерли от голода. Потом выгнали на стадион. Молодых убили, а стариков и детей погнали в лес. Нас там окружили цепью, кричали ”юде”, начали убивать. Детей кидали в яму. Я убежал. За мной погнался немец. Я влез на дерево. Он меня не заметил. Я видел, как убивали всех евреев, и три дня шумела кровь в земле. Мне было тогда 10 лет, а теперь мне 12.
Нюня Докторович
В 1941 году, когда началась война, они пришли в Могилев-Подольский и погнали всех евреев в лагерь Печера, Тульчинского района. Они издевались над нами, и моих родителей они застрелили. Нас погнали на работу. Девочки добывали торф руками. Мы работали с четырех часов утра до поздней ночи. Однажды мы услыхали: они говорили, что кончится летний сезон и всех ”юдов” убьют. Мы убежали куда глаза глядят. За нами гнались и многих убили. Меня спас один украинец, он взял меня к себе и спрятал. Его сосед рассказал немцам, что ”во дворе жидовка”. Немец пришел, чтобы меня застрелить, но украинец начал с ним драться, а я убежала и попала на румынскую территорию.
Роза Линдвор, 15 лет
[9 июля 1941 г. к нам в деревню Бричаны пришли немцы. Нас выслали на Украину, в лагерь Ямполь. Немцы никого не пускали к речке напиться, а всех очень мучила жажда. Затем нас погнали обратно в Бессарабию, в лагерь Сухарки. Оттуда всех опять отправили на Украину, в лагерь Копайгород. Отец и мать там умерли. Я с сестричкой остались сиротами. Мне всего 12 лет, но я столько пережила, что не могу описать. Спасибо Красной Армии за освобождение народа.
Рахиль Розенберг]
Я родилась в маленьком местечке Багила на Серете. Мне теперь 15 лет. Я еще не видела хорошего. У нас забрали все и погнали в лагерь Единцы. Я страдала и перед глазами видела смерть. Потом нас погнали на красивую Украину, и была она для нас темной. Там в один день умерли мои любимые родители. Нас осталось пять сирот. Далеко от смерти я не была. Теперь я с сестренками в городе Ботошаны. А что потеряли, больше не вернется.
Эня Вальцер
[Я из города Липканы в Бессарабии. После того, как в 1940 году пришла наша Красная Армия, мы начали жить очень хорошо.
Я училась в школе, была отличница. Вся наша жизнь разрушилась из-за войны. Немцы выслали нас на Украину. Они нас гнали, били, люди умирали от голода, как мухи. В 1942 г. умерли сначала отец, а спустя два дня и мать. Я осталась с братиком. Мне сейчас 13 лет.
Хая Хантверкер.]
БЕЛОРУССИЯ
ИСТОРИЯ МИНСКОГО ГЕТТО. По материалам А. Мачиз, Гречаник, Л. Глейзер, П. М. Шапиро. Подготовил к печати Василий Гроссман.
28 июня 1941 года на улицах Минска стоял гул немецких танков. Около 75000 евреев (вместе с детьми), не успев уехать, остались в Минске.
Первый приказ предлагал, под угрозой расстрела, всем мужчинам в возрасте от 15 до 45 лет явиться на регистрационный пункт. 7 июля 1941 года немцы врывались в квартиры, хватали первых попавшихся им мужчин-евреев, сажали в машины и увозили. На следующий день появился второй приказ, извещавший, что за связь с большевиками в г. Минске и области расстреляно 100 евреев-коммунистов.
С появлением немцев в городе начались бесчинства: грабежи, насилия, расстрелы без всяких причин. Особым издевательствам подвергались евреи.
Дом № 21 по улице Мясникова был густо заселен, в нем жило более 300 человек. 2 июля 1941 года утром дом был окружен. Жителей (взрослых, стариков и даже детей) вывели во двор, не объясняя причины, и приказали стать лицом к стене. Конвой в количестве сорока человек держал людей шесть часов под винтовкой. В это время в квартирах (под видом изъятия оружия) забирали одежду, белье, одеяла, обувь, посуду и все из продуктов питания. Награбленное погрузили на две большие грузовые машины и вывезли. Только тогда, когда все было окончено, людей отпустили. С изумлением смотрели они на свои разгромленные квартиры.
Ночью громили группами по 4—5 человек, вернулись в квартиры к Грайвер, Рапопорт, Клеонским и предложили сдать оставшиеся вещи. ”Здесь остались серебряные ложки... Где костюм? Куда девался шелк?” — кричали бандиты.
На той же улице Мясникова помещалось большое здание — Сталинская школа, окна школы выходили во двор жилого дома. Окна этого дома были расположены таким образом, что из окон школы видна была внутренняя часть жилых помещений. Немцы расположились в школе и объектом своих забав и развлечений избрали жителей этого дома. На протяжении суток они стреляли из окон, целясь в зеркала, мебель и людей.
На сборный пункт, согласно приказу, потянулись сотни и тысячи мужчин. Всех отправляли в лагерь ”Дрозды”. Там издевательствами и насилиям подвергались одинаково как белорусы и и русские, так и евреи.
Через некоторое время русских мужчин отпустили, а евреев оставили в лагере. Оставшихся разделили на две группы: на людей, занимающихся умственным трудом, и людей физического труда. Первую группу погрузили в грузовые машины, вывезли за город и расстреляли из пулеметов. Всего было расстреляно больше 3000 человек. Погибли такие выдающиеся люди, как инженеры, доценты Политехнического института, кандидаты технических наук Айзенберг и Притыкин, доктор математических наук Приклад и многие другие.
Вторую группу, в основном рабочих различных специальностей, под усиленным конвоем вывели из лагеря в город и водворили в тюрьму. Когда их вели по улицам, женщины и дети выбегали из домов, стараясь опознать родных и знакомых. Конвой тут же на месте расстреливал встречающих. По Коммунальной улице вели колонны людей. 14-летняя дочка Зыскина выбежала из дому и остановилась у ворот в надежде увидеть отца. Раздался выстрел, и девочка упала мертвой.
...Вот что рассказывает партизан тов. Гречаник о днях, проведенных мужским населением Минска в лагере ”Дрозды”.
”Когда мы колонной отошли от города на километр, нас остановили и сказали: у кого есть ножи, часики, бритвы, — уложить в шапки и отдать. Так народ и сделал. Конечно, кто не терялся, часики и бритвы прятал. Очень многие закапывали вещи в землю, но немцам не отдавали. У каждого немцы выворачивали карманы, вынимали вещи из шапок, проверяли кошельки. На поле кругом стояли часовые. Народ прибывал на поле, партия за партией. Ночью на чистом поле стало холодно, но люди лежали друг возле друга и так грелись. Так прошла первая ночь на поле, наступил день. Народу было очень много, а кушать не дают. Люди просят воды, но и воды не дают. Как только народ подходит просить, немцы стреляют прямо в людей. Так кончился второй день. Наступила вторая ночь. Люди лежат голодные, холодные. Кто одет, а кто в летних рубашках. Наступил день. Народ прибывает. Вот показался немец с ведром и начал раздавать воду. Народ окружил его и чуть не повалил. Опять стреляют эти гады в народ.
Третий день. Люди голодные. И вот уже 12 часов дня. Тепло. Хорошая погода. Вдруг явился переводчик с офицером и объявляет, что с 10 часов до 4 часов дня будут пускать в лагерь родных с продовольственной передачей. Издалека видны женщины с корзинками, дети с бутылками воды, но их к народу не сразу пустили. Всех задержали и проверили, что они несут. Стало шумно. Каждый старается пройти к женщинам и детям. Народ стал немного веселей. Кому принесли кушать, ел с аппетитом, а кому не принесли, с теми делились. На поле стало еще больше шума, просят детей, чтобы принесли воды. Дети приносят, и народ пьет с наслаждением. Но тут слышим крики двадцати женщин. Народ спрашивает — что вы плачете? Тут же сразу услышали ответ: наших мужей и детей уже нет, их убили.
Кончился день. Прогнали женщин и детей. Наступает четвертая ночь. Народ лежит на поле. Слышны шаги, крики немцев, выстрелы из винтовок. Вдруг народ увидел: ведут пленных красноармейцев. Но их к гражданским не пускают. Наступило утро четвертого дня. Красноармейцы хотят подойти к гражданским, но их при первой попытке расстреливают. И так за день убили больше десяти человек. Приходят опять женщины, приносят есть, пить. Так кончается четвертый день. Начинается пятая ночь. Как только стало темно, со всех сторон начали бежать красноармейцы к вольным.
Немцы стреляют, но они на это не обращают внимания. Перебегут и сразу ложатся. И тут начинается. Гражданские дают им хлеб, воду, соль. Так народ находится вместе с бойцами целую ночь, почти до утра. Затем пленные красноармейцы опять перебегают, немцы стреляют в них. Начинается пятый день. Погода не особенно ясная. А народ все ведут — военных и гражданских. И вдруг подводят большую колонну. Как-то не по-нашему одеты. С мешками, торбами. С ними заводят разговор. Они рассказывают, что пришли с Запада, удирали от наступающих немцев. Они говорят, что очень многие погибли по дороге.
Вот опять приходят женщины, приносят пищу. Некоторые приносят плащи. И вдруг дождь. Холодно, мокро. Народ лежит. Так прошел день. Начинается шестая ночь. Темно. Красноармейцы перебегают к вольным. Немцы стреляют в народ. Вдруг снова крики. Оказывается, у одного разрезали мешок, там были сухари, и голодный народ познакомился с ними. Под этот шум и выстрелы человек пятьдесят начали отползать от народа. И когда приблизились к немецкой охране, побежали дальше. Но тут немцы заметили их и начали стрелять из винтовок. Было очень темно. Немцы убили только троих. Остальные ушли. И так прошла шестая ночь.
Настал седьмой день. Утром дождь. Женщин и детей видим издали. Все идут сюда поближе. Народ ждет с нетерпением. Вот уже 10 часов, но в лагерь никого не пускают, всех задерживают. Вот издали ведут колонну людей, одетых в гражданскую одежду, но очень плохую, а некоторые босые. И когда они были возле женщин, желавших пройти к своим родным, чтобы отдать еду, послышались крики. Они напали на женщин и детей, вырывали у них корзинки. Немцы погнали женщин обратно, а этих людей пустили в лагерь к гражданским. Только тут народ определил, что это за люди. Это были люди, которых советская власть отправляла на исправительные работы.
Потом издали видно было, — двигается отряд гестаповцев на мотоциклах, велосипедах, на машинах и пешие. Они приблизились к народу. Тут же слышны крики: ”Становись по четыре в шеренгу”. И тут пошли в ход резиновые дубинки. Построили раньше военнопленных, а затем остальных и повели далеко в поле. Отвели еще на два километра. По дороге лежали военные, раненные в ноги; они кричали, стонали, но немцы никому не позволяли выйти из колонны, чтобы помочь им. И так поместили всех около реки Свислочь. Военных в одну сторону, гражданских в другую. Так кончился день.
Наступает восьмая ночь. Народ лежит. Предупредили, чтобы не поднимались, стрелять будут. Часто стреляли из пулемета. И вот мы услышали крики людей: ”Убили!” Оказывается, люди поднимались по своим надобностям, а в них стреляли. Вот лежит один человек. Пуля попала ему в поясницу и вышла из живота, вырвала кишки. Он еще жив и просит людей записать его адрес и написать его жене и детям, как он погиб. И вот подходит немец и смеется, спрашивает: ”Кто ему распорол живот ножом?” Так кончилась восьмая ночь.
Девятый день. Народ воды не просит — ее в речке хватает. Стоит немец возле речки и дает набирать воду по очереди. Слышно, подъезжает машина, и переводчик кричит в рупор, называет некоторые фамилии: врачей, поваров, специалистов хлебозавода, электриков, водопроводчиков. Просит их идти к машине и говорит, что он их отпустит домой, с условием — пусть явятся на работу.
Вот появилась другая машина. На машине немцы, киноаппарат. И они начинают бросать сухари военнопленным, и те начинают хватать сухари. Их фотографируют с машины. Но вдруг послышались очереди из автомата. На этой машине нашелся офицер, и когда бросали сухари, красноармейцы начали их хватать руками, а он стрелял по рукам. Вот он слезает с машины, смотрит руки: у кого попала пуля в мякоть, того ставят в одну сторону, кому в кость попало, того ставят в другую сторону... Кого ранило в мякоть, он перевязывал, а кого в кость, пристреливал при всех людях. Дал красноармейцам лопаты и велел закопать убитых.
Наступает десятая ночь. Очень темно. Военнопленные опять перебегают к гражданским. И под этот шум и выстрелы переходят через речку многие военнопленные — человек триста — на другой берег. Там сразу лесок. И вдруг из леска выстрел. И тут с трех сторон осветили фарами народ и речку и начали стрелять из пулеметов. Над головами народа летели пули. Народ прижался плотнее к земле. Кто лежал на горках, пополз ниже. Но уже почти все успели перейти речку и были уже в леске. Только двое были убиты в речке, они не успели уйти. Перестали стрелять, выключили фары. Военнопленные перебежали на свои места. Кончилась ночь.
Начинается одиннадцатый день. Погода неважная. Приехали офицеры. Будут говорить. Часовые наводят порядок. На другой стороне речки сидит немецкий часовой и моет ноги в речке. Вдруг слышен гул самолетов и несколько взрывов. Часовой хватает сапоги и бежит в лес. Офицеры садятся в машину и уезжают, ничего не сказав. Народ видел, как часовой схватил сапоги и побежал, и народ смеется. Пришли опять женщины. Принесли еду, белье, а некоторые — одежду потеплее. Кончился день.
Двенадцатая ночь. Военнопленные перебегают к вольным. Вольные дают им кушать. Очень многие бойцы переодеваются в гражданскую одежду и остаются с нами. Так кончилась ночь.
Тринадцатый день. Вот уже десять часов, но женщин не пускают. Вдруг приезжает машина и объявляет, чтобы поляки отошли в левую сторону, русские в правую, для евреев же было подготовлено место возле речки. Площадь огорожена веревками. И вот начинается. Люди начинают отделяться.
Всюду стоят немцы с резиновыми дубинками, немцы гонят евреев к веревкам, бьют резиновыми дубинками. Кто сопротивляется, бьют до смерти, расстреливают. Вот, вдруг объявляют из машины, что будут отпускать домой. В первую очередь поляков и русских, а насчет евреев не говорят. Начинают отпускать поляков домой. На этом кончается день.
Четырнадцатая ночь. Темно и холодно. Перебегают пленные к вольным. Немцы стреляют. Вдруг на другой стороне речки слышим беспрерывную стрельбу. Спрашиваем у военнопленных. Они говорят: ”Там расстреливают немцы политруков и командиров”. Стреляли почти всю ночь.
Пятнадцатый день. Утром дождь. Женщины опять собираются. Проверяют, что они несут. Они несут еду. Часть продовольствия забирают, а потом пускают женщин в лагерь и показывают, куда нести. Вот группа женщин ищет своих и не находит их... Эти люди были вчера убиты. Женщины уходят и плачут.
Стало тепло. Возле речки стоит немец, но воды набирать никому не дает. Каждого, кто подходит, он толкает в речку в одежде и говорит, чтобы три раза нырнул, а затем можно брать воду. Народ подходит. Он приказывает прыгать, издевается над людьми. Поляков становится меньше в лагере. Так кончился день.
Начинается шестнадцатая ночь. Темно, дождь. Красноармейцы опять перебегают к вольным, вольные кормят их, многие переодеваются в гражданскую одежду.
Итак, кончилась ночь. Дождь льет беспрерывно.
Семнадцатый день. К 10 часам утра приехала машина с переводчиком, и он объясняет, что все евреи: инженеры, врачи, техники, бухгалтеры, учителя и вся интеллигенция должны записаться. Из лагеря их освободят и отправят на работу. Вот началась запись. Их было 3 тысячи. Потом народ узнал, что эту интеллигенцию расстреляли. Пришли женщины, принесли еду. Начал лить большой дождь. Народ мокнет. Некоторые бреются. Вот становится группа женщин, а трое мужчин, чисто выбритых, залезают в середину этой группы и надевают женские одежды, большие платки; и их берут старухи под руки, они берут корзинки, в корзинках горшки, и идут к выходу. Часовой не обращает внимания. Народ смотрит на них с напряжением. Они проходят, и все свободно вздыхают. В этот день ушло из лагеря двадцать человек. Вот уже всю интеллигенцию переписали, построили и увели от рабочих. Переписали и рабочих. Становится темно. Кроме евреев и военнопленных, на поле никого нет. Вдруг выстрел. Оказывается, часовой узнал мужчину, одетого в женскую одежду, и расстрелял его. Вот и начинается. Немцы с палками бегут к евреям. Ищут бритвы, забирают чашки, плащи, хорошие сапоги. Народ толкается и под шумок бросает в речку бритвы и все ценное. На этом кончается день.
Восемнадцатая ночь. Темно. Дождь. Красноармейцы перебегают к вольным, но теперь уже не переодеваются, ибо остались для горькой судьбы только они и евреи на поле. Евреи дают им кушать. Они лежат и греются с нами; темно, но слышен гул машин. Красноармейцы перебегают на свои места. Машины подъезжают к интеллигентам, их сажают в машины и увозят, говорят, на работу. Теперь мы знаем эту ”работу”.
После отхода машин проходит минут двадцать и слышатся пулеметные очереди, и через пятнадцать минут приезжают опять эти же самые машины и увозят людей. Так вывезли всех интеллигентов. Рассветает. Явился офицер и выбрал человек 200 рабочих. Их он пешком отправил на ”работу” и объявил: ”Отсюда всех евреев завтра поведут в другое место. Там будет тепло и никакой дождь лить не будет. Вас поведут через город. Смотрите же, передайте сегодня своим женам, родным, знакомым, что завтра вас будут вести через город. Если хоть кто-нибудь подойдет к вам, и они и вы будете расстреляны”.
Вот уже начинают выводить военнопленных. Приходят женщины. Приносят еду. Многие плачут: родных, мужей, детей здесь уже нет. Им передали, что завтра нас поведут через город, но чтобы они не подходили, ибо будут расстреляны. Они уходят, плачут. Кончился последний день в ”Дроздах”.
Девятнадцатая ночь. Уводят из лагеря военнопленных. Светят фары машин. Красноармейцев возили всю ночь. На поле уже никого нет. Только евреи. Утром появился отряд гестаповцев, все в красных шелковых галстуках. Построили в ряды и повели простой еврейский народ. Всю дорогу до тюрьмы стояли часовые. Вот подводят народ к воротам тюрьмы. Гестаповцы открывают ворота, и весь народ входит во двор. Ворота закрывают”.
Несколько дней рабочие пробыли в тюрьме, после чего часть из них была выпущена и направлена на работу, а часть погружена на машины, вывезена за город и расстреляна.
По приказу немецких властей все еврейское население обязано было зарегистрироваться в специально созданном Еврейском комитете — Юденрат. Приказ предупреждал, что незарегистрированным евреям при переселении будет отказано в квартирах. При регистрации записывались имя, фамилия, возраст и адрес.
Еврейский комитет был создан следующим образом: работники гестапо поймали на улицах города 10 мужчин, завели их в Дом правительства и заявили, что они представляют собой Еврейский комитет и обязаны выполнять все распоряжения немецких властей. За малейшую провинность — расстрел.
Председателем Комитета назначили Илью Мушкина — бывшего заместителя директора Минпромторга.
К 15 июля 1941 года регистрация евреев была закончена. К этому же времени под страхом расстрела евреям приказали одеть желтые латы, строго определенного размера, на грудь и на спину (диаметр 10 сантиметров). Было издано распоряжение, запрещавшее евреям ходить по центральным улицам. Запрещалось здороваться со знакомыми неевреями. Затем был издан приказ немецких властей о создании гетто.
Кроме этого, на евреев наложили контрибуцию: золотом, серебром, советскими денежными знаками и облигациями некоторых займов.
Из старых насиженных мест потянулись толпы евреев, они оставляли свои квартиры, мебель, вещи, забирая с собой только самое необходимое. Транспорта никакого у них не было, и вещи переносили на плечах. Квартирная площадь предоставлялась из расчета 1,5 квадратных метра на человека, не считая детей.
Переселение не обошлось без издевательств: для гетто был отведен строго очерченный район, но как только вселялись в квартиру люди, сейчас же издавался новый приказ, исключавший одни улицы и включавший другие.
В продолжение двух недель, с 15 июля по 31 июля 1941 года, евреи мытарствовали, перекочевывая с места на место. К 1 августа 1941 года было закончено переселение евреев. При смешанных браках дети следовали за отцом: если отец был евреем, дети уходили с ним в гетто, мать оставалась в городе. Если отец не был евреем, дети жили с ним в городе, мать еврейка должна была уйти в гетто. Известен случай, когда профессор Афонский, русский, женатый на еврейке, выкупил у немецкого командования жену из гетто. Ей разрешено было жить с мужем и дочерью в городе (вне гетто) при условии стерилизации. Соответствующая операция была произведена под наблюдением немцев профессором Клумовым. Случай этот является исключительным. У профессора Афонского был значительный запас золотых монет, которые он вместе с деньгами, вырученными от распродажи всего своего имущества, целиком передал немцам в счет выкупа.
В гетто вошли улицы: Хлебная, Немигский переулок, часть Республиканской, часть улицы Островского, Юбилейная площадь, часть Обувной, Шорной, Коллективной, 2-й Апанский переулок, Фруктовая, Техническая, Танковая, Крымская и некоторые другие. Эти улицы были изолированы от центра города, торговых и промышленных предприятий. Но зато кладбище было включено в территорию гетто.
Гетто было окружено колючей проволокой в пять рядов. Выход из-за проволоки карался расстрелом. Торговля, покупка продуктов питания запрещались евреям под страхом расстрела. Расстрел стал спутником жизни евреев.
Семья рабочего Черно состояла из шести человек: двух взрослых и четырех маленьких детей. Жена Черно — Анна не в состоянии была видеть страдания голодных детей и пошла в русский район просить у своих друзей помощи. На обратном пути ее остановили полицейские, забрали все, что у нее было, завели в тюрьму и там расстреляли. Такая же участь постигла Розалию Таубкину, которая перешагнула проволоку для встречи со своими русскими родственниками.
Как только гетто окружили проволокой, начались грабежи и насилия. Каждый час — днем и ночью — к гетто подъезжали на машинах и подходили пешком немцы, заходили в еврейские квартиры и чувствовали себя там неограниченными хозяевами: грабили и забирали из квартир все, что им нравилось. Грабежи сопровождались избиениями, издевательствами и, нередко, убийствами.
Ночью немцы нападали на еврейские дома и убивали жителей. Убийства совершались особо жестокими способами: выкалывали глаза, вырезали языки, уши, ломали черепа и т.д.
Особенно страдали районы улиц Шевченко, Зеленая, Заславская, Санитарная, Шорная и Коллекторная. Евреи защищали свои квартиры: делали двойные двери, железные засовы, не впускали, когда стучались в дом бандиты, устраивали дежурства, самооборону, но сила оружия брала верх: двери и окна выламывались, и бандиты врывались в дома. В квартиру, где жила женщина-врач Эсфирь Марголина, ворвались немцы, избили всех, двух человек убили. Марголину тяжело ранили: в нее всадили четыре пули. Над семьей Каплан, по Заславскому переулку, долго издевались: отцу выкололи глаза, дочери срезали уши, другим членам семьи проломили черепа, а потом всех расстреляли...
На Широкой улице был организован лагерь, где на тяжелых изнурительных работах находились русские военнопленные и евреи. Евреев заставляли перевозить песок и глину с одного места на другое и обратно, копать землю без лопат. Рабочим выдавали 300 граммов хлеба и один раз в день мутную водичку, именуемую супом.
Комендантом лагеря и одновременно хозяином над гетто был назначен белогвардеец Городецкий, грабитель, насильник, убийца.
Из Минска не успел эвакуироваться один из крупнейших специалистов БССР, доктор медицинских наук профессор Ситерман. Как только Городецкому в гестапо стало известно его местопребывание, начались издевательства над профессором. Городецкий врывался к нему в квартиру, забирал все, что хотел, избивал старика. К профессору Ситерману приезжали гестаповцы, забирали его с собой, заставляли работать на черных, тяжелых работах — производить руками уборку выгребных ям и уборных. В октябре 1941 года Ситермана поставили в уборной с лопатой в руках и так сфотографировали. Его однажды заставили стать на четвереньки посреди площади в гетто, положили на спину футбольный мяч и сфотографировали. Через несколько дней за ним приехали на легковой машине и увезли, родным сказали — ”на консилиум”. Больше профессора никто не видел.
В гетто все мужчины состояли на учете в отделе труда Еврейского комитета. В дальнейшем этот отдел получил название ”Биржи труда”. Отсюда посылали на тяжелые работы в военные части и в лагерь на Широкую.
14 августа разнесся слух по гетто: ”Ловят мужчин”. И, действительно, часть гетто была окружена, многие мужчины погружены в машины и увезены. Гестапо объяснило, что вывозят людей на работы на военных объектах. То, что гестапо называло ”работой”, на всех других языках означало смерть.
26 августа 1941 года в 5 часов утра к гетто стремительно стали подъезжать легковые машины. В течение пяти минут гетто было окружено легковыми машинами, из которых выходили сотрудники гестапо. Они врывались в еврейские квартиры с криком: ”Меннер!” (мужчины). Всех мужчин они выгнали на Юбилейную площадь, избили их, издевались над ними, а потом увезли.
31 августа 1941 года повторилась облава. Гетто опять было окружено машинами. Забирали на этот раз не только мужчин, но и некоторых женщин. Одновременно производился грабеж еврейских квартир.
Люди, изъятые во время облав 14, 26 и 31 августа, были вывезены в тюрьмы и расстреляны (всего около 5000 человек).
Немцы старались создать паническое настроение среди евреев, сковать их мысли и действия, вселить в сознание людей, что для них все потеряно, что нет выхода. Но с августа 1941 года начинается собирание сил для организованного отпора врагу. Коммунисты, оставшиеся в Минске, договариваются созвать в конце августа партийное совещание. По улице Островского, в доме № 54, собралась группа коммунистов. Среди них были работник СНК БССР Вайнгауз, работники Белостокской текстильной фабрики Шнитман, Хаймович, Фельдман, работник Союза советских писателей Смоляр[27].
Совещание постановило создать подпольную партийную организацию. Она ставила перед собой на первое время следующие задачи:
1. Разбить паническое настроение евреев.
2. Наладить систематический выпуск листовок.
3. Наладить контакт с коммунистами русского района.
4. Установить связь с партизанскими отрядами.
5. Установить радиоприемник.
Первые шаги партийной организации увенчались успехом. Немцы издали приказ о сдаче всех ценностей, золота, серебра и драгоценностей, а подпольная партийная группа постановила: ценности переправить в партизанские отряды. И действительно, часть этих ценностей была переправлена.
Подпольная партийная группа приступила к систематическому выпуску листовок.
Листовки читались с захватывающим интересом, передавались из рук в руки. Люди, встречаясь, вместо приветствия спрашивали: ”Какие сегодня новости?” Слово ”найес” (новости) только и слышно было кругом. Еврейские подпольщики издавали листовки по материалам последних московских радиопередач, которые принимались по тайному радиоприемнику. Листовки переписывались и передавались из дома в дом. Редактором листовок был назначен Вайнгауз.
В сентябре 1941 года был убит один из руководителей партийной группы в гетто — Киркоешто. Вместо него в состав партийного руководства был введен инструктор Кагановичского районного комитета партии г. Минска Миша Гебелев.
Ему поручили установить связь с коммунистами русского района. Был поставлен вопрос о созыве совместной партийной конференции.
Гитлеровцы старались посеять национальную рознь, а еврей Гебелев для того, чтобы спасти русских коммунистов от немецкой тюрьмы, ходил в русский район и, рискуя жизнью, находил квартиры и там скрывал товарищей. Некоторых из них он скрывал в ”малинах” гетто. Вблизи гетто в русском районе были созданы резервные квартиры, где проводили работу коммунисты русского района и коммунисты гетто.
В сентябре 1941 года была налажена связь с партизанским отрядом капитана Быстрова (отряд оперировал на востоке). Пришли проводники, и туда была направлена первая группа людей из гетто — 30 человек, в основном коммунисты и люди военно-подготовленные: Шнитман, Хаймович, Гордон, Леня Окунь и др.
Подпольная партийная группа постановила: организовать систематическую помощь партизанским отрядам теплой одеждой, вещами, мылом, солью и т.д.
Подпольная группа оценивала Еврейский комитет Юденрат как орган оккупантской политики, но все же нашла нужным связаться с теми элементами внутри Юденрата, которые готовы были оказать помощь партизанскому движению и эвакуации в отряды еврейских семейств. В первую очередь была налажена связь с председателем Юденрата Мушкиным, а потом к работе для помощи партизанскому движению были привлечены заведующий производственным сектором Юденрата Рудицер и Серебрянский. Они передавали руководителям партийной группы для партизанских отрядов вещи: обувь, кожу, белье, теплую одежду, пишущие машинки, канцелярские принадлежности, мыло, медикаменты, деньги, а иногда даже продукты питания и соль.
Фашистские палачи рыскали по гетто, не оставляя в покое еврейские квартиры. Несмотря на это, еврейские женщины, даже старушки, помогали партизанам, шили белье, маскировочные халаты, вязали носки. Поздней ночью они залезали в погреба, работая при свете лучины. Мастерские гетто (ими заведовал Гольдин) работали в основном на партизан.
В это время коммунисты гетто и коммунисты русского района решили созвать совместное совещание для создания единой партийной организации в Минске.
В сентябре 1941 года состоялась предварительная встреча, но созыв конференции в этот период не удался.
Близилась 24-я годовщина Октябрьской революции.
С ноября разнесся слух по гетто, что в день Октябрьской революции в Минском гетто будет погром. В гетто приехал Городецкий, он отобрал нужных ему рабочих-специалистов с их семьями и отдал распоряжение вывести их на время погрома в лагерь на Широкую. Туда же были вывезены некоторые работники Юденрата. Вот краткая характеристика этого лагеря, данная тов. Гречаником.
”Лагерь на Широкой улице. Домой оттуда не пускают. В лагере находятся военнопленные, туда немцы посылают, главным образом, русских, белорусов, поляков, которые провинились перед немецкой властью. Всем там пришивают красные латы. Там же в лагере немцы сделали начальником какого-то ”западника”. Он не разбирается, бьет всех: и евреев, и русских. В лагере за каждую мелочь расстреливают... Многие болеют, часто туда приводят новых людей. В лагере на Широкой улице люди быстро выходят из строя”.
Не спали евреи в ту тревожную ночь, ждали утра. Только стало светать, в гетто въехали большие, черные закрытые машины. Сотрудники гестапо были вооружены нагайками, револьверами, ручными пулеметами. 7 ноября 1941 года немцы учинили расправу не только над евреями. По всему Минску появились виселицы: на улицах, в скверах, на базарах, на окраинах города. В этот день были повешены по всему городу около 100 человек с надписями на фанерных дощечках: ”партизан”, ”за связь с партизанами״, ”коммунист” и т.д. Но, конечно, самый страшный удар пришелся по гетто. Людям велели надеть самую лучшую одежду и так же по-праздничному одеть детей; даже грудных детей велели брать с собой. Построили всех по четыре и под конвоем повели к Ново-Красной улице. Возле скверика стояла машина и фотографировала одну из колонн. Начал строчить пулемет, и вся колонна была перебита. К Новомясницкой подъезжали машины, грузили людей. На работе уведенные из гетто рабочие еще утром узнали, что начался погром. В 12 часов дня рабочие вымолили справки для своих семей и побежали в гетто. Очень многие никого из родных дома уже не нашли. Видно было, что взяли их только что, прямо с кроватей. Рабочие кинулись к машинам, где усаживали людей. Некоторые, не нашедшие своих близких, спрашивали, могут ли они ехать с этими машинами — может быть, они найдут своих близких.
Офицер ответил, что тех, кого увезли, в живых уже нет. ”Если хотите, — сказал он, — можете, но вернетесь ли вы обратно, я не знаю”. Многие рабочие, под видом своих семей, спасали женщин, девушек, детей, знакомых и незнакомых.
Целый день курсировали машины. Около 12—13 тысяч евреев было вывезено в этот день в Тучинки: два дня их держали там. Стон и крики детей, томившихся без воды, сваленных друг на друга, разносились далеко-далеко в окрестностях. На третий день застрочили пулеметы. В заранее заготовленные машины уложили тела тысяч людей. Из забранных на расстрел тысяч вернулись два-три человека.
Вернулся в гетто мальчик лет десяти. Он рассказал: ”В казармы привезли людей на машинах, было очень много женщин и детей, их туда привезли 7-го под вечер. Держали их там почти три дня. Есть и пить не давали. Некоторые за эти три дня умерли: маленькие дети, старики, старухи. И вот, когда нас вывозили оттуда, я был с маминой сестрой. За нашей машиной других не было. Вот тетя подняла брезент машины и сказала: ”Прыгай, сынок, может останешься жив”. Вот я и прыгнул на ходу, немного полежал и пришел сюда.
Вот другой рассказ, — рассказ женщины, которая была уже выведена в поле на расстрел. Она пришла в гетто раздетая, опухшая, вся в крови, раненная в руку. Она видела большие, длинные рвы, на подходе к ним стояли немцы и полицейские и заставляли людей раздеваться. Маленьких детей, как только их спускали с машин, полицейские забирали у родителей и переламывали спинной хребет о колено. Г рудных подбрасывали в воздух и стреляли в них, либо ловили на штыки, а затем бросали во рвы. Раздетых выстраивали возле ямы и расстреливали из пулеметов. Тех, которые не хотели раздеваться, убивали одетыми, и, если на них была хорошая одежда, их раздевали уже мертвыми. Женщину раздетой поставили у ямы, ее ранили в руку, она упала, на нее легли трупы.
Ночью стало тихо, перестали стрелять, и она поползла из ямы, пришла в гетто.
Этим погромом была охвачена часть улиц: Островского, Республиканская, Шевченко, Немига, Хлебная и др.
К вечеру 7 ноября погром стал затихать.
После этого погрома немцы стали создавать ”район специалистов” (всех рабочих, имеющих квалификацию, немцы называли ”специалистами”).
Биржа попросила у немецких предпринимателей списки еврейских рабочих. Предприниматели подали списки, и биржа начала выдавать особые карточки специалистам.
Чернорабочим карточек не выдавали. Всем неспециалистам приказали немедленно выбраться в другой район. Началось новое переселение. Все понимали, что значит это переселение. Женщины стали искать специалистов, молодые девушки выходили за старых мужчин. Многие осужденные немцами на смерть, те, кто не получал карточки ”специалиста”, лишались рассудка.
Когда закончилось переселение неспециалистов, немцы стали выдавать адресные дощечки к дверям. При входе в дом на улице вешалась дощечка, где было указано, кто живет в этой квартире, где кто работает и кто на чьем иждивении состоит. Когда все это было сделано, немцы приказали, чтобы каждый жилец — рабочий специалист получил номер своего дома в Юденрате, пришил его на груди, под желтой латой, и на спине. Номер этот был написан на белом холсте, проштемпелеванном печатью.
Немцы предупредили, что если кто-нибудь из жильцов какого-либо дома нарушит правила ношения номеров, все жители дома, значащиеся под этим номером, будут расстреляны.
Вернулись ”специалисты” из лагеря на Широкой и работники Юденрата 8 ноября 1941 года.
Часть улиц: Немига, Островского и др. отошли в русский район по приказу гестапо. Уменьшилась территория гетто. В гетто потекла голодная, тяжелая жизнь, но и эта жизнь для многих оборвалась.
В Минск стали прибывать тысячами немецкие евреи. Одеты были они как-то странно — в пелерины с башлыками, кто в розовые, кто в синие, кто в небесного цвета; все это из ”рыбьей” кожи, а на правой стороне груди у них были пришиты шестиконечные звезды. Говорили они только по-немецки. Пришли гестаповцы, выгнали с Республиканской, Обувной, Сухой, Опанасской улиц людей и поместили там пришельцев. Провели колючую проволоку, поставили столбы и окружили этот район. Предупредили — кто подойдет к проволоке, будет расстрелян. Первые дни немецкие часовые ходили возле проволочных заграждений.
Народ подходил к колючей проволоке, где были размещены немецкие евреи. Пришельцы охотно вступали в разговоры. Оказалось — то были евреи из Гамбурга, Берлина, Франкфурта. За время существования Минского гетто их прибыло около 19000 человек. У них забрали все их имущество и объявили, что их повезут в Америку, а они попали в Минск, в гетто за проволоку. Они просили хлеба: они думали, что русские евреи могут ходить свободно, куда хотят, и покупать свободно пищу. Гестаповцы нашли для немецких евреев ”работу”. Каждую ночь, приезжая в гетто, они убивали человек 70-80 немецких евреев. Немцы заставляли их вывозить трупы на кладбище в детских колясках. Там уже всегда были подготовлены ямы, каждая — человек на триста. Когда яму наполняли трупами, ее засыпали.
20 ноября 1941 года, утро еще не наступило, а немцы и полицейские уже ходили по улицам гетто: Замковой, Подзамковой, Зеленой, Санитарной и др. Опять выгоняли людей из квартир, строили в колонны и гнали в Тучинки, к могилам. У могил была заготовлена известь, живых людей бросали в ямы. Там их расстреливали и сжигали.
Среди людей, схваченных 20 ноября, были хорошие специалисты, в которых немцы нуждались.
На место сбора выехал офицер, но взятых из гетто там уже не было. Офицер узнал, куда их повели, и поехал за город, на поле, где их уничтожали. Там оказалось, что почти все его рабочие убиты, но он узнал несколько человек и договорился, чтобы их не убивали. Один из них, хороший специалист, скорняк, фамилия его Альперович, другой — парикмахер Левин, который брил офицеров. У парикмахера на поле находились жена и дочка. ”Хозяин” уничтожения отпустил только парикмахера и Альперовича, и, издеваясь, разрешил парикмахеру взять с собой жену или дочь. Левин выбрал дочь. Офицер сказал, чтобы они никому не рассказывали о том, что видели.
Их привели на фабрику, они были белее бумаги и не могли говорить. Альперович долго болел после этого.
20 ноября погибло 7000 евреев. Люди стали забираться в специально приспособленные погреба, ямы, замаскированные комнаты, получившие название ”малин”, но и эти ”малины” не спасали — слишком неожиданны были налеты гитлеровцев. Немцы этот погром двадцатого ноября объяснили тем, что 7 ноября ”план не был выполнен”, т. е. было уничтожено меньшее количество евреев, чем потребовали власти.
Погромы и гибель некоторых руководителей подполья не ослабили движения сопротивления. Во время погрома 20 ноября 1941 г. погиб Вайнгауз; вместо него в партийную группу был введен секретарь по пропаганде Ворошиловского районного комитета партии г. Минска Пруслин (Брускинд). В конце ноября коммунисты созвали общую партийную конференцию. Руководил этой конференцией ”Славек”. Представителем партгруппы гетто был выделен Гебелев. С этого момента начинается систематическая отправка людей в партизанские отряды. Общая партийная конференция постановила: партийную организацию строить по принципу десяток. Во главе каждой десятки стоит секретарь. Десятки образовывались исключительно на основании личного знакомства и рекомендации. Все секретари десяток были связаны с уполномоченным зоны. Всего было 4 зоны, и гетто являлось одной из зон. Партконференция создала подпольный партийный комитет. Секретарем был избран ”Славек”.
Уполномоченным ЦК партии по гетто был секретарь партгруппы гетто Смоляр, живший в гетто под фамилией Смоляревича, парткличка ”Скромный”. Штаб-квартирой была кочегарка еврейской больницы, где работал Смоляр. Сюда приходили коммунисты, обсуждали и решали самые важные вопросы.
Во главе десяток стояли: Наум Фельдман, Зяма Окунь, Надя Шуссер, Майзельс, Рубеник и др. Для связи с коммунистами русского района выделили Эмму Родову. Перед десятками были поставлены следующие задачи:
1. Наметка кандидатур и отправка в партизанские отряды коммунистов и людей военно-подготовленных.
2. Сбор оружия.
3. Материальная помощь теплой одеждой партизанским отрядам.
4. Сбор и отправка в отряды медикаментов.
5. Создание фонда помощи нуждающимся коммунистам.
Зима была тяжелой для жителей гетто: все они страдали от голода и холода. Евреи, работавшие в русском районе, имели возможность общаться с русским населением, и потому не так остро чувствовали нужду, но те евреи, что работали за проволокой, нуждались и голодали.
Благодаря связи с некоторыми членами Юденрата много людей удалось расставить в городе таким образом, чтобы использовать их работу на немецких предприятиях для борьбы с оккупантами.
Группы молодежи отправлялись на предприятия, связанные с производством оружия и боеприпасов, чтобы иметь возможность их выносить. Женщины работали там, где была возможность получать белье и теплую одежду, чтобы переотправить их в партизанские отряды. Регулярно производилась отправка боеприпасов и одежды в партизанские отряды. Отправка чаще всего производилась с квартиры Опенгейма по Республиканской улице, дом № 16, места сборов были на базарах. В результате перехода отрядов с места на место, в феврале месяце 1942 года была утрачена связь с некоторыми партизанскими отрядами. Имелись сведения, что в Дукорском направлении действует отряд Ничипоровича. Группа людей, среди них — врач Марголин, Скобло — один из первых стахановцев БССР — и другие пошли искать этот отряд. Группа была вооружена четырьмя винтовками и четырьмя гранатами.
Этот поход не увенчался успехом. Люди попали в окружение гестапо, часть людей — среди них Скобло — погибли, остальные вернулись в гетто с отмороженными руками, ногами и долго лежали в больнице. Параллельно с попытками вновь наладить утерянную связь шли поиски и закупка оружия. Этим ведал Наум Фельдман. По заданию партийного комитета были намечены пути вывоза из гетто людей, которые не могли влиться в партизанские отряды. В гетто на первых порах считали, что достаточно вывести людей из-за проволоки, переселить их в русские районы и обеспечить их безопасность.
Подпольный парткомитет гетто искал пути, куда направить женщин, стариков, детей. Для этой цели была выделена Нина Лисс, которая пошла в Западную Белоруссию искать деревни и хутора, расположенные далеко от железных и шоссейных дорог.
В феврале 1942 года немцы арестовали Мушкина, председателя Юденрата. Тяжела была его роль: с одной стороны, он вел борьбу с оккупантами, материально помогал партизанским отрядам, а с другой, — обязан был сохранять видимость нормальных взаимоотношений с немецкими властями, видимость выполнения всех их директив и распоряжений. Свою работу он вынужден был скрывать даже и от некоторых членов Юденрата, таких как Розенблат и Эпштейн.
Нашелся провокатор, который предал Мушкина.
Долго пытали и мучили Мушкина в тюрьме, но Мушкин не выдал своих товарищей. Молча переносил он страдания. Только через месяц после ареста и пыток Мушкина вывезли из тюрьмы и расстреляли.
Шла зима 1942 года... Голод, холод и болезни несла она за собой. Трудно назвать жизнью это жалкое существование людей. Плач детей, стоны больных наполняли дома. Люди питались отбросами из немецких кухонь. Распространенным блюдом еврейского населения стала картофельная шелуха, из которой хозяйки умудрялись печь оладьи и запеканки.
Появились болезни: фурункулез, дистрофия, цынга, сыпной и брюшной тифы. Болезни приходилось скрывать от властей, хотя немцы ежедневно требовали сводки поступления больных в больницы. Немцы боялись инфекционных заболеваний; евреи знали, что как только немецким властям станет известно о тифе, неминуем погром. Немцы так и не узнали о заболеваниях в гетто. Тем не менее, погром с новой ужасающей силой обрушился на евреев.
2 марта 1942 года утром к гетто стали подъезжать легковые машины с гестаповцами; среди них находился оберштурмфюрер Шмидт, совершенно пьяный. Это было плохим предзнаменованием. Евреи заволновались. Однако рабочие колонны, как обычно, отправились на работу. Прибывшие гестаповцы пошли на квартиру заведующего биржей труда и принялись кутить. В водке, в дорогих винах недостатка не было. Все это было доставлено в гетто на грузовой машине. Все приехавшие не уместились в квартире, и часть из них осталась на улице и на площади. К ним был вызван полицейский 5-го участка Рихтер, в ведении которого находилось гетто. Тут же на улице гестаповцы пьянствовали и обжирались, после чего они приступили к ”работе”. С нагайками, с револьверами они врывались в дома и сгоняли людей во двор обойной фабрики на Шпалерной улице. Толпы народа — женщины, дети, старики — стояли и ждали своей смерти. В двух домах по технической улице палачи не нашли жильцов — они спрятались в ”малинах”. Немцы подожгли эти дома и сожгли людей живьем. Наутро на пепелище стали возвращаться рабочие колонны, их встречал у ворот гетто сотрудник гестапо. Этих рабочих, вместе с толпой, ожидавшей смерти во дворе обойной фабрики, направили к железной дороге, погрузили в вагоны и отправили по дороге, ведшей на Дзержинск.
Там все были расстреляны. Многие пытались бежать, но пули убийц их настигали. Так были убиты еще 5000 человек.
Гестаповцы окружили колонну рабочих из тюрьмы во главе с их бригадиром Левиным.
Левин, в прошлом художник и детский писатель, писал под псевдонимом Берсарин.
Левин потребовал освобождения всей колонны, мотивируя тем, что его колонна состоит из одних специалистов. Его одного освободили, но Левин настаивал на освобождении всех. Его избили прикладами и погнали прочь. В руках у Левина была жестяная крышка, с которой он набросился на немцев. Тут же на улице Левина расстреляли.
Вечером, когда кровавая работа подходила к концу, оберштурмфюрер Шмидт, окруженный немцами и полицейскими, с длинным кнутом, совершенно пьяный, на чистом русском языке кричал: ”Сегодня, как никогда, удачно, прекрасно, удачно, удачно”. Полицейский за хорошую организацию погрома и помощь гестапо получил награду и был повышен по службе.
Как и при первых погромах, были уничтожены: детский дом, инвалидный дом и часть работников Юденрата.
Страшную картину представляла колонна детей всех возрастов, от самых маленьких до 13—14 лет, во главе с заведующим детским домом. Дети кричали: ”За что? Наши придут и отомстят за нашу кровь, за кровь наших отцов и матерей”. Нагайки опускались на их головы. Дети с кровоподтеками, со вздувшимися от побоев лицами, оборванные, шли дальше. Если ребенок отставал, его пристреливали. Вся улица была усеяна трупами ребят.
Работница детского дома Амстердам покончила с собой, вскрыв вену.
Население гетто уменьшалось. Немцы произвели снова переселение, перебрасывали евреев из одной квартиры в другую, из одного района в другой. Уменьшалась территория гетто, сжималось кольцо вокруг него.
Погромы, которые устраивало гестапо, не останавливали работы коммунистов. В гетто не прекращался уход евреев в партизанские отряды: с каждым днем к партизанам уходило все больше и больше людей. Об этом узнало гестапо и кровавым террором отвечало на каждый уход евреев в партизанские отряды.
В том случае, когда гестапо находило след человека, связанного с подпольной партийной организацией, нес ответственность не только он один, но все жители дома, где он жил, или вся колонна, где он работал. Ночью окружали дом со всех сторон, выводили людей и расстреливали их.
В конце марта 1942 года началась волна ночных погромов. Жители гетто с ужасом прислушивались к тому, как строчил ночью пулемет, как раздавались стоны и крики расстреливаемых. По ночам слышался топот людей, убегавших от пуль.
Ночные погромы произошли 31 марта, 3 апреля, 15 апреля, 23 апреля. В одном из этих погромов — 31 марта 1942 года — погибла Нина Лисс, которая только за день до того, выполнив задание в Западной Белоруссии, вернулась в Минск.
Нашелся предатель, который передал в гестапо списки работников подпольного партийного комитета с указанием их адресов. Нина жила на Коллекторной улице, в доме №18. Когда бандиты ночью окружили дом, они стучали и кричали: ”Нинка, открой!”
Гестапо требовало выдачи Гебелева, Смоляра, Фельдмана, Окуня, предупреждая, что иначе будут расстреляны все работники Юденрата. Вновь назначенный председатель Юденрата Иоффе знал, что немцы осуществят эту угрозу. Но выполнить требование гестапо Иоффе отказался.
Гебелев, конспирируясь, носил три фамилии, поэтому гестаповцы были сбиты с толку. Фельдманов в гетто было много, трех Фельдманов гестапо отправило в тюрьму, откуда они уже не вернулись. Окуня через некоторое время арестовали.
Смоляр (Смоляревич), возглавлявший подпольную партийную организацию гетто, был неуловим. Гестаповцы настойчиво требовали выдачи его. Иоффе пошел на хитрость: он заполнил чистый бланк паспорта Смоляревича Ефима, измазал его в крови и пошел в гестапо, сказав, что этот паспорт найден в одном из домов, где произошел ночной погром, и извлечен из одежды трупа. Гестаповцы удовлетворились, считая, что Смоляревич (Смоляр) погиб.
Смоляревич, Гебелев и Фельдман жили и продолжали вести борьбу с врагом.
Фельдман занимался снабжением оружием. Группы людей, отправляемые в отряды, вооружались винтовками, наганами, гранатами. Помимо добычи оружия, усилия подпольщиков были направлены к тому, чтобы раздобыть типографию и отправить ее в отряды. Две типографии удалось отправить в отряды, а третью передали в распоряжение городского комитета партии.
Большую роль при отправке типографий в партизанские отряды сыграл связной, пионер Вилик Рубежин. Мальчик этот потерял своих родителей, война застала его в пионерском лагере под Минском. Три раза, с огромным риском, вез он через весь город санки со шрифтом, прикрытые сверху тряпьем.
Он же провел к партизанам партию евреев в 30 человек. Впоследствии сам ушел в лес к партизанам, участвовал во многих диверсиях и засадах. Он был награжден в отряде орденом Красной Звезды.
Ночные погромы гестаповцы объясняли борьбой с партизанским движением. Такие же ”акции” происходили и в русском районе. В партийную организацию пробрался враг и выдал некоторых членов подпольного партийного комитета.
Гебелев привез 10 коммунистов из русского района и скрывал их в ”малинах” гетто по еврейским паспортам.
Особо жестоким был внезапный и краткий погром 23 апреля 1941 года. Убийцы окружили дома по Обувной, Сухой, Шорной и Коллекторной улицам. Погром начался в 17 часов и закончился в 23 часа, погибло до 500 человек.
Другой ночной погром, поражающий своей жестокостью, немцы и полиция учинили в мае 1942 года. По Завальной улице они окружили два четырехэтажных густозаселенных дома, подожгли эти дома со всех сторон и сожгли в них живьем людей. Сгорело несколько сот человек.
Менялись немецкие громилы, одни уходили, другие приходили, и каждый из них под видом наведения порядка в гетто занимался истреблением евреев.
Незадолго до своего ухода из гетто Рихтер решил проверить выполнение приказа об обязательном выходе евреев на работу. Он остановил на улице первых трех встречных, завел их на биржу и приказал полицейским раздеть несчастных, избил их до полусмерти, а одного из них вывел на площадь, привязал к столбу и застрелил. На груди убитого повесили картон с надписью: ”Так будут поступать с каждым, кто посмеет не выходить на работу”.
На смену Рихтеру пришел его преемник — Геттенбах. Он издал приказ, превращавший гетто в лагерь. Все дома гетто были перенумерованы, и жители гетто, помимо желтых лат, стали носить еще номера своих домов. За нарушение этого приказа Геттенбах собственноручно расстрелял сотни евреев. Но расстрелы в гетто производились и без всяких поводов и причин. В мае привезли из лагеря Тростинец трех рабочих. Они себя плохо чувствовали и попросились на прием к врачу. Геттенбах отвез их на кладбище и расстрелял. Аналогичных случаев было много.
Работа на фабрике ”Октябрь” считалась самой выгодной. Там, кроме 200 граммов хлеба, давали кружку горячей воды, а на обед жидкий суп.
В мае 1942 года с фабрики уволили 13 женщин. Они решили наутро пройти с колонной на фабрику, узнать, за что их уволили. Им не позволили говорить с шефом и повели в тюрьму. Две недели их мучили и томили в тюрьме, а потом под усиленным конвоем повели в гетто на площадь против Юденрата. Жителей выгнали из домов на площадь, а затем этих 13 несчастных расстреляли разрывными пулями. Два дня лежали убитые на площади, — немцы не разрешали их убрать.
В апреле 1942 г. гестаповцы приказали всем евреям каждое воскресенье являться на площадь к зданию Юденрата ровно к 10 часам утра.
Без плеток и избиения прикладами эти выходы на площадь не обходились. Люди находились в напряжении, не зная, что их ждет на площади. Каждое воскресенье на сборах Рихтер, Геттенбах, Фихтель, Меншель и другие произносили речи, убеждали евреев не уходить из гетто в партизанские отряды, говорили, что погромов больше не будет. Каждое воскресенье повторяли одни и те же речи, после чего евреев заставляли исполнять концертные номера: петь, играть, некоторых фотографировали.
В одно из воскресений полицейские пошли проверять по домам выход евреев на ”апель”. Они нашли в квартирах 14 мужчин. Их привели на площадь, показывали всем и объявили, что их отведут в тюрьму, откуда они уже больше не вернутся. Так это и было: их расстреляли. ”Апели” продолжались до 28 июня 1942 года. В июне, в одно из воскресений, после ”апеля”, группа евреев стояла у водоколонки на Танковой улице. По 2-му Апанскому переулку проходил полицейский с женщиной. Подошли к проволоке, увидели очередь за водой, и полицейский, обращаясь к своей даме, сказал: ”Посмотри, какой я меткий стрелок”, — и выстрелил из винтовки в толпу. У колонки осталась лежать 16-летняя девушка Эсфирь, через час она скончалась. Такие случаи не были единичными.
Из партизанских отрядов, в связи с арестом Минского партийного комитета, перестали приходить проводники, связь временно была потеряна. Партийный комитет гетто, обсудив положение, решил создать свою базу для вывоза людей в отряды. Для этой цели были выделены 20 человек во главе с товарищем Лапидусом. Отправляли людей грузовиком, но так как всех людей, намеченных к отправке, на одной машине нельзя было поместить, условились отвезти машиной первую группу в 20 человек за 45 км от города и вернуть машину на пятнадцатый километр, куда к этому времени выйдет вторая группа. В составе второй группы шли Фельдман, Тумин, Лифшиц и другие. Машину в условленном месте они не нашли. Первая партия людей добралась благополучно, вторая же попала под обстрел гестаповцев и предателей. Часть людей, среди них Фельдман и Тумин, вернулись в гетто, остальные погибли.
В конце апреля 1942 года оставшиеся коммунисты гетто решают восстановить городскую партийную организацию. В одном из домов по Торговой улице было созвано партийное совещание. На это совещание явилась группа коммунистов русского района. После этого совещания была восстановлена парторганизация, но не по принципу десяток, а по принципу территориально-производственному. Парторганизация гетто была выделена в самостоятельную, входившую в Кагановичский райком партии. В это время прибыла директива ЦК партии большевиков о массовом вывозе людей в партизанские отряды.
При помощи подпольного парткомитета гетто был создан отряд (в Слуцком направлении) под командованием капитана Никитина. В этот отряд направлялись евреи гетто. Систематически производились отправки военнопленных, работавших в лагере на Широкой, на войлочной фабрике и на других предприятиях.
При отправке военнопленных в отряды у проволоки был арестован Миша Гебелев, весь отдавший себя служению народу, не знавший в борьбе страха и усталости.
Одновременно с отправкой военнопленных в отряды проводились диверсии на предприятиях: на мясокомбинате, на войлочной фабрике, на спиртзаводе. Еврей-кузнец, работавший на спиртзаводе, систематически отравлял спирт, предназначенный для отправки германским войскам на фронт.
Партийный комитет гетто направил Наума Фельдмана, одного из первых участников подпольной партийной организации гетто, устраивать партизанские базы в западном направлении. Тяжел был путь Фельдмана. Двое суток на 9-м километре от города ждал Фельдман проводника, который должен был провести его с группой до места.
Наконец, Фельдман нашел отряд Скачкова; этот отряд только формировался. Скачков отказался принять группу Фельдмана. Фельдман решил сам организовать отряд. Он послал связных в подпольный партийный комитет гетто, откуда прислали новых товарищей. Группа была уже вооружена ручными пулеметами, винтовками, наганами и пистолетами. В конце мая отряд Никитина забрал часть людей, имевших оружие при себе. Оставшиеся в отряде занялись изысканием оружия. На помощь опять пришел парткомитет гетто. Связь отряда с партийным комитетом гетто не прекращалась. В июне 1942 года был прислан командир отряда, военнопленный из лагеря на Широкой, которому был организован побег, — Семен Григорьевич Ганзенко. Отряд назвался именем товарища Буденного. Фельдман был в отряде парторгом. Отряд влился в бригаду имени Сталина и стал одним из ее боевых подразделений. Впоследствии Ганзенко был назначен комбригом, а Фельдман комиссаром одного из отрядов бригады.
Все эти уходы из гетто были сопряжены с колоссальными трудностями. Гетто стерегли ночью и днем. Всюду были устроены засады.
27 июня 1942 года гестапо издало приказ: все евреи, помимо желтых лат и номеров домов, обязаны носить следующие знаки: рабочие — красные, а иждивенцы рабочих и безработные — зеленые. Рабочие должны были получить свои знаки по месту работы, а иждивенцы и безработные — на площади перед Юденратом. Никто не предполагал, что этот казавшийся невинным приказ, подготовляет самую страшную бойню.
28 июля 1942 года было самым черным днем гетто.
Утром, после ухода рабочих колонн, в гетто прибыли гестаповцы и полицейские. Все гетто было окружено плотным кольцом патрулей. Жителей гнали из квартир к площади. Туда стали подъезжать большие закрытые чернью машины-душегубки. Во время этого погрома были уничтожены детский дом, инвалидный дом, гестаповцы уничтожили и больницу, пощаженную при предыдущих погромах. Больных расстреляли в постелях, среди них погиб композитор орденоносец Крошнер. Медперсонал и врачей выстроили отдельной колонной в белых халатах и повели на площадь. Там их погрузили в душегубки и умертвили.
Погибли 48 врачей, лучших специалистов БССР, среди них профессор Дворжец, доктор медицинских наук; доцент Майзель, кандидат медицинских наук; погибли старейшие и опытнейшие врачи — Турвель, Кантарович, Гурвич, Сироткина и многие другие.
Из ”малины” немцы вывели двух евреев. Одного из них повалили на землю, положили на него куски оконного стекла, а второго заставили топтать стекло ногами. Видя, что еврей плохо справляется с порученной ему работой, злодеи сами растоптали стекло, а потом обоих убили.
28, 29, 30 и 31 июля до 13 часов длился страшный, неслыханный погром. В короткие паузы, которые устраивали палачи, они пьянствовали и кутили.
31 июля 1942 года в 13 часов был отдан приказ о прекращении погрома, но разгул фашистов не унимался. Они продолжали бегать по квартирам, разыскивали ”малины”, вытаскивали оттуда людей и расстреливали их. В этой чудовищной бойне погибло около 25000 человек.
Вот как описывает этот погром лично пережившая его, от первого до последнего часа, Лиля Самойловна Глейзер.
”Всю ночь шел дождь, а утром 28 июля он еще больше усилился. Природа как бы заранее оплакивала невинную кровь. В это утро, кто смог, ушел с рабочими колоннами на работу. Некоторые, вырвавшись из гетто, скрывались у своих русских знакомых. Прятались в ”малинах”.
Попавшие в рабочие колонны думали, что их детей, оставшихся в гетто, не тронут, согласно объявленным гарантиям. Утром я спустилась в так называемую ”малину”, сделанную особо от других ”малин” нашего дома. Она находилась под самой печкой. Вход в нее был так тщательно замаскирован, что и самый опытный сыщик не смог бы его обнаружить.
Через стены подземелья были слышны плач детей и даже приглушенный разговор взрослых. Можно было с уверенностью сказать, исходя из опыта предыдущих погромов, что эти ”малины” будут обнаружены, если фашисты займутся поисками.
При погромах прячущиеся больше всего страдают из-за детей. Дети не могут выдержать многосуточного голодания в невыносимой духоте и тесноте, в полном молчании. Они начинают капризничать и плакать, и это приводит к обнаружению ”малин”.
Через стену я слышала, как в нашем доме идет спешная и усиленная подготовка к чему-то необычайному. Повсюду слышны были суетня, скрип дверей, плач, повышенный разговор. Вскоре шум усилился. Было слышно, как полиция выгоняла людей из дома на улицу. Слышались вопли, люди молили не гнать дряхлых стариков и маленьких детей, но весь этот плач и мольбы о пощаде покрывала разнузданная ругань полиции. Через час все стихло. Наступила тишина. Любопытство заставило меня выбраться из ”малины” в комнату. Дом наш, насчитывающий 900 жильцов, был безмолвен, точно в нем все вымерло. На улице тоже было тихо и пустынно. Я постояла с минуту, напрягая слух. До меня донесся истерический плач женщины и ее мольбы о пощаде, затем последовал какой-то продолжительный шум и несколько ружейных выстрелов. Я с быстротой мыши юркнула в свою нору-спасительницу. Из ”малины” было слышно, как шум и выстрелы постепенно становились сильнее. Я поняла, что снова шла полиция, которая делала второй, еще более тщательный осмотр, и с пойманными в домах расправлялась на месте.
Через несколько минут раздались шаги по лестнице нашего дома. Зазвенела посуда, загремели винтовочные выстрелы, послышался резкий и короткий треск ломающихся дверей и хохот полицейских. Так продолжалось несколько минут, а затем шум начал угасать; ”бобики”, как обычно называли полицейских, удалились. Еще раздалось в доме несколько винтовочных выстрелов, и все смолкло, как бы уйдя в небытие.
Наступила тишина, лишь изредка слышались неясные человеческие выкрики из соседних ”малин”. Мое любопытство превозмогло страх. Я вновь вышла из ”малины”. Вдруг из соседней квартиры до меня донесся шум. Постояв с минуту и прислушавшись, я поняла, что причиной этого шума была сумасшедшая женщина, соседка, лишившаяся рассудка после того, как на ее глазах расстреляли мужа, еще в первые дни гетто. Я на цыпочках, крадучись как кошка, прислушиваясь к малейшим шорохам, подошла к дверям ее квартиры. Слегка приоткрыв дверь, я увидела ее; она ходила со спящим ребенком на руках по комнате. По какой-то случайности ее не заметили полицейские. ”Видно суждено ей жить”, — подумала я. Меня она не замечала; ни к кому не обращаясь, она просила есть. При виде этой безумной с младенцем на руках я разрыдалась, и какая-то неизмеримая жалость появилась у меня к этой женщине. Я вспомнила, что у меня в шкафу лежит краюха полудеревянного немецкого хлеба, которым немцы кормили евреев и пленных. Я мигом бросилась к шкафу, принесла хлеб, и, показывая его, стала заманивать безумную в свою ”малину”, желая спасти ее. Едва мы успели спуститься, как в дверь со стороны улицы постучались, и раздались голоса гитлеровцев: ”Ауфмахен!” (Открывайте!) Не взирая на то, что дверь и не была закрыта, гитлеровцы неистово кричали, чтобы им открывали. Через несколько мгновений раздались удары прикладов. Я забралась еще дальше в подземелье и прижалась к земляной стене, дрожа от страха. Мы слышали, как немцы ворвались в комнату и начали стрельбу в стены, потолок и пол. Это были немцы, специально выбранные для отыскивания ”малин”, и отличались они особенным зверством. Гитлеровцы неистово кричали и ругались, по их бессвязной речи и ругани можно было заключить, что они пьяны.
Ребенок безумной, находившейся в моей ”малине”, испугавшись стрельбы, сильно заплакал.
Мать зажала ему рот руками, но плач уже донесся до гитлеровцев. Постояв с минуту в безмолвии, они начали взламывать пол над моей ”малиной”, безудержно ругаясь.
”Погибли”, — пронеслась мысль в голове. Оторвав доски от пола возле печки, гитлеровцы бросили в это место несколько гранат. Эти взрывы вскрыли соседние ”малины”, так как от сотрясения весь земляной настил,пола, который служил потолком наших подземелий, рухнул. Началась страшная стрельба по ”малинам”. Вопли женщин и детей о пощаде не трогали гитлеровцев. В отверстия подземелий, откуда доносились стоны раненых и вопли о пощаде, они сбросили еще несколько гранат. Эти взрывы вновь сотрясли все окружающее и обнаружили мою ”малину”. На минуту стоны и вопли прекратились. Опять наступила тишина после оглушивших меня взрывов, и вдруг вновь рычание и крик фашистов: ”Хэраусгеен!” (Выходите), но в ответ слышались лишь душераздирающие крики раненых. Безрезультатно повторив приказание, немцы спустились в наше подземелье, осветив фонариками сумрак, из которого доносились вопли и стоны умирающих. Я совсем вдавилась в земляную стену подземелья и затаила дыхание, видя лучи фонариков. Меня немцы не обнаружили, так как я находилась за поворотом подземелья. Крикнув еще несколько раз ”Хэраусгеен!”, — они прикончили кинжалами умирающих и поднялись наверх. Охваченные безумием разрушения, гитлеровцы начали бить посуду, ломать мебель и окна. Затем они врывались в другие квартиры нашего дома, и там повторился тот же ужас. Через несколько часов все стихло. Эту тишину изредка нарушали неясные стоны, доносившиеся из соседних ”малин”. В темноте, одна среди мертвецов, я ощутила ужас и стала поспешно ползти к двери, вырванной взрывами гранат. Оттуда шел слабый свет и освещал подземелье. У самого выхода из ”малины” я наткнулась на распростертую женщину. Это была безумная, которую я желала спасти. Все ее тело было истерзано осколками гранат, — видимо, ее убили мгновенно. Возле нее лежало мертвое тельце ее ребенка с открытым ртом и глазенками.
Я выползла в комнату. Вся моя комната была завалена обломками посуды и мебели, пол и остатки вещей покрыты густым слоем известки, перьев и пуха из перин и подушек. Окна оказались вышибленными вместе с рамами, а в стенах и потолке зияли отверстия от осколков. У меня закружилась голова. Я закрыла лицо руками и едва не упала на обломки разбитой двери, но жажда жизни вывела меня из обморочного состояния. Придя в себя, я бросилась на чердак нашего дома. С чердака я увидела продолжение погрома в других домах на нашей улице. Слышен был беспрерывный беспорядочный гул разрывов гранат, очередей из автоматов. По всей улице лежали окровавленные трупы женщин и детей. Гитлеровцы тащили из домов всевозможные вещи, узлы, грузили их на повозки и увозили. Но и это еще не был самый погром, а только начало погрома. В полдень на Юбилейную площадь согнали всех, кто находился в пределах гетто. На площади возвышались огромные празднично украшенные столы, заставленные всевозможными яствами и винами; за этими столами сидели руководители неслыханного в мировой истории побоища.
В центре сидел начальник гетто Рихтер, награжденный Гитлером железным крестом. Рядом с ним — сотрудники СС, один из шефов гетто, скуластый офицер Рэде, и жирный толстяк — начальник минской полиции майор Венцке. Неподалеку от этого дьявольского престола стояла специально построенная трибуна. С этой трибуны фашисты заставили говорить члена Еврейского комитета гетто композитора Иоффе. Обманутый Рихтером Иоффе начал с успокоения возбужденной толпы, говоря, что немцы сегодня лишь проведут регистрацию и обмен лат. Еще не докончил своей успокоительной речи Иоффе, как со всех сторон на площадь въехали крытые машины-душегубки. Иоффе стало сразу понятно, что это значит. Иоффе крикнул взволновавшейся толпе, по которой молнией пролетело ужасное слово ”душегубки”:
”Товарищи! Меня ввели в заблуждение. Вас будут убивать. Сегодня погром!”
Обезумевшая толпа бросилась в разные стороны, ища спасения от ужасной смерти. Все смешалось, люди метались, мелькало бесконечное множество шестиконечных звезд. Фашисты, уже окружившие площадь, открыли плотный огонь по беззащитным людям. Но люди, невзирая ни на что, лезли напролом. Началась рукопашная битва беззащитных людей с фашистами, вооруженными до зубов. Многим фашистам пришлось поплатиться, прежде чем они усмирили толпу. Вся площадь была усеяна трупами и залита кровью. К десяткам душегубок немцы установили бесконечные очереди усмиренных огнем женщин и стариков. Детей отделили от взрослых. Их с поднятыми руками поставили на колени. Маленькие дети, изнуренные и слабые, начали плакать, у них сразу же уставали и опускались ручонки. За это их тут же прирезывали кинжалами, либо переламывали позвоночный хребет, или, подняв над своей головой ребенка, фашист бросал его изо всей силы на булыжную мостовую; после такого удара у ребенка вылетали мозги из раздробленного черепа. Матери, стоявшие в очереди у душегубок, видя это, тут же сходили с ума, как разъяренные тигрицы, бросались на немцев. Их убивали очередями из автоматов. Тех, кто отказывался лезть в душегубки, постигала ужасная смерть. Их тащили к столбам, за которыми под звуки гармошек произносились пьяные тосты. Пьяные Геттенбах, Рихтер, Рэде и другие объявляли приговор: ”отрезать нос и уши”, ”убить кулаками и плетьми” и т.д. Эти приговоры исполнялись тут же за столом, или самими судьями, или же полицейскими, гестаповцами, солдатами гарнизона.
Народный артист республики Зоров, при виде кровавого зрелища, с проклятьем кинулся на фашистов. Он грыз их зубами, бил руками и ногами; его свалили без сознания и бросили в душегубку.
Так продолжалось до позднего вечера. Опустела площадь, за праздничным столом заснули организаторы избиения. Погром притих. Лишь в поисках ценностей шныряли солдаты Минского гарнизона, всегдашние участники расправ в гетто. Все дети до единого, которых поставили с поднятыми вверх ручонками, были убиты на площади. Душегубки больше не возвращались.
Ночью оставшимся в живых членам еврейской милиции было приказано очистить площадь от трупов и крови. К утру следующего дня приказ был выполнен.
Наступило утро 29 июля. День хмурился, как бы предчувствуя продолжение побоища. Изредка выглядывало затуманенное солнце и сразу же скрывалось в грозовых черных тучах. Гетто было пустынно.
В 10 часов утра на Юбилейной площади загудели немецкие машины. Группы солдат Минского гарнизона под командованием начальника полиции, немецкого офицера, палача, майора Венцке вновь отправились на грабежи и на вскрытие ”малин”. Пиршественные столы были убраны с площади, так как собирался дождь, и внесены в помещение Комитета. Туда и приводились на расправу обнаруженные в ”малинах” старики, женщины и дети. Много было в этот день раскрыто убежищ. Много ограблено домов, разбито в квартирах мебели и посуды.
Ворвавшись в больницу гетто, которая в первый день погрома была не затронута, немцы и полиция уничтожили кинжалами больных и обслуживающий персонал.
1 августа, после четырех дней побоища, на Юбилейную площадь немцы снова вытащили стол, который был уставлен едой и винами. За этим столом сидели все те же главари.
Гестаповцам и полицейским было приказано во что бы то ни стало доставить всех последних обитателей гетто, спрятавшихся в ”малинах”.
В этот последний день погрома, фашисты перешли все границы человеческих представлений о преступлениях. На глазах сходивших с ума, падающих в обморок матерей, пьяные немцы и полицейские насиловали девушек, не стесняясь ни друг друга, ни окружающих; вырезывали им кинжалами половые органы, заставляли живые и мертвые тела принимать самые постыдные позы, отрезали носы, груди, уши.
Матери в бешенстве кидались на фашистов и замертво падали с размозженными головами.
Дряхлых стариков убивали ударами резиновых палок по голове или забивали насмерть кожаными плетями. Весь день не прекращались истерические крики, вопли и проклятия; их не могли заглушить десятки гармошек.
В три часа дня все было кончено. Через час рихтеровы помощники уехали из гетто.
После прекращения резни гестапо разослало приказ по всем предприятиям, где находились во время четырехдневного погрома рабочие-евреи, о возвращении их по домам в гетто.
Вечером рабочие колонны двинулись в гетто. Все они шли медленно, в полном молчании, потупив взоры в землю. Так они подошли к контрольным воротам гетто. Кто встретит их у ворот?
Обычно, навстречу рабочим колоннам, возвращающимся с каторжных работ, к контрольным воротам стекалось все нетрудоспособное население гетто. Матери, жены, старики-отцы, дети, сестры, братья радовались, вновь видя друг друга живыми после четырнадцатичасовой разлуки. Но в этот раз никто не стоял у ворот.
Лишь из контрольной будки быстро выбежал немецкий часовой и крепко, звонко пристукнув каблуками кованых сапог, отдал честь офицеру, шедшему во главе солдат-конвоиров. Офицер дотронулся до козырька и велел солдату открыть контрольные ворота. Колонны вошли в безмолвное гетто. По всем улицам валялись обломки разбитой мебели, обрывки бумаги, книг, осколки посуды. Выпущенные из подушек и перин перья покрывали мостовые и тротуары, разбитую и поломанную домашнюю утварь.
Из разбитых окон виднелись наполовину высунувшиеся, но каким-то чудом удержавшиеся шкафы, буфеты, столы. И всюду, всюду, лежали трупы тех, кого жаждали увидеть пришедшие. Они лежали в огромных лужах крови. Немецкий офицер, который шел впереди колонны, видимо, никогда не видавший такого зрелища, вдруг закричал и в истерическом припадке стал биться на окровавленной мостовой. Колонна дрогнула и остановилась. Женщины тяжело рыдали, мужчины со стенаниями ломали себе руки и рвали волосы. Видел ли мир от сотворения своего картину ужасней этой...
Обезумевшие люди кинулись в свои квартиры, надеясь в ”малинах” найти спасшихся родных. Но ”малины”, находившиеся в печах, под полом, между стенами, были разворочены гранатами. Там рабочие нашли останки близких, разорванных взрывами. Но большинство пришедших не нашло даже останков близких людей. Они были увезены в душегубках в Тростинец и Тучинки, свалены в заранее заготовленные рвы, ограбленные и раздетые, удушенные в машинах смерти.
Даже ужаснейший погром 2 марта бледнеет перед июльским кровавым побоищем.
Из 75000 евреев к первому августа 1942 года осталось всего лишь 8794 человека.
В этом погроме пострадали и немецкие евреи — 3000 немецких евреев были отравлены в машинах-душегубках. Им объявили, чтобы они собирались с вещами, якобы, на работы. На площади перед ними произнес речь Геттенбах и оберштурмфюрер.
Менялись немецкие палачи, ушел Рихтер, его сменил Геттенбах, затем Фихтель, Меншель. Каждый такой приход и уход стоил новых человеческих жертв.
В январе 1943 года в русском районе полиция обнаружила два трупа немцев. Страшными репрессиями ответило на это гестапо. 1 февраля 1943 года днем, в 15 часов, в гетто въехали закрытые машины-душегубки. Из них вышли сотрудники гестапо во главе с кровавым оберштурмфюрером Миллером.
Выгоняли людей из домов, хватали на улице и сажали в машины-душегубки. 401 человека не досчиталось гетто утром следующего дня.
Вскоре в гетто прибыли 53 еврея из Слуцка. Их привезли как ”специалистов”. Они рассказывали об ужасах постепенной ликвидации Слуцкого гетто. В своих рассказах они часто упоминали имя Рыббе — сотрудника гестапо, отличившегося невообразимой жестокостью.
В первой половине февраля 1943 года на улицах гетто появились два дотоле неизвестных немца. На их одежде были отличительные знаки гестапо. Они остановили женщину, обыскали ее, найденные 8 марок забрали себе и пошли дальше. Навстречу им попалась еще одна женщина с 4-летним сыном. Немцы спросили ее (один из них говорил по-русски — он оказался переводчиком Михельсоном), почему она не работает? Женщина предъявила справку о болезни, но оба они накинулись на нее, избили, потащили с ребенком на кладбище и там расстреляли. Возвращаясь с кладбища, они встретили мальчика лет 15, в руках у которого было два полена дров. ”Откуда дрова?” ”На работе шеф дал”. И мальчика они повели на кладбище и там расстреляли. Вечером, когда рабочие пришли с работы, слуцкие евреи опознали своего палача. ”Это Рыббе со своим переводчиком Михельсоном, — сказали они. — Раз он здесь, значит начинается полная ликвидация гетто”.
Это действительно был неоднократно награжденный погромщик, гауптшарфюрер гестапо Рыббе со своим помощником и переводчиком Михельсоном.
С приходом Рыббе евреи не знали ни одной минуты передышки. Помощниками его в кровавой расправе были Михельсон, вновь назначенный полицаймайстер Бунге и его заместитель фельдфебель Шернер.
С раннего утра до поздней ночи в гестапо раздавались выстрелы, на каждом шагу падали убитые. Лицо человека не понравилось Рыббе — расстрел, одежда была не такая, какую бы хотел видеть Рыббе, — расстрел. Лата была не так пришита, как этого хотел Рыббе, — расстрел.
Улицы опустели, люди боялись выходить из своих квартир, но это ни к чему не привело. Рыббе и его свора врывались в дома. Нашли булочку немецкой выпечки — расстрел, кусочек масла для больного ребенка — расстрел, географическую карту, книжку для чтения — расстрел.
Еврейские дети, гонимые голодом, пробирались в русский район и там нищенствовали, прося корки хлеба. Обычно они вечером собирались у железнодорожного моста и поджидали рабочие колонны, чтобы с ними вернуться в гетто. В феврале Рыббе учинил облаву на детей: их изловили в русском районе, посадили в грузовую машину, повезли на еврейское кладбище и там расстреляли. Когда детей сажали в машину, они кричали.
19 февраля Рыббе, объезжая предприятия, где работали немецкие евреи, обратил внимание на нескольких молодых, красивых девушек и женщин.
Он выбрал первых красавиц гетто — 12 немецких евреек и одну русскую еврейку — Лину Ной. Рыббе приказал им явиться в 19 часов на биржу труда.
На биржу явились Рыббе с Михельсоном. Жертвы, не зная еще своей участи, ждали его. На улице было шумно, рабочие колонны возвращались домой, многие останавливались и ждали: всех интересовало, зачем Рыббе вызвал самых красивых девушек и женщин. Рыббе отдал приказ: взять под руку женщин и медленным шагом повести их по Сухой улице. Стон пронесся по гетто: по Сухой — значит на кладбище.
Страшная это была процессия: 13 юных, прекрасных женщин медленным шагом шли к воротам кладбища. Одна немецкая еврейка попросила разрешения попрощаться с мужем. Рыббе разрешил. Его привели на кладбище и на глазах у жены расстреляли. Звери раздели женщин догола; стали издеваться над ними, а потом Рыббе с Михельсоном собственноручно расстреляли их. С Лины Ной Рыббе снял лифчик и спрятал его в карман. ”На память о красивой еврейке”, — сказал он.
В этот же вечер, 19 февраля 1943 года, в 23 часа, в гетто въехала грузовая машина с сотрудниками гестапо. Захватив с собой Эпштейна, предателя, который им постоянно помогал, они направились к дому №48, по Обувной улице. Дом был окружен со всех сторон, людей выводили на улицу и строили по четыре в ряд. Крики детей были так пронзительно громки, что заглушали пулеметные очереди. Всех жильцов этого дома, 140 человек, убили. Лишь две женщины, мужчина и маленький мальчик спаслись в эту ночь. Дом немцы опечатали. 20 февраля 1943 г. Рыббе вывесил приказ о том, что в доме №48 хранилось оружие, за что все жильцы дома расстреляны. Все обязаны сдать оружие, говорилось в приказе; кто боится сам приносить его, может подбросить его тайным образом.
Приказ предупреждал, что в случае несдачи оружия массовые расстрелы будут и впредь применены. С омерзением и ужасом читали евреи этот приказ, но ни один человек не сдал оружия, хотя оно каждый день поступало в гетто и переотправлялось в партизанские отряды.
Медленно, не спеша, ликвидировал Рыббе гетто. Под свой контроль он взял рабочие колонны: каждый вечер он с Михельсоном встречал и обыскивал их. Если у кого-либо из рабочих Рыббе находил несколько картофелин, бутылку молока или жиры, ”преступника” отводили на кладбище и расстреливали; продукты отвозились на квартиру к Рыббе и Михельсону.
Рыббе утверждал, что он преследует лишь тех, кто занимается политической деятельностью и причастен к партизанскому движению. В тех случаях, когда Рыббе устанавливал, что из колонны исчезал человек, расстреливали всю колонну. Так были уничтожены колонны рабочих спиртзавода, тюрьмы и многие другие. Евреев, работающих в тюрьме, предупреждали, что они не имеют права разглашать виденного в тюремной ограде. Для того чтобы изолировать их, не дать возможности общения даже с евреями гетто, их заставляли жить в бараках при тюрьме.
В мае 1943 года по приказу начальника тюрьмы Гинтера, всех рабочих-евреев выстроили, раздели донага, погрузили в машину, вывезли за город и расстреляли.
— Слишком много знали, — сказал Гинтер.
После этого он явился к Эпштейну в Юденрат, чтобы получить новых рабочих. Новую группу людей отвезли в тюрьму. Через три недели и их расстреляли.
Вскоре Рыббе отдал приказ доставить на биржу труда всех детей, не имеющих родителей. Привели ребятишек, оборванных и голодных. Туда попали и некоторые дети, еще имевшие родителей. Детей отвезли на машине в тюрьму, а оттуда на расстрел.
Матери после этого убийства боялись оставлять детей дома и вели их с собой на работу, нередко перенося их в мешках. Однажды немец Шернер подошел к машине, стащил с нее 6-летнего малыша, кинул на каменную мостовую, наступил сапогом на шейку, растоптал сапогами и отбросил мертвого, изуродованного ребенка в сторону.
На следующий день Бунге, встречая рабочие колонны, схватил 11-летнего мальчугана, повел его на кладбище и там расстрелял. Вернувшись к колоннам, Бунге снова вытянул за руку из рядов второго мальчика и повел к кладбищу, но не довел его до кладбища, а тут же на Сухой улице расстрелял. Старики и безработные, по мнению Рыббе, тоже обременяли гетто. Безработными считались даже те люди, которые не вышли на работу по уважительным причинам, даже имеющие официальное освобождение от работы на 2—3 дня.
150 человек ”безработных” и стариков были вывезены из тюрьмы и расстреляны. Гетто таяло, с каждым днем уменьшалось количество оставшихся в живых. Оправдалось предсказание слуцких евреев, что Рыббе послан в Минск для ликвидации гетто.
Рыббе, проводя свою политику, стремился к тому, чтобы сведения о его злодеяниях не выходили за пределы гетто. Но скрыть этого он не смог. В ”Луфтваффе” работал немецкий офицер — инспектор Шульц, он договорился с евреями, работавшими у него, что вывезет их из гетто. Он посадил 37 евреев в грузовую машину, вооружил их пулеметами, наганами, винтовками, захватил с собой радиоприемник, и сам уехал вместе с евреями в партизанский отряд. Случай этот совершенно исключительный, и мы считаем нужным упомянуть о нем.
После детей, ”безработных” и стариков настала смертная очередь врачей.
В конце апреля 1943 года Рыббе отдал приказ представить ему списки врачей. Еще через несколько дней поступило новое распоряжение: всем врачам явиться в Юденрат. Оттуда их повели в гестапо.
Рыббе обратил внимание Эпштейна на то, что среди врачей есть пожилые люди, как доктор Гехман, инвалид доктор Канцевая (она прихрамывала) и просил относиться к ним бережно, провести через город, чтобы они не уставали и не отставали.
Всех поразила такая забота изверга, поразила и испугала. Рыббе предложил врачам явиться в этот день к 16 часам на еврейскую биржу. Пришли врачи, там уже ждали Рыббе и Михельсон. Быстро разбили врачей на группы, пожилых — Гехмана, Шмоткину, Канцевую, врачей по детским болезням Савчик и Лев, врачей детского дома, инвалидного дома, большую часть врачей по внутренним болезням, ушников, зубных врачей — отвели в сторону.
Отобранных врачей повели в бункер (арестантское помещение при бирже труда). Как только стемнело, послали за их семьями. Привели Лев-Млынского (историк, научный работник) с двумя детьми, сына врача Шмоткиной, трех детей врача Савчик, — всего около 100 человек. К 5 часам утра, до ухода рабочих колонн, пришли Бунге и Шернер с отрядом полицейских и повели колонну в тюрьму; там с них сорвали одежду, избили и умертвили.
12-летняя дочь врача Савчик, когда обреченных врачей с семьями вели к тюрьме, кричала: ”Ничего, мамочка, смело иди, за нашу кровь отомстят”.
На очередь стали детский и инвалидный дома. В конце апреля 1943 года в ясную лунную ночь, в 23 часа, к большому двухэтажному дому, в котором жили дети, инвалиды и обслуживающий их персонал, подъехали две машины: легковая и грузовая. Из легковой машины вышли Рыббе с Михельсоном и, подойдя к дому, указали на него сидевшим в грузовике и уехали. Дом стоял на Заславльской улице, на самой границе с русским районом. Полицейские перерезали проволоку и окружили дом. Детей и персонал хватали голыми и бросали в кузов машины. Инвалидов, больных и маленьких детей расстреливали на месте. В течение одного часа все было закончено.
Грузовая машина с людьми уехала в тюрьму. Детей этих уже больше никто не видел.
Наутро пришли Бунге и Шернер проверить ночную работу и, обнаружив среди трупов, буквально плававших в огромных лужах крови, несколько тяжело раненых женщин, тут же прикончили их.
Рядом с этим большим каменным зданием стояла маленькая хибарка. В ней помещался изолятор детского дома. В нем было 30 больных детей. Их стали расстреливать, а когда не хватило патронов, Шернер и Бунге закололи детей кинжалами.
Оставались больницы. В мае в больницу пришел Рыббе, он интересовался состоянием больных и просил показать ему палаты. Через два дня, в ясную теплую погоду, ровно в 12 часов, жители гетто услышали выстрелы в районе больницы для немецких евреев. Все кинулись туда. На больничном дворе стояла большая черная машина-душегубка. Немецкие евреи рассказали, что Миллер, Рыббе, Михельсон и еще четыре человека, одетые в цивильную одежду, с автоматами, скрытыми под плащами, вошли в больницу и детский дом и расстреливали в упор больных и детей. Завершив убийство в этой больнице, бандиты тотчас же перешли в больницу для русских евреев. Больные выпрыгивали из окон второго этажа, несколько человек спаслись. Все остальные больные были расстреляны в кроватях.
Персоналу больницы приказали убрать трупы, смыть кровь и навести порядок с тем, чтобы к 16 часам больница была восстановлена и готова к приему новых больных.
Рыббе сказал: ”Погромов немецкие власти не устраивают, но нам нужны здоровые, а не больные люди”.
После этих ликвидаций Рыббе занялся немецкими евреями. ”Чем занимаешься, где работаешь, если работа тебе не по силам, дадим более легкую работу, пошлем в лагерь чистить картошку”, — говорил Рыббе немецким евреям.
Нашлись наивные люди, поверившие, что Рыббе им действительно предоставит легкий труд. Они просили разрешения взять с собой в лагерь членов семьи. Рыббе разрешил: ”Я не разлучаю близких людей”.
К 2 часам дня он пришел к Эпштейну, пообедал с вином и водкой, а затем вышел во двор и приказал своим подручным быть готовыми к операции. А пока он решил поразвлечься. Рыббе вздумалось послушать концерт. В это время прошел мимо скрипач Варшавский, а затем скрипач Минской филармонии Барац. Он проходил мимо гетто немецких евреев и, видя, как собираются люди, понял, что готовится очередной погром.
Неожиданно его остановили. Напрасно уверял Барац, что он не в состоянии после двух лет перерыва играть. Его заставили. Бледный, со слезами на глазах, играл Барац перед своим палачом. Когда концерт был окончен, Рыббе отпустил Бараца и пошел с отрядом в гетто немецких евреев. Через 10 минут толпу людей с детьми, с узлами и котомками заперли в бункер. Еще через несколько минут подъехала большая закрытая машина, в нее стали грузить людей, повезли в тюрьму. Стояла гробовая тишина. В тюрьме немецких евреев принимали Рихтер и Меншель; они раздевали обреченных, обливали их водой из насосов, издевались над ними, а потом расстреляли. При этой расправе погибло 175 человек.
Несмотря на террор и каждодневные убийства, люди пытались бороться, вырывались из гетто.
Особенно широкий размах принял уход евреев из гетто в апреле-мае 1943 года, когда были организованы в Пуще отряды имени Пархоменко и национальный отряд Зорина. Зорин знал о страданиях евреев в гетто, сам перенес их. Зорин организовал семейный, национальный отряд, систематически присылал проводников и брал к себе в отряд всех: стариков, женщин и детей. Этот отряд насчитывал до 500 человек. Многие евреи-партизаны стали отличными бойцами: подрывали пути, эшелоны с боеприпасами, живой силой и техникой немецкой армии.
Многие погибли при попытке вырваться из гетто. На ”Ферфлегунгсамт” работало 14 евреев: сапожники, портные, кузнецы, маляры; среди них работал коммунист Ури Рецкий со своим приятелем Ильей Дукорским. Рецкий часто говорил своим товарищам по работе, что жизнь свою он дорого отдаст, не будет жить тот гитлеровец, который поднимет руку на него... Он сделал финский нож, который всегда носил с собой.
Работали эти рабочие на Долгобродской улице, а обедать (т.е. пить жидский суп) ходили за несколько кварталов, на хлебозавод. Однажды в обеденный перерыв встретился Рецкий со своим старым знакомым, бывшим заведующим столовой Белгосстроя — Савичем. Савич отрекомендовал себя патриотом Советской родины, сказал, что он связан с партизанскими отрядами и с проводниками. За деньги он брался добыть большое количество оружия. Через два дня Рецкий договорился встретиться с Савичем с тем, чтобы Савич дал окончательный ответ об оружии и проводнике. Продумав предложение Савича, Рецкий решил проверить его: Савич произвел на него плохое впечатление. Предатель Савич опередил Рецкого, через два дня он пришел на ”Ферфлегунгсамт” со своим шефом Ковалевым (местный немец) и целой бандой сотрудников гестапо. Ковалев быстро зашел в мастерскую, Савич стоял и наблюдал за ним. Остальные бандиты окружили дом. Ковалев приступил к обыску. Рецкий все понял. Он переглянулся с Дукорским. Дукорский прихлопнул дверь, а Рецкий выхватил нож и стал наносить им удары Ковалеву. Ковалев стоял, обливаясь кровью. Подбежали остальные. Рецкого и Дукорского расстреляли на месте, остальных пытались задержать.
Рабочие Быховский и Зильберштейн крикнули товарищам: ”Живым в руки не сдаваться, бежать, не плакать, не просить пощады”. Бежали все. Полицейские никого живым не взяли, люди прыгали через заборы и изгороди. На третьем заборе пуля настигла Мишу Белостокского. Среди рабочих был 12-летний мальчик Бляхер, он бежал, но пуля догнала и его.
Ковалева за борьбу с партизанами немцы наградили орденом Железного Креста.
Другое предательство произошло 8 мая 1943 года. Заведующий жилотделом Юденрата Соломон Блюмин, давно и всем, чем только мог, оказывал помощь партизанскому движению. Когда парторганизация была разгромлена и проводники, приходя из отрядов в гетто, погибали, связь с партизанами сделалась очень затруднительной.
При помощи своей знакомой, некой Соньки, Блюмин связался с шоферами грузовых машин — Ивановым и Кузьминовым. Оба они работали в Минске в жилуправлении. Много раз встречался с ними Блюмин, разрабатывая план выезда из гетто и оформления документов. Блюмин хотел вывезти из гетто оружие и забрать с собой оставшихся в гетто коммунистов. Не желая лишних людей знакомить с шоферами, он сам встречался с ними.
Тяжело было Блюмину уйти из гетто: все его любили и знали там. Рослый и красивый, он запоминался уже своей внешностью. День выезда был назначен на 8 мая. Приехали машины в гетто, но не те, на которых должен был уехать Блюмин со своими людьми. Приехали душегубки с гестаповцами, с предателем Ивановым. В 6 часов утра гестаповцы окружили квартал, где жил Блюмин.
Блюмин показался в дверях, и удары прикладами посыпались на него; он упал оглушенный и окровавленный. Его связали и бросили в машину, туда же загнали его семью и жителей дома. Три недели пробыл Блюмин в гестапо. Три недели, днем и ночью, пытали его, требуя выдачи соучастников, связи, оружия. Молча страдал Блюмин, молча терпел он муки, но ни слова, ни звука не сорвалось с его уст. Убедившись, что от него ничего нельзя добиться, гестаповцы провезли Блюмина по улицам гетто, а затем отвезли на кладбище и расстреляли, труп бросили в яму. С трудом опознали люди своего Блюмина. Был он высоким, плечистым, а привезли его на кладбище худеньким, беззубым. Украли люди труп Блюмина из общей могилы и похоронили его с почетом.
В июне 1943 года пришли из партизанского отряда проводники с требованием медикаментов и врача. Выбор пал на Анну Исааковну Турецкую. Одно время она работала заведующей детским домом. ”Наша Нюта”, ”наша мамочка”, говорили о ней с гордостью дети и работники. Красивая женщина, умница, она со всеми находила общий язык; в тяжелые минуты умела подбодрить, утешить, вселить бодрость, зажечь надежду там, где, казалось, не могло быть никакой надежды.
Она была счастлива тем, что служит в тяжелые дни своему народу. Четыре раза пыталась Нюта выйти со своей группой из-за проволоки, и каждый раз ее постигала неудача.
Наконец, в ночь с 16 на 17 июня 1943 г. в 23 часа группа вырвалась за проволоку. В двух километрах от гетто они столкнулись с Шернером, который с отрядом полицейских проверял посты. Проводника убили. Турецкую ранили в ногу, остальные разбежались. Раненая Турецкая отползла и спряталась в яме. 3 часа искали ее бандиты. Ее нашли и повели в 5-й полицейский участок, избили и бросили на каменный пол. Истерзанная, истекая кровью, лежала Турецкая. Сутки мучил ее Шернер, спрашивая и по-русски и по-немецки: ”Куда шла, с кем, чье задание выполняла?”. Каждое слово его сопровождалось избиением, удары сыпались на голову Турецкой. Шернер сапогами топтал ее раненую ногу. С трудом собирая мутившийся рассудок, Анна Исааковна отвечала, что ее состояние не дает ей возможности отвечать на вопросы. Шернер понял, что ничего от нее не добьется. Наутро он втащил Турецкую в машину и повез на еврейское кладбище. Ее на носилках понесли к общей яме. Там заговорила Нюта. На вопрос Шернера: ”С кем была?” — она ответила: ”Весь мой народ шел со мной. Имен я не знаю. Ты убьешь меня, но от этого никто не пострадает, наоборот, после смерти моей еще сильнее будут ненавидеть тебя. Посмотри на свои руки, они в крови. Сколько детей ты задушил? Я не боюсь тебя, весь советский народ отомстит за нас. Убивай!” Собрав последние силы, приподнялась Нюта Турецкая и спокойно ждала пули.
Выстрелом из нагана Шернер ее убил. И ее тело похитили евреи из общей могилы и похоронили в отдельной, украсив ее травами и полевыми цветами.
Оставшиеся в живых евреи Минского гетто никогда не забудут своей Нюты.
С июня 1943 года началось изъятие рабочих колонн. Под видом посылки на работу на радиозавод 2 июня немцы собрали 70 женщин, 20 отправили на завод, а 50 в гестапо. Рыббе, окруженный гестаповскими офицерами, предупредил женщин, что их погрузят в машины и повезут за город на работу, где будут хорошо кормить. Подъехали машины, и женщины увидали столь знакомую им душегубку. Поняли женщины, что не на работу их везут, а на смерть.
Многих расстреляли на месте, остальных силой погрузили в машину и умертвили. Только одной из пятидесяти женщин — Лиле Капилович — удалось спастись. Она спряталась между машинами, стоявшими во дворе.
С этого времени началось систематическое изъятие рабочих колонн. Рыббе обходил фирмы, где работали евреи, и брал рабочих на учет. Одна за другой, после посещения Рыббе, исчезали колонны.
В начале сентября 1943 года в гетто немецких евреев явился Рыббе и отобрал 300 самых молодых и здоровых мужчин. Их погрузили в машины и увезли. Через несколько дней то же самое повторилось в гетто русских евреев: подъехали две машины, их нагрузили мужчинами и вывезли в лагерь на Широкую, а через несколько дней их увезли и оттуда.
12 сентября немецким евреям было объявлено, что все они должны быть готовы для выезда в Германию; они готовились, спешно собирали свои пожитки. 14 сентября их погрузили в машины-душегубки и увезли.
К 1 октября 1943 года в гетто оставалось всего 2000 евреев.
21 октября 1943 года гетто было снова, в последний раз, окружено гестаповцами. Людей всех до единого опять погрузили в машины и вывезли на смерть. В тех случаях, когда в квартирах никого не находили, дома взрывали гранатами, чтобы находящиеся в ”малинах” обрели смерть.
21 октября — последний день великой трагедии. Не стало Минского гетто. Погибли последние обитатели его. В Минском гетто не осталось живого дыхания человека. Одни лишь развалины напоминали о страданиях и страшных муках, выпавших на протяжении двух с половиной лет на долю многих десятков тысяч минских евреев.
ИЗ КНИГИ Г. СМОЛЯРА[28].
***
ИЗ МАТЕРИАЛОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ Показания советских граждан Меры Зарецкой, Левы Ланского, Ивана Касимова[29].
***
ДЕВУШКА ИЗ МИНСКА. Сообщение корреспондента ТАСС Семена Банка[30].
***
РАССКАЗ СТАРОГО ЧЕЛОВЕКА, ШМУЭЛЯ ДОВИДА КУГЕЛЯ (Плещеницы). Подготовил к печати Василий Гроссман.
Мне уже под семьдесят.
К нашему местечку Плещеницы (Минской области) немцы подошли уже 27 июня. При первых выстрелах мы, старые, старые евреи, ушли в рощу в пяти километрах от местечка и вернулись, уже когда кончился бой.
Местечко было наполовину сожжено, но мой домишко уцелел. Мы с женой тихонько пробрались к себе, плотно закрыли наружную дверь, завесили окна; издали еще доносились выстрелы. Настоящий ужас охватил нас, когда их не стало слышно: мы были уже по другую сторону фронта.
Приехавший в Плещеницы временный немецкий комендант опубликовал приказ, в котором говорилось, что евреи должны подчиняться особым правилам: жить обособленно в гетто, носить на груди и спине желтые опознавательные знаки — это было обязательно даже для детей. Ходить по тротуарам евреям запрещалось. Христиане не только не имели права торговать с евреями, но даже вступать с ними в беседу, здороваться или отвечать на приветствия. Все тяжелые работы должны были выполняться евреями без оплаты и т.д.
В первые же дни было убито несколько евреев и христиан, которые при советской власти занимали ответственные должности.
Через несколько дней мы узнали, что в местечке Зембин, километрах в двух от нас, евреев заставили вырыть большую яму.
Когда она была готова, всех евреев Зембина выгнали на базар, якобы для регистрации, погнали к яме и там расстреляли. Некоторые из сброшенных в яму еще дышали. Детей вообще не расстреливали, а бросали в яму живыми. Когда яму засыпали, земля еще долго поднималась и колыхалась над недобитыми людьми. Так рассказывали те, кого заставили засыпать яму.
Только десяти евреям удалось бежать. Один из них через две недели пришел к нам.
Нам казалось немыслимым такое злодеяние. Хотелось думать, что это — несчастная случайность. Может быть, в Зембине обнаружили убитых немцев, и потому так страшно расправились с евреями. Известно, что за одного убитого немцы вырезали целые местечки и деревни.
Но мы напрасно утешали себя. Расправа повторилась и в местечке Логойск, в 26 километрах от нас, потом еще в нескольких местах. Особенно много перебили евреев в гор. Борисове, в местечках Смилевичи, Городок и других — всюду справляли такую же ”еврейскую свадьбу”.
Тут мы поняли, что события в Зембине не случайность, что это выполняется бандитский наказ Гитлера. В это время нас уже переселили в гетто. Под гетто отвели 50 домов и расселили в них около тысячи человек.
Две недели мы прожили в гетто в великом страхе. Мы понимали, что этим переездом дело не ограничится и нам предстоит испить до дна горькую чашу.
Однажды, видим, собираются десятки полицейских, из деревень нагнали массу порожних телег. Нескольким семьям удалось бежать в местечко Долгиново Виленской области, в 40 километрах от нас, в бывшей Польше, где пока еще не было поголовного избиения евреев. Но к вечеру гетто уже оцепили, бежать было невозможно.
На другой день с утра полицейские обходили еврейские дома и выгоняли всех в поле. Тех, кто шел медленно, подгоняли нагайкой. В поле отобрали несколько ремесленников — сапожников, портных, кузнецов, а также стариков, — и вернули их в местечко.
В эту группу попали и мы с женой, но всю нашу семью из восьми душ — дочерей и внучек — посадили на телеги и увезли. Мы не смогли даже попрощаться, обнять их в последний раз. Подводчики рассказывали после, что они завезли несчастных в лес под Борисовым, километрах в 50 от нас, где их ожидали немецкие душегубы. Возчиков с лошадьми отослали обратно. С тех пор мы никогда и ничего больше о них не слышали.
Как описать наше состояние по возвращении домой? В местечке царила гробовая тишина. Жена металась по пустым комнатам, точно думая найти кого-то из своих детей. Книги, карты, музыкальные инструменты — все было на старых местах, но детей не было. Она стала рвать на себе волосы, упала без чувств.
Прошло недели три. Миновал праздник ”Сукес” (кущей). Я возвращался с работы с четырьмя евреями. Возле местечка нас предупредили: ”Немедленно бегите в лес, у нас гестапо забирает оставшихся евреев”.
Я хотел бежать домой, чтобы спасти жену или погибнуть вместе с ней. Спутники меня не пустили и увлекли за собой в лес. Немцы стреляли в нас, но не попали. Я не мог поспеть за молодыми, сел на опушке и просидел под холодным дождем до темноты. Ночью я пробрался к себе. Я надеялся, что жена спряталась где-нибудь возле дома и ждет меня. Но я никого не нашел, и хата была заперта на чужой, не наш замок. Надеяться было не на что. Я залез под стог сена, чтобы согреться и обдумать, что делать дальше; оставаться до утра, чтобы попасть немцам в лапы, я не хотел. Я хотел жить, чтобы видеть своими глазами, как будет отомщена кровь невинных. Я решил отправиться в Долгиново, в Польшу. Шел дождь, у меня не было ничего теплого. Я нашел только большой мешок, накинул его на голову, взял в руки посох странника и, оставив родину и дом, последним из местечковых евреев ушел в темную ночь.
Четыре дня пробирался я к Долгинову. Шел лесом и полями, ночуя в стогах сена у крестьян, которые кормили меня и плакали над моей и своей судьбой.
В Долгинове я встретил своего родственника. Мы залились слезами. У него было свое горе. Дней за пять до моего прихода у них побывал карательный отряд. После его ухода несколько бандитов вернулись с заявлением, что у них пропала нагайка, и, если через десять минут она не найдется, они зарежут несколько евреев. Нагайки не нашли, и убийцы тут же расстреляли пять молодых рабочих, возвращавшихся домой. Один из них был зятем моего родственника. Молоденькая дочь его, оставшаяся с двухмесячным ребенком, оплакивала мужа.
В Долгинове я провел зиму. Здесь всееврейского побоища не было, евреи страдали только от насилий, налогов и контрибуций.
После праздника Пурим прошел слух, что в Польше начались массовые убийства. Мы стали готовить себе тайники, чтобы не попасть в лапы убийц. Незадолго до Пасхи приехали машины с гестаповцами. Они тут же на улице стали расстреливать евреев, не разбирая ни старых, ни молодых. Мы спрятались на чердаке и через щели в крыше видели это избиение.
Но гестаповцам этого было мало. На другой день они мобилизовали всех полицейских из окрестных деревень и целый день рыскали с ними по домам, сараям и чердакам; скрывавшихся забрасывали гранатами. Всех, кто попал в их руки, раздевали донага, избивали и гнали на убой за пределы местечка. Тех, кто не мог быстро идти, расстреливали на месте. Кровь мучеников брызгала на стены домов. За городом расстреливали пачками и убитых оставляли непогребенными. Несколько сот человек загнали в сарай, облили керосином и сожгли заживо. В Долгинове было три тысячи евреев. За два черных дня истребили тысячу восемьсот, тысяча двести спаслись. Мы были в их числе.
На третий день убийцы уехали, сказав, что большинство евреев убито, а оставшихся не тронут, пусть только придут в полицию на регистрацию, неявившиеся же будут расстреляны.
Явились почти все, через несколько дней их переселили в гетто, в сорок маленьких домишек. Гетто огородили проволокой и дощатым забором. Все это должны были сделать сами евреи. Но мы тут же в гетто стали устраивать себе тайники. Все понимали, что верить людоедам нельзя.
Однажды от нас потребовали, чтобы мы вступили в военный обоз возчиками. Ни у кого не было охоты лезть в пасть зверя. Люди попрятались. Когда мой родственник лез на чердак, его заметили и прострелили ему ногу. На следующий день возобновились убийства. За два дня вырезали еще восемьсот человек, но около четырехсот человек немцы так и не нашли. В доме, где я жил, многие так устали, что уже не скрывались, так как все равно не спасешься, — только измучаешься. Но десять человек — и я с ними — спрятались на чердаке. Бандиты взломали крышу. Несколько раз побывали на чердаке, но нас не нашли. Таким образом, я вторично остался жив.
Уезжая, немцы опять распорядились о регистрации, обещая явившимся жизнь. Однако, никто не торопился, — разве можно было верить их собачьему слову? Мы стали готовиться к побегу, и ночью около двухсот человек выломали ограду и ушли в леса Белоруссии. Там мы встретились с нашими друзьями и братьями — партизанами. Они тепло приняли нас, молодых зачислили в свои отряды, а стариков, больных и детей укрывали и кормили. Для руководства нами был назначен политрук — товарищ Киселев, добрый и образованный человек.
Лето и осень мы прожили с партизанами в лесу. Когда начались холода, самых слабых из нас, по приказу командира, провели через линию фронта и доставили на нашу дорогую родину. Для этой цели был выделен особый отряд под руководством того же Киселева.
Поход длился около двух месяцев. Ночью мы шли, днем отдыхали, что день — то новый лес. В ночь мы проходили до двадцати, а в особо опасных местах — и до тридцати километров. Когда добрались до районов, захваченных партизанами, стали передвигаться днем, а ночью отдыхали у крестьян, по 3—4 человека в хате. Они нас кормили. Всего мы прошли пешком около тысячи километров.
Так мы спаслись. И обо всем пережитом я, семидесятилетний старик, Шмуэль Довид Кугель, правдиво свидетельствую перед миром.
Шмуэль Довид Кугель
В МЕСТЕЧКЕ ГОРЫ. Подготовил к печати Василий Гроссман[31].
***
ИСТРЕБЛЕНИЕ ЕВРЕЕВ В ГЛУБОКОМ И В ДРУГИХ МЕСТЕЧКАХ. Из материалов М. Раяк и Г. Раяк — литературная обработка Р. Ковнатор.
2 июля 1941 года немцы вошли в местечко Глубокое. Страх и ужас охватили население. Десятки и десятки лет жили здесь дружно белорусы, евреи, поляки.
Немецкие власти прежде всего потребовали сдачи хлебных излишков. Каждой семье, независимо от числа ее членов, разрешалось оставить при себе только 20 кг (муки, зерна).
Остальной хлеб в течение нескольких часов надо было снести в магистрат. Печальную картину представляла огромная очередь, в которой было много людей, принесших ”излишки” в 3—5 кг.
Немецкие власти жестко контролировали исполнение этого приказа. У Ошера Гофмана при проверке оказалось муки более установленного немцами количества. За это ”преступление” забрали его с женой, детей и стариков-родителей. Их повели за город, заставили выкопать себе могильную яму и всех расстреляли.
Это злодейское уничтожение целой семьи произвело ужасное впечатление на все население Глубокого.
Такое же наказание грозило еще некоторым семьям: Ольмеру, Друцу, Канторовичу, Плискину, Понятовскому и др. У Друца, например, полицейские нашли отруби, которые он не отнес, ибо считал, что они не входят в норму хлеба.
Всех этих людей как преступников арестовали, и только за большую взятку им на этот раз удалось избежать смерти.
С первых же дней своего водворения немцы начали угонять все еврейское население (вплоть до детей) на работы.
Евреев заставляли делать непосильно-тяжелую работу и при этом всячески издевались и мучили их. Были случаи, когда домой ”с работы” приносили людей, избитых до потери сознания. Адвокат Слонимский, Натанзон, Пинтов, Ожинский — были среди этих несчастных жертв. Немецкие надсмотрщики вели себя как властелины с рабами; евреи должны были выполнять самые гнусные их прихоти: петь песни, ходить на четвереньках, подражать животным, танцевать, целовать обувь у немцев и т. д.
Немцы изощрялись во всевозможных издевательствах. Так, например, работавших на вокзале в Крулевщине ставили под водокачку и обливали холодной водой. Очень часто измученных после работы людей заставляли входить одетыми в озеро, ”искупаться”, а потом ложиться на песок и т. д.
Но все это были еще невинные забавы ”арийцев”.
20 октября 1941 года гебитскомиссар объявил, что в течение получаса все евреи должны переселиться в гетто. Вещей нельзя было забирать, только некоторую рухлядь, и то с разрешения специально назначенной комиссии из магистрата.
М. Раяк дает красочное описание этого ”перемещения”.
”Во время переселения весь город выглядел, как базар. Все улицы были загромождены рухлядью. Евреи несли свои жалкие вещи в отведенный для них лагерь — гетто. На улицах был небывалый шум, крик, толкотня. Полиция со своей стороны ”наводила порядок” и била людей прикладами, палками и чем ни попало по головам, рукам и т.п.”
Так совершилось переселение в гетто.
В гетто жили в страшной тесноте, — несколько семейств ютилось в одной комнате. Вся меблировка комнаты обычно состояла из столика и скамейки. Спать укладывались семьями на полу.
Сначала евреям было разрешено в течение двух часов производить покупки на базаре, но потом посещение базара было категорически запрещено. Евреям не разрешалось вообще покупать масло, мясо, яйца, молоко.
Общение с крестьянским населением под страхом смертной казни было запрещено. Но, несмотря на все эти жестокие ограничения, обрекавшие еврейское население на голод, эти каннибальские распоряжения всячески обходились.
Много крестьян, несмотря на грозившую им опасность, передавали и даже сами вносили продукты в гетто. Были случаи, что крестьянки надевали на рукава ”еврейские знаки” и приносили в гетто своим знакомым продукты.
Братья Раяк рассказывают, что крестьянин Щебеко ежедневно тайком доставлял молоко их больной матери.
Крестьянин Гришкевич украдкой приносил капусту, картошку и другие овощи для нескольких семейств — для врача Раяк, для портного Шамеса, для Гительсона и др.
Если такие ”преступления” обнаруживались, то виновные расплачивались жизнью. До смерти избивали людей за найденный кусок масла, за щепотку соли. Эту политику немцы проводили во все время своего хозяйничания.
Жена Залмана-Вульфа Рудермана была задержана и страшно избита за то, что пыталась при возвращении с работы внести в гетто два яйца. В начале мая 1943 г. был арестован и расстрелян мясник Шолом Ценципер. Контроль обнаружил у него в мешке петуха, которого ”преступник” хотел внести в гетто.
Евреям было категорически запрещено есть ягоды...
Трудно поверить, что за несколько съеденных ягод людей преследовали, как за совершение страшного государственного преступления.
Из поколения в поколение портняжила в Глубоком семья Глозманов. Честные труженики, искусные мастера, они пользовались всеобщим уважением и любовью.
У Зелика Глозмана был 10-летний сын Арон. С надеждой смотрел отец на успехи своего первенца. Из школы он приносил только отличные и хорошие отметки; в играх и даже в ”художественной самоде-я-я-ятельности”, — как немного нараспев произносил отец, — он был всегда первым. И портной Глозман с замиранием сердца думал о будущем сына. ”Слава богу, при советской власти все может быть. У Арника золотая голова, того гляди, он выучится на доктора или на инженера”.
Пришли немцы. И уже спустя несколько дней Арчика Глозмана искали по всему городу. Гестаповец Гайнлейт поднял всех и вся на ноги, чтобы обнаружить мальчика, ”преступление” которого заключалось в том, что он принес в платке несколько ягод. Мальчик успел убежать от охраны; и сколько труда стоило родителям — при помощи добрых знакомых — спрятать его.
Впрочем, впоследствии были истреблены и родители и сын Глозманы...
Учитель Давид Плискин работал переводчиком у коменданта Розентретера. Однажды (дело было летом, в конце июня 1943 г.) Плискин подошел к кусту малины и сорвал несколько ягод. Из окна соседнего дома это увидел немецкий инженер из ”ОД”. С пеной на губах, он подбежал к Плискину, начал ругать его последними словами и кричать, что евреям кушать ягоды воспрещено. Плискин обещал впредь строго соблюдать это распоряжение немецких властей.
Ему угрожал расстрел, и только принимая во внимание ”чистосердечное раскаяние” и то, что за него заступилось начальство, у которого он служил, расстрел ему был заменен денежным штрафом... С него потребовали было 2000 рублей, но после долгих препирательств согласились на сумму в 500 руб., которые тут же и были внесены. Когда Плискин вносил штраф в гестапо, он был предупрежден, что при повторении подобного преступления, ему не уйти от наказания, согласно новому закону, грозившему евреям за употребление в пищу ягод, плодов, жиров, смертной казнью.
Н. Краут был ранен, а затем убит за то, что он пытался пронести в гетто в мешочке немного соли.
В марте 1943 г. жандармерия и полиция искала Залмана Флейшера, обвиняемого в том, что он купил у крестьянина кусок масла.
Предупрежденный заблаговременно о том, что его разыскивают, Флейшер сумел бежать...
Но преступление должно быть примерно наказано, и шеф жандармерии Керн распорядился забрать первых встречных евреев и их примерно наказать. ”Ответчиками за грехи” Флейшера оказались Лейвик Дрисвяцкий и его 18-летний сын Хлавнэ, а также Липа Ландау.
Дрисвяцкий в апреле 1942 г. во время ”акции” потерял своего старшего сына Овсея. Потеря старшего сына — способного и образованного юноши — глубоко потрясла отца. Жизнь потеряла для него ценность, он никак не мог придти в себя. Сам Дрисвяцкий был всесторонне образованный человек: талмудист, математик и лингвист; в Глубоком он был всеми уважаем и любим.
Липа Ландау тоже был человеком с высшим образованием, остроумный собеседник, шутник. В июне 1942 г. во время ”акции” немецкие палачи убили его жену и детей. Сам он спасся чудом: он выполз из ямы смерти из-под груды трупов. Долго он скитался по лесам и полям, наконец, он добрел до Глубокого и здесь остался.
В Глубоком он сдружился с Дрисвяцким, и они коротали вместе немногие часы отдыха.
И вот однажды их схватили, повели в гестапо, мучили всю ночь, а под утро погнали в кровавые Борки — место казни. Так немецкий ”закон” отомстил за кусок масла, ”незаконно” пронесенный Залманом Флейшером.
С декабря 1941 г. началось систематическое истребление еврейского населения, обозначаемое немцами кратким страшным словом ”акция”.
В раннее декабрьское утро гестаповцы ворвались в дома и без всяких объяснений стащили с постелей несколько десятков человек. Этих людей — по их определению ”ненужный элемент” — они заставили голыми идти по лютому морозу.
”Одна женщина, — пишет М. Раяк, — легла среди улицы со своими детьми, плакала и кричала, что не сдвинется с места. Ее избили до потери сознания. Всех погнали в Борки, где их и расстреляли. Бедных детей бросали в яму живыми и так живыми их и закапывали”.
Борки — сельская местность в 1,5 км от Глубокого. В мирные времена это было место для гулянья и отдыха.
”В Борках, — пишут братья Раяк, — немцы заставляли у открытой могилы молодых танцевать, а старых петь еврейские песни... После такого садистского издевательства они принуждали молодых и здоровых вносить на руках в яму бессильных стариков и калек и укладывать их там. Только после этого следовало ложиться самим, и тогда уже немцы методично, спокойно расстреливали всех”.
Какая дьявольская фантазия может придумать такое ”организованное” разделение ”труда”? Так в Борках погибла и 70-летняя мать братьев Раяк, так постепенно были уничтожены все жители Глубокого.
Убийствам предшествовали невообразимые истязания: людям разрезали тела, рвали зубы, забивали гвозди в голову, их держали голыми на морозе и обливали холодной водой, их избивали палками и прикладами до потери сознания...
С особым сладострастием фашисты пытали женщин и детей.
В Глубоком, как и во многих других местах, немцы прибегали к своему любимому провокационному методу: разделению на два гетто.
Во второе гетто, говорили немцы, должны попасть ”малополезные”, ”малоценные” евреи. На самом деле, во второе гетто попало много специалистов: сапожники, столяры, портные. Немцы решили использовать второе гетто для денежной ”акции”; от второго гетто можно было откупиться.
Таким образом, евреи, вносившие за себя выкуп, оставлялись в первом гетто. Люди же, которые не могли внести установленной суммы денег или ценностей, должны были остаться во втором гетто, хотя среди них были и квалифицированные специалисты.
Перемещение во второе гетто продолжалось около двух недель, от 20 мая до первых чисел июня 1942 г. Каждый день в течение 2-х недель возили на подводах стариков и старух во второе гетто.
Раяк пишет: ”Не поддается описанию это страшное зрелище. Бедные старики и старушки плакали и рыдали, жалобно спрашивая: ”Куда и зачем нас везут?.. За какие грехи нас отделяют от наших детей?” Красноармейская улица была наполнена стонущими, плачущими стариками, калеками...
После образования второго гетто фашисты объявили, что все жители первого гетто получают рабочие удостоверения как специалисты, и это гарантирует им неприкосновенность.
Палач глубокских евреев Копенвальд официально заверял представителей Юденрата своим ”честным словом”, что никакой резни евреев больше не будет.
В июле 1942 г. гебитскомиссар издал приказ, чтобы все оставшиеся в живых евреи собрались в гетто в Глубокое. При этом гебитскомиссар заверял, что больше евреев убивать не будут, он даже дал пропуска членам Юденрата для поездки в леса и деревни, чтобы они отыскали скрывавшихся там евреев и привезли их в лагерь.
В это время лагерь — гетто в Глубоком — стал своеобразным ”еврейским” центром; сюда собрались отдельные уцелевшие евреи из 42-х городов и местечек. Были здесь мужья, потерявшие своих жен, были жены без мужей, были мужья и жены, которые расстались во время резни, не знали друг о друге, а теперь встретились в гетто и спрашивали друг у друга, что стало с их детьми. Были одинокие мальчики и девочки, потерявшие своих родителей, были грудные дети, которых находили в лесах под кустами и привозили в лагерь. Здесь были евреи из Миор, Друи, Прозорок; Голубич, Зябок, Дионы, Шарковщины, Плиссы и др. Со всех этих мест собирались усталые, измученные и разбитые люди. Пришли также уцелевшие от резни в Долгинове, Друйске, Браславле, Германовичах, Лужках, Гайдучишках, Воропаеве, Парафинове, Зачатье, Бильдичах, Шипах, Скунчиках, Порплище, Свенцянах, Подбродзи и др.
Провокация удалась — евреи были собраны в одно место.
Интересно отметить, что в Глубоком очень ярко были заметны экономическая эффективность и польза, которую ”акции” над еврейским населением приносили немцам. Целыми днями на подводах немцы везли, кроме мебели, одежду, обувь, белье, посуду, швейные, чулочные, заготовочные и шапочные машины, а также предметы домашнего хозяйства. Со свойственными немцам аккуратностью и точностью все эти вещи приводились в порядок и складывались в амбары. Через некоторое время в Глубоком (по ул. Карла Маркса) появились магазины ”готового белья, обуви, галантерейных товаров” и т. п.
Еще через некоторое время был открыт магазин фарфоровой и стеклянной посуды, а также мебельный магазин.
День и ночь работала прачечная, в которой стирались вещи убитых.
Работали в прачечной (как и в других ”реставрационных” мастерских), конечно, евреи.
При разборке и стирке вещей происходили страшные сцены.
Люди узнавали белье и вещи своих замученных родных. Рафаэл Гитлиц узнал белье и платье своей убитой матери. Маня Фрейдкина должна была отстирать окровавленную рубашку своего мужа Шимона. Жена учителя Милихмана собственными руками должна была привести в ”приличный вид” костюм своего убитого мужа.
Немецкие торговые дома — ”варенхаузы” — далеко не исчерпывали всей коммерческой деятельности. По ул. К. Маркса №19 существовало специальное ”бюро гебитскомиссара в Глубоком”. Задачей этого бюро было наблюдение за порядком на производствах и в мастерских, ведение учета, а также надзор за работающими.
Основным заданием бюро являлось приготовление посылок по заказам немецких учреждений и отдельных лиц для отсылки их в Германию.
Постоянными заказчиками этого бюро являлись: Гахман — гебитскомиссар, Геберлинг, Геббель — референты, Керн — шеф жандармерии, офицеры — Гайнлейт, Вильдт, Шпер, Цаннер, Беккар, Копенвальд, Зейф, Шульц и многие, многие другие. Каждый день заготовлялись посылки со съестными припасами, с постельными принадлежностями и массами отправлялись в Германию.
Для обеспечения этого огромного потока посылок было налажено специальное производство по изготовлению картонных коробок. В этом производстве были заняты еврейские ребятишки от 8 до 12 лет, и горе им, если в их работе обнаруживался хотя бы самый маленький дефект! Их наказывали так жестоко и неумолимо, как взрослых!
Из Глубокого, Крулевщины, Воропаева уходили десятками вагоны, груженые полотном, кожей, шерстью, обувью, трикотажными изделиями и массой съестных припасов.
Еврейское население было разорено, немцы вытягивали все живые соки из деревни. Хозяйство истощалось, зато наполнялись и пухли немецкие карманы. Помимо массового приобретательства съестных продуктов и вещей широкого потребления, усиленно проводился грабеж металлов. Немцы организовали специальный склад, куда свозились и сносились металлические вещи: самовары, кастрюли, подсвечники, ступки, медные горшки, ручки от дверей и т. п. В Глубоком полиция ходила по домам и контролировала — не остались ли у населения какие-нибудь металлические вещи. Весь награбленный металл вагонами отправлялся в Германию. Немецкие власти утилизировали все: летом и осенью 1942 г. из Глубокого десятками тонн отправлялся ”легкий” груз: пух и перья из распотрошенных перин и подушек...
Неисчислимы горе и страдания, которые выпали на долю населения Глубокого.
Помимо физических терзаний, немцы подвергали еврейское население моральным пыткам и нравственным надругательствам.
Со страшной жестокостью немцы надругались не только над живыми, но и над мертвыми.
Немцы заставили самих евреев разбить каменную изгородь вокруг кладбища, срезать все деревья и уничтожить памятники.
В ночь с 18 на 19 июня 1942 г. была устроена кровавая ”акция”. Дождь лил как из ведра. Земля содрогнулась от криков женщин, от плача и стона детей. И вдруг в страшной ночной темноте раздались скорбные звуки предсмертной молитвы ”Эль молей рахамим”, которую запели старики. Чуть только рассвело, — людей погнали к месту казни в Борки. Молодая девушка, Зельда Гордон с криком бросилась бежать по направлению к озеру, за ней последовали другие.
Пули косили бежавших, и в течение получаса все поле, до самых Борок, было усеяно трупами. Кровавые муки ожидали всякого, кто отказывался безропотно идти на смерть. Самуил Гордон пытался укрыться в первом гетто (на этот раз ”акция” главным образом охватила второе гетто), но его поймали. Его страшно били, потом зацепили кочергой за шею и долго волокли так по улицам, пока он не скончался.
Оставшиеся в живых после этой ”акции” знали, что их дни сочтены.
В страшных условиях гетто, лишенные решительно всех человеческих прав, невзирая на огромную опасность, евреи помогали советским военнопленным. В 1,5 км от Глубокого, в селе Бервечу, был расположен лагерь военнопленных. Семья Козлинера приносила им хлеб. Козлинера заметили немцы; в семье было восемь человек. Их всех расстреляли.
Трудно было уйти из гетто. Охрана сторожила на каждом шагу; закон круговой поруки, установленный немцами, призван был держать всех в страхе и покорности. Но мысль о борьбе, о мщении, о возмездии жила в сердце народа.
Уже весной 1942 г. еврейская молодежь проявляла большую находчивость и изобретательность в добывании оружия. Нельзя не вспомнить первых самоотверженных героев. Рувим Иохельман, из Гайдучишек, специально устроился на работу в склад жандармерии и, невзирая на огромный риск, уносил со склада оружие и медикаменты. Это продолжалось довольно долго, пока немцы его не накрыли и подвергли мучительной смерти...
Яков Фридман ”наспециализировался” на добывании оружия по деревням.
Осенью 1942 года он ушел в партизанский отряд ”Мститель” и самоотверженно дрался в его рядах до прихода Красной Армии.
Винтовки, гранаты, револьверы покупал зять Моисея Беркона и в довольно значительном количестве переправлял их в партизанские отряды. На него донесли; когда немцы пришли за ним, он сопротивлялся отчаянно.
Клейнер из Лучая (около Дунилович) тоже посылал оружие партизанам, а осенью 1942 года ушел из лагеря-гетто. Он ударил немца, стоявшего на посту, вырвал у него автомат и ушел в лес.
Летом 1942 г. группа молодежи с оружием в руках ушла в лес, примкнув к партизанам.
Среди первых партизан из Глубокого наибольшей известностью пользовался Авнер Фейгельман. Этот юноша отличался высокими душевными качествами: умом, хладнокровием, решительностью. Он сражался в бригаде им. Ворошилова. Самоотверженно и мужественно боролись также Исаак Блат (в Чапаевском отряде бригады им. Ворошилова), Боря Шапиро и девушка Хася из Дисны. Народным мстителем стал Бомка Генихович из Плиссы.
Немец Копенберг убил его отца. Юноша выследил Копенберга и убил его. Немецкая фурия Ида Одицкая прославилась своими жестокостями. Она принимала участие в массовых убийствах и в преследованиях партизан. Гениховичу и нескольким его товарищам удалось заманить ее в лес. Там они учинили над ней скорый, но справедливый суд и повесили ее.
В сентябре 1942 года ушла в партизаны другая вооруженная группа в 17 человек. Здесь были братья Кацовичи, Залман Мильхман, Иохельман, Михаил Фейгель, Яков Рудерман, Рахмиэль Милькин, Давид Глезер.
Эта группа еще в гетто находилась в связи с партизанским отрядом ”Мститель”, посылая ему оружие. Теперь они пошли в этот отряд, находившийся около деревни Универ, Мядельского района.
Через несколько месяцев из гетто к партизанам ушло еще 18 человек. Среди них были: Исраэль Шпарбер, Моисей и Соня Фейгели, Гирш Гордон, Симон Соловейчик, Гирш Израилев.
Через два дня после ухода этой группы гестаповцы окружили дома, где жили семьи партизан Фейгеля и Милькина, и после страшных мучительств перебили 14 человек.
Сыновья Иоселя Фейгельсона, Залман и Дон, ушли к партизанам. Слухи об их отваге распространились по округе. В июле 1943 г. гестаповцы зверски расправились с их отцом, теткой Саррой Ромм и ее дочерью Нехамой Ромм.
17 августа 1943 г. в Крулевщине, в 19 км от Глубокого у немцев, усиленных местными жандармами, произошел тяжелый бой с партизанами. В этой схватке был убит Керн, шеф жандармерии в Глубоком, эта бешеная гитлеровская собака, и еще несколько десятков немцев. Убитых увезли в Глубокое.
Рыть могилы, конечно, заставили евреев, и, надо сказать, что это была единственная работа, которую они выполнили с удовольствием.
Приближался роковой день; немцы подготовляли окончательную ликвидацию гетто.
Беспрерывно ”вылавливались” все, кто казался хоть сколько-нибудь подозрительным. У Заяца на чердаке нашли радиоприемник; в течение нескольких дней его мучили и пытали, но так ничего от него и не добились.
Кузнец Шлома Крайнес по просьбе своего старого знакомого крестьянина стал подковывать ему коня. Это заметила охрана; Шлому расстреляли.
Все местечко знало и уважало 60-летнего Мордуха Гуревича. Это был тихий, спокойный, незлобивый человек. Он прожил в Глубоком всю жизнь, все окрестные крестьяне любили и уважали его. Однажды, подметая улицу, он поздоровался со своим старым знакомым крестьянином. Поклон Мордуха увидели, его задержали, отвели в Борки и расстреляли.
Веселую милую Салю Браун расстреляли за ее дружбу с крестьянским парнем Витей Шаробайко.
13 августа 1943 года гетто в Глубоком было ликвидировано. Немецкие газеты сообщали, что уничтожили в Глубоком крупное партизанское гнездо из 3000 человек, во главе с 70-летним раввином...
* * *
Разрушения, гибель, уничтожение приносили немецко-фашистские войска всюду, где только ни ступала их нога. В местечке Кривичи немцы появились 2 июля 1941 года.
За несколько дней до этого 70-летний Зильберглейт, собрав свои последние силы, добрался до Будславе, где стояла часть Красной Армии, и сообщил о том, что в Кривичах появилась немецкая разведка. Эти данные оказались очень ценными: немцы в Кривичах были уничтожены. Старый Зильберглейт поплатился жизнью за свой патриотический поступок... На него донесли, и он был убит в первый же день водворения гитлеровцев в Кривичах.
Как и повсюду, немцы старались изолировать евреев от всего остального населения.
В Кривичах жители были обязаны ежедневно вывешивать на своих домах флаги: сначала белые, потом бело-черные и др. Для евреев и тут устанавливалось отличие; они должны были вывешивать знамена другого цвета, чтобы их дома можно было отличить от крестьянских. Еврейские девушки были собраны для того, чтобы убирать и чистить крестьянские дома. ”Многим крестьянам, — пишут братья Раяк, — это было очень тяжело, и они хотели бы отказаться от этих услуг. Не могли они примириться с тем, что их соседей, с которыми они все время жили в дружбе, превратили в рабов, и заставили на них работать”.
В Кривичах было 5 пленных красноармейцев, и евреи, чем только могли, помогали им.
Местные полицейские ежедневно собирали евреев в полицию, и людей, ранее известных и уважаемых во всем местечке, без всякой причины секли розгами.
Чуть забрезжит утро, евреев выгоняли на работу. Но мучительней самой работы были издевательства, которые им приходилось выносить. Евреев заставляли плясать, бегать, петь ”Катюшу”, ”Интернационал”; во время работы за малейшую оплошность их нещадно били палками и плетьми. Почти ежедневно людей с работы приносили домой искалеченными, часто без сознания. Еврейские женщины были отправлены на полевые работы. Однажды в середине августа 1941 года немцы собрали еврейских девушек, которые работали на огороде у местного ксендза Кроповицкого. После работы их заперли в сарай, и немцы пытались их изнасиловать; девушки разбили окна и бежали. Вслед им летели пули, многим удалось спастись.
Еврейское имущество грабительски расхищалось, была разбита синагога в Кривичах, и варварски разодраны и сожжены на кострах хранившиеся там ценнейшие книги.
Очередными жертвами полиции должны были стать раввин М. Перец и Мовша Дрейзин.
Гестаповцы вместе с полицейскими пришли на квартиру Дрейзина. Всех находившихся в доме людей они поставили лицом к стене и опрокинули на них шкаф с книгами. Ограбив начисто квартиру, они ушли.
В марте 1942 года приехавшее из Сморгони в Кривичи начальство привезло награбленные вещи и ценности на 20 подводах. Для разгрузки всего этого добра были призваны евреи.
Стоял холодный мартовский день, под пронзительным ветром евреев продержали несколько часов на улице. Их заставляли во время работы босыми бегать по лужам, ложиться и вставать.
В апреле 1942 г. начались первые ”акции”: немцы расправились с цыганами, убили военнопленных, — на очереди стояла расправа с еврейским населением. Ужасно погибли жители местечка Долгиново: большинство их было сожжено живыми.
Долгиново — местечко, расположенное в 15 км от Кривичей. Жители обоих этих местечек были тесно связаны между собой.
Страшное зрелище представляли немногочисленные уцелевшие долгиновские евреи. Их пригнали в Кривичи менее 100 человек. Разутых, раздетых людей заставили ползать на четвереньках, петь советские песни, танцевать.
Вообще издевательства, которым подвергались евреи, трудно представить. Они должны были чистить отхожие места голыми руками и носить нечистоты в мешках на плечах. Надсмотрщики наслаждались страданиями своих жертв.
25 апреля 1942 года на железной дороге в полутора километрах от Кривичей партизаны спустили под откос поезд с бензином, который сгорел. Это было использовано немцами как начало широкой ”акции” против евреев.
28 апреля 1942 г. ранним утром первых случайно попавшихся 12 евреев схватили и отправили обозом в Смоловичи, где их страшно мучили, и, наконец, расстреляли.
В этот же день, в Кривичи наехали эсэсовцы и жандармы, плотным кольцом они окружили местечко, и до самого вечера выгоняли еврейское население на площадь.
На площади обреченных заставили раздеться догола и затем погнали их на поле. Здесь стоял большой сарай, который немцы подожгли. Людей загоняли в огонь.
Страшно было зрелище горящих живых детей!
12-летняя Сарра Кацович изо всех сил боролась за жизнь: велика была сила жизни у этой девочки. Она выбежала из сарая, охваченного пламенем; полицейские толкали ее обратно в огонь и кричали погибающему ребенку: ”Что, красавица, дождалась своего спасителя Сталина!”.
В огне погибла Блюма Каплан, — да и не перечесть всех жертв.
Гирш Цепелевич был активным работником при Советской власти.
Калека, он не мог далеко уйти с частями отступающей Красной Армии. Он вынужден был вернуться в Кривичи. Долгие месяцы он скрывался в темном, сыром, тесном погребе.
Он забыл, что такое дневной свет, постель, чистое белье. Скудную пищу ему подавала тайком, ночью, сестра его М. Ботвинник.
Когда разразилась ”акция” 28 апреля 1942 года, Гирш Цепелевич понял, что дальше бороться за жизнь нет смысла.
Немцы вместе с полицейскими рыскали повсюду, вылавливая скрывавшихся в ”малинах” евреев. Зная, что часы его жизни сочтены, и не желая отдаться живым в руки врага, Гирш Цепелевич выпил яд, который он все время держал при себе.
Долгое время скрывался на чердаке Мовша-Лейб Шуд. При массовой облаве его убежище было обнаружено. Но Шуд сумел повалить пришедшего за ним полицейского и убежал. Он был пойман. Его постигла страшная смерть: живым его бросили в огонь.
Печально стало в местечке после этой ”акции” огня и крови.
28 апреля погибло 160 евреев, такая же судьба ожидала остальных. Всего из 420 евреев, жителей Кривичей, погибло 336.
Спаслись только те, которые успели уйти к партизанам. Так, уже в апреле 1942 г. 90 молодых людей ушли в партизанскую бригаду ”Народный мститель”. Они дрались там самоотверженно, мужественно, мстя за кровь своих родных, за поругание народа.
В Слободке, в 2-х км от Кривичей, работали 11 еврейских женщин. Им удалось обмануть немецкую охрану, бежать в лес и примкнуть к партизанам.
В местечке Покут (в 4-х км от Кривичей) работало пятеро детей. При ликвидации гетто немцы расправились и с детьми. Только одному мальчику — Гевишу Гитлицу удалось бежать к партизанам.
Фашисты буквально стирали с лица земли целые еврейские местечки. Так, например, в один день было уничтожено 2000 человек в Миорах, 500 человек в Браславле. В Друе было убито 2200 человек. Полностью были ликвидированы лагеря-гетто в Плиссах, в Лужках, в Новом Погосте.
Расправа с евреями в местечках была особенно жестокой; людей бросали живыми в огонь. В местечке Шарковщины у людей перед смертью вырезывали языки, им выкалывали глаза, вырывали волосы.
Жестокость немцев выражалась и в том, что евреев заставляли делать не только тяжелую, непосильную, но и совершенно ненужную, бессмысленную работу. Ночью люди носили воду в дырявых ведрах; в Долгинове евреев запрягали в плуги и бороны, так они должны были бороновать и пахать землю.
Слабых женщин заставляли с места на место переносить тяжелые камни, большие ящики с песком, а потом оказывалось, что это совершенно не нужно. Цель была одна: мучить людей. Страшна была участь, которую уготовили немцы евреям; людей, которые готовы были оказать евреям помощь, также ожидала казнь. Хочется с чувством благодарности вспомнить честных и самоотверженных людей, которые, спасая евреев, показали силу и чистоту своей души.
В местечке Бороучина Адольф и Мария Стацевичи скрывали у себя многих евреев из окружающих местечек.
К Стацевичу устремлялись люди со всех сторон, и он помогал им, чем только мог. Стацевич мученически погиб: немцы его повесили в Глубоком.
Евреи в местечках устанавливали связь с партизанами и уходили в партизанские отряды, чтобы там бороться и мстить. Из маленького местечка Ораны ушло в партизаны 40 человек. Партизан Айзик Лев спустил под откос 14 вражеских эшелонов. Он погиб смертью храбрых, память о нем останется в сердце народа. Отважно и смело действовали и другие партизаны из Ораны.
Особенно энергичную деятельность развили еврейские партизаны в Долгинове, где им большую помощь оказал командир отряда ”Народный мститель” Иван Матвеевич Тимчук.
Долгиновские партизаны-евреи участвовали во многих важных операциях: в мае 1942 г. они разбили лесопильный завод, убили 15 немцев, захватили боеприпасы. В ноябре 1942 г. они принимали активное участие в уничтожении немецкого гарнизона в Мяделе; они освободили евреев из гетто и помогли им отправиться за линию фронта. Несмотря на усиленный немецкий гарнизон в Глубоком, партизаны вынесли оттуда шрифт для типографии.
Под руководством Якова Сагальчика долгиновские партизаны уничтожили больше 30 немцев в деревне Литвичи.
Так боролись народные мстители, сыны и дочери еврейского народа.
РАССКАЗ ИНЖЕНЕРА ПИКМАН ИЗ МОЗЫРЯ. Подготовил к печати Илья Эренбург.
Я родилась в Мозыре в 1916 году. Чертежница. С 1933 г. работала в Минске, была инженером-диспетчером. 25 июня 1941 года я вышла из горящего Минска на Московское шоссе. Оно было забито беженцами. Я прошла около тридцати километров, переночевала, утром снова двинулась в путь. Показались фашистские самолеты, забросали нас бомбами, расстреливали из пулеметов. Жертв было много: старики, женщины, дети. Я спряталась в кустах. Ночью бомбежка прекратилась.
Четыре дня я бродила по лесу без хлеба, без воды. На пятый день я попала в деревню Скураты. Там было много беженцев. Пришли немцы и погнали всех в Минск. Возле города они устроили засаду, задерживали всех мужчин.
Минск нельзя было узнать: повсюду развалины, обгоревшие трупы. На стенах были расклеены приказы: всем мужчинам от 16 до 65 лет немедленно явиться в комендатуру; кто не явится, будет расстрелян.
Мужчин угнали в лагерь. Сначала он помещался на Староржевском кладбище. Там продержали людей двенадцать суток без еды и без воды. Когда привозили бочку с водой, люди кидались навстречу, а немцы в них стреляли. Потом лагерь перевели к реке Свислочь, но запретили брать из реки воду. Евреев отделили от всех, сильно избили. Некоторых взяли как мишень для учебной стрельбы. Я видела, как моего сотрудника, техника-инвентаризатора Берштейна, привязали к столбу и стреляли в него.
Несколько дней спустя был вывешен приказ о регистрации всех евреев и о внесении ими ”контрибуции”. А 15 июля всех евреев переселили в гетто. Объявили, что евреи должны будут построить каменную стену, отделявшую их от мира. Начали строить стену, но тогда пришел приказ оцепить гетто проволокой. Было объявлено, что еврей или еврейка, взрослые или ребенок, обнаруженные за пределами гетто, подлежат расстрелу. Кроме того, евреи обязаны были носить на груди и на спине желтые круги.
В Минске зарегистрировали 75000 евреев. Разместили на нескольких улицах. В каждой комнатушке ютилось пять семейств. Люди слали стоя. Выгоняли на работу, не кормили, ночью избивали.
В гетто я пробыла три недели. Шестого августа я перелезла через проволоку и стала проселками пробираться в Мозырь. Шла я долго — ослабла, наконец, тридцатого августа очутилась я в моем родном городе.
Мой отец, дед, прадед родились в Мозыре. У меня был дядя, гравер-художник Рухомовский. Он жил в Париже. Там на старости лет он написал книгу о своей жизни и с любовью описывал Мозырь. Мы были крепко привязаны к нашему городу.
Мозырь показался мне брошенным всеми. Немцев в городе не было: они прошли на восток. Я встретила старух, назвалась. Они рассказали, что мои родные успели эвакуироваться. Я пошла в наш дом. Он был разграблен: по домам рыскали мародеры. Из еврейского населения в городе остались больные, старики и женщины с детьми.
Меня приютила наша соседка, белоруска, тетя Глаша. 6 сентября, блуждая по безлюдным улицам, я вдруг увидела немецких солдат в маскхалатах. Они шли и стреляли в окна. Оказалось — первый карательный отряд. В тот день были убиты: старик-сапожник Малявский, полька-артистка, приехавшая из Пинска белорусская семья, проживавшая по улице Пушкина, другая семья, тоже белорусы, жившие на Пятницкой, старик Лахман с женой и много других. Тело старого Лахмана собаки таскали по улице Новостроений.
Тетя Гаша мне сказала: ”Уходи. Здесь в доме одна гадюка, она говорит: ”Вот придут немцы, я скажу, что у тебя еврейка”. Я ушла к бабушке Голде Бобровской. Ей было 73 года. Она жила на самой окраине города.
8 сентября я пошла на улицу имени Саэта, там жило много евреев. В каждой квартире валялись трупы: старухи, дети, женщина с распоротым животом. Я увидела старика Малкина. Он не мог уйти из Мозыря, у него были парализованы ноги. Он лежал на полу с раздробленной головой.
По переулку Ромашев-Ров шел молодой немец. Он нес на штыке годовалого ребенка. Младенец еще слабо кричал. А немец пел. И был так увлечен, что даже не заметил меня.
Я зашла в несколько домов — повсюду трупы, кровь. В одном подвале я нашла живых: там прятались женщины с детьми. Они мне рассказали, что старики ушли во рвы близ улицы Пушкина.
9 сентября с утра я слышала выстрелы: расстреливали. На Ленинской улице я увидела больного старика, шапочника Симоновича. Немцы били его прикладами, толкали вперед, а он не мог идти.
Я вернулась к бабушке Голде. Сидела на крыльце и думала, как мне добраться до фронта. Было шесть или семь часов вечера. Вдруг я увидела — по улице Новостроений ведут евреев. У некоторых были лопаты, и я сначала подумала, что людей ведут на работу. Их было около двухсот. Впереди шли бородатые, сгорбленные старики, за ними мальчики 12—15 лет, потом несколько мужчин, которые тащили больных и калек. Один, высокий, худой, вел под руки двух дряхлых стариков. Он шел с непокрытой головой и глядел вверх. Немцы его били прикладами, он ни разу не вскрикнул. Я никогда не забуду его лица.
Их подвели к отвесному склону горы, заставили вскарабкаться. Старики срывались, падали вниз. Их штыками подталкивали наверх. Потом я услышала пулеметную очередь.
Полчаса спустя немцы уже ушли с горы. Они пели.
Люди, которые были на горе, рассказывали, что немцы бросали стариков в яму живыми. Некоторые пытались выползти, им отрубали кисти рук.
Когда фашисты шли с расстрела, я видела, как два солдата тащили наверх двух евреев. Немцы торопились, подгоняли стариков прикладами. Как только они взобрались, раздались выстрелы. Этих не закопали — солдаты побежали догонять своих; и они тоже пели.
Дом, где я ночевала, находился в ста метрах от рва. Всю ночь я слышала стоны. С тех пор прошло больше двух лет, но каждую ночь я слышу, как кто-то стонет.
На следующее утро тетя Гаша встретила меня словами: ”Мы все погибли”. Она сказала, что немцы сгоняют женщин и детей к Припяти, потом сбрасывают в реку, детей подымают на штыки. Тетя Глаша кричала: ”За что детей?.. Звери! Они всех убьют...”
Я вернулась наверх. Голда Бобровская молилась. Под вечер пришли немцы и полицейские. Они спросили меня: ”Где здесь евреи?” Я ответила, что не знаю, потому что нездешняя. В это время они увидели старую Голду. Они набросились на нее, стали бить прикладами. Я выбежала, спряталась в кукурузе. Пришла хозяйка и сказала: ”Сиди здесь. Они тебя ищут”. Был очень яркий закат. Я ждала, когда они придут...
Но они ушли. Переодевшись, я выбралась из города. Я решила пробраться через фронт. В деревне Козенки я встретила водопроводчика, который пришел из Мозыря. Я его видела в квартире Бобровской: он рассказал, что старую Голду закололи штыком, ее тело бросили возле кладбища. Там много трупов стариков, старух и детей. Лежат куски туловищ, головы, руки, ноги.
Евреев в городке уже перебили. Теперь каратели разбрелись по селам. Водопроводчик сказал: ”Вы еще молодая. Я не знаю, кто вы, но мне вас жаль, — уходите”. В этой деревне жила учительница еврейка. Ее муж был белорус, я к ней зашла. Это была молодая, очень красивая женщина. У нее было трое детей, старшему шесть лет, младший еще не ходил. Я ей предложила уйти со мной. Она ответила: ”Куда я пойду с тремя крошками?” Когда я ночевала в следующей деревне, я узнала, что каратели приехали в Козенки, убили учительницу и ее детей.
Много мне еще пришлось увидеть. Я видела гетто в Орше. Оно было еще страшнее Минского. Замерзающие старухи копошились среди трупов. Девушки в кровоподтеках, распухшие от голода, спрашивали: ”Когда за нами придут?” — смерть казалась им избавлением. Двадцать стариков-плотников евреев, не желая дать себя в руки палачам-карателям, собрались в доме плотника Эли Гофштейна по улице Пушкина, облили дом керосином и сами себя сожгли. Их обгоревшие трупы валялись, и никто их не закапывал...
Я видела в Орше лагерь военнопленных. Фашисты там избивали пленных сапогами, прикладами, нагайками. Я видела лагерь в Смоленске. Тени людей должны были закапывать умерших — по 300-400 трупов в день. В городе Починке меня арестовали. Меня пытали, желая узнать, не еврейка ли я? Я молчала. Меня стегали плетью, выбили мне зубы. В Починке я видела, как вешали русских. Я видела немцев, которые грабили, убивали и смеялись над горем. Я шла на восток, голодная, разутая. Я собирала в поле колосья, я нищенствовала. Немецкая машина переехала меня, сломала мне ногу, я заболела сыпняком и просила врача, чтобы он меня не лечил. Я добралась до Орла. Я видела партизан, видела борьбу советских людей против захватчиков. И вот я увидела чудо: 5 августа 1943 года — красную звезду на шапке красноармейца.
Бася Пикман.
РАССКАЗ ДОКТОРА ОЛЬГИ ГОЛЬДФАЙН. Стенограмма. Подготовил к печати Василий Гроссман.
Война застала меня в пограничном городке Пружаны, где я работала врачом в больнице. В ночь на 22 июня 1941 года я дежурила. В 3 часа 30 минут немцы начали бомбить город.
Немцы вошли в город 23-го и тотчас, соскочив с автомобилей, стали грабить и избивать евреев. Они привезли с собой много белогвардейцев, которые тут же, на улице, развернули погромную агитацию. Все мы заперлись в домах.
На третий день немцы потребовали, чтобы мы сдали всю имеющуюся у нас посуду: ножи, ложки, горшки, а еще через два дня потребовали кровати, постельное белье и т. п.
Евреи прятались в погребах, на чердаках, но немцы их всюду находили, били смертным боем и тащили на работы.
10 июля, после того как прошла армия, в город приехали гестаповцы, и тут началось непередаваемое. Прежде всего, они схватили восемнадцать евреев и расстреляли их в двух километрах от города. О судьбе этих несчастных мы узнали только через десять дней, когда собака принесла руку одного врача с красным крестом на рукаве.
15 июля немцы вывесили на улицах объявление, что евреи должны в течение трех дней избрать еврейский совет — Юденрат — из 24 человек. Если Юденрат не сформируется, 100 человек будут расстреляны. Никто из евреев не хотел идти в Юденрат. Один еврей, посоветовавшись с поляками, решил, что нужно представить список евреев, без их ведома, с тем, чтобы их вызвали и поставили перед совершившимся фактом. В этот список включили людей с высшим образованием — адвокатов, врачей; но немцы, поглядев список, сказали, что им нужны ремесленники, а не ученые люди. Спустя неделю немцы создали Юденрат по своему выбору.
20 июля в Юденрат явились гестаповцы и заявили, что в течение трех дней им должна быть представлена большая контрибуция. Через три дня немцы эту контрибуцию забрали, но при этом никакой квитанции Юденрату не дали. К нам обратились евреи окружающих местечек с просьбой помочь им выплатить контрибуцию. У них не было драгоценностей и денег. Мы собрали все ценности, какие у нас остались, — броши, кольца, взяли подсвечники и канделябры в синагоге, — и таким образом покрыли контрибуцию за местечки Широков, Малич, Линово.
С первых же дней своего выхода на работу вечером многие из них возвращались искалеченными и избитыми.
10 августа на стенах домов появилось объявление германского главнокомандующего о том, что все евреи оккупированных областей будут вывезены в гетто.
Два месяца мы спали в одежде, держа под головой маленькие узелки, каждую минуту готовые к отъезду.
10 октября стало известно, что в Пружанах организуется ”Юденштадт”; мы останемся на месте, и к нам в ”Юденштадт” прибудут жители Белостока. 25 октября нас перевели в гетто.
Часть гетто была обнесена проволокой, часть — сплошной стеной.
В течение шести недель к нам прибывали евреи из Белостока — три тысячи вдов и две тысячи сирот. За городом немцы организовали контрольную камеру, где беспощадно избивали и грабили вновь прибывающих.
Одновременно к нам в гетто стали прибывать евреи из других городов и местечек — Беловажа, Блудень, Малич, Шерешово, Береза, Слоним и др.
3 января 1942 года немцы потребовали от нас вторую контрибуцию. У нас отобрали шубы, все шерстяные и меховые вещи. Еврейка не имела права сохранить даже меховую пуговицу. Были отобраны все фотоаппараты, ковры, патефоны и пластинки. Нам представили счет за оборудование гетто, которое мы сами, под палкой, строили: сперва 750 тысяч марок и 500 тысяч марок во второй контрибуции.
9 января бывшая тогда в городе бургомистром немка Горн объявила, что две тысячи евреев должны немедленно уйти из гетто. Благодаря крупной взятке, данной нами Горн и жандармерии, эти евреи были оставлены в гетто до весны.
В феврале к нам прибыл новый бургомистр Кошман и тут же потребовал третью контрибуцию деньгами и одеждой. Кроме того, был установлен налог — на каждого человека 10 марок. За неимущих должен был платить Юденрат.
В марте стали прибывать к нам евреи из Иванцевич, Столбцов и др. Приезжали они в ужасном виде, с отмороженными руками — они ведь все были полуголыми. В апреле гетто снова уплотнили. В мае началась вербовка в лагеря, из которых уже ни один человек не вернулся. Зимой мы сметали снег с железнодорожного полотна, начиная от Диново до Барановичей, а молодых людей еще тогда взяли в лагеря. Весной и летом мы копали торф, корчевали пни, вырубали лес на стометровой полосе от полотна железной дороги, грузили боеприпасы, засыпали ямы песком и т. п.
Немцы организовали сапожные, портняжные, мебельные артели.
Немцы вывезли в Германию все железо, разобрали и отправили на Запад имеющуюся в Пружанах узкоколейку-кукушку.
От холода, голода и побоев за зиму погибло 6 тысяч человек из 18 тысяч жителей гетто.
2 ноября, в 5 часов утра, гестаповцы окружили гетто и сказали, что мы будем эвакуированы, предупредив, что каждый имеет право взять не более 50 кг багажа. Наше гетто было как оазис в пустыне — всех евреев в соседних местечках уже убили, и мы поняли свою участь. Многие решили умереть и бросились в аптеки за ядом. 47 человек отравились и умерли. Я тоже решила умереть. У нас был запас морфия, и мы его разделили между собой — по 1 г. на человека. Я приняла один грамм вовнутрь и грамм ввела в вену. После этого мы заперлись в квартирах и сделали угар. Юденрат об этом узнал и под утро открыл квартиру. Все лежали в беспамятстве, а один счастливец уже умер. Медперсонал ухаживал за нами трое суток, и мы вернулись к жизни.
7 ноября я получила записку от своей знакомой — монахини Чубак. Она просила меня встретиться с ней. Я пошла к проволочным заграждениям и тут увидела ее. Она принесла литр водки постовому, чтобы он разрешил нам поговорить, а мне дала триста марок для подкупа стражи. Я сказала ей, что очень измучена и не чувствую себя в состоянии бороться, лучше уйду из жизни. Когда мы с ней расстались, я решила тут же нагрубить постовому, чтобы он меня застрелил. Вначале этот вахмистр был поражен, когда я осмелилась к нему обратиться. Я заговорила с ним: неужели он верит словам Гитлера, что мы биологически не люди, неужели немцам, считающим себя культурными людьми, господствующим народом, не стыдно мучить всех этих беззащитных вдов, стариков, детей? Неужели, — спросила я, — он не знает, в каком положении находится германская армия, — ведь Сталинграда не взять, на Кавказе они окружены, из Египта они бегут, — войны им не выиграть; если не ”блиц”, то они проиграли. Я говорила ему, что его фюрер сделал всему немецкому народу прививку бешенства, и они, действительно, взбесились, как собаки. Пойми, вахмистр, — говорила я, — я хочу, чтобы ты выжил, вернулся к себе домой и вспомнил слова этой маленькой еврейки, которая говорит тебе всю правду.
Но вахмистр меня не застрелил.
Тогда я пошла к одному знакомому мне парикмахеру, Берестицкому, — я знала его как очень решительного человека. Я вызвала его в переулок и сказала: ”Я хотела отравиться — яд меня не взял, хотела быть застреленной, но немецкая пуля меня не берет. Выход у меня один: бежать из гетто”. Пусть он мне поможет в этом. Берестицкий осторожно приподнял проволоку, я проползла под нею, пересекла улицу и через огороды, через дворы, бросилась к монастырю. Скоро я была уже у своей знакомой монахини. Немедленно она меня переодела и спрятала. Мне сделали три убежища: одно — у коровы в хлеву, другое — под лестницей, третье — между двумя шкафами. Я сидела взаперти и все время наблюдала в окно, кто к нам идет. Когда я выходила в столовую, двери закрывали на ключ. Все это время у меня страшно болели зубы, я не спала ночами, но к зубному врачу не могла обратиться. Неделя прошла в постоянном страхе. Днем я отсиживалась в комнате, по ночам выходила во двор и слушала, что делается в гетто. Там было темно и страшно. Вокруг гетто горел огонь, были расставлены пулеметы и танкетки, над гетто летали самолеты.
К концу пятой недели пребывания в монастыре ко мне пришел представитель Юденрата с письмами от председателя Юденрата и моего мужа. Мне писали, что немцы интересуются моим здоровьем (немцы считали, что я все еще больна после отравления).
Если я не вернусь, то из-за меня пострадает гетто.
Я не долго думала: раз гетто угрожает опасность из-за меня, я вернусь. Но я не знала, как войти в гетто. Посланный сказал, что проведет меня под видом работницы комиссара, идущей в гетто искать хорошую шерсть для вязания комиссарского свитера.
Через несколько часов я была уже в гетто. Дома своего я не нашла — он оказался выгороженным из гетто, и мы с мужем поселились у моей приятельницы, зубного врача Ницберг-Машенмессер.
Я узнала, вернувшись в гетто, что Африка почти вся очищена и немцы заперты в Тунисе. Настроение у всех поднялось.
27 января 1943 года, возвращаясь от больной, я услышала стрельбу в Юденрате. Через десять минут меня туда вызвали. Я застала двух раненых и одного убитого. Стрелял, как оказалось, шеф гестапо Вильгельм: он ворвался в 7 часов вечера в здание Юденрата и обвинил Юденрат в сговоре с партизанами. Тут же он убил сторожа и ранил двух членов Юденрата.
28 января, в 5 часов утра, к гетто подошли войска, а в 7 нам объявили об эвакуации. В восемь часов в город вошло множество подвод для гетто, чтобы нас увезти. Шеф гестапо Вильгельм распорядился, чтобы осталась только часть подвод, а остальные пришли 29, 30 и 31 числа. Первый транспорт двинулся с места уже в десять утра, в него попала и я.
За пять часов мы доехали до станции Линово, где немцы предложили нам слезть с подвод. Каждого били по голове жгутами до потери сознания. Я получила два таких удара, и в голове у меня был шум, как в телеграфном столбе. Видя близость смерти, я свои вещи оставила на подводе. Мужа я тут же потеряла.
На вокзале нас продержали три часа, в шесть часов вечера прибыл наш эшелон (холодные теплушки). В семь часов началась погрузка. На перроне мы шагали по трупам. В вагоны нас бросали, как мешки с картошкой. Немцы вырывали детей у матерей и тут же их убивали.
В последнюю минуту перед пломбировкой поезда я спрыгнула на полотно. Мой значок, ”лата”, был закрыт большим платком. Быстро я прошла по какой-то улице, попала на огород и, прижимаясь к заборам, вышла в поле. Дальше я все время шла полем — на дороге ведь были гестаповцы. Мороз, как я потом узнала, был 21 градуса. Много раз я падала в изнеможении.
Когда я вошла в военный городок, меня остановил оклик постового: ”Хальт!” Я притворилась белоруской и сказала, что иду из своей деревни в соседнюю — там дочка моя рожает. Часовой разрешил мне идти дальше.
Таким образом я шла до 2-х часов ночи. Наконец, я подошла к городу. Два часа я бродила по окраинам, боясь кого-нибудь встретить. С большой осторожностью я приблизилась к монастырю. Тихонько постучала в окно. Дверь мне открыла старшая сестра и тут же стала растирать мне руки. Есть я не могла и выпила только несколько стаканов холодной воды. Мой друг, монахиня Чубак, уложила меня на свою кровать, и я заснула.
Утром (это было 29 января) меня разбудил плач. Плакала одна монашка: оказывается, она боялась, что мое возвращение в монастырь погубит монахинь. Чубак ее убеждала, что завтра мы уедем. Но та лишь повторяла: доктор Гольдфайн все равно должна умереть, а из-за нее и мы погибнем. Тогда я вмешалась в разговор и сказала, что если я сумела выпрыгнуть из поезда смерти, то, наверное, сумею уйти из этого дома, не причинив никому неприятностей.
В городе появились объявления, что все сараи, чердаки подвалы и клозеты должны быть заперты, чтобы евреи туда не забрались, собак нужно спустить с цепей; если в каком-нибудь доме найдут еврея, то все население будет убито.
Шестнадцатилетняя прислуга монастыря Раня Кевюрская ушла в деревню за двенадцать километров искать для меня подводу. Она вернулась поздно вечером и сказала, что завтра с утра приедет подвода.
В десять часов приехала подвода. Я переоделась монашкой и надела черные очки. Сидя на телеге, я упорно смотрена на узелок, который был у меня в руках. Монахиня Чубак пошла пешком вперед. На глазах у гестаповцев я выехала из города. В это время как раз шел третий транспорт евреев. За городом на телегу подсела монахиня Чубак. Навстречу нам попалась знакомая полька Калиновская. Она сделала знак Чубак, что я хорошо замаскирована. Меня это испугало, я боялась, как бы она меня не выдала. Спутница меня успокоила, сказала, что Калиновская очень остро переживает бедствия, обрушившиеся на евреев, и, узнав, что меня собираются спасти, специально вышла на дорогу, чтобы убедиться, все ли прошло хорошо.
Мы ехали до пяти часов вечера. Лошадь была измучена, и мы решили переночевать в ближайшей деревне. Моя спутница обратилась к солгусу (старосте) с просьбой указать нам место для ночлега, но он заявил, что все занято: в этой деревне ночуют двадцать немецких жандармов. Мы решили, что лучше нам отсюда уйти, сели на телегу и поехали дальше. Измученная лошадь едва плелась. Въехали мы в дремучий лес — Беловежскую пущу. По дороге мы увидели маленький домик. Моя спутница вошла туда и встретила свою бывшую ученицу. Нас хорошо приняли, мы провели ночь в тепле. С рассветом опять продолжали путь. Наконец, приехали в Беловеж и направились в костел. Затем мы поехали в Чайновку, оттуда в Бельск, из Бельска поездом в Белосток. В вагоне мы узнали, что 2 февраля немцы окружили гетто, и там идет резня.
В Белостоке мы пошли в Центральный монастырь. Я обратилась к настоятельнице монастыря с просьбой скрыть меня. Но она испугалась и заставила нас немедленно уйти. Покидая монастырь, я сказала своей спутнице, что больше ни одному человеку мы не должны открывать нашей тайны.
Ночью мы оказались на улице и не знали, куда нам деться. Тут моя спутница вспомнила, что она знает адрес брата одной монахини. Его не оказалось дома, но нас охотно приняла его жена. В это время в Белостоке шла резня евреев. Город был наполнен гестаповцами, и все жители боялись, как бы не заподозрили их в том, что они евреи. Билеты на вокзалах не продавались. Мы стали просить начальника станции, чтобы он дал нам, бедным монахиням, вынужденным просить милостыню, билет без пропуска. Он сначала отказал, а потом все же выдал билеты. Я боялась положить драгоценные билеты в карман и все время держала их в руке.
Таким образом 13 февраля мы выехали из Белостока на станцию Ланы поездом, а оттуда подводой поехали в разные костелы — Домброво, Соколы, Мокины и оттуда поездом — до Варшавы. В губернаторстве мы уже не боялись, что нас задержат, здесь паспортов не спрашивали. Из Варшавы мы уехали в Лович, где жила семья моей спутницы. Там мы пробыли шестнадцать месяцев; никто не знал, что я еврейка. Я работала как медицинская сестра и имела большую практику.
В мае 1944 года мы решили переехать под Буг в Наленчов, который находится в двадцати двух километрах от Люблина.
26 июля 1944 года Наленчов был освобожден Красной Армией, а 29-го я двинулась на восток и частью пешком, частью автомашиной попала в свой город Пружаны.
Пружаны были освобождены 16 июля. Из 2700 евреев, которые скрывались в лесу, в город вернулись только два десятка парней и девушек, остальные погибли. Население очень обрадовалось моему возвращению, и ко мне было буквально паломничество моих друзей, знакомых, пациентов. Но, надо сказать, в Пружанах кое-кто испугался, увидя меня, пришедшую с того света, свидетельницу темных дел некоторых людей.
БРЕСТ. Показания и документальные свидетельства жителей Бреста. Подготовила к печати Маргарита Алигер.
Брест был оккупирован немцами в первые дни войны, он стал одной из первых жертв.
До войны в Бресте проживало около 26 тысяч евреев, среди них инженеры, врачи, техники, адвокаты, лучшие мастера по дереву. Сейчас осталось в живых не более пятнадцати человек, чудом спасшихся от расправы.
Вот что рассказывают о первых днях пребывания немцев в Бресте эти немногие уцелевшие.
Бакаляш Вера Самуиловна:
”В день прихода немцев еврейское население сразу же почувствовало тяжесть немецкой лапы. Начались облавы, угон на принудительные работы; после этой работы заставляли танцевать, ползать на животе, а тех, кто не слушался, безжалостно били”.
Гутман, Таня Самуиловна:
”С первого дня началось для евреев страшное житье. Немцы начали гнать евреев на работу, мучили безжалостно, потом грабили и требовали золота, а тех, кто не давал, били, стреляли; злые, как тигры, они бегали из одного дома в другой”.
Зисман Ошер Моисеевич:
”В начале июля 1941 г. немцы забирали евреев на ”работу”, а в действительности они загнали пойманных евреев в Брестскую крепость, держали их там в ужасных условиях, — в июльскую жару людям пять дней не давали ни воды, ни хлеба, — и всех до одного расстреляли. Один еврей спасся и рассказывал, что когда он выбрался из могилы, там еще оставалось много живых и полуживых людей, так как только первые ряды получили пули. В то время, когда немцы начали засыпать могилы землей и горячей известью, многие были еще живы”.
”В городе Кобрине, Брестской области, — пишет тот же Зисман, — немцы подожгли еврейскую больницу и квартиру раввина, и так как местные пожарные получили приказ не тушить огня, то пожары захватили весь город. Немцы бросали живых евреев в огонь”.
12 июля 1941 года в Бресте была произведена облава на мужчин. Сестры Кацаф, Мария и Суламифь, пишут:
”Ночью с постели их забрали: кому удалось спрятаться, тот еще год пожил. Забрали пять тысяч мужчин, в их числе — тринадцатилетних мальчиков и семидесятилетних стариков. Была забрана большая часть интеллигенции: врачи, инженеры, адвокаты, среди них наши хорошие друзья: доктор Готбеттер — по детским болезням, доктор Фрухтгартен — по внутренним болезням, доктор Танненбаум — по внутренним болезням, известные адвокаты Берлянд, Адунский, Белов, инженер Мостовлянский и другие”.
Таня Самуиловна Гутман пишет:
”Они устроили облаву, поймали пять тысяч мужчин, увезли их за город и расстреляли. В числе их были врачи, инженеры, адвокаты”.
Ошер Моисеевич Зисман пишет:
”У моего старика-отца немецкие звери перед тем, как расстрелять его, вырвали седую бороду. У моего брата, зубного врача, немецкие бешеные собаки перед расстрелом выбили все зубы, и когда он упал без сознания у могилы, со смехом приказали ему как зубному врачу вставить себе зубы”.
Для тех евреев, которые еще остались в живых, с первых дней оккупации были созданы немыслимые условия. Всем евреям приказано было надеть желтые повязки со знаком ”Могендовид”, а через некоторое время эти повязки были заменены желтыми кружками, имеющими 10 см в диаметре. Их надлежало носить на груди и на плечах с левой стороны, так что евреев можно было отличить за километр. Ходить по тротуару евреям было запрещено. ”Они имели право ходить только по середине улицы”, — пишет Т. С. Гутман. А сестры Кацаф вспоминают: ”Тогда это произвело огромное впечатление и считалось страшным унижением — мы не знали, какие ужасы ожидают нас”.
Евреев еще не лишили жизни, но жизнь уже превратилась в ад.
Вот что рассказывают сестры Кацаф:
”С первых дней оккупации евреям был запрещен проход на базар, а тех, кому это удавалось, прогоняли оттуда плетьми и автоматами”.
B.C. Бакаляш добавляет:
”...запретили проходить на базар, а в окрестных деревнях приказали ничего не продавать евреям. У тех, кому все-таки удавалось что-нибудь купить, все отбирали”.
”С самого начала оккупации начались грабежи, забирали все: постели, белье, посуду, мебель. Ни с чем, понятно не считались; у нашей невестки, беспомощной, беременной женщины забрали единственную кровать и одеяло. Для некоторых их личные вещи являлись единственным источником существования, но продать их было почти невозможно, так как у евреев было запрещено что-либо покупать”, пишут сестры Кацаф.
И все-таки это было каким-то подобием свободы, по сравнению с той жизнью, которая ожидала евреев.
В конце ноября 1941 года фашистские власти выделили несколько улиц в Бресте, переселили туда всех оставшихся в городе евреев и окружили это место колючей проволокой. Так в Бресте возникло гетто.
”У ворот стояла полиция, никого из гетто не выпускали, и никого из неевреев не впускали туда. На работу выгоняли группами под охраной полиции, поодиночке ходить по городу евреям было запрещено. Если по пути с работы удавалось что-нибудь купить, то это отбиралось полицией, которая обыскивала всех возвращающихся, а по карточкам выдавали 150 граммов хлеба на человека в день”, — пишет Вера Бакаляш.
”Условия жизни были кошмарны, — пишет Сикорский. — Люди в гетто были лишены всякой возможности приобретать какие бы то ни было продукты питания; если у кого и были запасы, то их в скором времени отбирала немецкая полиция, и народ буквально, голодал”.
”Из гетто нас гоняли на принудительные работы. Даже подростков заставляли делать самую тяжелую работу. Мне пришлось работать грузчицей, и я то и дело получала пощечины за то, что не в силах была исполнить то, что было приказано”, — пишет Таня Гутман.
”Под угрозой расстрела евреям в гетто запрещалось жениться и иметь детей”, — пишет Ошер Моисеевич Зисман.
Так шло существование в гетто, — и покуда несчастные люди влачили его, сотнями погибая от голода, непосильной работы и дьявольски гнусных условий жизни, арийские владыки солидно и спокойно, тщательно продумывая все детали, без лишней суеты и нервозности, подготовляли сцену для последнего кровавого акта этой трагедии — истребления евреев.
О том, как был задуман этот акт и как велись к нему приготовления, расскажет нам официальный документ, составленный комиссией, в которую вошли представители Советской власти, партизан и граждан Брестской области.
”Акт о зверствах, грабежах, издевательствах и разрушениях, причиненных немецко-фашистскими захватчиками в районе Бронная Гора Березовского района, Брестской области.
Комиссия в составе: председатель комиссии Тарасевич Аркадий Иванович, члены комиссии: председатель Березовского райисполкома Бурый Василий Николаевич, представитель от партизан — Каштелян Иван Павлович, от граждан Березовского района тов. Новик.
Путем обследования места, где производились массовые пытки и расстрелы советских граждан немецко-фашистскими захватчиками, а также путем опроса ряда граждан по этому делу установлено следующее:
Массовое истребление советских граждан.
По заранее подготовленным планам немецко-фашистскими захватчиками в районе Бронная Гора, в 400 метрах северо-западнее станции Бронная Гора; в мае и июне 1942 года начала производиться копка могил на площади 16800 кв. метров.
Для копки могил немцы мобилизовали граждан из прилегающих деревень Березовского района, использовалось от 600 до 800 человек в день. Для быстрейшего окончания работ немцами были применены взрывчатые вещества, как-то: тол и снаряды.
По окончании копки могил, в середине июня 1942 года немцы начали доставлять эшелонами по железной дороге на станцию Бронная Гора советских граждан различных национальностей ־־ русских, белорусов, евреев, поляков, мужчин и женщин — от грудных детей до глубоких стариков.
Вагоны прибывших эшелонов сопровождались специальным конвоем немцев в форме СД и СС. Вагоны прибывали из различных мест Белоруссии, со станции Береза, Брест, Драгичино, Яново, Города и других. Доставка советских граждан в район Бронной Горы производилась также и пешим порядком.
Вагоны прибывших эшелонов были крайне переполнены, в результате чего среди измученных граждан находились и мертвые. Прибывшие эшелоны подавались на ответвление железной дороги, которая подходила к военным складам на расстояние 250 метров от центральной железной дороги станции Бронная Гора. Эшелоны останавливали возле заранее подготовленных могил, после чего производили разгрузку вагонов на заранее подготовленной площадке, обнесенной колючей проволокой.
При разгрузке вагонов людей заставляли раздеваться догола и сбрасывать одежду в кучу, после чего по узкому коридору из колючей проволоки отводили к ямам и первых по лестницам спускали в ямы, заставляли ложиться лицом вниз, друг к другу вплотную. После заполнения первого ряда немцами в форме СС и СД производился расстрел из автоматов. Таким же образом располагали второй и третий ряды, до полного заполнения могилы.
Все эти мучительные действия сопровождались душераздирающими криками мужчин, женщин и детей. После полной разгрузки эшелона и расстрела граждан одежда и вещи последних сгружались в вагоны и отправлялись в неизвестном направлении. Подача эшелонов на площадку, где производился расстрел, и отправка обратно производились и строго контролировались начальником станции Бронная Гора — Хейль и дежурными по станции Пикэ и Шмидтом. Все трое по национальности немцы.
В целях сокрытия следов преступлений, совершенных в районе Бронная Гора, немцы расстреляли все гражданское население (более тысячи человек), проживающее на территории бывших военных складов. Всех могил на площадке, где производились массовые расстрелы, имелось восемь: первая могила длиной 63 метра, шириной 6,5 метра, вторая — длиной 36 метров, шириной 6,5 м, третья — длиной 36 метров, шириной 6 метров, четвертая — длиной 37 м, шириной 6 м, пятая — длиной 52 м, шириной 6 м, шестая — длиной 24 м, шириной 6 м, седьмая — длиной 12 м, шириной 6 м, восьмая — длиной 16 м, шириной 4,5 м. Все могилы имеют глубину — 3,5—4 метра.
С июня по ноябрь 1942 года немцами в районе Бронная Гора расстреляно более 30 тысяч мирных советских граждан”.
16 октября пришел черед прощаться с жизнью и жителям Брестского гетто. Вот как вспоминают об этом дне уцелевшие:
”14 октября 1942 года гетто взволновалось. Вокруг гетто, за колючей проволокой что-то происходило. Было шумно, появилось очень много полицейских частей. Что это значит? Но к вечеру полицианты разъехались, и люди понемногу успокоились. В 6 часов утра 15 октября нас разбудил сосед, сказал, что гетто окружено. Началось! То, что творилось, трудно описать. Некоторые прятались в заранее приготовленные ”схроны”, а те, у кого их не было, просто метались как сумасшедшие по улицам”. (Сестры Кацаф).
”...15 октября 1942 года все гетто было окружено войсками СС и СД, и в шесть часов утра началась кровавая резня. Гитлеровские головорезы врывались в дома, подвалы и тащили всех женщин, стариков, младенцев на улицу, выстраивали и гнали на расстрел”, — пишет тов. Сикорский.
Изощряясь в пытках и казнях, не зная, что такое чувство жалости, палачи, однако, знали чувство страха. Об этом красноречиво говорит официальный документ, акт комиссии.
”Для того, чтобы скрыть следы своих зверских действий, немцы в марте месяце 1944 года в лагерь, который размещался на станции Бронная Гора, пригнали более 100 граждан из различных местностей Брестской области, которым было поручено произвести раскопку могил и сжигание трупов. Трупы сжигались на площадке, где расположены могилы с расстрелянными гражданами. Трупы сжигались днем и ночью на протяжении 15 суток. Для сжигания трупов немцами было разобрано и использовано 48 военных складов и бараков, расположенных поблизости; для сжигания употреблялась также горючая жидкость, которая горела синим светом. После окончания работы по сжиганию трупов немцами также были расстреляны и сожжены все рабочие в количестве более 100 человек, которые производили раскопку и сжигание.
На поверхности могил и площадки, где производилось сжигание трупов, немцы насадили молодые деревья. На площадках обнаружены остатки неперегоревших костей, приколки от женских волос, детские ботиночки, деньги советских знаков, кость от плечевого сустава и рука ребенка длиной 18 см”.
Кроме того, пришли люди: Новис Роман Станиславович, Говин Иван Васильевич, Щетинский Борислав Михайлович, Яцкевич Григорий Григорьевич и другие очевидцы, которые рассказали все, что видели собственными глазами. И они же свели советскую следственную комиссию в другое страшное место, расположенное неподалеку на возвышенности возле деревни Смолярка, Березовского района, в 6-ти километрах от станции Бронная Гора, в 50 м от деревни Смолярка и в 70 м от шоссейной дороги Москва-Варшава. И вот что установила комиссия там:
”Немцами доставлялись советские граждане из города Березы и деревень Березовского района к могилам указанного места на автомашинах. Пытки, издевательства и расстрел мирных советских граждан в районе деревни Смолярки производились тем же методом, как и массовые расстрелы на Бронной Горе.
Всего обнаружено пять могил с трупами советских граждан, а все могилы одинакового размера, длина которых составляет 10 метров, ширина — 4 метра и глубина — 2,5 метра.
Массовый расстрел граждан в урочище Смолярки производился в сентябре 1942 года, где было расстреляно, по показаниям очевидцев, более тысячи человек, что подтверждают свидетели-очевидцы Генц Иван Иванович, Генц Иван Степанович, Левковец Андрей Иванович, Кутник Иосиф Яковлевич и другие.
Житель Бреста, инженер Кохановский, очевидец брестских событий, свидетельствует:
”Кроме поголовного расстрела около 20 тысяч евреев, расстреляны самые видные представители местной интеллигенции:
1) доктор Кальварийский — невропатолог, крупный специалист, 2) доктор Иоффе, терапевт, 3) доктор Манзон, 4) доктор Каган, 5) врач Кеблицкий, 6) врач Мечик, 7) адвокат Мечик, 8) врач Ракиф, 9) врач Кисляра, 10) врач Иванова, 11) видный инженер Зеленая, 12) инженер-электрик Берещовский, 13) экономист Зильберфарб, 14) инженер Филипчук, 15) техник Голуб, 16) техник Таран, 17) инженер Каминский и много других.
Немцы не любили трудовую интеллигенцию. Инженеров принудили чистить скотные дворы, созывали публику и издевались над работающими: ”Инженер, инженер”. Их расстреливали поодиночке и семьями. Был расстрелян ксендз католического костела. Немцы уничтожали всю культуру, интеллигенцию, религию. Здоровое физически население увозили в Германию на принудительные работы, а тех, кто оставался в городе, использовали на рытье окопов”.
В Бресте Красная Армия нашла опухших от голода, полумертвых, но все-таки живых людей, чудом спасшихся от немецкой смерти: Таню Гутман, Веру Бакаляш, сестер Кацаф и Ошера Зисмана. Как же спаслись эти люди?
”Я с сестрой и с нашими детьми спряталась под домом, откуда мы видели, как водили евреев на расстрел. Сперва расстреливали в гетто и заставляли раздеваться, чтобы оставалась одежда.
Я в своей спрятанке ела сырую крупу, муку, бураки, огурцы. Дети высохли от голода. После двух недель я вышла из гетто посмотреть, что делается на свете, набрала хлеба и принесла детям и опять ушла из гетто. Ночевать приходилось под открытым небом, а на дворе были уже морозы. Пять недель я изворачивалась и носила детям еду, а раз, придя в гетто, я детей уже не нашла. И тогда я пошла без цели, не зная куда. Поздно вечером я решилась пойти к одной русской семье, которая сжалилась надо мной и спрятала меня в сарае. Там я просидела всю зиму, а потом меня укрыли под полом в яме, в которой я находилась до прихода Красной Армии. В тот день я вышла на свободу, и бойцы, которые останавливались во дворе, угостили меня обедом, и опять я стала человеком”.
Так описала нехитрое чудо своего спасения Таня Гутман.
”Я с женой и еще 12 женщин скрывались в яме под сарайчиком. Несколько женщин из тех, что были с нами, сошли с ума. И так как мы с женой заболели, то,собрав последние силы, мы ушли в другое место, на чердак, и так мы мучились все семнадцать месяцев, — на чердаках, в погребах, в отхожих местах. Когда наступил счастливый день 28 июля 1944 года, день освобождения нашего города от немецких бандитов, я уже был не в силах двигаться. Опухший от голода и больной, я даже не был в состоянии разговаривать с людьми. Бойцы Красной Армии покормили меня, вызвали ко мне советского врача и так спасли мне жизнь”, — рассказывает Ошер Зисман.
”Мужа у меня не было. Я с детьми и моя сестра с детьми спустились в погреб, куда был вделан тайный ход из нашей комнаты, оставшаяся в доме наша старая мать задвинула этот ход шкафом, так что немцы, когда пришли, не обнаружили его и не нашли нас.
Они забрали с собой старушку. Так мы просидели до 1 ноября ели сырые бураки, капусту, сырую крупу и даже муку, смешанную с солью. Я решила послать своего девятилетнего сына в деревню к знакомым. Через двое суток он вернулся домой ни с чем и начал просить меня пойти за хлебом, сказав, что он выведет следом за мной младших детей. Он так плакал и просил меня, что я согласилась. Мы вышли с ним, и мне удалось спрятаться в одной деревне, а мальчик пошел за младшими детьми. Но вернувшись через несколько дней, он вместо моих детей принес удар грома — детей задержала полиция. Я трое суток лежала без памяти с высокой температурой, но долго я лежать не могла. Пришлось встать и пойти. Несколько ночей я провела за городом в воде, где стояли брошенные танки. В одной деревне я просидела под полом у одного доброго человека до 20 февраля, но однажды ночью мне пришлось удрать, так как по чьему-то донесению пришли делать обыск. Я спряталась под одной церковью, которая стояла недалеко от деревни. Там я просидела почти месяц, имея в запасе буханку хлеба весом в два килограмма. Голод заставил меня выйти, в лесу я упала, потеряв силы. Меня подобрала одна женщина, покормила, дала мне хлеба, но попросила уйти, так как боялась немцев. Она довела меня до лесу, где я встретила партизан, и в их отряде я жила до прихода Красной Армии”.
Вот ”чудо” Веры Бакаляш.
”15 октября 1942 года в шесть часов утра мы завели мать и ребенка сестры в ”схрон” к невестке, и так как там больше не было места, то, обеспечив их, мы вышли на улицу, не зная, что с собой делать. В последнюю минуту мне пришло в голову подняться на чердак нашего дома и там в углу, забитом досками, мы, 16 человек, просидели пять недель. Условия трудно себе представить: голод, холод, грязь. Но это я считаю неважным, главное, что мы были свидетелями ужасов, т. е. видеть не видели, но слышали, как приводили на соседний двор по 70—100 человек ежедневно, приказывали раздеться, расстреливали и закапывали на месте. Рано утром приходили рабочие рыть могилы. Раз слышно было, как ребенок кричал: ”Мама, скорей бы уж эта пуля, мне холодно”. Это было в ноябре, а нужно было раздеваться догола. Матери раздевали детей, потом сами раздевались. И так у нас за забором, то есть на улице Куйбышева, 126, лежит около пяти тысяч человек. В первые три дня евреев вывозили из Бреста на Бронную Гору, было большое движение автомашин, и вся эта ”акция” проводилась с таким торжеством, как будто справляют большую победу — взятие города или что-нибудь в этом роде. После проведенной ”акции” всю ночь были слышны пение и музыка. Так погибло еще 17 тысяч брестских евреев, среди них 25 человек из нашей семьи. 20 ноября 1942 года ночью нас нашли украинские полицейские, но не убили, а только ограбили. И нам пришлось пойти куда глаза глядят. Мы были почти раздеты и так мучились два года в погребах, на чердаках, в сараях, в самые сильные морозы оставаясь на улице. Если не замерзли, то это чудо. По полгода мы не раздевались. Не видели вареной пищи. Если бы такая жизнь протянулась еще недели две, мы бы не выдержали, но Красная Армия освободила нас, и наш родной брат, боец Красной Армии, мстит за нашу семью и за весь Советский Союз.”
Все время, из всех ”схронов”, ”спрятанок”, погребов, из каждой щелки и ямы были видны картины одна страшнее другой. Разворачивалась кровавая панорама казни, чудовищное зрелище ежедневной смерти.
”Из вентиляции я видел, как немецкие палачи издевались над своими жертвами перед расстрелом. Под угрозой закапывания живьем заставляли их раздеваться догола. Пуль у немцев не хватало, и они засыпали живых людей землей и горячей известью. Я в погребе заболел дизентерией и не мог уже встать, но видел через вентиляцию, как немцы загоняли молодых девушек в сарай у могил и перед расстрелом насиловали их. Я слышал, как одна девушка звала на помощь и ударила немца по морде, и за это немцы закопали ее живой”, — пишет Ошер Зисман.
”Со всех сторон слышны были крики и плач детей. Людей сажали в машины и увозили в Картус-Березу. Там были вырыты огромные ямы в глине. Детей бросали туда живьем и убивали гранатами, а взрослых закапывали живыми”, — пишет Вера Бакаляш.
Вера Бакаляш, узнав о том, что ее детей задержала полиция, иными словами, получив весть об их гибели, пролежала без памяти трое суток, а затем встала и, пройдя через страшные испытания, дошла до партизан...
Из 26 тысяч брестских евреев уцелело 12 или 15 человек. Великое чудо заключается в том, что у этих людей, вопреки ежедневной, ежеминутной опасности, вопреки гибели близких, вопреки самым жестоким страданиям души и самым невероятным лишениям тела, хватило жизненной силы, страстного желания жить во имя борьбы и мести.
Вот последние слова, которые дает нам акт комиссии:
”В районе Бронной Горы немцами произведены также разрушения железнодорожных путей и всех станционных и пристанционных сооружений. Здания при отступлении подрывались и сжигались, а железнодорожное полотно разрушалось специальной машиной. В результате действия этой машины ломались шпалы и рельсы. Команды по разрушению железной дороги назывались ”Пимашцуг” (пионерский машинный поезд). Командиром бригады был капитан Спорберг, по национальности немец. Ущерб, нанесенный станции Бронная Гора, составляет 1152000 рублей. Путем опроса свидетелей и собранным данным по Брестской области комиссия установила, что массовый расстрел советских граждан в районе Бронной Горы и урочища Смолярка Березовского района производился немцами в составе спецкоманды СД и СС под руководством:
1. Нач. Брестского областного бюро полиции, майор Родэ (до начала 1944 года).
2. Нач. Брестского областного бюро полиции Бинер (с начала 1944 года до изгнания немцев из Бреста).
3. Нач. 1-го участка полиции гор. Бреста лейтенант Гофман.
4. Нач. 1-го участка полиции гор. Бреста, майстер Гольтер, майстер Грибер и майстер Бос.
5. Нач. 2-го участка полиции города Бреста лейтенант Призингер (до начала 1944 года).
6. Нач. криминальной полиции СД обершарфюрер Занадский (немец).
7. Комендант криминальной полиции Ивановский (поляк)
8. Заместитель начальника СД оберштурмфюрер Цибель.
9. Начальник жандармерии при гебитскомиссариате капитан Дауэрлейн.
10. Руководивший расстрелами сотрудник СД Герик.
11. Начальник жандармерии в городе Картус-Береза оберлейтенант Гардес.
12. Офицеры СД Грибер, Ванцман принимали непосредственное участие в расстрелах”.
Подписи комиссии
Эти имена сохранились в потрясенной памяти очевидцев и стали известны нам. Пусть же встанут они в ряды палачей, которые понесут заслуженную и справедливую кару.
НАША БОРЬБА В БЕЛОСТОКЕ[32]. Стенограмма и письмо Ривы Ефимовны Шиндер-Войсковской. Литературная обработка Р. Ковнатор.
Меня зовут Рива Ефимовна Шиндер-Войсковская. Я родилась в Западной Белоруссии, в местечке Крынки. Мои родители были небогаты, но стремились дать своим детям хорошее образование. Как все жители нашего местечка, они хотели, чтобы дети ”вышли в люди” и были избавлены от непрочного, безрадостного существования ”людей воздуха”. Я получила поэтому возможность учиться. Я окончила среднюю школу в Гродно, в 1923 году окончила Педагогический институт в Варшаве. Много лет я работала педагогом в еврейских школах Брест-Литовска и Лодзи, где преподавала историю. Я любила свою работу и могу сказать, что и ребята хорошо относились к занятиям. На уроках бывало тихо, многие мои ученики увлекались предметом и читали книги, непредусмотренные программой. Было очень приятно видеть, как работает и развивается живой, пытливый детский ум. Моя педагогическая деятельность прервалась совершенно неожиданно. В 1932 году меня арестовали за коммунистическую деятельность, а после освобождения из тюрьмы лишили права работать в школе. Долгое время я была безработной, а потом работала шпунтовщицей на текстильной фабрике. Когда началась Вторая мировая война, я жила в Лодзи. 1 сентября 1939 года вместе с мужем мы вышли из Лодзи и пошли по направлению к Белостоку. Мы дошли до моего родного местечка Крынки (это в 40 км от Белостока), где я стала работать директором школы; вскоре мы переехали в Белосток.
Красная Армия освободила Западную Белоруссию, в городах и местечках шло бурное культурно-хозяйственное строительство. Радостно было жить и работать!
Предательское нападение Гитлера 22 июня 1941 года, точно острым ножом, разрезало нашу жизнь.
Немцы вошли в Белосток 27 июня, эвакуироваться почти никто не успел. В Белостоке в 1941 году жило 100 тысяч человек, из них примерно 50% евреев. Немцы сразу начали бесчинствовать; было ясно, что меч смерти занесен над нашим народом. Когда немцы вошли в город, первое, что они сделали, это сожгли несколько улиц одного из еврейских районов. Для ”чистого” озорства они сожгли несколько домов вместе с людьми. В первую же субботу своего хозяйничанья они подожгли синагогу, в которой было 300 мужчин.
Гитлеровцы хотели в первую очередь истребить мужское еврейское население. Они охотились за мужчинами на улицах, входили в дома и забирали их, не считаясь ни с возрастом, ни с положением, ни со здоровьем. Мужчины выходили на улицу и... исчезали. Вначале мужчин забирали под предлогом отправки на работу. Но эти тысячи мужчин ”вывозились” в ”неизвестном направлении” и всякий след их терялся.
Особенно яростно и последовательно истребляли немцы еврейскую интеллигенцию.
Гитлеровцы не только физически хотели уничтожить человека, они хотели убить его достоинство, его боевой дух. Фашистские изверги, стараясь унизить человека, придумывали всевозможные моральные пытки. Несомненно, главным образом на моральное унижение был рассчитан строгий приказ о ношении на груди и спине так называемых лат с желтой звездой. Многие склонны думать, что это не имело особого значения. Они говорят: ”Ну, пусть желтые звезды, но ведь нас не убивали, не терзали”. Это неправда. Мы испытывали чувство мучительного стыда и позора. Многие неделями не выходили на улицу. Со мной лично произошел такой случай. Когда я в первый раз со своим ”украшением” вышла на улицу, группа немцев переходила дорогу. Они и некоторые присоединившиеся к ним прохожие бросились на меня и начали выкрикивать страшные ругательства. Я прислонилась к стене. От негодования и горя слезы застилали мне глаза, и я не могла произнести ни слова. Вдруг, слышу, кто-то положил мне руку на плечо. Я оглянулась: это был пожилой поляк. Он сказал: ”Дитя мое, ты не расстраивайся и не обижайся. Пусть будет стыдно тем, кто это сделал”. Он взял меня за руку и повел с собой.
Эта встреча произвела на меня большое впечатление. Я поняла, что еще не все кончено, что есть честные и стойкие люди. Немцам не удастся разложить и опутать всех своей страшной человеконенавистнической политикой.
Мысли о борьбе не покидали меня с первого же момента. Я понимала, что своей посильной борьбой мы можем помочь нашей родной Красной Армии, только борьбой мы можем спасти свое достоинство и честь граждан и евреев.
12 июля 1941 года вместе с несколькими тысячами других мужчин забрали и моего мужа. Велико было мое горе. Но я видела, что оно — частица общенародного горя.
Бороться, мстить немцам — вот единственное желание, которое пронизало мое существо и жгло мою кровь.
Немцы потребовали колоссальную контрибуцию: один миллион рублей, несколько килограммов золота и серебра и т. д. Все это надо было доставить в течение двух суток, в противном случае они грозились сжечь еврейский район и уничтожить все еврейское население.
Можно себе представить, как трудно было выполнить это грабительское распоряжение. Были случаи, когда в еврейскую общину приходили поляки, приносили золотые вещи и говорили: ”Возьмите от нас, спасите еврейское население, ваших и наших братьев”. Вообще, надо сказать, что в эти тяжелые дни ярко проявилась дружба польского и еврейского народов. Конечно, немцам удалось организовать некоторых польских подонков и натравить их на беззащитных и преследуемых евреев. Но лучшая часть польской интеллигенции, честные люди народа, чем могли — помогали нам.
Когда была собрана контрибуция, вышло новое распоряжение: все евреи должны перейти в гетто. На каждого человека, согласно распоряжению, приходилось 3 метра, но на самом деле эта жилищная ”норма” была еще меньше; в маленьких комнатушках ютились по две и более семьи. Вещи надо было переносить на себе: немцы запрещали полякам оказывать какую бы то ни было помощь. Конечно, многие с этим не считались и давали евреям подводы. Мне тоже поляки дали подводу, кроме того, я несла в руках большой узел.
Ко мне подошла совершенно незнакомая польская женщина и предложила понести узел; в эти дни было немало случаев, когда немецкие солдаты и местные хулиганы вырывали из рук евреев вещи.
1 августа евреи Белостока были заперты в гетто.
Гетто — это тюрьма; нет, тюрьма — это слишком слабое определение. Гетто — это голод, это унизительный гнет, это расстрелы, виселицы, массовые убийства.
Люди были во власти полного произвола. Гестаповцы входили в дома, когда хотели, они забирали все, что им только нравилось.
На воротах гетто висело объявление, что вносить продукты нельзя. За обнаружение любого, хотя бы самого незначительного количества продуктов — расстрел.
Стали людей отбирать на работу. Отобранным выдавали справку, в которой указывалось, по каким улицам им разрешается хождение. Тех, кого встречали на улицах, не указанных и не перечисленных в удостоверениях, арестовывали и расстреливали.
Евреям разрешалось ходить только по мостовой. Я сама знаю случаи, когда жестоко избивали людей только за то, что они при проезде автомобилей, отстраняясь от машины, ставили ногу на тротуар.
Но все злодеяния немцев не могли уничтожить боевой дух человека, его любовь к свободе.
Несмотря на страшный террор, в декабре 1941 года организовалась антифашистская организация. Большую роль в ней играли польские товарищи — Тадеуш Якубовский, Нюра Черняковская и некоторые другие. Я была секретарем Комитета.
Мне надо было получить возможность выходить из гетто, чтобы поддерживать связь с польскими и белорусскими товарищами. Через одного знакомого мне удалось получить место уборщицы на фабрике.
Огромную работу проводил Комитет в условиях нечеловеческого террора и жесточайших преследований. Гетто неуклонно верило в победу Красной Армии. Преклонимся перед величием духа этих людей!
В гетто хорошо была налажена радиосвязь; почти ежедневно слушались сводки Совинформбюро и английские сводки.
Внук старушки Брамзон работал радиомехаником в немецком ”Шлоссе”.
Он принимал сводки на немецком языке, удавалось ему слушать и английские передачи. Вечерами, едва только юноша появлялся, к нему домой приходила не только молодежь, но и самые обыкновенные пожилые евреи. И надо было видеть, с каким напряженным вниманием следили люди за картой, бог весть как сохранившейся в этом аду, с какой радостью и восхищением отмечали они освобожденные от немецких извергов города! Внук Брамзон был далеко не единственным и не главным источником нашей радиоинформации.
У нас был свой радиоинформатор, товарищ Сальман, который имеет большие заслуги перед антифашистской организацией.
В гетто у него погибли жена и сын; всю жизнь он отдал борьбе с немецкими людоедами.
Товарищ Сальман знал несколько языков и стенографию. Это ему очень помогало. Он работал в необыкновенно трудных условиях. Только беспредельная самоотверженность и железная воля бойца помогали ему преодолеть все.
Радио находилось в яме под землей, где едва-едва мог уместиться один человек; писать приходилось на коленях. Зимой, при сильных морозах, это было дьявольски тяжело, но товарищ Сальман ни на один день не оставлял своего поста.
Надо вспомнить также братьев Кожец (позже партизан отряда ”26 лет Октября”), на квартире у которых долгое время хранился наш радиоаппарат.
Благодаря нашим самоотверженным радиоинформаторам, мы вели усиленную пропаганду, почти ежедневно выпуская сводки Совинформбюро и английских радиопередач.
Мы издали речи товарища Сталина, широко распространили материал о Треблинке, об Освенциме. Через надежных людей мы получили и распространили широкий материал о Варшаве.
”Техникой” нам служили пишущие машинки и гектографы: с этим дело обстояло неплохо.
В нашей организации состояла одна женщина, инженер-химик Муся Давидзон. Она работала в химической лаборатории той же фабрики, где я работала уборщицей. Она помогала в этом деле. Кроме того, я связалась с одним мастером-евреем, и с его помощью мне удалось забрать с фабрики гектограф. Я положила его в сумку, а сверху густо наложила кусочки дерева. Такое ”топливо” разрешалось приносить в гетто.
Кроме того, много материалов наши товарищи, работавшие на немецких фабриках, печатали на пишущих машинках.
Душой нашей ”техники” были Фрида Фел, Соня Ружевская, Квета Лякс. Позже они все погибли от немецкой руки...
Вся моя семья погибла в ноябре 1942 года. Сначала вывезли моих родных сестер с мужьями, потом других родных. Брата сначала оставили, а забрали его жену с ребенком, потом через три недели его тоже вывезли. Я осталась совсем одна.
Жители г. Белостока знали, что их ожидает. Ни у кого больше не было никаких иллюзий. Массовое уничтожение и истребление евреев были неопровержимыми фактами, но никто не хотел погибнуть без боя.
Каждый из нас знал, что сила врага несравнима с нашей, что враг вооружен до зубов, что бороться придется насмерть, но мы твердо решили без боя не отступать.
На квартирах Велвла Мессера, Берко Савицкого и других неоднократно происходили совещания антифашистов, на которых мы бурно обсуждали свои текущие дела и задачи.
С ведома и согласия организации, нашими людьми было проведено много актов саботажа на текстильных фабриках, на электростанциях, железной дороге, в железнодорожных мастерских станций Лапы, Старосельцы и др.
Изобретательность наших товарищей в борьбе с немцами была поистине неистощимой.
Так, Аня Лисковская пробралась на кухню СС и подбросила яд в котел. 50 немцев были отравлены, и мы справедливо это тоже отнесли в актив нашей организации!
У нас была установлена связь с партизанским движением. Связь была через группу советских военнопленных, которая бежала в лес и организовала партизанскую группу Мишки Сибиряка. Он трагически погиб потом. Он пошел в город на совещание, немцы узнали об этом и окружили дом. Мишка выскочил в окно, но его тяжело ранило. Один поляк укрыл его у себя, но позже он все-таки попал в лапы гестапо и погиб.
Разведочная работа нашей антифашистской организации помогала партизанскому движению, а после через партизанский штаб братьев Калиновских мы передавали ценные материалы в штаб Красной Армии. Отличными разведчиками были Аксенович, Лярек, Лейтиш и др. Чудеса отваги и бесстрашия проявили еврейские девушки — Мариля Ружицкая, Аня Руд, Лиза Чапник, Хайка Гроссман[33], Хася Белицкая[34], Броня Винницкая[35].
Через одного знакомого поляка, который работал в немецком паспортном отделении, они получили паспорта полячек. Они жили поэтому вне гетто: все преимущества этого положения они, естественно, использовали в интересах нашего дела.
Мы много помогали партизанам: мы им давали радиоаппараты, медикаменты, одежду.
Замечательной страницей в истории нашей антифашистской организации и Белостокского гетто была помощь советским военнопленным. Ее проводил комитет из трех человек: Лейбуш Мандельблат, сапожник из Варшавы, член польской компартии, служащая Юдита Новогрудская и Веля Кауфман.
Лагерь для военнопленных находился в Белостоке; в самом лагере находился комсостав, офицеры, а рядовых вывозили на работу в разные пункты. Надо было наладить связь с офицерами. Это сделать было очень трудно, так как лагерь был обнесен крепкими стенами с колючей проволокой.
Военнопленные страшно голодали.
Один механик по канализации, я не помню его фамилии, которому разрешали заходить на территорию лагеря, связался с офицером из лагеря. Механик был членом антифашистской организации; мы ему отдавали собранные продукты и медикаменты.
Как ни голодали в гетто, однако были самоотверженные люди, которые по-братски отдавали для советских военнопленных последнее.
На фабрике, где я работала, был один парень, который работал бригадиром у военнопленных. Мы ему приносили пайки, отрывая от себя последнее, и он их передавал. Однажды он нам сказал, что там выбрали одного старшину, который делит все между ними, и что пленные непременно хотят знать, кто им все это приносит. Тогда мы спрятались за деревья, потом пленные увидели нас; и это была трогательная сцена: они стали махать руками и улыбаться.
Помощь оказывали польские и еврейские женщины, работавшие на фабрике. Охрана убила одну девушку, принимавшую участие в работе комитета помощи военнопленным. Но даже эта расправа не устрашила людей.
Нам удалось помочь бежать одной группе из лагеря. Это были рядовые, которые жили в бараке.
В 1942 году Красная Армия бомбардировала Белосток. Многие воспользовались этим моментом и бежали из лагеря. Я с ними больше не встречалась.
Антифашистская организация заложила в гетто боевую организацию ”Самооборона”. Организацию надо было вооружить. Евреи работали в разных арсеналах оружия, в казармах. Презирая опасность, евреи выносили оружие из 10-го, 42-го полков, из арсеналов гестапо. На улицах гестапо очень часто проводило ревизии у прохожих, особенно у евреев. Можно себе представить, что значило для еврея пройти с оружием через весь город; но самое трудное было внести оружие в гетто. Ведь на воротах гетто висело объявление: ”Воспрещается вносить в гетто продукты — за внесение продуктов расстрел”. Внести в гетто несколько килограммов картошки значило рисковать жизнью. Можно ли себе представить тот страх, который надо преодолеть, ту меру бесстрашия и мужества, которую надо было проявить, чтобы пронести оружие в гетто? И все-таки оружие вносилось днем через ворота гетто, а ночью перебрасывалось через забор. Нередко снимали латы и днем проходили через город с оружием Марек Бух, Беркнвальд.
Берестовицкая внесла в гетто 8 пистолетов и много боеприпасов. Натек Гольдштейн и Рувим Левин, которые потом геройски погибли в партизанах, вынесли ночью из арсенала гестапо 24 десятизарядки и 20 винтовок — и внесли в гетто. Сохачевский Ежи (позже командир еврейской партизанской группы ”Вперед”) вынес пистолет из музея трофейного оружия гестапо; Мотл Черемошный вынес оттуда же винтовки. Много оружия внес в гетто Муля Нагт, который известен под партизанским именем ”Володя”.
Трудно перечислить все факты и всех участников этой работы. Вечная слава их светлым именам!
Оружие проносилось также из польских деревень. Броня Винницкая перевозила оружие в чемодане из Гродно.
В гетто под руководством инженера Фарбера изготовлялись гранаты и взрывчатые материалы.
Обеспечить все население гетто оружием было невозможно. Зато многие дома были обеспечены разными отравляющими веществами.
Евреи, работавшие на фабрике Миллера, внесли в гетто несколько сот литров серной кислоты.
Этл Бытенская организовала самооборону в нескольких домах по Купеческой улице и обеспечила жителей этих домов серной кислотой и топорами.
Приближались самые страшные дни. Мы знали, что гитлеровские изверги проводили ликвидацию гетто в разных городах. В Белостоке они начали ликвидацию гетто в феврале 1943 года и полностью закончили свое кровавое дело в августе 1943 г.
Февраль 1943 года — это дни великих побед под Сталинградом! За свое поражение немцы решили отомстить евреям. 4 февраля 1943 года в 6 часов вечера жители Белостокского гетто уже знали, что в 4 часа утра 5 февраля начнется ”акция”. В 10 часов вечера люди читали сводки Совинформбюро, зная, что смерть неминуема. Но это их не устрашило. Не устрашило это героя Малмеда! Когда немцы появились в гетто, он первый убил гитлеровского бандита. Его жену и маленьких дочерей расстреляли на его глазах, сотни жителей его дома расстреляли, а самого Малмеда повесили. Труп его в течение 7 суток (столько продолжалась эта ”акция” в Белостоке) висел на улице Белой, и немцы не разрешали его снять. Сотни поляков подходили к забору гетто, чтобы поклониться телу неустрашимого борца!
Малмед был не единственный. Каждый дом фашистским убийцам пришлось брать, как крепость. Многие дома взрывали гранатами или поджигали.
Ничего удивительного, как стало известно позднее, что гестапо города Белостока оценило, что политически им ”акция” в Белостокском гетто не удалась.
Вторая ”акция” началась 15 августа 1943 года. Она началась внезапно, но это гитлеровцам не помогло. Никто не растерялся. Немцы бросили в гетто танки и самолеты. Борьба продолжалась целый месяц.
Вечно в благодарной памяти народа останутся светлые имена участников и руководителей восстания Белостокского гетто. Руководитель восстания Даниэль Мошкович и его заместитель Мордехай[36] посмертно награждены Польским правительством высшими наградами.
Хеля Шурек и ее десятилетняя дочь Бира, 70 юношей и девушек погибли геройской смертью, до последнего вздоха не выпуская из рук оружия. Велвл Волковыский спас десятки людей и направил их в еврейский партизанский отряд ”Вперед”. Он бесстрашно жертвовал своей жизнью, так же, как Калмен Берестовицкий, как Хаим Лапчинский, который сражался с топором в руках. Лейбуш Мандельблат сражался, будучи тяжело больным, с температурой 40°; не уходил с поля боя художник Миллер и сотни других.
Каждый, кто видел и знал, в каких страшных условиях жило еврейское население под гитлеровским игом, как героически оно сражалось с немецкими убийцами, поймет, как велик вклад евреев в дело разгрома немецкого фашизма. Все честные люди преклонились перед героическими подвигами борющихся белостокских евреев. Многие поляки давали нам оружие. Врублевский, Владек Мстышевский деятельно помогали евреям вооружаться. Несколько польских сапожников прятали на своих квартирах активных антифашистских борцов-евреев. Поляк Михаил Грушевский и его жена из деревни Конных спрятали в лесу группу евреев. Они заботились о них до тех пор, пока те не связались с партизанами.
Доктор Доха из деревни Жукевича, фельдшер Ришар Пилицкий оказывали помощь раненым еврейским партизанам.
Гестаповцы подвергли жестоким наказаниям жителей хутора Кременое, но, несмотря на это, они не переставали, чем только могли, помогать еврейским партизанам.
Много еврейских семей из Гродно спасли крестьяне деревень Гродненского района.
Те, кому удалось спастись из Белостокского гетто, бежали в лес. Немцы начали устраивать облавы. Одну девушку немцы поймали и расстреляли. Лесничий Маркевич вышел на большак и предупреждал: ”Не проходите мимо Лесничевки”. Он прятал евреев, приносил им пищу и оберегал, пока не пришли партизаны. Лесничего из лесничества ”Три столба” вместе с женой и маленькой дочерью немцы зимой раздели и голых пытали в лесу, но они не указали, где находятся еврейские партизаны, хотя прекрасно знали это место.
Я передала только некоторые факты из истории борьбы антифашистов Белостока и Белостокского района за три кошмарных года немецкой оккупации. Я рассказала очень немногое из того, что видела собственными глазами как активный участник этой жизни и борьбы.
ТРАГЕДИЯ МОЕЙ ЖИЗНИ. Письмо красноармейца Киселева. Подготовил к печати Илья Эренбург.
С Вами знакомится солдат Красной Армии, Киселев Залман Иоселевич, житель местечка Лиозно, Витебской области. Мне идет пятый десяток годов. И жизнь моя изломана, и кровавый сапог немца растоптал мои дни. Я учился долго в талмуд-торе — школе для детей бедняков, куда привели меня мои бедные родители. В 1929-30 годах учился в районном колхозфаке. Читал книги, читал Виктора Гюго, Шекспира, Жюля Верна в условиях труда и жизненных лишений. Теперь начинаю описывать мою жизненную трагедию, где героем являюсь я, автором — Отечественная война. Я родился в 1900 году в семье извозчика, счастье там было игрой, и лошадь подыхала каждый год. Как я писал, я учился в талмуд-торе, и один отставной студент давал мне бесплатные уроки. В 1920 году я поехал с матерью в гости в местечко Бабиновичи, и там мне понравилась девушка, моя троюродная сестра, — высокая, полная и довольно красивая лицом. Характер у нее был неплохой, и мне понравилось, что она была из небогатой семьи, и, зная мое бедное положение, не гнушалась мной. Наверно, я ей тоже понравился. Я получил в приданое корову, и мы справили свадьбу, а к свадьбе я имел 40 рублей, но нас это не смущало, потому что наша любовь была ценнее всего. Я был тогда гонщиком скота у купцов, и я пробился к жизни, ничто меня не смущало с любимым человеком, я работал днем и ночью, и я был счастлив. В 1928 году у меня были две девочки, действительно хорошенькие, а жена моя хорошела, и я считал себя самым счастливым на свете. Я пошел работать в Белмясторг и по вечерам учился и читал книги. 1934 год был тяжелым. Мне пришлось бросить учение и перейти на службу по заготовке продуктов. Меня поддержали хлебом, хотя в недостаточном количестве; но моя жена терпела вместе со мной и никогда не наталкивала меня на преступление. В общем, я считал себя счастливым и жил спокойно, хотя не богато, но невиноватый, и пользовался авторитетом среди соседей. К 1941 году у меня была корова, пара поросят, два домика пчел и огород. Жена работала, и я работал. Детей у нас было шесть: пять девочек и один хлопчик. Как известно, началась война, враг напал на нашу родину. 5 июля 1941 года меня направили в армию, а жена осталась в Лиозно с детьми и с моей матерью, которой было 75 лет. 12 июля немец захватил Лиозно. Я потерял связь с семьей. А в мае 1942 года я получил письмо от жены из Чкаловской области (город Саракташ). Она посылала мне привет от всех детей. Я обрадовался, и переписка с женой продолжалась больше года. Я видел, что письма жены полны скорби, и вот в июне 1943 года я получаю письмо, что ”ваша жена Фанюся Моисеевна заболела, приезжайте”. Мы стояли на Курской дуге, и положение было напряженное. Я не поехал, а две недели спустя получаю письмо, что ”ваша семья из Саракташа выбыла”. Мне сразу стало понятно, что значит слово ”выбыли” — это как у нас выбывают из строя. Я запросил хозяина квартиры, где жила моя жена, сколько детей с ней было. Хозяева мне ответили, что Фаня была одна, а детей она потеряла, когда переходила линию фронта. Дело было так. В первых числах марта 1942 г., после массовых убийств моих сородичей, моя семья и еще несколько семейств ушли с партизанами. Они дошли до передовых позиций. Жена оставила детей с моей матерью, а сама пошла за хлебом в соседнюю деревню. Там она заночевала, а ночью туда пришли наши части, и она не смогла пройти назад. Так без любимых детей и жила моя Фаня и не хотела меня огорчать и не писала об этом, унесла в могилу горе, а меня не огорчила. Это был, действительно, друг жизни. Прошу вас записать вашими словами об этой судьбе.
ПИСЬМО КРАСНОАРМЕЙЦА ГОФМАНА (Краснополье, Могилевской области). Подготовил к печати Илья Эренбург.
Я напишу еще об одной трагедии: о краснопольской. Там погибло 1800 евреев и среди них моя семья: красавица дочка, больной сын и жена. Из всех евреев Краснополья чудом уцелела одна — Лида Высоцкая, она мне написала про все. Я узнал, что за день до казни, когда уже нельзя было выходить из гетто, моя жена, с позорной биркой на груди, пробралась в город, чтобы раздобыть сушеные яблоки для больного сына. Она хотела продлить его жизнь хотя бы на день, и сердце несчастной билось любовью к сыну. 20 октября 1941 года немцы согнали всех и расстреляли. А детей они мучили два месяца и потом убили. Мой сын давно болел, но его спасали доктора. Советская наука спасла его, а эти звери его убили из автомата.
Я муж без жены и отец без детей, и я уже немолод, но я третий год воюю, я мстил и буду мстить. Я сын великой родины и я солдат Красной Армии. Я вырастил младшего брата, он теперь воюет — он подполковник на 1-м Украинском фронте. Он тоже мстит. Я видел поля, усеянные трупами немцев, но этого мало. Сколько их должно погибнуть за каждого убитого ребенка! Передо мной, в лесу и в землянке, краснопольская трагедия,—там погибли дети, в других городах и деревнях, дети всех национальностей. И я клянусь, что буду мстить, пока рука сжимает оружие.
10 марта 1944 года.
СИРОТЫ. Подготовила к печати Валерия Герасимова.
1. В яме
Маленькая Хинка Врублевич рассказала командиру Красной Армии, своему спасителю, капитану В. Крапивину короткую, но страшную историю. Когда к капитану подвели это странное существо с длинными спутанными волосами, с босыми ногами, в грязных лохмотьях и с цыпками на кистях рук, капитан Крапивин не сразу определил, что перед ним ребенок, даже девочка.
Это одичавшее, утратившее всякий человеческий облик существо, начало говорить. Рассказ девочки шаг за шагом воссоздал весь путь страданий и одиночества.
Хинка Врублевич родилась в местечке Высокий Мазовецк. Там до 1941 года жил ее отец сапожник. Пришли немцы, и вся жизнь изменилась. Все несчастье семьи Врублевич заключалось в том, что они евреи. Первой заботой немцев было создать гетто в местечке. Семья Врублевич: отец 37 лет, мать 40 лет, три брата — 17, 10 и 7 лет и она, Хинка, прожили в гетто около года, если полуголодное, под вечным страхом смерти существование можно назвать жизнью. Но и это существование окончилось — всех евреев из близлежащих районов начали свозить в получившие за время оккупации мрачную известность Замбровские казармы. Там собирали тысячи, тысячи людей, затем их куда-то увозили, и больше никто не видел обреченных. Страх перед Замбровым был так велик, что вся семья, не доезжая его, сбежала в лес. Через две недели скитаний по лесам их встретили два поляка — немецкие пособники из Высокого Мазовецка: Высоцкий и Леонард Шикорский. Да, она их хорошо знает. Им удалось забрать и увести в местечко мать и двоих младших братьев. О дальнейшей судьбе несчастных ей известно лишь, что они были направлены в Замбров. Хинка убеждена, что их убили немцы.
Отец, уцелевший старший брат и она ушли глубоко в лес, выкопали себе яму и прожили там целый год, питаясь ягодами и подаянием, собираемым ночами по окрестным деревням. Вскоре отца проследили и убили на глазах маленькой Хинки и ее брата. Дети остались в яме одни... Кругом был лес, болота, глушь... Но через некоторое время к детям присоединился еще один еврей, также скрывавшийся в лесу от немцев, но он принес новое несчастье. За ним, очевидно, следили, и вскоре снова появились два неизвестных и отобрали у пришельца последние вещи. Они же сообщили немцам о местонахождении ямы. Настал самый страшный для Хинки день. Заслышав приближение немцев, все трое выскочили из ямы и бросились бежать. Вслед застрочил десяток автоматов. Бежавший рядом с девочкой брат был убит наповал. Третьего обитателя ямы она также больше не видела. Ползком она приползла обратно в свое опустевшее логово... И вот она одна в лесу. Теперь нет ни матери, ни отца, ни братьев, ни сородичей. Одна. Но если жутко в яме, в лесу, то еще страшнее узнать, что вокруг тебя убийцы и палачи — немцы. И все же одна надежда поддерживала Хинку: немцев прогонят! Это придавало ей силы, и по ночам она по-прежнему ходила в деревни, и сердобольные женщины давали ей украдкой кусок хлеба.
”Представьте! Зимняя ночь, завывает вьюга, столетние сосны гнутся под яростным ветром. А по снегу скользит одиноко маленькая полуодетая фигурка с хлебной коркой в замерзшем кулачке; она спешит в свою холодную узкую нору, чтобы не застал рассвет, чтобы просидеть, дрожа от холода и плача, до следующей ночи”.
Наши автоматчики нашли ее в яме, в лесу под деревней Голаши, что на 10 км восточнее Замброва...
”Я не знаю, сумел ли я передать эту трагедию так, как я сам ее воспринял. Когда она кончила свой рассказ, мы, фронтовики, видавшие виды, боялись глянуть друг другу в глаза. Нам было стыдно перед этим ребенком за то, что еще ходят по земле двуногие гады со свастикой, что не на веревке еще автор ”Моей борьбы”, что жив еще проповедник расовой ненависти — Альфред Розенберг”.
Так кончает записанный со слов Хинки Врублевич рассказ спасший ее от страшной гибели командир Красной Армии В. Крапивин.
К этому следует добавить, что осиротевшая маленькая Хинка нашла себе приют и любовь в семье лейтенанта Красной Армии Р. Шульмана.
2. Рассказ девочки из Белостока.
Воспоминания десятилетней девочки Доры Шифриной записаны старательным почерком школьницы в разлинованной тетрадке. Она пишет: ”В доме, где мы жили, на моих глазах расстреляли около 20 мужчин; увидев это, я схватила маленькую сестричку и брата и полетела к дяде, который жил недалеко от нас. Это произвело на меня ужасное впечатление. Крики и вопли матерей и плач маленьких детей были ужасны. Просто жалость охватывала, когда смотрела на эту картину. Весь дом и все, что мы имели, сгорело. Поселились временно у дяди. Немцы страшно свирепствовали. Очень многих евреев убили, только на нашем и на соседнем дворе они убили 75 человек. 16000 забрали будто бы на работу, сказали, чтобы внесли контрибуцию, — тогда отпустят, но никого не выпустили, а всех убили и сожгли...
Когда всюду горело и начала гореть также синагога, варвары немцы хватали евреев — мужчин, женщин, детей и стариков и бросали их живьем в синагогу”.
Не удалось спастись и родителям Доры Шифрин. Они были убиты на ее глазах.
Десятилетняя девочка это помнит. Она не забудет этого никогда.
ЛИОЗНО. Письмо В. Чернякова. Подготовил к печати Всеволод Иванов.
Я родился в 1928 году в местечке Лиозно, Витебской области, и до войны жил там у бабушки и дедушки.
Немцы пришли к нам 16 июля 1941 года. В первый же день они забрали у нас все. Дом сгорел. Мы и еще три семьи поселились у двоюродного дяди.
Первое объявление, которое я прочел, было о том, что евреи под страхом смерти должны носить на левой руке повязку с шестиконечной звездой. Для жилья нам была отведена одна улица, где в 30—40 домиках помещалось 600 человек.
Осенью 1941 года на эту улицу пришел немец, молодой, в очках, с изображением черепа на рукаве и петлицах. После долгих поисков он забрал шесть стариков. Среди них были резник Симон, один из самых уважаемых евреев в местечке, два инвалида и душевнобольной Велвеле. Их заперли в сарай, а вечером вывели к реке и заставили на четвереньках ползать по дну в ледяной воде. Так их пытали три дня, на четвертый расстреляли.
Около станции Коянки партизаны пустили под откос немецкий эшелон с боеприпасами. Немцы повесили шесть человек из жителей станции и уже повешенных стали расстреливать разрывными пулями. Никогда не забуду, как один из немецких офицеров взобрался на виселицу, чтобы сфотографировать одного из убитых непременно в профиль.
Я видел двух беременных со вспоротыми животами и отрезанной грудью. Рядом лежали трупы малюток. Я видел трупы 25 евреев из местечка Бабиновичи, которых немцы разбросали на пути от Бабиновичей до Лиозно. Видел грузовик с белорусами, которых везли на расстрел. Я очень много видел для своих пятнадцати лет.
Зимой в любое время дня и ночи в дома гетто врывались полицейские. Они выбивали стекла, избивали евреев палками и плетьми, выгоняли их на мороз.
В одном из домов, где была раньше сапожная мастерская, не осталось ни одного стекла, и в этом доме при 40° мороза жило 40 человек. Покрытые вшами, они спали на гнилой, червивой соломе. Началась эпидемия тифа. Ежедневно умирало несколько человек, а на их место тотчас пригоняли новые еврейские семьи, бежавшие из Витебска, Минска, Бобруйска и Орши.
28 февраля 1942 года с двух часов дня немцы и полицейские начали на машинах свозить евреев в одно место. Меня не было дома. Когда я вернулся, моих родных уже всех посадили в машину. Русские товарищи спрятали меня в уборной и заколотили дверь снаружи. Часа через два, когда полицейские перестали рыскать, я вылез из своего убежища. Я видел, как расстреливали евреев, как многие сошли с ума. Мои дедушка и бабушка перед смертью поцеловались. Они были дружные и не изменили своей дружбе и любви даже в последние минуты жизни.
После этого я долго лежал в снегу без памяти. У меня нет сил описать, что со мной было. Я даже плакать не мог.
Когда стемнело, я пошел к одной знакомой русской, но я понимал, что долго оставаться у нее не смогу. Поэтому я ушел из Лиозно и перешел линию фронта.
У меня сейчас никого нет. Но я живу в Советском Союзе, и этим все сказано.
ПИСЬМА БЕЛОРУССКИХ ДЕТЕЙ (Село Старые Журавли, Гомельской области). Подготовил к печати Илья Эренбург.
1
Немцы загнали всех евреев в одно место, заставляли работать на немцев. Так они жили два месяца. Потом пришли немцы и стали выгонять евреев. Один немец подошел к сапожнику, а сапожник его стукнул по лбу молотком, и немец упал. Сапожника застрелили. Остальных евреев посадили на машины и увезли убивать. Когда везли, одна женщина соскочила с машины и убежала. Завезли евреев к больнице и там убили.
В. Воробьева, 4-го класса.
2
Изверги издевались над евреями, били плеткой. Когда их повезли на расстрел, одна еврейка бросила с машины ребенка. Люди хотели взять, но немцы не дали, потянули к яме и убили. А мать убежала в лес. Она была в лесу до ночи, потом пришла, искала своего мальчика, и немцы ее расстреляли.
Люба Майорова, 3-го класса.
”БРЕННЕРЫ” ИЗ БЕЛОСТОКА. (Рассказ рабочих города Белостока — Залмана Эдельмана и Шимона Амиэля). Сообщение майора медицинской службы Нухима Полиновского. Подготовил к печати Василий Гроссман.
Не забыть нам мрачных дней гетто. Никак не забыть обнесенных колючей проволокой улиц Белостока — Купеческой, Юровецкой, Ченстоховской, Фабричной и многих других, над которыми три года подряд висела смерть. К концу 1943 года улицы гетто опустели, свыше 50 тысяч его жителей погибли в печах и газовых камерах Майданека и Треблинки, в ”лагерях уничтожения” около Белостока.
Из последних жителей гетто 16 августа 1943 года немцы отобрали 43 человека. Среди них были и мы — два рабочих из Белостока.
Всех отобранных бросили в тюрьму. На следующий день нам приказали выковать для себя цепи, длиной в два метра и весом в 12 килограммов. В тюрьме нас держали до 15 мая 1944 года.
За три месяца до этого злополучного дня нас взяли на особый режим. Каждый день нас куда-нибудь уводили и обставляли всю эту процедуру в виде подготовки к казни. Но страх смерти постепенно угасал. Была утеряна надежда на спасение. Над нами все время глумились, нас избивали; Шлема Гельборт и Абрам Клячко заболели психическим расстройством. Они отказались от пищи (1,5 литра жижицы), страдали галлюцинациями и, в конце концов, дней через десять умерли. Невзирая на то, что эти люди были уже много дней не в своем уме, немцы их избивали и пытали, обвиняя в симуляции. Состояние полного животного отупения царило среди остальных.
Каждый ждал такого же конца.
Спустя три месяца обреченные совершенно потеряли человеческий облик.
Однажды, рано утром в тюрьму явился заместитель начальника гестапо Махоль. Он велел нас одеть в другую одежду. Наши новые костюмы пестрели белыми латами на коленях и большой белой латой на спине. На расстоянии 500 метров были видны эти пятна. Звон цепей (длиной в два метра) на руках и на ногах напоминал нам о том, что всякая попытка к бегству напрасна. Нас погрузили в ”смертную машину” (типа душегубки) и повезли по направлению к Августову. Машина остановилась. Когда мы вылезли из автомобиля, нам было приказано построиться. Мы очутились в окружении 50 жандармов, которые были вооружены автоматами, пистолетами и гранатами.
Махоль обратился к нам с речью, он сказал, что мы должны заняться строительной работой, которой хватит на три года. Ни один из нас не будет расстрелян, если работа будет выполняться добросовестно. Пытаться бежать нет смысла, так как из-за цепей это не удастся, а если бы кому-нибудь чудом удалось бежать, то остальные будут тут же расстреляны. Затем нас отвели под охраной жандармов поглубже в лес, к холму, который мы должны были разрыть.
Нам были выданы кирки, лопаты и другие инструменты. Когда мы начали рыть землю, то на 15 см глубины мы наткнулись на трупы людей. Нам приказали крюками вытаскивать эти трупы, укладывать их рядами на двухметровые штабеля дров. Укладка производилась таким образом: на каждый ряд трупов — ряд дров (дрова мы пилили тут же в лесу). Когда высота подготовленного костра достигала трех метров, дрова обливались керосином или бензином, кое-где вперемешку закладывались зажигательные шашки и все сооружение поджигалось. Уже через час нельзя было близко подойти к костру, так как на расстоянии метра одежда приближающегося начинала гореть. Сжигание партии трупов продолжалось 12—18 часов. Затем из золы вытаскивали кости, их измельчали в больших ступах в порошок. После этого зола просеивалась на ситах, с целью обнаружения расплавленных коронок от зубов или других золотых или серебряных вещей, имевшихся на убитых.
Затем пепел мы зарывали в те же ямы, откуда были извлечены трупы для сжигания.
Гестаповцы приказывали сглаживать холмы над ямами, засыпанные ямы засаживались деревьями и цветами.
Режим был строгий. Немцы боялись побега кого-нибудь из ”бреннеров” и зорко следили за нами. В течение дня гестаповцы несколько раз проверяли, все ли ”бреннеры” на месте. Так называли они сжигателей трупов. Разговаривать нам было запрещено. Нас будили в 6 часов утра и отводили к месту очередных раскопок и сжигания трупов.
Первые три ямы в лесу около Августова содержали в себе 2100 трупов. Эти люди были убиты, в большинстве, выстрелами из автоматов и винтовок. Трупы были в одежде, которая истлела или сгнила. Сами трупы, особенно верхние слои, были в состоянии разложения. Кожа и жировая клетчатка были мягки и имели вид белого сырого мыла.
Трупы вытаскивались при помощи крючков, прикрепленных к веревке. Крючок, а иногда и два, забрасывались в яму и зацепляли труп.
Немцы зорко следили за тем, чтобы все содержимое ямы было уничтожено.
С первых же дней мы решили, что должны сделать так, чтобы то, что сейчас происходит, стало впоследствии известным всему миру. Как-то ко мне подошел немец и сказал: ”Жить вы все равно не будете, а если вы даже и останетесь в живых и кому-нибудь об этом расскажете, то никто вам не поверит”. Эта фраза сильно повлияла на меня, и я решил сделать все возможное, чтобы сохранить следы нашей работы. Я следил за окружающими нас жандармами и ловил момент, когда их внимание было чем-нибудь отвлечено: в это время я крючком вылавливал руку трупа, либо ребро, либо череп и незаметно бросал в яму, засыпая ее песком. То же делали мои остальные товарищи. У каждого из нас зародилась вера, что кто-нибудь из нас останется в живых и сумеет вынести на суд все то ужасное, что пришлось видеть.
Из-под Августова нас повели по деревням, заселенным в большинстве белорусами. Возле каждой деревни возвышался заметный холм, в котором были зарыты уничтоженные евреи. Не сосчитать этих могил. Мы с утра до поздней ночи сжигали 200-300 трупов и зарывали пепел в ямы. Под Гродно, около Старой Крепости, мы сожгли несколько тысяч трупов. Особенно большое количество трупов мы сожгли в 14 километрах от Белостока, в местечках Новошиловки и Кидл.
Недалеко от Белостока мы раскопали яму, в которой было 700 женщин. Можно себе представить переживания несчастных перед смертью. Трупы были совершенно голые. У многих жертв были отрезаны груди, которые валялись тут же в яме. Этот жесточайший акт садизма следует отнести к концу 1943 года.
Мне рассказывал один из спасшихся — житель местечка Едвабны — Михель Перельштейн, что он был в гетто в тот день, когда отобрали 700 молодых трудоспособных женщин и направили их, якобы, на вязальную фабрику. Как видно, по пути к этой фабрике. их заставили свернуть в лесок, выкопать ямы, раздеться догола, и — после страшных издевательств — их расстреляли.
Под Ломжей, в деревне Голнино, мы раскопали 4 ямы, каждая по пять метров шириной и глубиной в четыре метра. Мне удалось там спрятать несколько ног, один череп и несколько ребер. Немцы нервничали, из их разговоров мы поняли, что Красная Армия близка. Та торопливость, которую проявляли немцы, подсказала нам, что наши дни, может быть, даже часы, сочтены. Надзор за нами несколько уменьшился, но все же мечтать о побеге было трудно, так как шестьдесят жандармов, вооруженных до зубов, окружали нас.
Мне навсегда запомнилось это раннее летнее утро. Мы с рассвета раскапывали одну большую яму; мы не успели произвести раскопку, как появился Махоль, который подозвал к себе оберштурмфюрера Шульца и, как мы называли его, главбандита Тифензона, и начал с ними о чем-то совещаться. Мы сразу поняли, что случилось что-то серьезное. Нервный тон Махоля и несколько уловленных слов из разговора подсказали нам, что наш конец близок. Гудайский и Пауль дубинками погнали нас в сторону, приказали нам срочно вырыть яму в 4 метра шириной и 2 метра глубиной. Мы сразу поняли, что на этот раз роем могилу для самих себя. Каждый из нас стал обдумывать, как бы вырваться из когтей смерти. Поговорить друг с другом, посоветоваться нам не удалось. Малейшее, даже шепотом произнесенное слово каралось ”гуммами” — ударами резиновой палки. Когда яма была готова, нас всех проверили и выстроили возле ямы, повернув к ней лицом. Махоль взмахнул перчаткой, и цугвахмейстер Вахт дал приказ: ”В яму!” Я крикнул: ”Спасайтесь, бегите, только в разные стороны!” От страшного напряжения нервов все пронзительно закричали и бросились бежать. Раздались очереди автоматов, которые уложили многих из нас, но все же даже раненые старались бежать в гущу леса, находившегося на расстоянии 200 метров от ямы. К вечеру в лесу мы встретились вдвоем, я и Эдельман. Мы в течение трех суток бродили по лесу, питались кореньями и листьями. Воду пили из луж и боялись выйти из леса. На четвертый день мы пришли к Грабовке недалеко от Белостока. Мы узнали, что Красная Армия утром заняла город. Сердца наши затрепетали великой радостью, мы поняли, что спасены. Из нашей группы остались в живых девять человек: я, Эдельман, Рабинович, Гершуни, Фельдер, Врубель, Лев Абрам, Шиф и Липец. Спустя одиннадцать дней мы все были в Белостоке. Трудно рассказать и передать наши чувства, когда мы очутились на земле, на которую вступила Красная Армия. Но еще сегодня звучит и, наверное, уже всю жизнь будет звучать в наших ушах этот приказ накануне смерти: ”Ин дер грабе, марш!” — ”В яму, марш!”
ПРЕДСМЕРТНОЕ ПИСЬМО ЗЛАТЫ ВИШНЯТСКОЙ (Местечко Бытень)
Это письмо я нашел в местечке Бытень, Барановичской области. Оно написано перед казнью Златой Вишнятской и двенадцатилетней Юнитой — мужу и отцу. Около 1800 евреев Бытени были убиты немцами.
Майор Владимир Демидов.
Мистеру Вишнет Оранж, США
31 июля 1942
Моему Мошкеле и всем моим дорогим!
25 июля у нас произошла ужасная резня, как и во всех других городах. Массовое убийство. Осталось 350 человек. 850 погибли от рук убийц черной смертью. Как щенков бросали в нужники, детей живых бросали в ямы. Много писать не буду. Я думаю, что кто-нибудь случайно уцелеет, он расскажет о наших мучениях и о нашем кровавом конце. Нам пока удалось спастись... но насколько? Мы каждый день ждем смерти и оплакиваем близких. Твоих, Мошкеле, уже нет. Но я им завидую. Кончаю, невозможно писать и не могу передать наших мучений. Будьте здоровы все. Единственное, что вы можете для нас сделать — это отомстить нашим убийцам. Мы кричим вам: отомстите! Целую вас крепко, крепко. Прощаюсь со всеми вами перед нашей смертью.
(приписка)
Дорогой отец! Прощаюсь с тобой перед смертью. Нам очень хочется жить, но пропало — не дают! Я так этой смерти боюсь, потому что малых детей бросают живыми в могилы. Прощайте навсегда. Целую тебя крепко, крепко.
Поцелуй от Г.
Твоя И[37]СЕМЬЯ ТЕМЧИНЫХ ИЗ СЛУЦКА. (Отрывки из писем, полученных летчиком Ефимом Темчиным). Подготовил к печати О. Савич.
1
27.IX. 1944 г.
Здравствуй, Ефим. Зайдя в горсовет, я нашел твое письмо, адресованное туда, с запросом о твоей семье. Сообщаю тебе, как воину, у которого сердце крепкое, что твоих, которые остались здесь, как и моих, в живых нет. О тебе слыхал, что ты совершил большие боевые дела. Я всегда знал, что ты будешь таким.
Твой товарищ детства Анатолий Потехин.
2
2.X.1944 г.
Здравствуй, дорогой и единственный брат мой Ефим! Наконец-то я нашел из всей семьи одного дорогого и близкого мне человека. Но рана в моей душе никогда не заживет. Ты и больше никто, знаешь, как я любил и уважал нашу семью, как мать часто плакала о нас. А теперь никого уже нет в живых. Ефим, ты не можешь себе представить, как мне жаль мать, отца, Пинхоса, Фрейду, Нехаму и Розу. Я еще никак не могу узнать судьбу Мани.
В последний раз я видел родных в 1941 г., 22 июня, в 10 часов утра. А ты их не видел еще больше, ты ведь уехал учиться. Я с ними простился и уехал на фронт. 24 июня мы вступили в бой. 26 августа я был тяжело ранен под Черниговом. Восемь месяцев пролежал в госпиталях. Потом опять пошел на фронт и снова был тяжело ранен. Теперь нахожусь в Литве в нестроевой части. Я все время старался узнать что-нибудь о семье, но безрезультатно. Семья у меня всегда в уме, вспоминал ее, когда вставал, когда садился кушать, когда ложился спать. Но к тому удару, который я получил, когда пришло письмо о судьбе семьи, я был подготовлен, ибо я видел, что немцы делали с евреями. В Каунасе они расстреляли и сожгли 65000 евреев. Я видел после освобождения города, как вытаскивали обгорелые трупы людей. Ефим, нужно взять себя в руки и быть человеком. Я тебя прошу, возьми себя в руки. Ты сам знаешь, как я любил семью. Когда мы были дома, я как старший работал больше всех и помогал семье, потому что я любил семью и особенно мать. Ибо мать, это самое родное и близкое, что есть в твоей жизни. Я так работал, потому что я жалел мать. Ефим, ох, как жалко, что у нас нет ни одной фотокарточки нашей семьи, даже не будет на что посмотреть, чтобы вспомнить ее. Ефим, еще раз буду просить тебя взять себя в руки и быть человеком. Ты не обижайся, что я так тебе пишу, но кроме тебя у меня больше никого нет. Ты для меня большое счастье.
Твой брат Лейзер.
3
(Письмо, приложенное к предыдущему)
29.VIII.1944 г.
Здравствуй, Лейзер! Отвечаю тебе обо всем происшедшем в Слуцке. Твой отец был сделан мастером на красильном пункте как спец. Потом немцы его арестовали и привезли домой для обыска. Он был еще жив. Дома они забрали все, что им понравилось. Спустя четыре дня я услышал, что он убит. Матери не говорили, а она все выходила на улицу, ходила по городу, надеялась как-нибудь увидеть отца. У всех евреев отобрали коров. С малыми детьми твоими стало очень трудно. В начале октября образовалось гетто, куда стали вселять всех евреев. Сперва было одно гетто, потом стало два — Полевое, за городом, и Городское, где жили евреи, которые работали. В Городском жить было немного легче, ходили на работу и потихоньку могли достать кое-что из продуктов и продавать свои вещи. В Полевом было строже, и в город не выпускали. Твои попали в Полевое, потому что работать мог один Пинхос, хотя и он был очень молод, но у него тогда работы не было. Полевое гетто скоро стали расстреливать, обыкновенно это было по понедельникам и субботам, так машины 2-3-4 вывозили под Безверховичи в лес. Пинхосу удалось сделаться рабочим, и он убежал из первой партии приговоренных к расстрелу. Он был переведен со всей семьей в Городское гетто, где и оставался до последнего момента, то есть до 8 февраля 1943 года, когда Городское гетто было полностью уничтожено. А Полевое было уничтожено в марте 1942 года. При переезде из Полевого в Городское гетто немцы забрали у них много вещей. Я помогал твоим, они заходили ко мне, раз, а то и два раза в неделю. Но что я мог сделать, я работал учителем и получал 350 рублей в месяц, а кило сала стоило 500-600 и дошло до 1000-1100. Они продали швейную машину, велосипед, часы. А Мани и сейчас нет. Она, убежав с машины, которая везла ее на расстрел, пришла ко мне с плачем. Я снабдил ее кое-чем, и она ушла в лес.
Твой сосед Сулковский.
4
20.Х.1944 г.
Дорогой друг Ефим! Я скрывался в городе, но на моих глазах произошло несколько еврейских погромов. Твоего отца немцы расстреляли до погромов. Во время погромов мы несколько раз прятались вместе с Пинхосом. Твоя мать с Маней и со всеми маленькими тоже пряталась с нами. Передать эту трагедию очень трудно. Мне было легче, я был один. В начале 1942 года я ушел в партизаны. Пинхос решил остаться из-за семьи: без него, работающего, их всех расстреляли бы. Я партизанил до июля 1944 г., был заместителем командира отряда.
Твой Сеня.
5
28.Х.1944 г.
Здравствуй, Ефим! Я только что приехал из Слуцка, где был в отпуску. Слуцк почти весь спален, осталось несколько домов на острове, на Рейчанах и на Володарской улице. Отец был расстрелян в августе 1941 г. в Монаховом саду. Перед тем как расстрелять, над ним издевались, выломали ему руки и ноги и в таком виде привезли домой на обыск. Мать, Пинхос, Фрейда, Роза и Нехама расстреляны в феврале 1943 г. в Мехортах. Роза, когда ее грузили на машину, хотела убежать, но ее ранили в ноги, девочка упала, ее бросили в машину, она истекала кровью, мать держала ее на руках. Все это рассказали мне очевидцы. В Слуцке было расстреляно больше 20000 мирных жителей. Ефим, страшно смотреть, что сделали немцы из Слуцка, и слышать, что они делали с людьми. Ужас один. А Маня жива! Она в Пинске. Она спрыгнула с машины и убежала, была в партизанах. Я ей написал и посылаю тебе ее адрес.
Твой брат Лейзер.
6
28. X.1944 г.
Здравствуй, дорогой и горячо любимый брат Фима! Сегодня у меня такой праздник, какого еще не было в моей короткой жизни. Я получила письмо от Лейзера и узнала, что вы оба живы!
Когда пришел проклятый немец, мы все жили вместе, даже помогали тете Соне. С нами был папа. Папа не хотел идти работать у немцев, но его заставили, потому что он был единственным специалистом по засолке овощей. Он мало работал. Узнали, что он работал при советской власти, и его арестовали. 26 июля, в субботу, его привели домой. Он был избит. У него были переломаны руки и ноги. Я его видела. Мама просила и молила, ничто не помогало. Нас ограбили, все забрали, отца увезли. Мать с ним попрощалась, поцеловалась. Его последние слова были: ”Воспитывай детей, меня убьют”.
Его расстреляли в Монаховом лесу. Это настоящее кладбище, где лежат тысячи людей. Потом у нас началась жизнь хуже, чем у нищих. Проклятые придумали гетто. Там было холодно и голодно, очень много людей в одном помещении, в бараках. Оттуда никого не выпускали. Потом начали увозить на расстрел. Мы семь раз были на краю гибели, но как-то спасались и не попадали в машины. У Симона Стругача случился в гетто паралич, его вынесли в машину на руках. Тогда погибло очень много знакомых.
Лейзер пишет, что кроме партизан, не уцелел никто. На пасху 1942 года это гетто уничтожили, остались пока только рабочие. Благодаря Пинхосу нас перевели туда. Но там не было места. Мама с детьми ночевала в большие морозы в сарае, а то и на улице. Ели картофельные очистки с отрубями. На маму страшно было смотреть, это двигался живой труп. А дети ничего не понимали, все просили есть. И вот в понедельник 6 февраля 1943 г. окружают весь район и начинают грузить людей на машины. Пинхоса забрали первым. Потом маму с детьми. Это было в девять часов утра. Меня забрали в час дня. У меня еще теперь стоят в ушах крики сестричек, когда их везли расстреливать. Розу подстрелили. Со мной в машине сидели дети и мужчины, раненые при сопротивлении. Повезли по Бобруйскому шоссе. Машина крытая брезентом. С нами сидели два немца. Я решила спрыгнуть. Лучше умереть на дороге. Машина шла очень быстро. У меня был бритвенный ножик. Я разрезала брезент от окна вниз и выскочила. Очнулась, когда машина уже отъехала. Пошла к Вале Жук, сказала ей: ”Спасай!” Они с матерью шесть дней прятали меня в сарае. Потом была у Сулковского, потом ушла в лес и попала, наконец, в партизанский отряд. Не могу все описать, плачу, как маленький ребенок. В отряде была до прихода Красной Армии. Теперь работаю в Пинске бухгалтером Красного Креста. Дорогой брат, прошу тебя, мсти, мсти и мсти!
Твоя сестра Маня.
РСФСР
СМОЛЕНЩИНА. Подготовил к печати Илья Эренбург.
1. Шамово
Это было в местечке Шамово, Рославльского района. Смоленской области. 2 февраля 1942 года комендант Мстиславля лейтенант Краузе объявил полицейским: все евреи, проживающие в Шамове, должны быть уничтожены. Обреченных согнали на площадь перед церковью. Их было около 500 человек: старики, старухи, женщины с детьми. Несколько девушек пыталось убежать, но полицейские их застрелили.
На кладбище отводили по десять человек. Там расстреливали. Среди обреченных были две сестры Симкины. Младшую, Раису, студентку Ленинградского пединститута, убили одной из первых. Старшая, Фаня — учительница, оставшаяся в живых, рассказывает:
— Это было под вечер 1 февраля. Мы с сестрой поцеловались, простились — мы знали, что идем на смерть. У меня был сын, Валерий, ему было 9 месяцев. Я его хотела оставить дома, авось, кто-нибудь возьмет и вырастит, но сестра сказала: ”Не нужно. Все равно он погибнет. Пусть хоть с тобой умрет”. Я его завернула в одеяло. Ему было тепло. Сестру повели первой. Мы слышали крики, выстрелы. Затем все стихло. Во второй партии повели нас. Привели на кладбище. Детей подымали за волосы или за воротник, как котят, и стреляли им в голову. Все кладбище кричало. У меня вырвали из рук моего мальчика. Он выкатился на снег. Ему было холодно и больно, он кричал. Затем я упала от удара. Начали стрелять. Я слышала стоны, проклятия, выстрелы, и я поняла, что они били каждый труп, проверяли, кто еще жив. Меня два раза очень крепко ударили, я молчала. Начали снимать вещи с убитых. На мне была плохонькая юбка, они ее сорвали. Краузе подозвал полицейского, что-то сказал. Все ушли. Я потянулась к Валерику. Он был совсем холодный. Я поцеловала его, попрощалась. Некоторые еще стонали, хрипели, но что я могла сделать? Я пошла. Я думала, что меня убьют. Зачем мне жить? Я одна. Правда, у меня муж на фронте. Но кто знает, жив ли он... Я шла всю ночь. Отморозила руки. У меня нет пальцев, но я дошла до партизан”.
Утром лейтенант Краузе снова послал полицейских на кладбище добить раненых.
Два дня спустя в полицейское управление пришли четыре старых еврея. Они пробовали уйти от смерти, но не нашли пристанища. Шмуйло, 70 лет от роду, сказал: ”Можете нас убить”. Стариков отвели в сарай, их били железной палкой, а когда они лишались сознания, оттирали снегом. Потом к правой ноге каждого привязали веревку, перебросили через балку. По команде полицейские поднимали стариков на два метра над землей и сбрасывали вниз. Наконец, стариков застрелили.
2. Красный
— До войны я жила в Минске. 24 июня 1941 года я проводила мужа на фронт. Я вышла из города с ребенком, ему было восемь лет, пошла на восток: я решила добраться до моей родины — города Красный, забрать отца и братьев. В Красном меня настигли немцы, они пришли туда 13 июля.
25 июля вывесили объявления — собирали жителей города. На собрании немцы сказали, что все могут въезжать в дома евреев. Еще немцы заявили, что евреи должны беспрекословно подчиняться всем распоряжениям немецких солдат.
Начали ходить по квартирам, раздевали, разували, били нагайками и плетьми.
8 августа в дом, где я жила, ворвались эсэсовцы. У них были жестянки с изображением черепа. Они схватили моего брата, Бориса Семеновича Глушкина. Ему было 38 лет. Они стали его бить, потом выкинули на улицу, издевались, повесили на грудь доску, наконец бросили в подвал. На следующее утро были расклеены объявления: ”Все жители города приглашаются на публичную казнь жида”. Моего брата вывели, у него на груди было написано, что сегодня его казнят. Его раздели, привязали к хвосту лошади и поволокли. Он был полумертвый, когда его убили.
На следующую ночь в 2 часа снова стучат в дверь. Пришел комендант. Он потребовал жену казненного еврея. Она плакала, потрясенная страшной смертью мужа, плакали трое детей. Мы думали, что ее убьют, но немцы поступили гнуснее: ее изнасиловали здесь же на дворе.
26 августа прибыл специальный отряд. Согнали евреев, объявили, что они должны немедленно принести все добро и сдать немцам, а потом перейти в гетто. Немцы отгородили участок земли колючей проволокой, повесили вывеску: ”Гетто. Вход запрещен”. Все евреи, даже дети, должны были носить на груди и на спине шестиконечные звезды из ярко-желтой материи. Каждому было предоставлено право оскорблять и бить человека, у которого была такая звезда.
В гетто по ночам устраивали ”проверки”, выгоняли на кладбище, насиловали девушек, избивали до потери сознания. Кричали: ”Подымите руки, кто думает, что большевики вернутся”, — гоготали и снова били. Так каждую ночь.
Это было в феврале. Ночью ворвались эсэсовцы, стали светить фонариками. Их выбор остановился на восемнадцатилетней девушке Эте Кузнецовой. Ей приказали снять рубашку. Она отказалась. Ее долго били нагайкой. Мать, боясь, что девушку убьют, шептала: ”Не противься”. Она разделась, тогда ее поставили на стул, осветили фонариком и начали издеваться. Трудно об этом рассказать.
Счастливцы убегали в лес. Но что было делать старикам, женщинам с детьми, больным? У меня были товарищи в Красном, с которыми я хотела уйти партизанить. Мы ждали, чтобы потеплело. Но вот 8 апреля 1942 года товарищи сообщили мне, что прибыл отряд карателей. Мы решили попытать счастья.
За полчаса до оцепления я вышла из города. Куда идти?
Повсюду полиция. Нас травят, как зайцев. Я добралась до лагеря, где находились военнопленные, — я была с ними связана.
Город окружили. Евреев всех загнали на один двор, заставили раздеться. Мой отец пошел первым. Ему было 74 года. Он нес на руках своего двухлетнего внука.
Жена моего старшего брата, которого немцы убили еще в августе, Евгения Глушкина, взяла с собой двух детей — 12 лет и 7 лет
Третьего, годовалого, она оставила в люльке, она думала, что, может быть, звери пощадят младенца. Но немцы, закончив расстрел, вернулись в гетто, стали подбирать тряпье. Они увидели в люльке Алика. Немец выволок ребенка на улицу и ударил головой об лед. Начальник отряда приказал разрубить тело младенца на куски и дать его собакам.
Я ушла к партизанам. Мне было трудно с ребенком. Но в тяжелых условиях сказались солидарность, товарищество, человеческая заботливость. Большие переходы, частые заставы. Я была связной. Дважды я встретила карателей, но ушла. Мой ребенок был ко всему подготовлен. Я ему говорила: ”Если меня поймают, если будут бить или колоть булавками, если я буду плакать или кричать, ты молчи”. Восьмилетний мальчик никогда не жаловался, умело держался с немцами, он был настоящим партизанским питомцем.
Два года мы сражались, и вот пришел день, когда я увидела Красную Армию.
Софья Глушкина, агроном.
9.XI.43 г.
3. Судьба Исаака Розенберга
В местечке Монастырщина Смоленской области проживало много евреев. Был здесь еврейский колхоз. 8 ноября 1941 г. немцы истребили всех евреев, 1008 человек. Расстреливали из автоматов, детей закапывали живыми. Когда пойманного полицейского Дудина спросили — действительно ли он бросал живых детей в могилу, он ответил: ”не бросал, а клал”.
Были убиты также дети от смешанных браков. Русская по национальности педагог Любовь Александровна Дубовицкая была замужем за евреем. Ее арестовали и подвергли пыткам. Ее дети — семи, четырех лет и годовалый — были убиты. Дубовицкой двадцать семь лет; после пережитого она выглядит старухой.
Монастырщина сожжена, от домов остались печи. Осталась одна печь и от дома, в котором жил служащий районного ЗАГСа Исаак Розенберг. Он был женат на русской женщине, уроженке Жирятинского района. Орловской области. У Натальи Емельяновны Розенберг было двое маленьких детей. Они уцелели — матери удалось убедить палачей, что это дети от ее первого мужа.
Наталья Емельяновна спрятала мужа в яме под печкой. Так он провел два с лишним года. Он сидел согнувшись; нельзя было ни лечь, ни встать. Когда он иногда ночью выходил наверх, он не мог выпрямиться. От детей скрывали, что их отец прячется в подполье. Однажды четырехлетняя девочка, заглянув в щель, увидела большие черные глаза. Она закричала в ужасе: ”Мама, кто там?” Наталья Емельяновна спокойно ответила: ”Я ее давно заметила — это очень большая крыса”.
На обрывках газет, которые издавали немцы, марганцевым раствором Исаак Розенберг вел записи изо дня в день, а также записывал рассказы жены о ”новом порядке” в Монастырщине. Часто вода наполняла яму. Кашель душил Розенберга, но он не смел кашлянуть. Он писал и об этом.
Дом был хороший, он понравился немцам. Тогда Наталья Емельяновна ночью разобрала крышу. Дом заливало водой, зимой было холодно, зато немцы больше не покушались на дом.
Наталья Емельяновна заболела сыпняком. Ее увезли в больницу. Детей приютила соседка. Исаак Розенберг по ночам вылезал наверх и ел клей с обоев. Так он продержался две недели. А Наталья Емельяновна, лежа в больнице, терзалась: вдруг она в бреду расскажет о муже?
В сентябре 1943 года части Красной Армии подошли вплотную к местечку. Монастырщина — узел дорог, немцы здесь оказали сильное сопротивление. Шли бои. У дома Розенберга стояли немцы с орудием. Наталья Емельяновна взяла детей и, как другие жители Монастырщины, убежала в лес. Она вернулась, когда в местечко ворвались красноармейцы. Она увидела еще дымившуюся золу и печь: дом сгорел. Исаак Розенберг задохнулся от дыма. Он просидел в подполье двадцать шесть месяцев, и умер за два дня до освобождения Монастырщины советскими частями.
РОСТОВ-НА-ДОНУ. Подготовил к печати Илья Эренбург.
4 августа 1942 года на стенах Ростова было расклеено объявление за подписью ”еврейского старшины Лурье” о регистрации евреев. В объявлении говорилось, что евреи могут спокойно проживать в городе, так как ”германское командование стоит на страже их безопасности”. Пять дней спустя появилось новое обращение за подписью того же Лурье: ”Чтобы обеспечить жизнь евреев от безответственных выступлений обозленных элементов, немецкое командование должно выселить их за город и тем самым облегчить их охрану”. Евреям было предложено собраться в указанных пунктах 11 августа 1942 года, взяв с собой ценности, одежду и ключи от квартир, в которых вещи должны остаться нетронутыми.
В Ростове оставалось много евреев, которые не смогли уехать: старики, больные, их близкие, женщины с детьми. Некоторые сразу поняли, что означает приказ немцев. Научный сотрудник сельскохозяйственного института Федор Ческис вскрыл себе вены, истек кровью, но не умер. Жена на ручной тележке возила его по больницам, но напрасно. Немецкий патруль остановил их. Ческиса казнили, жену, по национальности русскую, посадили в тюрьму. На Дону одна женщина бросила в реку трех своих детей и сама бросилась в воду; вытащили ее и одного мальчика, двое детей утонули.
Старики, муж и жена, забаррикадировались в своей квартире. Немцы взломали дверь, раскидали нагроможденную мебель и увезли стариков. На углу Буденновского проспекта и Сенной улицы жила женщина — зубной врач с дочкой и внуком, которому было 11 месяцев. Узнав о немецком приказе, она решила утопиться с дочкой и внуком. Дочь и внук утонули, а бабушку добрые люди спасли. Обезумевшая, она прибежала в больницу, где прежде работала, к врачу Орловой, умоляя вспрыснуть ей морфий, так как за ней гонятся. Действительно, те же ”добрые люди”, узнав, кого они спасли, позвали немцев. Гестаповцы увели ее из кабинета врача на казнь.
Екатерине Леонтьевне Итиной было 82 года. Она жила у двух бывших монахинь, которые любили ее и заботились о ней. Она сказала: ”Я никуда не пойду. Пусть придут и убьют меня”. Немцы заявили, что если она не пойдет, то заберут и монахинь. Тогда старуха поплелась на пункт.
Пошли на смерть два старейших врача Ростова: доктор Ингал и доктор Тиктин. Женщина-врач Гаркави считалась лучшим специалистом по туберкулезу. Ее муж, по национальности русский, не захотел расстаться с женой. Они вместе пошли на казнь.
На Малом проспекте жил парализованный старик Окунь с женой и внучкой. Девушка не захотела уехать, чтобы не огорчать стариков. Прочитав приказ, старуха Окунь начала раздавать свои вещи соседям. 11 августа она пошла с внучкой на сборный пункт. Парализованный старик остался один. Он спрашивал соседей, скоро ли вернется жена. На другой день за ним приехала машина.
Жители Ростова, проходившие часто по Малому проспекту, знали старушку Марию Абрамовну Гринберг. Она всегда сидела у окна, здоровалась со знакомыми, потчевала детей сладостями. Все ее любили. Дети Марии Абрамовны успели уехать, за исключением одной дочери, доктора Гринберг, которая не захотела бросить престарелую мать. Дочь пошла на пункт. Старушка не могла ходить и осталась дома. Она не понимала, почему дочь ушла на весь день. Старушка просила соседей: ”Позвольте мне посидеть у вас, пока за мной придет машина”... Говоря это, она не понимала, зачем придет машина. Она не понимала, почему соседи ее выпроваживают. Она говорила: ”Я вас не узнаю: вы такие хорошие люди и не хотите меня приютить на один вечер...” Вечером ее увезли.
Вот что рассказывает врач Людмила Назаревская:
”11 сентября утром я шла по Пушкинской улице мимо сборного пункта. У дома стояли машины. Во дворе толпились люди. Меня увидела старушка Розалия Огуз, учительница музыки. Она полвека тому назад давала уроки моей старшей сестре. Она обрадовалась и сказала: ”Люда, вы, наверно, пришли нас проводить. Я прошу вас зайти ко мне на квартиру, я живу с Гончаровой, скажите ей, что нас ведут в военвед. Пусть она принесет мне и сестре продовольствие”. Я пообещала ей сделать все и простилась.
Пройдя несколько шагов, я увидела мать и дочь. Мать была слепая, а дочь глухая. Они меня остановили, спросили, где находится пункт. Рослая девушка, которая шла позади меня, всплеснула руками и закричала: ”Боже мой, бедненькие, да куда же вам идти надо!” Она заплакала и повела несчастных к пункту.
Я направилась к военведу. По Буденновскому проспекту и дальше через Дон на Батайск беспрерывно шли машины. Двое рабочих прошли мимо меня. Один угрюмо сказал: ”Трудно их осилить...” Я ходила вокруг военведа — это было в 15 километрах от города, но никого не увидела. Возвращаясь через рабочий городок, я села отдохнуть на скамейке базара и вдруг увидела партию женщин, скромно одетых, и несколько старых мужчин, среди них доктора Тиктина. Я пошла вслед.
Впереди и позади шли немецкие солдаты. Впереди шел еще один в белой рубашке. Он, видимо, наслаждался своей ролью, время от времени поворачивался и махал руками, как будто дирижировал.
За городом дорога шла под железнодорожной насыпью. Здесь меня остановил бандит в белой рубашке. Он подозвал немцев.
Мне сказали, что дальше идти нельзя.
Возвращаясь в город, я встретила несколько машин, в которых везли евреев. В одной — юноша, сорвав с головы фуражку, помахал ею бандиту в белой рубашке. Может быть, он хотел проститься с живой душой? Бандит в ответ расхохотался. Мне запомнилось в другой машине лицо женщины, она держала в руках маленького ребенка. Ее лицо было напряжено, казалось безумным. Машина мчалась, и женщина с ребенком на ухабах подскакивала. Еще я увидела в машине нашу старушку, акушерку Розалию Соломоновну Фишкинд, в ее затрапезном пальтишке и белой шапочке. Лицо у нее было грустное, задумчивое, она меня не видела...”
Что произошло там, куда немцы не пропустили доктора Назаревскую? Это малозаселенный район. Пять домиков железнодорожников, несколько домов к востоку от зоологического сада и Олимпиадовский хутор. Изо всех этих домов жители были выселены на два дня. Им приказали под страхом расстрела запереть дома и удалиться. Однако некоторые, опасаясь за свое имущество, спрятались в пристройках, в огородах, в щелях. Они видели все.
Накануне казни евреев 10 августа немцы на том же месте — у Змиевской балки, убили 300 красноармейцев. Красноармейцев подвозили в машинах до переезда. Там их сажали в специальную газовую машину. Из нее вытаскивали мертвых. Тех, которые подавали признаки жизни, пристреливали.
Евреям приказали раздеться. Вещи складывали в стороне. У Змиевской балки расстреливали и тотчас засыпали глиной. Маленьких детей живыми кидали в ямы. Часть евреев убили в газовой машине. Одну партию вели голыми от зоологического сада до балки. С ними была красивая женщина, тоже голая, она вела за руку двух крохотных девочек с бантиками на голове. Несколько девушек шли, взявшись за руки, и что-то пели. Старик подошел к немцу и ударил его по лицу. Немец закричал, потом повалил старика и затоптал его.
Местные жители видели, как в ночь с 11-го на 12 августа из ямы вышла голая женщина, сделала несколько шагов и упала замертво.
На следующий день газета ”Голос Ростова”, которую выпускали немцы, писала: ”Воздух очистился...”
ДОКТОР КРЕМЕНЧУЖСКИЙ. Подготовил к печати Илья Эренбург.
В городе Морозовске жил врач Илья Кременчужский с женой и двумя дочерьми. Муж одной дочери был на фронте. Она оставалась с грудным ребенком. Жена Кременчужского — русская. Она чудом уцелела. Она рассказывает:
”Немцы убили 248 евреев. Но в ту ночь они убили 73. Они приехали к нам вечером, закричали: ”Доктор Кременчужский здесь? Собирайтесь с семьей”. Муж сразу все понял. В грузовике он дал порошок с ядом мне и дочерям. Он сказал: ”Когда я покажу рукой, то проглотите это”. Один порошок он оставил себе.
Нас привели в камеру. Там было очень тесно. Мы все стояли. Под окнами эсэсовцы кричали: ”Сейчас мы вас прикончим. Погодите...” Дети плакали. С некоторыми женщинами сделалась истерика. Моя младшая дочь хотела проглотить яд, но муж вырвал из ее рук порошок и сказал: ”Нет, нельзя, представьте, что будет с другими, если мы сейчас отравимся? Мы должны поддержать их, разделить общую судьбу”. Мой муж не говорил по-еврейски, он всю жизнь прожил на Дону, но здесь он вспомнил два слова ”Бридер, иден” — ”братья, евреи”. Все насторожились, и муж сказал: ”Мы должны умереть достойно — без слез, без криков. Мы не доставим этой радости палачам. Я вас умоляю, братья и сестры, молчите”. Настала страшная тишина, даже дети притихли.
С нами сидел знакомый инженер. Он вдруг начал стучать в дверь, кричать: ”Ошибка! Сюда попали русские женщины...” Один немец спросил: ”Где?” Им показали на меня и дочерей. Немец вывел нас в коридор: ”Завтра разберемся”. Потом они начали убивать. Они убивали во дворе. Никто не крикнул. Я подумала: зачем мне жить? Но внук... Я хотела спасти внука, и мы убежали. Нас спрятал учитель...”
”КУДА НАС ВЕДУТ?” Подготовил к печати Илья Эренбург.
В деревне близ Морозовска находились дети — на полевых работах. Слухи об убийстве евреев дошли до деревни. Шесть еврейских детей, в возрасте от девяти до двенадцати лет, отправились в Морозовск. Узнав, что немцы забрали их родителей, дети пошли в комендатуру. Оттуда их отвели в гестапо.
В камере сидели две русские женщины: заведующая яслями Елена Беленова, 47 лет, и Матрена Измаилова. Последняя рассказывает:
”Дети плакали. Тогда Беленова начала их успокаивать, говорила, что папа и мама живы, что ничего нет страшного. Она их убаюкивала, ласкала. Они уснули, а в три часа ночи за ними пришли гестаповцы. Дети стали кричать: ”Тетя, куда нас ведут?” Беленова спокойно объяснила: ”В деревню. Будете там работать...”
В яме, около Морозовска найдены трупы Елены Беленовой и шести еврейских детей.
В СТАВРОПОЛЕ. Сообщение А. Нанкина. Подготовил к печати Илья Эренбург.
5 мая 1943 года я вернулся в свой родной город Ставрополь, освобожденный Красной Армией. Немцы убили всю мою семью: старика-отца, мать, брата с женой и детьми и четырех сестер с детьми, среди которых были грудные.
Когда немцы заняли Ставрополь, они учредили ”Еврейский комитет для ограждения интересов еврейского населения”. Была произведена регистрация евреев. Неделю спустя немцы предложили всем евреям явиться на привокзальную площадь, взяв с собой пожитки до 30 килограммов, ”для переселения в менее населенные районы”. Всех собравшихся посадили в машины особой конструкции и задушили газами. Вещи отвезли в гестапо.
Через два дня, 14 августа 1942 года, немцы предложили всем местным евреям явиться для получения нарукавных повязок. Все пошли, в том числе и моя семья. Их продержали в гестапо до вечера, а вечером сказали, что утром отпустят по домам. Утром их раздели догола, посадили в газовые машины и отвезли за город.
Офицеры и гестаповцы разбрелись по еврейским квартирам в поисках добычи.
Я хочу сказать о моей матери. У нее были правнуки. Она вырастила семь детей. Последние два года она болела, почти не выходила из дома, готовила у плиты обед. К ней приходили внуки, приносили ей цветы. Она сидела среди них слабая и радостная. Ее видели, когда она шла в гестапо. Она шла сгорбленная, в потертом капоте, прикрыв черной косынкой седые волосы. Каким пустым и страшным должно быть сердце человека, который толкнул ее в могилу!
Мои родные жили мирной жизнью, чинили часы, шили платья, делали заготовки для обуви. Дети ходили в школу, ездили на полевые работы. Лина, старшая дочь моей сестры, была сильной, красивой девушкой, спортсменкой. В первые дни оккупации к ней приставали немецкие офицеры, и, придя домой, она плакала от обиды, гордая советская девушка. Потом ее убили.
Убили и самого маленького сына брата. Ему было 10 месяцев. Сначала немцы объявили, что явке подлежат дети старше 8 лет, потом предложили собравшимся женщинам принести всех детей ”для регистрации”. И убили.
Одну мою племянницу мать не взяла с собой. Девочка пряталась у соседей. Об этом узнали гестаповцы. Целый вечер солдаты с автоматами искали двенадцатилетнюю девочку. Ее не нашли. На следующий день, несмотря на уговоры соседок, она сама пошла в гестапо, сказав: ”Хочу к маме”. Убили и ее.
РАССКАЗ ЭВЕНСОНА (Кисловодск). Подготовил к печати Виктор Шкловский.
Вступление
Человеку, который записал свои воспоминания о немцах в. Кисловодске, Моисею Самойловичу Эвенсону, сейчас 79 лет. Он родился в г. Ковно. Почти мальчиком принужден был эмигрировать за границу. Долго работал репортером в Вене. Не окончив философского факультета, на котором он усиленно занимался, Эвенсон вернулся на родину. Было ему тогда 21 год.
Он работал у известного русского библиографа и историка русской литературы С. А. Венгерова; участвовал в создании словаря Брокгауза и Ефрона. В 1892 году он стал работать журналистом; написал ряд небольших статей по философским вопросам, по истории еврейства. Из Петербурга, как еврея, его высылают в Киев. В Киеве Эвенсон работает в газете ”Жизнь и искусство”.
В Киеве он также не имел права жить, и способному литератору, отцу семейства, приходилось часто просиживать дни и ночи в шахматном клубе. Сюда не заходила полиция проверять документы.
Из Киева Моисею Самойловичу пришлось уехать в Житомир, где он был сотрудником, выпускающим и, по существу, единственным работником газеты ”Волынь”. В этой газете одно время сотрудничал знаменитый украинский писатель Коцюбинский. Газета ”Волынь” была закрыта. Эвенсон переехал в Киев и снова скитался.
Сын Эвенсона погиб в 1915 году под городом Бучачем в войне с немцами.
Революция 1917 года покончила в России с еврейским бесправием.
Молодая республика ведет ожесточенную борьбу с врагами. Немецкие империалисты вторгаются на Украину и пытаются отнять у украинского народа свободу. В 1919 году от руки врагов гибнет средний сын Моисея Самойловича — юрист и шахматист. Эвенсон уезжает в Баку. До 1924 года он служит в Наркомвнешторге, потом выходит на пенсию и живет около курорта Кисловодск на маленьком полустанке Минутка. Здесь он женился второй раз на русской женщине, она спасла его во время немецкой оккупации. Такова жизнь автора записок.
Немцы в Кисловодске
Немцы прорвались на Северный Кавказ внезапно: Кисловодск жил жизнью глубокого тыла. В городе было много эвакуированных, много беженцев.
Пятого августа 1942 года население узнало, что немцы подходят к Минеральным Водам. Началась эвакуация учреждений и санаториев. Но транспорта не было. Для того чтобы уехать, надо было иметь пропуск, и люди задерживались из-за оформления бумаг.
Многие пытались уйти пешком к Нальчику, но 9 августа немецкие разъезды уже появились на дорогах.
14 августа появились немецкие мотоциклисты. А вслед за ними пришло множество германских машин с автоматчиками и пулеметчиками. Пришли транспортеры пехоты, затем приехали легковые машины с немецким начальством.
На многих санаториях появились аккуратные билетики с надписью: ”Занято немецким командованием — вход воспрещен”
Центр города был занят комендатурой с ее многочисленными отделениями. По городу были расклеены печатные воззвания к населению. В них говорилось, что германская армия ведет войну только с ГПУ и евреями. Остальное население призывалось сохранять спокойствие и порядок; всем предлагалось явиться на работу. В воззвании объявлялось, что колхозы распускаются, торговля и ремесло свободны. Объявлялось, что враждебные акты против оккупационных властей будут караться по законам военного времени. К такого рода актам в первую очередь относились помощь и поддержка партизанам и недонесение о них властям, распространение неблагоприятных слухов о действиях германской армии и оккупационных властей, а также любое неисполнение приказов комендатуры и гражданских властей.
Через несколько дней в Кисловодске появился в продаже листок, издававшийся в Пятигорске под заглавием ”Пятигорское эхо”. Листок на три четверти был заполнен самой гнусной антисемитской агитацией и нелепыми лживыми выпадами против советской власти.
Ко времени оккупации в Кисловодске скопилось довольно много евреев, эвакуированных из Донбасса, Ростова и Крыма.
Одним из первых приказов германского командования — бургомистром города был назначен Кочкарев. Бургомистр издал приказ о сдаче оружия, о сдаче имущества санаториев и о регистрации ”евреев и лиц еврейского происхождения”.
Старшиной назначенного немцами Еврейского комитета был популярный в городе зубной врач Бененсон.
Дня через два появился новый приказ. Евреи должны были нашить на грудь шестиконечную белую звезду — шести сантиметров диаметром.
Так появились на улицах Кисловодска люди, уже отмеченные печатью смерти.
На стенах города висели приказы о защите зеленых насаждений, о восстановлении деятельности лечебных учреждений и о платности их.
В городе не было топлива и керосина. Были закрыты бани. Цена за мыло дошла до 400 рублей за кусок. Были открыты школы. Учителям было приказано применять в школе телесное наказание, но они не подчинились этому. Лекарств в городе не было. Началась жестокая безработица.
Немцы объявили о принудительном курсе оккупационной марки — десять рублей за марку.
Население, лишенное всяких средств к существованию, продавало вещи. Появились комиссионные магазины, которые сперва брали 25 процентов, потом десять и даже пять. Цены все падали, вещи скупали немцы.
В центральной части города появились немецкие офицеры, солдаты всех родов оружия, украшенные всевозможными значками и нашивками. Появились дамы в тонких чулках и нарядных туфлях. Все трудоспособные мужчины должны были работать на оккупантов два дня в месяц, и скоро появилось объявление, что работать надо за несколько месяцев вперед. В аулы карачаевцев потянулись мешочники с вещами. Мука дорожала, вещи дешевели.
С евреями немцы начали расправу мало-помалу. В первые дни Еврейскому комитету было приказано представить для нужд командования пятьдесят мужских пальто, пятьдесят пальто женских, столько же обуви, столовое белье и т.д. После этого были потребованы часы, драгоценности. Потом было приказано поставить людей на очистку площадей и на земляные работы. Работать обязали голыми руками.
7 сентября появился приказ комендатуры: ”В целях заселения некоторых местностей на Украине, всем евреям и лицам еврейского происхождения, кроме метисов, приказывается явиться 9 сентября на товарную станцию, имея при себе ключи от своих квартир с прикрепленными бирками, на которых должны быть обозначены адреса и фамилии. Выселяемые могут иметь при себе не более 20 килограммов багажа на каждого”.
Многие уже поняли, что это — приказ явиться на смерть. Доктор Виленский с женой и врач Бугаевская отравились. Доктор Файнберг с женой и дочерью перерезали себе вены.
9 сентября на товарной станции скопилось до двух тысяч евреев. Евреи проходили мимо гестаповцев, которые собирали в корзинку ключи от квартир. В числе вывезенных были старик, профессор Баумгольц, писатель Брегман с женой, доктора Чацкин, Маренес, Шварцман, зубной врач Бененсон с семьей. Его тяжелобольного сына доставили на носилках. Люди подошли к железнодорожному составу. Гитлеровцы потребовали, чтобы вещи и провизия были сданы. Послышались робкие возражения: ”А как же с бельем для детей?” Погрузка продолжалась. Пришел автомобиль с девятью маленькими девочками, взятыми из детского дома. Испуганные люди взволновались и зароптали.
”Зачем маленьких девочек отправляете” — раздались крики.
Гестаповец отвечал по-русски: ”Если их не убить, то они будут потом большими”.
В час дня поезд тронулся. Охрана расположилась в классном вагоне. Поезд проехал станцию Минеральные Воды, остановился в поле, немцы стали смотреть в бинокль. Нашли, что местность неудобная. Поезд задним ходом вернулся в Минеральные Воды, прошел на запасной путь к стекольному заводу.
— Вылезайте, — сказали немцы.
Одна женщина, Дебора Резник, ослабевшая от голода и волнения, выпала из задних дверей теплушки в высокий бурьян.
Люди вылезли. Немцы сказали:
— Сдайте драгоценности.
Люди снимали серьги, кольца, часы и бросали все это в шапки охранников. Прошло еще десять минут. Подошла штабная машина. Последовал приказ: раздеться до белья. Начался крик, люди метались, охранники погнали толпу к противотанковому рву, который находился в километре от стекольного завода. Детей тащили за руки, несколько автомобилей крутилось по полю, из них стреляли по разбегавшимся.
Расстрел продолжался до вечера. Ночью подвезли машины из Ессентуков.
Из Кисловодска привезли 1800 человек, из Ессентуков — 507 взрослых и 1500 детей, стариков и старух. К утру все были убиты.
Дебора Резник вышла из травы. Она была почти безумна.
Она бродила по дорогам и случайно осталась жива. Может быть, потому что она не была похожа на еврейку.
Остался жив еще старик Фингерут.
В Кисловодске немцы сохранили живыми несколько сапожников и портных. Перед отступлением они вызвали их семьи и расстреляли всех.
Кое-кто был спасен. Сотрудница ленинградского института Шевелева спасла троих еврейских детей, выдав их за своих племянников. Коллектив мединститута помог ей спрятать детей.
Врач Глузман с двумя дочерьми — 15 и 8 лет — были спасены. Одна русская женщина, Жовтая, спрятала у себя молодую женщину-еврейку с грудным ребенком.
Несколько евреев спасались в пещерах.
Стояла чудесная погода. Появились слухи, что немцы хотят создать в Кисловодске курорт только для немцев. Русское население будет выселено.
Русских погибло уже в Кисловодске очень много.
6 ноября в Германию был отправлен эшелон с молодежью.
Нужда в городе росла, было тревожно. С величайшей осторожностью говорили о расстрелах, но и без того каждый мог ночью слышать залпы.
В декабре появились глухие слухи о Сталинграде. В Кисловодск поступали партии раненых. Советские аэропланы бомбили Пятигорск. Оккупанты притихли и посерели.
Бургомистр Кочкарев был отставлен за большую растрату. Его место занял некто Топчиков. На Рождество вырубили много елок, но веселых елок немцы не организовывали. Началась эвакуация.
4—5 января опять по квартирам искали евреев и коммунистов Появилось объявление, что распускаемые слухи об эвакуации Кисловодска ложны; за них будут расстреливать.
В первых числах января начались взрывы. Взрывали железнодорожное полотно, товарную станцию. Повторялись обыски. Немцы убежали внезапно 10 января. Это спасло много жизней. Немцы оставили на станции бочки с квашеной капустой, вино, мешки с солью. Вино оказалось отравленным. Соль тоже была отравлена, но хозяйственники сразу заметили, что посоленный немецкой солью суп покрывается зеленым налетом, и отравлений было не так много.
10 января в Кисловодске немцев уже не было. Вошли советские войска. Началось откапывание трупов убитых, замученных.
В противотанковом рву нашли 6300 зверски расстрелянных советских граждан. В Пятигорске на Машук-Горе найдено 300 трупов русских. В Кисловодске, у Кольца-Горы нашли еще тысячу трупов.
То, что было сделано немцами в Пятигорске, Ессентуках, сделано ими было спокойно и методически.
ЕССЕНТУКИ. Подготовил к печати Илья Эренбург.
Немцы заняли Ессентуки 11 августа 1942 года. 15 августа был назначен Еврейский комитет, который произвел регистрацию евреев. Было зарегистрировано 307 трудоспособных, а с детьми и стариками около 2000.
На рассвете евреи должны были являться в Комитет. Их посылали на тяжелые работы. Немцы издевались над ними, избивали. Особенное усердие проявлял ”ответственный по еврейским делам” лейтенант Пфейфер. Этот толстый, краснолицый немец приходил в комитет с хлыстом и руководил побоями.
7 сентября по приказу коменданта фон-Бека евреям было предложено переселиться в ”малонаселенные места”. Все евреи должны были явиться в школу за полотном железной дороги, взяв с собой вещи (не более 30 килограммов), тарелку, ложку и продуктов на три дня. На сборы было предоставлено два дня.
Узнав о ”выселении” и понимая, что за этим скрывается, покончил с собой доцент Ленинградского университета Герцберг. Профессор Ленинградского пединститута Ефруси и доцент Мичник приняли яд, но были спасены немецкими врачами, считавшими, что евреев нужно убить по установленному регламенту.
В ту же школу было приказано отвезти всех больных, находившихся в больнице.
9 сентября с утра в школу стали собираться евреи. Многих провожали русские, прощались, плакали. Здание оцепили. Ночь обреченные провели в школе. Дети плакали. Часовые пели песни.
10 сентября в 6 часов утра евреев посадили на машины без вещей. Машины направились по направлению к Минеральным Водам.
В километре от стекольного завода находился большой противотанковый ров. Машины останавливались возле рва. Евреев раздевали и сажали в газовые автомобили, где они умирали от удушья. Пытавшихся убежать — расстреливали. Детям мазали губы ядовитой жидкостью. Трупы сваливали в ров слоями. Когда ров заполнялся, его посыпали землей и утрамбовывали машинами.
Среди убитых, кроме уже названных, много научных работников и врачей: доцент Тиннер, доктора: Лившиц, Животинская, Гольдшмидт, Козниевич, Лысая, Балабан, юрист Шац, магистр фармации Сокольский.
В Ессентуках работал доктор Айзенберг. В начале войны он был назначен начальником полевого госпиталя.
После освобождения Ессентуков Красной Армией доктор Айзенберг прибыл в родной город. Он узнал, что немецкие людоеды убили его жену и десятилетнего сына Сашу. Вместе с представителями Красной Армии и с рабочими стекольного завода доктор Айзенберг установил у рва мемориальную доску.
На этом месте зарыты евреи не только Ессентуков, но также Пятигорска, Кисловодска, Железноводска. Здесь же зарыты трупы 17 железнодорожников и многих русских женщин и детей.
РАССКАЗ РЫБОЛОВА ИЗ КЕРЧИ ИОСИФА ВАЙНГЕРТНЕРА. Подготовил к печати Лев Квитко.
Когда началась эвакуация из Керчи женщин с детьми, моя жена не хотела ехать. Наши рыболовы, наш консервный завод выполняли заказы фронта, и я не мог оставить работу. Оставлять в городе меня одного жена не соглашалась.
— Если случится, — говорила она, — что тебе придется уходить, уйдем вместе.
По городу был расклеен приказ: все евреи — от грудных детей до стариков — обязаны явиться на регистрацию. Работоспособных отошлют на работы, а дети и старики будут обеспечены хлебом. У кого не будет штампа регистрации, тот подлежит расстрелу.
Я пошел и зарегистрировался вместе с семьей.
На сердце, однако, было тяжело. Не нравилось, что на улицах встречается мало керченских жителей, а евреев вовсе почти не видать.
— Знаешь, — сказала мне жена, — давай поговорим с Василием Карповичем относительно ребенка.
Зашли к Василию Карповичу, жившему у нас во дворе. Он и Елена Ивановна, пожилые люди, не раз просили заходить к ним:
— В тревожное время лучше, когда люди держатся вместе, — говорили они.
Но мы из дома уходить не хотели и только нашего младшего, Бенчика, отвели к ним. Старший сын наш, Яша, все равно дома не сидел. Школы были закрыты, и он по целым дням где-то бегал со своими товарищами.
Однажды утром вошли ко мне в дом двое полицейских и немец. Немец вычитал из бумаги мое имя, имя жены и моих детей.
— Соберите, — говорит он, — наиболее нужные вещи, так как вы отправляетесь на работу в совхоз, а квартира ваша будет занята другими. Возьмите с собой ваших сыновей — Якова 14 лет и Бенциона 4 лет. Где они?
— Это ошибка, — отвечаю я. — У нас нет детей.
Но тут же мелькает у меня мысль: а что я буду делать, если сейчас они войдут?
Немец что-то записал и приказал следовать за ним. Двор точно вымер. Но я чувствую, что из-за окон квартир за нами тайком следят перепуганные соседи.
Привели нас в тюрьму. Она была переполнена. Встретили там всех наших друзей и знакомых. И так как никто не знает, для чего и надолго ли нас взяли, в голову приходят самые страшные мысли. От тесноты и мрачных предчувствий все возбуждены, громко говорят, дети плачут — с ума можно сойти.
К вечеру пришел начальник тюрьмы.
— Незачем волноваться, граждане! — сказал он сладким голоском. — Выспитесь, отдохните, а завтра мы отвезем вас в ваши совхозы на работу. Будете получать по два кило хлеба в день.
Народ успокоился. Знакомые начали сговариваться о том, чтобы вместе попасть на грузовики и работать в одном совхозе.
На следующее утро к тюрьме подъехало пять грузовиков. Они наполнились людьми и уехали. Я, жена и наши друзья никак не могли пробиться к машинам — до того была велика толкотня. Люди хотели как можно скорей выбраться из тюрьмы и очутиться на свободе, в совхозе. Наиболее сильные пробились вперед, а мы все оставались, хотя грузовик курсировал весь день.
Ночью кому-то показалось странным, что грузовик оборачивается в течение 25 минут. Куда же они могли за такой срок отвозить людей? Эта мысль так ударила по голове, что всех нас охватил ужас. Так промучились всю ночь.
Утром снова приехали грузовики, и мы вместе с нашими друзьями наконец-то уселись. Как только мы выехали за город, я почуял недоброе. Я знаю все пригородные дороги — не в совхоз едем мы! И, прежде чем я успел что-нибудь сообразить, я увидел противотанковые рвы и возле них гору платья.
Как раз здесь остановился автомобиль, и нас согнали. Мы оказались в окружении солдат с винтовками, направленными на нас. Из ямы, еле присыпанные землей, торчали ноги, руки, еще двигающиеся части тела. На секунду мы словно оцепенели. Девочка лет 14-15 с нашей улицы припала ко мне с плачем: ”Я не хочу умирать, дяденька!” Это так потрясло нас всех, что мы словно очнулись. Никогда я эту девочку не забуду! Ее плач живет в моей крови, в мозгу, в сердце.
С нас начали срывать верхнюю одежду и гнать в яму — прямо на расстрелянных. Послышались страшные вопли. Солдаты гнали нас в могилу живьем, чтобы не нужно было потом таскать наши тела. Окружавшее нас кольцо сжималось все больше. Нас оттеснили к самому краю ямы, так что мы в нее свалились. В это мгновение раздались выстрелы, и упавших тут же начали засыпать землей. Я распрощался с женой. В то время, как мы стояли обнявшись, пуля попала в голову жены, и кровь ее хлынула мне в лицо. Я подхватил ее и искал место, куда бы ее положить. Но в эту минуту я был сшиблен с ног, на меня упали другие.
Я долго лежал без сознания. Первое ощущение, которое я, очнувшись, испытал, было такое, что меня покачивает горячая масса, на которой я лежу. Я не понимал, где нахожусь, и что произошло. Меня давила тяжесть. Хотелось вытереть лицо, но я не знал, где моя рука. Вдруг я раскрыл глаза и увидел звезды, светящиеся в великой вышине. Я вспомнил обо всем, собрал все силы и сбросил лежавшую на мне землю. Отгреб также землю, лежавшую поблизости. Хочу найти жену. Но кругом темно. Каждый раз беру в руки чью-то голову, всматриваюсь — не женина ли. Темно. Вожу пальцами по лицу, может быть, удастся наощупь опознать. Наконец, нашел. Она была мертва.
Я выбрался из ямы и пошел куда глаза глядят. Увидел огонек и зашел в деревенскую избу. Там было трое мужчин и две женщины. Они меня о чем-то спрашивали, но я не знал, что отвечать. Очевидно, они сразу догадались обо всем. Женщины сняли с меня измазанную в крови рубаху, смазали йодом мои раны, надели на меня свежую рубаху, накормили, дали мне фуражку, и я ушел.
По дороге одна из женщин спросила меня:
— А Вальдман Илья Вениаминович тоже был среди вас?
— Да, — сказал я, и женщина, заломив руки, упала.
Я шел по направлению к городу. Не знаю, почему, но страха я совершенно не испытывал. Я хотел узнать о детях. На дворе была ночь, будить знакомых мне не хотелось, и я, увидав развалины разрушенного бомбежкой дома, вошел в погреб.
Но рано утром я хотел подняться — и не мог. Раны кровоточили, меня лихорадило, я был прикован к месту. По обрывкам разговоров, по доносившимся крикам и отчаянным воплям я понял, что в городе происходит большой погром; как я потом узнал, то, что происходило в городе, значительно превзошло мои представления. Немцы окружили также рабочее предместье и убили около 2000 человек.
Лежу в погребе и двинуться не могу. Но вот что удивительно: очевидно, кто-то догадывался о том, что в погребе находится живое существо. От времени до времени кто-то опускал в погреб то каравай хлеба, то отваренную картошку, то лук, то бутылку воды. Пятнадцать дней я пролежал таким образом. Вдруг мне стало ясно, что я заживо гнию. Тогда я собрал остатки сил и выбрался наружу. Пришел в поликлинику. Когда я вошел в кабинет, доктор спросил: ”Что с вами? Почему такая вонь?” Я показал свои раны.
— Места нет, — сказал он, — деньги и бумаги есть у вас?
— Нет.
— В таком случае я не имею права лечить вас, — говорит врач и тут же шепчет медсестре, чтобы та немедленно приготовила для меня место в палате.
Он лечил меня без денег и без бумаг, продержал две недели и выпустил здоровым.
Ушел я к своим знакомым русским и получил у них еду, деньги и жилье.
Тридцать пять лет я имел дело с морем, с ураганами. Не раз буря перевертывала мои лодчонки, но меня не побеждала. Сколько раз меня уже заглатывали волны! А этот вот презренный пес хочет погубить меня в два счета... Не дожить ему до этого! На фронте воюют мои братья и братья моей жены, они уже знают о том, что натворили немцы в Керчи.
Начал разыскивать своих детей. Никто не знает, куда девался Яша. Несколько ночей подряд я рылся в ямах. Но можно ли среди стольких трупов, да еще в темноте, узнать кого-нибудь? К тому же покойники часто так меняются, что их вообще узнать невозможно. Затем я добрался до партизан. Однако пропавшим я своего сына не считаю: он вырос на море. А с Бенчиком все обошлось так, как обещал мне Клименко: ”Что бы ни было с нами, — говорили они, когда я отдавал им ребенка, — Бенчик должен быть спасен”.
Через несколько дней после того, как нас отвезли на расстрел, к нам во двор пришли немцы с полицией и потребовали у соседей Бенциона Вайнгертнера. Немец показывал на бумаге, что ему не хватает из состава семьи рыболова Вайнгертнера четырехлетнего мальчика Бенциона. Пусть ему скажут, где он находится. Соседи уверяли, что ребенок был взят вместе с родителями, хотя все, конечно знали, что он у Клименко.
На следующий день немец с полицейским пришел еще раз. Он явился неожиданно средь бела дня и застал во дворе много детей.
— Кто вздумает удрать — будет расстрелян! — предупредил немец. Он снова вытащил свой список и стал расспрашивать каждого ребенка в отдельности: имя, отчество, фамилию. Среди ребят был и Бенчик. Он выглядел старше своих лет. Когда очередь дошла до него, он ответил, что его зовут Николай Васильевич Клименко. Люди, стоявшие рядом, и дети будто воды в рот набрали.
Немец перешел к опросу.
Однако, на этом дело не кончилось. Спустя несколько дней немцы пришли прямо к Клименко, чтобы забрать у них недостающего им по счету ребенка.
Клименко спрятала ребенка и твердила, что это их мальчик. Клименко хлопотали, раздобыли бумаги и живых свидетелей, подтвердивших, что ребенок действительно их.
Завязалась длительная борьба между немцами и четой Клименко из-за четырехлетнего Бенчика.
Между тем, Клименко не дремали. Они посоветовались с соседями и приняли решение.
Однажды ночью они, оставив дом на попечение соседей, вместе с Бенчиком потихоньку выбрались из города. В дороге добрые люди помогли, и таким образом они с ребенком добрались до степей под Джанкоем, в заброшенный колхоз. Здесь жили родственники Клименко, здесь их знали.
Так они спасли моего Бенчика.
ЯЛТА[38]. Подготовил к печати Илья Эренбург.
7 ноября 1941 года из Ялты ушел последний советский теплоход. Многие не успели уехать. Над городом стоял черный туман: горели нефтехранилища. 8 ноября немцы вошли в город.
5 декабря евреи были переселены в гетто, расположенное на окраине Ялты и обнесенное колючей проволокой. Евреев морили голодом, издевались над ними. Никто не знал, что с ним будет завтра.
17 декабря немцы вывели из гетто здоровых мужчин и повезли по дороге в Никитский сад. У Красной будки (сторожка массандровских виноградников) машина остановилась. Евреям приказали вырыть на дне оврага две глубокие траншеи. Когда работа была закончена, евреев расстреляли.
Утром 18 декабря всех евреев, женщин с детьми, глубоких стариков погрузили в машины. Запретили брать с собой вещи. Люди совали в карман кусочек хлеба, яблоко. Возле обрыва машины остановились. Обреченных раздевали и штыками гнали к обрыву. Детей отбирали у матерей и кидали вниз. Расстреливали из пулеметов.
Был яркий, солнечный день. В двадцати метрах плескалось море. Рабочие Массандры и Магарача работали на виноградниках; они видели все.
К вечеру все было кончено, и немцы засыпали тонким слоем земли 1500 евреев.
Потом палачи пошли в Магарач. В квартире Елизаветы Полтавченко они хвастали, что перебили полторы тысячи человек и что скоро в мире не останется ни одного еврея.
Среди убитых было много врачей. В ”Путеводителе по Крыму”, изданном в 1898 году, среди практикующих врачей города Ялты указаны: ”Л. М. Друскин — детские болезни. A.C. Гурьян — женщина-врач, акушерство и женские болезни”. Анна Семеновна Гурьян успела выбраться из Ялты, но попала к немцам в Кисловодске, где ее и расстреляли. А доктора Друскина убили в Ялте 16 декабря. В течение пятидесяти лет он лечил детей. Давно успели состариться его былые пациенты. У Красной будки его расстреляли, и на тело доктора по детским болезням бросали трупы маленьких детей.
Зима 1941—1942 года была суровая и голодная. Бездомные собаки разрывали могилы у Красной будки, растаскивали трупы.
Весной вода, стекавшая с обрыва, смыла землю; обнажились полуистлевшие трупы. Немцы взорвали часть обрыва и завалили могилы.
Однажды немецкие полицейские обнаружили на могиле цветы. Было начато следствие, но немцам не удалось найти ”виновников”.
ПИСЬМО ФИШГОЙТ (Евпатория). Подготовил к печати А. Дерман.
Немцы вошли в Евпаторию 31 октября. Гестапо прибыло через три дня. 5 ноября вечером на улице задержали 10 евреев, в том числе моего друга Берлинерблау, и всех назначили членами Еврейского комитета. Шестого утром появился приказ о регистрации еврейского населения. Приказ был расклеен на улицах. Сверху была нарисована шестиконечная звезда. Всем евреям приказано было носить на спине звезду, сдать все ценности и денежные знаки в Комитет. На руках разрешалось оставить лишь 200 рублей. Приказ заканчивался: ”За невыполнение — расстрел”.
11 ноября вывесили приказ об эвакуации евреев за пределы Крыма. Приказано было собраться в Военном доме, причем разрешалось брать вещи в неограниченном количестве, ключи от квартир надлежало сдать в Комитет. Последний срок сбора был назначен на 20 ноября. 23-го утром я вышла на улицу, и моим глазам представилась ужасная картина. Женщины шли с детьми на руках или вели их за ручки и плакали, мужчины несли тюки, на повозках везли больных, парализованных. Молодая женщина вела двух детей, у нее были безумные глаза, она кричала: ”Смотрите, у моих детей такие же ручки и ножки, как у ваших, они также хотят жить!” Все они после мучений и издевательства, были вскоре уничтожены. Я уцелела благодаря тому, что накануне регистрации мои друзья принесли мне паспорт, который дала мне знакомая караимка д-р Нейман, — паспорт ее сестры, убитой бомбой. С этим паспортом я ушла пешком из Евпатории по дороге в Симферополь. В деревне Владимировка одна женщина согласилась приютить меня, так как было темно и нельзя было идти дальше. Мы только улеглись, как подъехала машина. Хозяйка вышла на стук в дверь. ”Юде есть?” — спросил немец. Хозяйка ответила отрицательно. Всю ночь гудели машины. Это искали евреев. За ночь погода резко изменилась: выпал снег, поднялась вьюга. Рано утром я вышла и к вечеру добралась до следующей деревни. Мне удалось переночевать там. Ночью сын хозяйки вернулся из Саки и сказал, что накануне в 5 часов вечера там расстреляли евреев. Утром я пошла дальше. Вьюга была такая сильная, что три раза меня сваливало с ног. Было страшно холодно, одета я была легко. Так шла я три дня. На третий день, к вечеру добралась до Симферополя. В Симферополе евреев расстреляли на месяц позже, чем в Евпатории. Здесь евреев грабили и ”организованно”, и самочинно врывались в квартиры, избивали и брали что заблагорассудится, выгоняли из очередей за продуктами. 10 декабря опоздавших граждан (хождение было разрешено до 4 часов вечера) собрали в кино, где они провели ночь, лежа на полу, а евреев привязали друг к другу так, что они вынуждены были стоять всю ночь. Через некоторое время появился приказ об ”эвакуации” евреев. В течение трех дней я видела, как люди шли на смерть. К нам зашел старичок из соседнего двора за советом, идти ли ему в лагерь. Он слышал, что этот приказ не касается лиц старше 80 лет. Наши посоветовали не идти. Мне хотелось обнять этого беспомощного старичка. Через два дня гестаповцы его забрали.
7 января я покинула Симферополь и пошла скитаться по деревням. В каждой я узнавала об ужасах и пытках над евреями. Я проходила мимо колодцев и ям, набитых евреями. В колхозе ”Политотдел” я узнала о благородном поступке старосты Казиса (он впоследствии был расстрелян немцами как партизан), колхозника Павлищенко (партизан), евпаторийской медсестры Рученко и колхозницы Нины Лаврентьевны Ильченко, поочередно прятавших у себя еврея Биренбаума, сапожника из Евпатории.
Рученко устроила его на квартире у Ильченко. Там была выкопана яма, куда его прятали во время облав. Четыре семьи рисковали своей жизнью во имя спасения еврея. В июле 1943 года Ильченко пришлось из предосторожности переменить даже местожительство; она перебралась в Евпаторию, сняла домик на окраине и поселилась там с Биренбаумом. Они выкопали ему яму в сенях, с выходом во двор. В этой яме она прятала еврейского сапожника до освобождения Крыма. В настоящее время Биренбаум находится в рядах Красной Армии.
Узнав, что сын мой, с которым я рассталась еще в Евпатории и который где-то скитался с документом на имя Савельева, направился в сторону Фрайдорфского района, — я пошла тоже в сторону Фрайдорфа. Я проходила мимо окопов, где были похоронены евреи и другие мирные жители. Валялась окровавленная одежда, обувь, галоши, стоял ужасный смрад. В первой деревушке, куда я попала, происходили похороны. Это хоронили сожженных немцами краснофлотцев-десантников, спрятавшихся в скирде, — их было 18 человек. Во всех колхозах евреев уже расстреляли, только в колхозе ”Шаумян” еще были горские евреи. Их расстреляли позже, в 1942 году. Целые дни я проводила в степи, питаясь мерзлой кукурузой; на ночь добиралась до деревни на ночлег. Я всем говорила, что разыскиваю сестру, бежавшую из Евпатории после десанта. В некоторых деревнях я пыталась остаться, но старосты не соглашались меня принять, так как на паспорте не было отметки о регистрации у немцев. Я шла вперед и знала, что, в конце концов, в какой-нибудь деревне буду опознана и повешена или брошена в колодец. Я шла из деревни в деревню, расспрашивая о пленном Савельеве, но нигде его не обнаружила. Я дошла до такого состояния, что ревела как зверь в степи и громко звала своего сына. Это давало мне какое-то облегчение.
В деревнях стали вылавливать скрывавшихся евреев. Каждый раз, когда я узнавала о поимке еврея, я отправлялась в ту деревню, чтобы узнать — не мой ли это сын. Десятки раз я переживала казнь сына. Когда я узнавала, что пойманный успел покончить с собой (таких было много случаев), я радовалась в надежде, что это мой сын. Сейчас я мечтала уже не о спасении сына, а о том, чтобы он успел покончить с собой и не испытал бы мучений от рук немцев. Во Фрайдорфе я от кухарки карательного отряда узнала, что в течение двенадцати дней жандармы свозили сюда евреев, расстреливали их и бросали в колодцы; детям смазывали губы ядом. В деревне Иманша, как мне рассказывал очевидец, детей бросали в колодец живыми, потому что нечем было мазать губы. Некоторые взрослые сошли с ума и сами прыгали в колодец. В течение нескольких дней из колодца доносились крики о помощи. Этот же колхозник показал мне собачку, принадлежавшую еврею из Иманши, которая пять суток лежала у колодца и выла. Из еврейского и татарского Мунуса евреев пригнали в русский Мунус, где имелся колодец. Их выстроили по три человека: стоящие позади должны были бросать в колодец расстрелянных в первом ряду. Это мне рассказывала девушка, наблюдавшая картину с чердака. Один старик отстал, когда их вели к колодцу, и гестаповец убил его прикладом.
Недалеко от Николаева я на кургане увидела замерзшего старого еврея. Как я узнала, это был счастливец, убежавший от фашистских палачей. В Кори я узнала о трагедии трех маленьких братьев. Три мальчика — восьми, десяти и одиннадцати лет, убежали, когда их родителей гнали к колодцу. Дело было осенью, а глубокой зимой они вернулись назад в деревню Кори. Они пришли, потому что у них не было пристанища. Они вернулись к родному дому. Тут уже жили новые хозяева. Дети долго стояли у своей хаты, ни о чем не просили, даже не плакали. Потом их отвезли во Фрайдорф и там убили.
Однажды, бродя по степям, я нашла пачку листовок: среди них была листовка с новогодней речью товарища Калинина. Из нее я узнала об успехах нашей Красной Армии. Я снова почувствовала себя человеком — ведь обращение: ”Дорогие братья и сестры!” относилось и ко мне лично. В этот момент мне показалось, что я вижу, как навстречу мне движется наша могучая Красная Армия, а впереди ее — товарищ Сталин.
Я спрятала две листовки и, приободренная, пошла дальше. На землю спустился густой туман, и я сбилась с дороги. Оставаться в степи на ночь означало замерзнуть или попасть в руки патрулировавших полицейских. Я приготовила нож, чтобы перерезать себе кровеносные сосуды. Вдруг раздался где-то вдалеке лай собаки, и я пошла по этому направлению. Когда я добралась до деревни, туман несколько рассеялся. Это была деревня Красный Пахарь. Я зашла в хату и попросилась переночевать. Хозяева согласились. Вечером мы разговорились, и они сказали, что согласны меня оставить, что я могла бы у них нянчить ребенка, но за это я должна дать им какие-нибудь вещи. Я предложила им часы, и они согласились меня оставить и кормить (если староста разрешит).
На следующий день я познакомилась со старостой Новогребельским Иваном Назаровичем. Он согласился меня оставить, несмотря на то, что я не прошла регистрации у немцев. С первых же слов я почувствовала, что Новогребельский — наш человек. Я стала бывать у них. Жена его, Вера Егоровна, оказалась тоже очень симпатичным человеком. От них я узнала, что немцы грабят население, забирают скот, птицу, облагают непосильными налогами, а комендант избивает людей. Телесное наказание стало обычным явлением. Я видела женщину, которая в течение месяца лежала на животе после телесного наказания. Немцы стали усиленно отправлять молодежь в Германию.
Однажды я тайком навестила в Евпатории своих друзей, принесших мне в свое время паспорт, и достала у них морфия. Мое положение в деревне становилось все более и более опасным. В последний мой приезд в Евпаторию я узнала от соседей, что сын мой в феврале месяце ушел из Крыма с намерением перебраться через линию фронта. С плеч как гора свалилась. Когда я вернулась в деревню и зашла к Новогребельскому, он предложил мне остаться у них ночевать. В этот вечер он открыл мне тайну: у него было радио. У них существовала организация, куда, кроме старосты, вошли его брат, старый партизан Суслов, работавший счетоводом, жена старосты, теща, шурин, колхозница Оксана Никитич и три человека из другой деревни. Новогребельский стал ”принимать сводки”, поручал мне переводить их на немецкий язык. Суслов печатал, другие люди разносили их по деревням. Я была счастлива, что могла выполнять хотя бы маленькую работу. Это служило некоторым оправданием моего существования. Я также переводила на русский язык наши листовки, сбрасываемые с воздуха и предназначенные для немцев. Суслов их печатал. Но счастье мое длилось недолго. В последних числах сентября при регистрации паспортов в деревне я была опознана прибывшими из Евпатории регистраторами. Через несколько дней я бежала. Новогребельский дал мне справку, что я состою на бирже. Я присоединилась к уходившим на Украину двум женщинам, эвакуированным в нашу деревню немцами и имевшим паспорта. С большим трудом мне удалось пробраться через Перекоп. Мы добрались до села Рубановка, Запорожской области, где я встретилась с нашим пленным, пробиравшимся из лагеря к линии фронта.
После освобождения судьба послала мне огромную радость. От приятельницы моего сына я узнала, что он в свое время пробрался к нашим, учился в Нальчике, был лейтенантом, его видели на Южном фронте в 1943 году. Жив ли он сейчас — не знаю. Я от него никаких сведений не получаю. Но мысль о том, что он вырвался из позорного плена, что он защищает Родину, для меня является огромным счастьем.
УБИЙСТВО В ДЖАНКОЕ. Подготовил к печати Лев Квитко.
Перед войной у нас распевали красивую, бодрую песню о еврейском крестьянстве Джанкоя. Песня заканчивалась веселым припевом: ”Джанкой, Джанкой”. Но вот пришел зверь-Гитлер и перерезал Джанкою горло.
Григорий Пуревич, механик машинно-тракторной станции, обслуживающий еврейские колхозы района, жил в Джанкое во время массовых убийств.
Он привел меня к еврейскому лагерю и рассказал:
— Здесь, на чердаке молочного завода, в самом центре Джанкоя, немцы заперли многие сотни евреев, согнанных сюда из окрестных деревень и из города. Теснота и скученность были здесь невыносимые. Дети изнывали от голода и жажды. Каждое утро мы находили несколько умерших. Со мной было так: за несколько дней до прихода немцев меня пригласил на работу директор колейской мельницы. Жена моя с детьми осталась в городе, она — русская. Куда же я, шестидесятилетний человек, пущусь в эвакуацию? Как-нибудь переживем тяжелое время... Пошел я с Колей к директору мельницы, пробыл там несколько дней, но, когда там начались всякого рода разговоры, я не захотел подвергать опасности приютивших меня людей и вернулся в Джанкой.
— Прихожу домой и застаю там немцев.
Ты кто такой? — спрашивают.
— Хозяин! — говорю.
— Пошел вон отсюда!
И меня выкинули. Жены, двух моих дочерей и мальчика не вижу. Они спрятались.
В чужой разрушенной комнате, неподалеку от моего дома, я провел три дня без воды, без хлеба, без каких бы то ни было сведений о моей семье. Вскоре немцы уехали, и я занял свою квартиру. Члены моей семьи вышли из укрытия.
Дня через два являются полицаи.
— Ты кто такой?
Показал им старую бумажку из сберкассы, в которой я написал, что я — караим. Они посмотрели и ушли.
Все евреи Джанкоя были уже на чердаке молочного завода. Их гоняли на тяжелые работы — камни таскать. Надзиратель следил, чтобы камни, даже самые тяжелые, таскали в одиночку. Кто падал под тяжестью, того пристреливали на месте.
Пришли, чтобы меня и мою соседку-караимку забрать в гестапо.
— Я — мусульманка, — заявила соседка.
— А ты кто? — спросили меня.
Соседку отпустили, а меня отослали на завод.
Когда я очутился на проклятом чердаке и увидел, что там творится и что сталось за две-три недели с самыми здоровыми и крепкими колхозными людьми, я чуть с ума не сошел. В углу суетилось несколько человек. Оказалось, что сапожник Кон повесился... Я знал этого молодого, веселого человека. Меня это потрясло, но остальные отнеслись к этому, как к обычному делу. В тесноте я встретил всех евреев, которые не эвакуировались из Джанкоя; многих евреев-колхозников из окрестных деревень и неевреев. Крестьян-неевреев здесь держали за то, что они помогали или передавали пищу несчастным.
Среди массы поблекших лиц русские и украинцы ничем не выделялись. Их глаза, как и глаза остальных, выражали горе и гнев. Беда, говорят, всех равняет.
Я выпросился на работу — дорогу мостить. Лучше погибнуть на улице, чем на чердаке.
Немцы выхватывали из лагеря группы взрослых, детей и стариков и гнали их к противотанковому рву, что за городом. Зима, снег, люди голодны и больны, еле плетутся. Гонят. Ребенок лет 34 отстал. Немец бьет его резиновой дубинкой. Ребенок падает, поднимается, и, пробежав несколько шагов, снова падает. И опять резиновая палка ударяет по спине ребенка.
Возле рва их выстроили и начали расстреливать. Дети разбежались в разные стороны. Немцы рассвирепели, стали гоняться за детьми... стреляли в них, ловили и, ухватив за ноги, били об землю.
Мы работали на дороге, возле тракта, идущего из Керчи в Армянск. На дороге было полно убитых и замученных пленных красноармейцев.
К вечеру нас отводили обратно на чердак. Туда же отвели русского — бухгалтера молочного треста — Варда. К нему пришли за его женой-еврейкой и ребенком. Он стал сопротивляться, схватил жандарма за глотку. ”И меня берите!” — крикнул он. Вот его и забрали.
Однажды ночью у молодой женщины Кацман начались роды. Тихий плач, прерываемый воплями роженицы, доносился со всех сторон. Ее муж Яков Кацман, молодой комбайнер еврейского колхоза,— где-то на фронте, в рядах Красной Армии. Его непрерывно вспоминают... Никогда не думал он, что его молодая жена будет рожать первенца в этой могиле.
На рассвете старший жандарм со своими помощниками пришел контролировать лагерь. Он подошел к роженнице, повернул к себе новорожденного, взял у одного из своих помощников винтовку и вонзил штык ребенку в глаз.
В лагере был заведующий ”хозяйством” Редченко, человек, который притворялся злым. На самом деле он тайком поддерживал ребят, чем только мог. Он ежедневно подбрасывал им хлеб и сухари так ловко, что никто не мог догадаться, когда и как он это делал.
Ежедневно из нашей среды отбирали несколько десятков человек и гнали их к могильному рву. Ежедневно нам приходилось переносить нечеловеческие муки и унижения. Нас заставляли делать такие вещи, о которых невозможно говорить без отвращения.
Я раздобыл кусок электрического провода и однажды на рассвете повесился. Но услыхали мой предсмертный хрип и сняли. За это меня утром избили, сломали мне три ребра. Я не имел права распоряжаться своей жизнью, — это право принадлежало немцам.
Однажды приехали грузовики, и их начали набивать людьми с чердака. Все знали, что их везут на смерть. Крупные немецкие части охраняли здание и дорогу к братской могиле. В начавшейся суматохе кое-кто из обреченных бросился бежать, куда глаза глядят. Некоторым удалось спастись, в том числе и мне. Я ушел домой, но оставаться там было нельзя. Как раз приехал в Джанкой знакомый парень — колхозник Онищенко и зашел ко мне.
— Идем, — сказал он, — к нам. Я тебя спрячу.
Я пошел с ним и прожил у него шесть месяцев. Затем он привез в деревню и всю мою семью. В этом колхозе вообще прятали и устраивали на работу много евреев. Верная советская рука их здесь защищала.
Приехал сюда из Симферополя пожилой русский человек Сергеенко с женой и тремя детьми. Мы узнали, что двое из детей, мальчики лет 6—7, — не его, что это еврейские дети. Когда в Симферополе гнали евреев на смерть, жена Сергеенко выхватила из толпы мальчиков и привела их домой. Так как оставаться в Симферополе с двумя еврейскими детьми было опасно, вся семья Сергеенко перебралась сюда, в деревню. Здесь они получили работу в колхозе.
В этой деревне можно было открыто радоваться, когда над нами появлялись советские самолеты. В этой деревне мы дождались нашего освобождения. Радостный день, когда Красная Армия показалась у нас. останется на всю жизнь в наших сердцах, и эта радость с молоком матери передастся нашим детям и внукам.
КАК УБИЛИ ДОКТОРА ФИДЕЛЕВА. Сообщение А. Морозова. Подготовил к печати А. Дерман.
Пятьдесят лет тому назад в крымский порт Феодосию приехал молодой врач Б. Н. Фиделев. Он избрал своей специальностью детские болезни, но судьба решила иначе. Пароход из Яффы занес в Феодосию чуму, и она угнездилась где-то в тайниках порта. Порт оцепили, и больные, а также люди, соприкасавшиеся с больными, попали в карантин — огороженное высокой стеной место на берегу моря, где с незапамятных времен изолировались заболевшие чумой и холерой. Доктор Фиделев добровольно вошел в этот мрачный городок с его каменными бараками, кладбищем, залитым известью, с лабораторией, бывшей штабом борцов со страшной болезнью... Три месяца прожил Фиделев в карантине; много людей умерло вокруг него. Но немалому количеству больных спас жизнь умелый и самоотверженный уход молодого врача. Доктор Фиделев стал эпидемиологом, и благодаря его стараниям феодосийский карантин был перестроен и превратился в одну из лучших морских врачебнонаблюдательных станций на Черном и Средиземном морях...
Глубоко веря в целебность крымского морского воздуха и солнечных лучей, Фиделев добился постройки новой городской больницы за чертой города. Большие светлые палаты выходили окнами на море. Возле дома раскинулись цветники и лужайки. С годами возле больничных корпусов выросли высокие акации, тополя, кипарисы...
Война с фашистами застала доктора Фиделева на посту главного врача феодосийской больницы. Скоро ее палаты наполнились людьми, ранеными при бомбардировках соседних населенных пунктов... Сама Феодосия тоже стала оглашаться ревом сирен, грохотом зенитной артиллерии и взрывами бомб.
Когда немцы подошли к Перекопу, доктору Фиделеву посоветовали уехать.
”Я никогда не был дезертиром, — ответил он, — а бросать сотни больных на произвол судьбы — значит дезертировать в минуту опасности”.
Ворвавшись в Феодосию, немцы на третий день издали приказ, чтобы все евреи явились в городскую тюрьму ”для отправки на север”. Квартиры надо было оставить в нетронутом виде, с собой разрешалось взять смену белья, пальто и пищу на несколько дней.
Пошли в тюрьму и доктор Фиделев с женой. Однако после проверки документов доктору предложили вернуться домой.
Вечером к Фиделеву тайком зашел старый слесарь карантина Чижиков.
”Немцы хотят наладить в карантине работу пароформалиновых камер, но ничего у них не выходит: чертежей нет, часть оборудования разобрана. Кто-то сказал им про вас. Но я хочу предупредить, что, видимо, камеры они готовят не для дезинфекции... Когда они их пробовали, я видел, как они потащили туда Исаака Нудельмана. Потом его мертвого бросили в море...”
Немцы, действительно, потребовали от Фиделева, чтобы он наладил работу пароформалиновых камер.
”Дезинфицировать ваших соотечественников перед отправкой”, — объяснили ему.
”Нет”, — ответил доктор.
Его арестовали вместе с женой и повели по главной улице города. Какой-то румынский солдат сорвал с врача меховую шапку, осенний ветер трепал пушистые волосы старика, и встречные — не было в Феодосии человека, который не знал бы Фиделева, — молча снимали шапки, понимая, куда ведут стариков. Они прошли здание амбулатории имени доктора Фиделева, здравпункт табачной фабрики, организованный благодаря его усилиям, детские ясли, шефом которых он был.
Арестованных привели не в тюрьму, а посадили в один из подвалов бывшей поликлиники. Вероятно, немцы применяли к старому врачу различные методы ”медицинской” пытки, но Фиделев так и не пошел в карантин помогать немцам. А через несколько дней доктора связали с женой телефонным проводом и бросили в колодец во дворе поликлиники, в который спускали почвенную воду из подвалов. Эта широкая яма наполнялась водой до высоты человеческого роста только после восьми часов работы мотопомпы, качавшей воду. Уборщица поликлиники, жившая в смежном дворе, сквозь щель в заборе видела, как немцы столкнули в яму связанных стариков, и слышала, как, вздыхая и хлюпая, всю ночь качал грязную воду электронасос.
Доктор Фиделев захлебнулся в жидкой грязи, наполнившей яму. Он отдал всю свою жизнь борьбе с врагами людей — болезнями — и не отступил, когда лицом к лицу пришлось столкнуться не с легочной или бубонной чумой, а с ее новой ”разновидностью” — коричневой чумой. Немцы раздавлены в Крыму и сброшены в море, и вновь в городе работает городская больница имени доктора Фиделева...
МАЛЯР ЖИВОТОВСКИЙ. Сообщил Л. Фейгин. Подготовил к печати А. Дерман.
— Детство и юность мои прошли в Джанкое. Его населяли трудолюбивые мастера, и жизнь здесь была богатой, веселой, а любимцем всего города был Наум Животовский — ”Веселый маляр”.
Животовский был удивительным мастером — неутомимым, жадным к работе. Он писал яркие вывески, мимо которых нельзя было пройти, чтобы не остановиться, рисовал заманчивые афиши для кинотеатра, фантастические декорации для клубных спектаклей и так красиво расписывал легкие колхозные брички и тачанки-тавричанки, как будто готовил их для грандиозной свадьбы.
Я не видел Животовского мрачным. Может быть, бывали у него в жизни плохие дни, но он говорил: ”Горе мое — пусть останется при мне, а радостью пусть пользуются люди”. Он любил людей, а люди любили его. По вечерам Животовский выходил гулять на главную Крымскую улицу со всей своей семьей. Рядом с ним шла жена, веселая, смуглая красавица, одетая в нарядное, яркое платье. Вокруг шумной гурьбой шли дети: четыре озорных, загорелых мальчика и три девочки, — красивые, кокетливые, во всем похожие на мать и такие же нарядные.
Животовский гордился своей семьей и многочисленной родней. Он говорил: ”О, Животовских много! Мы скоро весь Крым заселим”.
В августе 1941 года я ехал на Перекоп через Джанкой. В центре города немецкая бомба разрушила дом детского сада. Одна стена обвалилась, крышу снесло, а всюду валялись исковерканные детские кроватки, крохотные стулья, столики, игрушки. Но на уцелевших стенах внутри дома рукой художника было нарисовано все, чем богат степной Крым. Огромные полосатые арбузы лежали пестрой грудой у шалаша на бахче, на огородах цвели помидоры, желтели тыквы и лопались полевые стручки, выбрасывая ядра гороха. На боковой стене были нарисованы два моря. На одном было написано, что это Азовское, на другом — Черное. По зеркальной глади плыли рыбачьи шаланды с косыми парусами, неподвижно стояли военные корабли с пушками и дымил громадный трехтрубный пароход с надписью ”Украина”. Между морями лежала крымская степь, тоже напоминавшая море. По степи плыли комбайны, похожие на парусные шхуны, и золотая пшеница устремляла навстречу им зрелые свои колосья.
— Должно быть, это очень нравилось детям, — сказал мой спутник. — Кто это сделал?
— Животовский, — отвечаю я уверенно.
И я не ошибся. Проходивший мимо джанкоец сказал:
— Он рисовал.
Три года после этого я ничего не слыхал о Животовском. И вот, наконец, письмо.
”Дорогой земляк! Один человек уверял меня, как будто видел своими глазами, что вас убили. А вы живы, и это очень здорово, и я так рад, что передать не могу. Меня тоже много раз убивали, но такие уж степняки люди, что мы в воде не тонем и в огне не горим.
Может, вы уже забыли меня, но скорее всего не забыли. Ведь я, помните, всегда жил около людей, и люди меня запомнили; потому что я был чересчур шумным человеком. Но теперь мало осталось от прежнего Животовского. Большое горе постигло меня. Я даже удивляюсь себе, что живу еще, дышу, ем, шучу с товарищами.
В апреле этого года я дрался на Перекопе, форсировал Сиваш, и вот дошел до родины — любимого Джанкоя.
Город разрушен. Все горит. Спешу к своему дому. Он цел, невредим и на ставнях цветы, которые я нарисовал, и на калитке намалеванная мною злая собака. Открываю калитку, вхожу в сад. Чужой мальчик стоит, смотрит на меня, улыбается, а я ничего не вижу: ослеп от волнения и спросить ничего не могу.
Вырвали немцы корень Животовского! И пусто, и холодно у меня на душе, как будто заморозило меня всего лютым морозом, и даже слезы замерзли.
Тогда я узнал, дорогой мой земляк, как истребили немцы мою жену, моих детей, больную мать, старого отца, сестер моих с малыми детками, всего 42 человека, о которых я знаю. Судьба остальных мне неизвестна.
И тогда я решил, что не стоит жить, и тут же хотел покончить выстрелом из трофейного пистолета. Но подумал, что солдату не годится так умирать. И когда снова попал в бой и увидел немцев, умирать мне уже не хотелось. Я бил немцев и кричал, когда шел в атаку: ”Суд идет!” Так я прошел до самого конца Крыма — до Херсонесского мыса, и здесь, около Севастополя, убил на берегу немца, спихнул его ногой в море и сказал: ”Приговор приведен в исполнение. Пусть трепещут другие! Суд идет! Я еще буду в вашем Берлине!”
Меня наградили орденом, и командир полка велел мне отдыхать в Ялте и потом догнать полк. Но я поехал с полком на новый участок фронта. Теперь мы идем все дальше и дальше на Запад и каждый день творим на поле боя наш праведный суд.
Ваш земляк Наум Животовский, в прошлом ”Веселый маляр”.
ЛИТВА[39]
ВИЛЕНСКОЕ ГЕТТО. Автор А. Суцкевер[40]. (Перевели с еврейского М. Шамбадал и Б. Черняк.)
***
ШАУЛЯЙ (Дневник А. Ерушалми). Подготовил к печати О. Савич.
***
ФОРТЫ СМЕРТИ ВОЗЛЕ КАУНАСА. Автор Меер Елин[41].
***
БОРЦЫ КОВЕНСКОГО ГЕТТО. Автор Я. Йосаде[42].
***
ДОКТОР ЕЛЕНА БУЙВИДАЙТЕ-КУТОРГЕНЕ. Сообщение Г. Ошеровича. Подготовила к печати Р. Ковнатор.
***
ИЗ ДНЕВНИКА ДОКТОРА Е. БУЙВИДАЙТЕ-КУТОРГЕНЕ. Подготовила к печати Р. Ковнатор.
***
СУДЬБА ЕВРЕЕВ ГОРОДА ТЕЛЬШАЙ. Рассказ Галины Масюлис и Сусанны Каган. Подготовил к печати О. Савич.
***
ЛАТВИЯ
РИГА. Автор — капитан Ефим Гехтман.
1. Немцы входят в город
Приближение немцев к Риге было возвещено неумолчным грохотом бомб у переправ через Западную Двину и у вокзала. С первых же часов войны десятки ”юнкерсов” и ”хейнкелей” с ревом носились над улицами и площадями Риги. Они швыряли бомбы и с больших высот, и с бреющего полета, пикировали на бульвары, из пулеметов расстреливали прохожих. Им вторили пулеметы и автоматы с некоторых чердаков и крыш — там засели немецкие парашютисты и диверсанты, проникшие в город. Гитлеровская агентура, оставшаяся в Прибалтике после установления советской власти в Литве, Латвии и Эстонии, тоже заявила о своем существовании — фашисты сделали попытку взорвать мосты, захватить правительственные здания, парализовать движение на важнейших военных коммуникациях.
Над рижскими евреями нависла зловещая угроза. Десятки тысяч листовок, сброшенных с немецких самолетов, в подробностях расписывали, что будет сделано с евреями. Русские и латыши категорически предупреждались, что они будут сурово наказаны, если помогут евреям эвакуироваться. Евреи потянулись к вокзалам, переполняли порожние товарные вагоны, сутками сидели на железнодорожных платформах, дожидаясь отправки на восток. Железнодорожники делали все, что было в их силах; под свист пуль и грохот бомб они совершали маневры на станционных путях и отправляли поезда. Многие, отчаявшись уехать поездом, клали свой скарб на тележку и пускались в далекий путь пешком. Все дороги были усеяны беженцами. Женщины и дети стали мишенью для немецких летчиков.
С каждым часом эвакуация все усложнялась. На железнодорожных станциях образовались пробки из воинских эшелонов, мчавшихся к фронту, и поездов с эвакуированными; немецкие самолеты все яростнее зверствовали на дорогах; порой они гонялись за одним человеком, за одной тележкой. Все труднее становилось выбираться из города мимо многочисленных засад немецких парашютистов; обнаглевшие гитлеровцы сделали вылазку даже на главную магистраль города — улицу Бривибас. Полки Красной Армии сдерживали натиск немецких войск, прикрывая мобилизацию в глубинных районах страны. Немцы имели превосходство и в людях, и в танках, а в особенности, в авиации. Советские полки получили приказ отходить с боями, сражаться на каждом рубеже, выиграть время. Из Риги успели эвакуироваться около 11 тысяч евреев.
* * *
Утром первого июля в Риге уже были немцы. Первых встретившихся им мужчин-евреев они привязывали к своим танкам и подолгу волочили окровавленные тела по улицам города. К полудню евреев стали хватать на улицах и загонять в синагоги. Многих не довели и расстреляли по пути.
Когда немцы решили, что в синагоги согнано достаточное количество евреев, они стали приглашать рижское население собраться у синагог для интересного зрелища. Но здесь гитлеровцы столкнулись с первой неожиданностью — еврейские молельни стали опорными пунктами, которые огрызались яростным огнем винтовок и автоматов. Обреченность засевших там была очевидна; в Риге к этому времени уже сосредоточились крупные силы немецкой пехоты и танков, но осажденные решили дорого отдать свою жизнь и погибнуть, сражаясь. Немцам пришлось в нескольких случаях направлять на штурм синагог танки. Несколько часов длилось неравное сражение, и к концу дня все рижские синагоги пылали ярким пламенем. В некоторых случаях синагоги были сожжены немцами, в других — сами евреи поджигали здания, предпочитая погибнуть, чем сдаться в руки гитлеровцев. Из горящих зданий раздавались вопли женщин и детей. Раввин Килов в большой хоральной синагоге громко читал молитвы, а из подвальных амбразур неслись пулеметные очереди. Рабочий лесопильного завода Абель из старого дробовика застрелил двух немцев, пытавшихся проникнуть в дом. Немецкий офицер вызвал целый взвод для того, чтобы захватить его живьем. Но Абель не сдался и погиб, сражаясь до последней минуты. Синагогу на Гоголевской улице штурмовали две роты немецких солдат.
Очаги сопротивления возникали и вне синагог. В некоторых еврейских квартирах погромщиков встретил ружейный огонь. С оружием в руках погиб директор школы, доктор философии Венского университета Элькишек.
Много сохранилось в Риге воспоминаний о мужестве, достоинстве и какой-то особой гордости, с которыми встретили евреи своих палачей. Два эсэсовца вели работницу текстильной фабрики Ганштейн к зданию синагоги; на ходу они били ее прикладами, кололи штыками. Она долго шла молча, изредка стирала с лица кровь, мешавшую ей видеть окружающее. На перекрестке улиц, где стояла группа латышей, Ганштейн вдруг вырвалась и закричала:
— Люди, запомните этих зверей! Советская власть этого никогда им не простит. Придут наши, расскажите им, как нас здесь мучили...
Немцы не дали Ганштейн договорить и застрелили ее в упор, потом дали несколько очередей из автомата вверх и приказали толпе разойтись.
В тот же день группой евреев была предпринята отчаянная попытка прорваться на соединение с частями Красной Армии. Возглавил эту группу студент Рижского университета Абрам Эпштейн. План был такой: поскольку немцы увлеклись грабежом в городе и целые батальоны ушли со своих позиций, воспользоваться этим обстоятельством, уйти в пригородные леса, а затем, нащупав слабое место, прорвать фронт и соединиться со своими. 300 женщин и детей растянулись в длинную колонну. Но рижане хорошо знали окрестности своего родного города, и этой массе людей удалось благополучно миновать заставы, лесами выйти в пригороды и очутиться в сравнительной безопасности. Но кто-то, однако, донес об этом немцам, — несколько танков и батальон пехоты бросились вдогонку беглецам. Немцы настигли колонну уже на 15-м километре от города. Абрам Эпштейн бросил свой отряд (в нем было около 60 вооруженных юношей и девушек) на прикрытие женщин и детей. Рубежом обороны была избрана маленькая речушка Маза-Югла, протекающая восточнее Риги. Здесь несколько часов длился бой отряда рижских студентов с наступавшими немцами. Это дало возможность женщинам и детям скрыться в лесу и незаметными тропами выбраться на Мадонское шоссе, где вели бой полки Красной Армии. Отряд Абрама Эпштейна погиб почти целиком во главе со своим командиром, но в тяжелой битве на реке Маза-Югла он истребил больше 100 немцев и дал возможность нескольким сотням еврейских женщин и детей добраться до советских войск.
Немало было сделано попыток латышами и русскими спасти евреев от неминуемой расправы. Студент Илья Абель в течение многих дней прятал нескольких товарищей-евреев в своей квартире. В первые дни погромов ксендз Антоний скрывал несколько десятков евреев в костеле. Другой ксендз помог инженеру Лихтеру бежать из города. Но все эти меры мало помогли несчастным людям. Спасшись в первые дни, они неизменно впоследствии попадали в руки немцев и разделили участь всех евреев Риги.
2. Над Ригой — ночь
Наступила первая ночь при немцах. С чердаков, с крыш, из подвалов выползли гитлеровские агенты. В городе появились немцы-”репатрианты”, в 1940 году эмигрировавшие из Латвии.
Немцы везли их в обозах как осведомителей, сыщиков, будущих комендантов тюрем и лагерей и просто палачей. Прибалтийские немцы оправдали надежды своих хозяев; среди гитлеровских негодяев они были самыми отъявленными, среди палачей — самыми жестокими, среди следователей и надзирателей — самыми подлыми.
С каждым часом еврейский погром принимал все более разнузданные формы, все более широкие масштабы. Начался повальный грабеж еврейских квартир. Потом начались массовые аресты. Хватали всех, кто попадался под руку, и отводили в тюрьму, в префектуру, а иных вели прямо в Бикерниекский лес[43]. Всего в эту ночь было арестовано 6 тысяч евреев.
Бикерниекский лес имеет незабываемую и печальную славу в истории Латвии. В 1905 году прибалтийские бароны, занимавшие все командные посты в этом крае, потопили в крови волну первой русской революции. Тысячи участников революционного движения были расстреляны тогда в Бикерниекском лесу. В годы гражданской войны здесь проводились массовые казни борцов за советскую Латвию. В этом лесу, словно геологические напластования, покоятся кости борцов и мучеников двух поколений. Это же место было избрано немцами для массового истребления сотен тысяч рижских и привезенных из Западной Европы евреев.
Немцы стремились перещеголять друг друга в изощренных способах истребления беззащитных людей. Штурмбанфюрер Краус из Зихерхейтсшуполицай, например, выработал свой излюбленный прием. На улицах Московского Форштадта он выстраивал группы евреев, завязывал им лица портретами Ленина и Сталина и, вооружив латышских мальчиков винтовками, приказывал: ”Стреляйте в большевиков!” Когда те отказывались, он ловил одного-двух из них, завязывал и им лица портретами и загонял в общую толпу. И тогда уже целая команда эсэсовцев расстреливала колонну ”портретов”. Унтерштурмфюрер Брунс заставлял евреев предварительно копать себе ямы, ложиться в них, примерял по росту, долго и придирчиво добивался, чтобы каждая яма имела правильные геометрические формы и, только полностью натешившись, расстреливал свои жертвы.
Кровавую оргию справляли немцы в здании префектуры. Сюда непрерывно привозили евреев для ”регистрации на работу”. Немцы заполняли какие-то анкеты, у некоторых измеряли нос, лоб, скулы, что-то долго записывали. Потом, громко смеясь, они сжигали в печке только что заполненные документы и выносили ”решение”:
— В Бикерниекский лес.
Однажды в полночь один эсэсовец приказал раздобыть парикмахера. Когда тот пришел, он велел всем пожилым евреям сбрить половину бороды, вырвать один рукав из костюма, разуть по одному ботинку и пуститься в пляс. Через полчаса явился командир эсэсовского отряда, совершенно пьяный, и объявил, что сейчас он прочтет политический доклад. Говорил он долго и бессвязно, но единственно, что можно было понять, означало: евреям он, штурмбанфюрер, пощады давать не будет. Раз они попали в его руки, то могут считать себя покойниками и готовиться к встрече со своими праотцами на том свете. И в доказательство, что у него слово не расходится с делом, штурмбанфюрер тут же застрелил нескольких человек из своего пистолета. В эту ночь прошли ”перерегистрацию” в префектуре около 3-х тысяч человек. Больше тысячи были сразу отправлены в Бикерниекский лес и расстреляны. Остальные были заключены в городскую тюрьму.
Во дворе Центрального Комитета МОПРа[44] немцы обнаружили много плакатов и портретов и несколько знамен. Гитлеровцы приказали собранным ими здесь евреям взять знамена и плакаты, изобразить ”демонстрацию”, петь ”Интернационал” и другие революционные песни. Когда палачи решили, что репетиция закончена, они вывели ”демонстрацию” на улицу, пытаясь натравить на нее население. Но провокация гитлеровцев провалилась. Латыши и русские шарахались в стороны от страшного зрелища. Тогда немцы пустили в ход автоматы и пулеметы, — и вся ”демонстрация” была расстреляна тут же на улице.
В эту же ночь в доме №10 по Мариинской улице праздновали свои успехи офицеры Виртемберг-Баденского гренадерского полка. Они загнали на свою оргию несколько десятков еврейских девушек, заставили их раздеться догола, плясать и петь песни. Многие из несчастных были тут же изнасилованы, а затем выведены во двор и расстреляны. Превзошел всех своей выдумкой капитан Бах. Он выломал у двух стульев сиденья и заменил их листами из жести. К стульям были привязаны две девушки-студентки Рижского университета и посажены друг против друга. Принесли два горящих примуса, которые были поставлены под сиденья. Офицерам очень понравилась эта затея. Они взялись за руки и организовали вокруг двух мучениц хоровод. Девушки извивались в муках, но руки и ноги были накрепко прикручены к стульям, они пробовали кричать, им заткнули рот грязными тряпками. Комната наполнилась тошнотворным запахом жареного человеческого мяса. Немецкие офицеры с хохотом кружились в веселом хороводе.
3. Первые дни оккупации
Еврейские дела были переданы в руки прибалтийских немцев, вернувшихся в Ригу. Эти прохвосты с давних пор были одержимы звериной ненавистью к еврейскому населению. Прибалтийский немец — это особый вид колонизатора, наглый и безудержный, веками высасывавший все соки и богатства из прибалтийских земель и не скрывавший ни своего презрительного отношения к ”туземцам”, ни своей ненависти к евреям. Только с присоединением к Советскому Союзу Латвия, Литва и Эстония избавились от извечного гнета прибалтийских немцев.
Теперь они вернулись в форме штурмовиков, облеченные неограниченными правами и властью. В рижских полицейских участках в свое время был известен, как матерый хулиган некий Ганс Манскайт. Рижане вздохнули спокойно, когда он в 1940 году репатриировался в Германию. Он вернулся вместе с германскими войсками в должности следователя гестапо по еврейским делам. Видную роль при гестапо стали играть прибалтийские немцы — бухгалтер Лоренцен, доктор Бернсдорф, бухгалтера Шульц и Браш. Другие прибалтийские немцы, нахлынувшие обратно в Ригу, хотя и не занимали официальных постов в гестапо, но изощрялись в издевательствах над беззащитным еврейским населением города не меньше гестаповцев.
Специальным приказом евреям запрещалось покупать продукты в тех лавках, где покупают немцы и латыши, запрещалось заниматься ”вольной” работой: все евреи должны были трудиться на принудительных работах. Евреям было предписано носить шестиугольную звезду ”Щит Давида” на груди и запрещалось ходить по тротуарам: разрешалось пользоваться только мостовыми.
Аресты и массовые расстрелы продолжались непрерывно. Людей хватали на улицах, в квартирах и тут же расправлялись с ними. На Гертрудинской улице группа штурмовиков взобралась на крышу пятиэтажного дома и оттуда сбрасывала на землю еврейских детей. Какой-то чиновник приказал было прекратить эту казнь. Ему ответили с крыши:
— Мы здесь ведем научную работу. Мы проверяем правильность закона Ньютона о всемирном притяжении.
— Доннэр вэттэр! Хорошо сказано! Продолжайте, господа. Наука требует жертв.
По улице Лачплеша шел старый еврей-портной, сгорбившись под тяжестью швейной машины. Немецкие офицеры направили на него свой автомобиль, но старик успел отскочить в сторону и прислониться к телеграфному столбу. Немцев возмутила такая ”непокорность”. Они повернули машину и устроили форменную охоту за стариком. Пять минут они гонялись за ним; наконец, они прижали его к газетному киоску, и он отскочил на тротуар.
— Что? Нарушаешь законы Германской империи? закричали гитлеровцы.
Они оттащили старика на мостовую и стали избивать его железными прутьями. Когда он, весь окровавленный, упал без чувств, немцы отошли к своей автомашине и, закурив, начали весело беседовать. Латышка Петрунья Салацас, которая была свидетельницей этой дикой сцены, принесла кружку воды и подошла к старику, чтобы обмыть ему лицо и дать напиться. Немцы заметили это, один из них вырвал из рук латышки кружку и с размаха швырнул ее женщине в лицо, затем избил ее своей плеткой и, пригрозив пистолетом, прогнал ее. Старик скончался через два часа тут же на улице Лачилеса у газетного киоска.
В эти дни шла жестокая расправа не только над евреями, но и над всеми, кого немцы подозревали в симпатиях к советской власти. Евреев расстреливали за то, что они евреи. Латышам ставилось в вину, главным образом, одно — хорошее отношение к советской власти. Это уравнивало обе национальности в глазах палачей. 3 июля во дворе Рижской тюрьмы было выставлено 50, связанных спина к спине, пар, — в каждой паре был один еврей и один латыш. В первой паре стояли латышка Эльвира Дамбер и еврей Яков Абесгауз.
— Вы хотели равенства, — кричал руководивший расстрелом унтерштурмфюрер, — сейчас вы его получите.
И 100 связанных попарно людей — евреи и латыши — были расстреляны. Каждая пуля пронизывала последовательно два тела, и кровь 100 человек лилась одной струей во дворе тюрьмы. Трудно перечислить все изощренные пытки, которым подвергались евреи. В памяти многих рижан сохранилась мученическая смерть 19-летней Лины Готшалк. Ее поймали на улице и привели на Елизаветинскую улицу в квартиру, где кутили пьяные немецкие офицеры. Гитлеровцы затеяли дискуссию, каким способом умертвить свою жертву. Девушка хорошо знала немецкий язык и безмолвно слушала спор, в котором решалась ее участь. После длительного обсуждения немцы пришли к решению — превратить девушку в существо без костей. Ее завязали в мешок и стали методически бить по телу шомполами. Избиение длилось два часа. Девушка уже умерла, а кости ее все переламывались. Немцы не оставили своего занятия, пока не убедились, что все до единой кости переломлены. Тогда они скатали тело Лины Готшалк в окровавленный мясной шар и приказали солдату выбросить его на бульвар у оперного театра.
Через несколько дней немцы приступили к проведению приказа о трудовой повинности для евреев. Вершители судеб в Риге — генерал-комиссар Латвии обергруппенфюрер Дрекслер и гебитскомиссар Витлок распорядились, чтобы все трудоемкие работы выполнялись только руками евреев. При этом были запланированы такие работы, которые не вызывались никакой необходимостью и часто сводились к ненужной затрате материалов.
Еврейский отдел биржи труда возглавляли лейтенант Краус и зондерфюрер Дравэ. Они с особым садизмом пытали свои жертвы. Вначале большой группе евреев, главным образом, молодежи, поручили разборку зданий, полуразрушенных в результате военных действий. Задания были так велики, что многие юноши, и в особенности девушки, буквально надрывались. На носилки, которые несли два человека, немцы приказывали грузить по 8—10 пудов камня или кирпича. Падавших от изнеможения избивали палками и нередко — до смерти.
Рабочий день начинался, как правило, с избиения и кончался обычно убийствами. С утра экзекуция начиналась с того, что наказывали нарушителей приказа о ношении шестиугольной звезды. Вначале звезду надо было носить на левой стороне груди, потом был издан приказ, что носить ее следует на правой стороне. Затем было приказано носить звезду на спине. Еще через некоторое время последовал приказ звезду носить и на спине и на груди. Затем правила претерпели еще несколько изменений: немцы возвращались к первому варианту, затем ко второму и так без конца.
Каждое утро люди спрашивали себя, куда же прикрепить клеймо, и каждое утро немцы находили ”нарушителей” и начиналось массовое избиение.
О мерах по обеспечению хотя бы относительной безопасности при разборке зданий немцы и не задумывались. Наоборот, они заставляли отбивать кирпичи у основания разрушенных стен с тем, чтобы ускорить снос ненужных домов. Почти ежедневно стены рушились, хороня под своими обломками десятки людей. Каждый день возвращавшиеся с работы евреи не досчитывались друзей и близких.
Сотни рижских евреев погибли на торфоразработках у Олайна.
Гебитскомиссаром Елгавского (Митавского) уезда был прибалтийский немец барон Эмден. Его прозвали ”Король Земгаллии”, потому что здесь, в окрестностях Митавы, находились его бывшие владения и потому что в подчиненном ему уезде он вел себя как жестокий деспот и безудержный властолюбец. Имеется свидетельство о нескольких ”охотах” и ”облавах”, которые он устраивал на беззащитных евреев. Известен и список соучастников одной из таких ”охот”: капитан Цукурс, майор Арайс, префект города Риги Штиглиц, унтерштурмфюрер Егер, прибалтийские немцы — братья Брунс, группенфюрер Копиц.
Однажды эта компания явилась к директору торфоразработок и потребовала выдачи двухсот евреев. Директор возразил было, что подобные изъятия могут привести к срыву поставок торфа в указанный срок, но всесильный гебитскомиссар настоял на своем. Правда, и ему пришлось пойти на некоторые ”уступки”: ему выдали только женщин и детей. Вскоре началась ”охота”. Несчастных группами по 10—15 человек выгоняли в поле и предупреждали, что если они смогут убежать и скрыться в ближайшем лесу в течение 8 минут, то у них есть шанс на спасение. В противном случае они будут расстреляны. как саботажники и неполноценные субъекты. Женщины и дети по свистку, насколько хватало сил, бежали по направлению к лесу. Бежать надо было целый километр через канавы, кочки, заросли кустарника. Немцы, следя за хронометром, сдерживали своры охотничьих собак. По истечении восьмой минуты собаки с визгом и лаем срывались с места и гнались за своими жертвами. Многих они настигали еще в открытом поле или в мелком кустарнике. Специально выдрессированные псы перегрызали людям горло и мчались дальше. Иные собаки, повалив свою жертву на землю, ждали пока не прибежит хозяин. Тот стрелял в лежащего человека и собака, получив в награду лакомство, бежала дальше, разыскивая новую дичь.
Когда немцы разделались с теми, кого они настигли в открытом поле, началась облава в лесу. Проводилась она по всем правилам охотничьего искусства — с глубокими обходами, гонкой, лягавыми, огневыми засадами. Собаки рыскали по всему лесу и гнали обезумевших женщин к тому месту, где обосновался ”Король Земгалии” со своими друзьями. Как только женщины выбегали на небольшую поляну, они попадали под огонь двустволак. Стреляли немцы волчьими зарядами.
Убийства евреев происходили ежедневно. Сотни людей были расстреляны при возвращении с работы, при появлении на улице. Многие предпочитали отсиживаться в подвалах и голодать, но не подвергать себя риску попасться на глаза какому-нибудь фашисту. Особо памятны дни 16 июля, когда была расстреляна тысяча человек, и 23 июля — годовщина присоединения Латвии к Советскому Союзу, когда было убито свыше 200 человек и арестовано около 800. И еврейских мертвецов немцы преследовали: был издан специальный приказ не принимать трупы евреев в морг. По 7 суток валялись трупы евреев на улицах Риги.
Затем немцы начали энергичную подготовку к полному истреблению евреев. Для этого надо было собрать евреев в одно место и изолировать от остального населения. Районом для переселения евреев немцы избрали Московский Форштадт (Московское предместье), где в средние века находилось еврейское гетто. Вряд ли немцы руководствовались историческими соображениями. Просто Московский Форштадт — наименее благоустроенная часть города и находится в непосредственной близости от Бикерниекского леса — традиционного места массовых расстрелов.
Вскоре было сформировано правление рижской еврейской общины, ответственной перед немецкими властями. Председателем правления был назначен доктор Шлетер, венский еврей, бывший государственный советник Австрии. В правление вошли также адвокаты Михаил Ильяшев и Минц, врач Рудольф Блюменфельд, бывший директор текстильной фабрики Кауфер, бухгалтер Блуменау и др.
В первые же дни стало ясно, что назначение правления не создает никаких перспектив на улучшение условий существования. Нормы снабжения продуктами были урезаны — евреи получали половину того, что получало остальное население; и это сводилось к 100 граммам суррогатного хлеба в день. Поездки в села для закупки продовольствия евреям были строго запрещены. Среди еврейского населения начался голод. Отрезанные от всего мира — сношения по почте были запрещены — евреи Риги в тревоге ждали дальнейших событий.
4. Гетто
Немцы всячески торопили евреев с переселением в Московский Форштадт. На выезд они иногда предоставляли всего два-три часа. Мебель и имущество выселяемых немцы присваивали себе.
Район, отведенный для гетто, был очень мал, а люди все прибывали. 21 октября был издан приказ генерал-комиссара о создании гетто и о введении новых, суровых ограничений. Отныне на рижских евреев распространился человеконенавистнический ”Нюрнбергский закон” и изданная в его развитие ”Новелла Геббельса”.
По выражению творцов этих ”законов” евреи перестают быть субъектами в обществе, а делаются объектами расовой политики.
Приказ генерал-комиссара запрещал евреям находиться за пределами гетто; выходить за колючую проволоку они могли только под конвоем. Предприятия, на которых применялся труд узников гетто, должны были своих работников доставлять к месту работ и обратно под стражей. Населению города строго запрещалось общаться с евреями и даже близко подходить к ограде гетто.
Двойной забор из колючей проволоки опоясал несколько кварталов в Московском Форштадте. 24 октября вечером немецкая стража впустила последних евреев в наспех воздвигнутые ворота. Рижские евреи были загнаны в огромную западню.
Потянулись дни, полные тревог. Каждое утро распахивались ворота гетто, и тысячи людей под конвоем уходили на работу. Директора предприятий, подрядчики, коменданты немецких воинских частей широко пользовались бесплатным трудом обитателей гетто. Руководивший еврейским отделом биржи труда лейтенант Краус никому не отказывал в рабочей силе. На воротах гетто висел плакат: ”Отдаются евреи за вознаграждение. Это относится и к воинским частям”.
Возвращавшихся с работы евреев ежедневно обыскивали у ворот гетто. Немцы тщательно осматривали каждого. Они искали газеты, книги, продовольствие. Однажды у студента Кремера нашли бутерброд, юношу тут же расстреляли. Тем временем в гетто голод усиливался, многие от недоедания падали с ног.
Правление общины принимало локальные меры для улучшения условий жизни. Врачи гетто приложили много сил, чтобы при исключительной скученности населения, антисанитарной обстановке (немцы запретили вывозить нечистоты из гетто) предупредить вспышки эпидемий. В гетто работали амбулатории, приют для сирот, столовая для стариков и инвалидов.
27 ноября правление общины было извещено, что по распоряжению властей, мужчины-”специалисты”, работающие по обслуживанию немецких воинских частей, будут отделены от остальных жителей гетто, в том числе и от своих семей. 28 ноября начали строить в гетто внутренний забор. Так образовалось ”Малое гетто”, в котором проживали лишь работоспособные мужчины — примерно 9000 человек. Отгороженные проволочным забором от остальных, они не могли сноситься с ”Большим гетто”, видеть своих жен и детей. Стража гетто все чаще шныряла по домам, многозначительно ухмыляясь. Все чувствовали приближение катастрофы.
29 ноября штурмбанфюрер Браш вызвал к себе в полном составе правление общины. Он держался наглее обычного и словно бравировал откровенностью. Он заявил, что по указанию властей будет уничтожена часть евреев Риги, так как гетто слишком переуплотнено. Правление общины должно принять участие в этом мероприятии и помочь немцам в отборе людей для расстрела. Для этого надо срочно составить списки стариков, больных, преступников и других лиц, пребывание которых в гетто правление считает нежелательным.
Члены правления молча выслушали речь палача, взглянули друг на друга и опустили головы. Спорить с ним, убеждать его в чем-либо было бесполезно. Члены правления общины хорошо знали друг друга и поэтому молча, обменявшись взглядом, они приняли решение. Отвечал Брашу доктор Блюменфельд:
— Правление никого на расстрел не выдаст. Я — врач, и всю свою сознательную жизнь занимался тем, что лечил больных людей, а не умерщвлял их. У нас слишком разные понятия о ценности людей. Различны также наши понятия о том, кого считать преступником. По нашему мнению, преступников следует искать вне гетто...
Браш оборвал Блюменфельда и приказал правлению удалиться.
Как ни старались члены правления скрыть то, что сказал им Браш, гетто узнало о страшной казни, которую готовят немцы. 29 ноября главнокомандующий полицейскими силами в Остланде обергруппенфюрер Екельн известил все предприятия и учреждения, что впредь до особого распоряжения евреи направляться на работу не будут. 30 ноября не открывались ворота гетто; явившиеся конвойные команды были отосланы обратно. По всем приготовлениям было видно, что предстоит нечто из ряда вон выходящее.
5. Первая ”акция”
Первая ”акция” в Рижском гетто состоялась 30 ноября и 1 декабря 1941 года, через пять недель после создания гетто. Началось с того, что всем мужчинам был отдан приказ выстроиться на Лодзинской улице. Никто не знал, что будет — слухи носились самые противоречивые. Некоторые мужчины, опасаясь расстрела, скрывались у своих семей. А некоторые женщины, переодевшись в мужскую одежду, стремились попасть в колонну мужчин, надеясь здесь найти спасение. Вскоре мужчин увели — частично в ”Малое гетто”, остальных в Саласпилсский концентрационный лагерь. К 6 часам вечера началось выселение женщин, детей и стариков из квартир. Полицейские метались по квартирам Московского Форштадта. Больных они приканчивали на месте, матерям, обремененным большими семьями, они оставляли не более двух детей, остальных расстреливали тут же. 300 стариков из дома призрения престарелых были убиты все до одного. В больнице гетто были замучены до смерти все больные. Улицы гетто покрылись кровью и трупами. Всюду раздавались предсмертные вопли. На перекрестках стояли группы женщин и детей, изгнанных из квартир. Окоченевшие и продрогшие, они со страхом наблюдали кровавую оргию. К утру немцы начали формировать колонны в 200-300 человек; под конвоем такого же числа полицейских их отправили в восточном направлении.
У здания, где помещалось правление общины, стояли, окруженные гитлеровцами, члены правления, и среди них главный раввин Риги Зак. Доктор Блюменфельд успел шепнуть проходившему мимо Абраму Розенталю:
— Наши минуты сочтены. Может быть, вам удастся дожить до светлых дней, передайте нашим, что мы умирали с твердой верой в то, что наш народ нельзя истребить. Мы ждем расстрела — это уже совершенно ясно. Запомните: рядом в доме, при свете коптилки Дубнов[45], словно летописец древности, пишет последние строки своих мемуаров[46]. Он убежден, что они дождутся своего читателя.
Одним из комендантов гетто был немец Йоган Зиберт, палач с высшим образованием, учившийся некогда в Гейдельбергском университете. Семен Маркович Дубнов периодически читал цикл лекций по истории древнего Востока и всеобщей истории евреев в Гейдельберге. И вот студент и профессор встретились в Рижском гетто; один в качестве всевластного начальника и жестокого палача, другой — в качестве узника, обреченного на гибель. Зиберт узнал своего бывшего профессора и при каждом удобном случае старался его оскорбить, поиздеваться над 82-летним стариком.
— Профессор, я имел глупость когда-то слушать ваши лекции в университете, — сказал однажды Зиберт Дубнову. — Вы нам долго толковали об идеях гуманизма, которые будут торжествовать во всем мире. Помнится, вы критиковали юдофобов и пророчествовали о 20-м столетии — веке полной эмансипации евреев. Знаете, вы почти предугадали все. Вчера я был в Бикерниекском лесу — там было расстреляно 480 русских военнопленных, и, представьте себе, столько же евреев. Можете торжествовать, Дубнов. С русскими вы уже сравнялись.
Сколько вчера было расстреляно евреев?
— 480.
— Спасибо за информацию. Я продолжаю работать, и мне это важно знать.
До последнего дня автор ”Всемирной истории евреев” вел дневник, в котором излагал историю Рижского гетто. Тетради с его записями тайком выносились из гетто в город к знакомым латышам. Записи эти еще пока не найдены, — хранителей дневников Дубнова немцы угнали.
...Дубнов вышел из дома, подталкиваемый двумя немцами. У него был вид человека, исполнившего до конца свой долг перед своей совестью и перед своим народом. Он оглянулся: падал снег. Но кругом не было привычной белизны. Кровь пропитала снег. Сотни женщин и детей, подгоняемые эсэсовцами, шли на казнь. Дубнов посмотрел на немцев. Оскалив зубы, ухмылялся Йоган Зиберт. Дубнов что-то хотел сказать ему. Но застрочили автоматы... Талес раввина Зака побагровел... Упал и Дубнов.
Очевидцы массовых убийств в Рижском гетто единодушно утверждают, что все происходившее не носило никаких следов разбушевавшейся стихии, наоборот, все делалось по определенному, заранее задуманному и разработанному до мелочей плану. В пределах самого гетто трупов никто не убирал, но зато когда колонна выходила за колючую проволоку, к ней немедленно пристраивались тачки и телеги. Людей отстававших или кричавших детей охрана, не задумываясь, пристреливала и взваливала их тела на телегу или на тачку.
У ворот гетто стоял с пистолетом Браш и стрелял в конвоируемые колонны. Делал он это спокойно, методично прицеливаясь. Член ”команды порядка”, составленной из евреев гетто, Изидор Берель подошел к Брашу и спросил:
— Что вы делаете, господин Браш? Это вы называете немецкой культурой — самовольно расстреливать беззащитных?
Изидор Берель во времена диктатуры Ульманиса служил в латышской полиции и дослужился до высокого чина. Поэтому, когда его записали в ”службу порядка” при гетто, он получил приказ одеть полицейскую форму с присвоенными ему знаками различия. Браш был ниже Береля по званию и, как исправный немецкий службист, счел нужным объяснить ему:
— Мы действуем в полном соответствии с полученными инструкциями. Мы должны строго выдержать график движения колонны к месту назначения, и поэтому изымаем из рядов всех тех, кто может затормозить темп движения. Сами посудите, разве вот та старуха в лиловом капоте сумеет идти в нужном темпе? — и, прицелившись, он выстрелил в старуху.
Так же спокойно и методично действовали все палачи. Если их и волновало что-нибудь, то только опасность срыва точного графика колонны и своевременного завершения ”операции”. Только в одном случае Браш потерял самообладание: инженер Вольф быстро вышел из колонны и дал палачу пощечину. Браш разрядил в инженера всю обойму своего пистолета. В других случаях он экономил патроны.
Для руководителей ”акции” несколько неожиданным оказалось обилие сирот в гетто, — многие из них осиротели всего несколько часов тому назад. Специальный детский батальон был сформирован в составе 600 мальчиков и девочек. Их конвоировали 200 полицейских из ”орднунгсполицай”. По дороге они подбрасывали детей на воздух и расстреливали.
Когда колонны проходили мимо старообрядческой церкви, несколько десятков русских старообрядцев во главе со священником вышли с иконами в руках и, упав на колени у обочины дороги, начали церковное песнопение. Полицейские пытались их разогнать, но священник ответил:
“Не мешайте нам принести Богу молитвы. Вы не простых людей ведете, а святых мучеников. Они скоро предстанут перед Всевышним и расскажут о том, что творится на нашей грешной земле. Пусть и наши молитвы дойдут с ними к Богу”.
Глубокое возмущение вызвали массовые казни у рабочих резинового завода ”Квадрат”. В знак протеста они прекратили работу. Вмешалась жандармерия. Дело дошло до вооруженных стычек, многие рабочие погибли в неравной борьбе.
В Бикерниекском лесу были уже вырыты восемь огромных ям. Как только прибывали колонны, всем приказывали раздеться. Ботинки надо было складывать в одну кучу, галоши в другую. Раздетых людей эсэсовцы прикладами подталкивали к обрыву, где стоял балтийский немец, барон Зиверс, и короткими очередями стрелял из автомата. Два помощника меняли обоймы у автоматов и поочередно подавали их Зиверсу. Он стоял, весь обрызганный кровью, но долго не хотел смениться. Впоследствии он хвастал тем, что 1 декабря он собственноручно расстрелял три тысячи евреев.
Неистово крутили ручки кинооператоры. Суетились фотографы, многие эсэсовцы также щелкали ”лейками”, делая любительские снимки.
Немцы придумывали разные способы глумления над своими жертвами. Они отобрали стариков с длинными бородами. Им приказали тут же на снегу играть в футбол. Эта выдумка донельзя понравилась немцам. Кинооператоры и фотографы без конца снимали этот необычный футбольный матч. Но прискакал на лошади офицер и передал приказ Ланге ускорить процедуру.
Оцепенение охватило несчастные жертвы. Дрожа от холода, они до последней минуты ждали избавления. Многим казалось, что, насытившись видом крови, палачи успокоятся и погонят уцелевших в какой-нибудь концентрационный лагерь. Вдруг чьи-то нервы не выдержали, и громкий плач раздался в лесу. К нему присоединились сотни голосов, и люди забились в истерике. Казалось, ничто не способно внести успокоение в эту полуобезумевшую толпу. Но вскочила на пенек Малкина и громко крикнула:
— Что вы плачете, евреи? Разве этих извергов тронешь слезами. Будем молчать! Будем горды! Мы евреи!.. Мы советские евреи!..
И притихло все в лесу, только захлебывавшаяся трескотня автоматов нарушала эту тишину. Кто-то из эсэсовцев подошел к колонне и с издевкой бросил:
— Почему вы притихли? Вам осталось всего несколько минут жизни, так пользуйтесь случаем. Спойте что-нибудь.
В ответ кто-то запел старческим голосом ”Интернационал”; его поддержали сначала одиночки, а потом все в едином порыве запели величественный гимн. Этот эпизод рассказала портниха Фрида Фрид[47], единственная еврейка, побывавшая в этот день в Бикерниекском лесу и оставшаяся в живых. Повесть о ее спасении и о трехлетних скитаниях одинокой, затравленной женщины по хуторам Латвии могла бы послужить содержанием целой книги.
”Нашу колонну разбили на части, — рассказывает Фрида Фрид, — и приказали всем раздеться. Я тоже разделась до белья, потом мне стало стыдно — кругом стоят мужчины, а я в одной сорочке. Я взяла свой рабочий ситцевый халат и надела его. Мне было очень холодно. Сунула я руки в карманы халата, чтобы согреться, и чувствую — там какая-то бумажка лежит. Смотрю: это мой диплом об окончании с отличием школы кройки и шитья. Лет пятнадцать я его храню. Господи, подумала я, может быть, в этой бумаге мое спасение. Я выбежала из колонны и бросилась к одному немцу, — он мне показался старшим.
— Господин офицер, — говорю я ему по-немецки, — почему меня хотят убить? Я работать хочу. Меня не надо убивать. Смотрите, я не вру, у меня диплом имеется. Вот документ.
Он оттолкнул меня, и я упала. Когда я стала подыматься, он снова пихнул меня ногой и закричал:
— Не мешай и не лезь ко мне со всякими бумажками. Иди к Сталину со своими документами.
И я опять очутилась в колонне. Смотрю на людей, а они покорно делают, что им приказывают. Я начала рвать на себе волосы, ухватилась за клок волос и вырвала, он оказался в моей руке, а я даже боли не почувствовала. А немцы прикладами все ближе и ближе подталкивали нас ко рву. Я опять обращаюсь к полицейским, доказываю им, что я портниха, что я хочу работать, показываю им диплом, а меня никто и слушать не хочет. Подошла я уже ко рву, с двух сторон его растут высокие деревья, а за рвом узкая тропка. Там уже евреи идут по одному, и пропадают за обрывом, — только слышно, как стреляют автоматы: так-так, так-так...
— Неужели конец? — подумала я. — Пройдет несколько минут и я буду мертвая, не увидать больше солнца, не подышать воздухом. Как же это так? Ведь документы у меня в порядке, я все годы честно работала, заказчики на меня никогда не обижались, а немцы ничего во внимание не принимают. Я не хочу умирать! Не хочу!
Я подбежала к офицеру, который командовал расстрелом, и закричала не своим голосом:
— Что вы со мной делаете? Я специалистка. Вот мои документы. Я специалистка...
Он меня ударил пистолетом по голове, и я упала. Совсем рядом с ямой, куда сваливали мертвых. Я прижалась к земле и старалась не двигаться. Через полчаса слышу, кто-то по-немецки кричит: ”Ботинки складывать сюда!” К этому времени я уже отползла немножко. В это время чем-то начали швырять в меня. Я приоткрыла один глаз и вижу: возле моего лица лежит ботинок. Меня забрасывают обувью. Наверно, мой серый ситцевый халат слился по цвету с ботинками, и меня не заметили. Мне стало немного теплее, надо мной была уже целая гора обуви. Только правый бок у меня совсем отмерзал. Пушистый снег, который выпал утром, совсем растаял подо мной, сначала было ужасно мокро, потом вода стала замерзать, и я покрылась коркой льда. Я бы могла положить под себя несколько ботинок, но побоялась, что куча зашевелится, и меня заметят. Так я пролежала дотемна с примерзшим льдом на правом боку.
Выстрелы раздавались совсем близко от меня, и я отчетливо слышала последние вопли людей, стоны раненых, которых заживо бросали в общую могилу. Одни умирали со словами проклятия своим палачам, другие погибали, вспоминая детей и родителей, некоторые громко читали молитвы... иные просили в последнюю минуту разрешить им одеть детей, а то они простудятся. И я должна была лежать и все это слушать. Несколько раз мне послышался голос брата, потом — соседки по квартире. В такие минуты мне казалось, что я схожу с ума.
К вечеру стрельба затихла. Немцы оставили небольшую охрану возле одежды, а сами ушли отдыхать. Несколько немцев стояли в трех шагах от меня. Они закуривали и переговаривались между собой. Я слушала их веселые, довольные голоса: ”Здорово сегодня поработали”. ”Да, жаркий был денек”. ”Там их еще много осталось. Придется еще поработать”. ”Ну, до завтра”. ”Приятных сновидений”. ”О, у меня они всегда приятны”.
Я решила выползти из-под кучи ботинок. Первым делом надо было одеться. Я подползла к другой куче — там лежала мужская одежда. Раздумывать долго некогда было, — я надела чьи-то брюки и пиджак, голову завязала большим платком. В это время слышу: из ямы, где лежат убитые, слабый детский плач: ”Мама, мне холодно... Что же ты лежишь, мама?” Ну, думаю, будь, что будет. Попробую спасти ребенка. Но меня опередили немцы. Они подошли к яме, нащупали ребенка штыками и прикололи его.
Один из немцев, смеясь, сказал: ”Из наших рук еще никто живым не уходил”.
Вижу, что здесь делать больше нечего. Надо за ночь уйти как можно дальше от этого страшного места. А кругом стоят посты, они меня могут заметить на белом снегу. Тут я вспомнила фильм ”Война в Финляндии”, там солдаты, одетые в белые халаты, очень хорошо маскировались на снегу. Недалеко я заметила кучу простынь, в которых матери приносили своих грудных детей...
Я наткнулась на какой-то пододеяльник, завернулась в него и поползла...”
Оставшиеся в гетто ждали продолжения погрома, но к их удивлению, было тихо. Только изредка раздавался стон раненого, туда быстрым шагом подходил полицейский... Одинокий выстрел гулко звучал между домами, и вновь водворялась тишина. Трупы никто не убирал, никаких новых приказаний не последовало, кроме единственного — сообщать полиции о каждом раненом. Раненых немцы неизменно добивали.
Только на пятый день было приказано хоронить убитых. На старом еврейском кладбище, которое находилось в зоне гетто, была вырыта одна огромная могила. Один врач принес и положил в могилу свою жену и двух детей; некоторые похоронили всех своих родных самых разных поколений и всех степеней родства.
6. ”Депортирование” из гетто
Через неделю после первой ”акции” было объявлено, что большое гетто будет ”депортировано” из Риги. Что означало, это слово, никто в точности не знал. Немцы разъяснили, что ”депортирование” существенным образом отличается от ”эвакуации”. Если понятие ”эвакуация” включает вселение на новое место, то ”депортирование” означает только выселение... Вселят ли куда-нибудь ”депортированных”, — неизвестно.
Вечером 9 декабря в 20-градусный мороз жители гетто получили приказ собраться для ”депортирования”. С семи часов вечера до самого утра люди толпились на трескучем морозе. Немцы к тому времени успели ограбить гетто и забрать все теплые вещи. Много стариков и старух замерзло в эту ночь. На рассвете начали уводить колонны под конвоем. Недалеко от станции Шкиротава на тупиковой ветке стояло несколько эшелонов без паровозов. ”Депортированных” разместили в товарных вагонах. А из этих подвижных тюрем уводили людей сотнями в тот же Бикерниекский лес, и там их немцы расстреливали из пулеметов. Всего в этот день погибло около 12000 человек.
Через несколько дней немцы широко объявили о предстоящем торжестве по случаю ликвидации большого Рижского гетто. В этом празднике приняли участие все ”любители”, находившиеся в Риге и окрестностях. К району Московского Форштадта стекались немецкие солдаты всех родов оружия; немцы, одетые в гражданское платье, полицейские и жандармы, подонки рижских уголовников, фашистская мразь из латышских националистов. Долго длился разгул: маленьких детей подбрасывали в воздух; раздетых догола девушек заставляли играть в волейбол, проигравшую команду расстреливали, и затем игра возобновлялась в новом составе. Всем этим праздником руководил унтерштурмфюрер Егер, который был широко известен тем, что у него самый большой стаж пребывания в фашистской партии, — он участвовал с Гитлером в подготовке Мюнхенского путча.
После празднества в гетто осталось всего 3800 человек, из них 300 женщин и несколько десятков детей. Но через день Рижское гетто стало вновь наполняться — прибыл первый эшелон из Германии.
7. Евреи из Германии
Трудно объяснить, почему именно Ригу избрали местом для убийства нескольких сотен тысяч немецких евреев. Адъютант коменданта унтерштурмфюрер Миге однажды, сильно выпив, разоткровенничался и по-своему объяснил, почему евреев из Германии везли в Латвию: немцы боялись убивать у себя дома, так как это не могло бы пройти незамеченным, каждый палач стал бы хорошо известен широкому кругу людей.
Германских евреев привозили в Ригу под видом переселения на новое местожительство. Немцы так обставили вывоз евреев на истребление, что несчастные жертвы до последней минуты не знали, какая участь их ожидает. Всем объяснили, что переезд совершается в целях германской колонизации на Востоке, что Германия по-прежнему считает германских евреев своими гражданами, но находит наиболее целесообразным поселить их в Остланде. Рекомендовалось захватить все вещи, которые пригодятся на новом месте. На трупе одного из убитых в Рижском гетто найдено следующее предписание об эвакуации из Берлина:
”Берлин №4, 11 января 1942 года.
Г-ну Альберту Израилю Унгеру с супругой.
Ваш выезд намечен по распоряжению властей на 19 января 1942 года. Это распоряжение касается Вас, Вашей жены и всех неженатых и незамужних членов семьи, включенных в имущественную декларацию.
17 января 1942 года в полдень Ваше помещение будет опечатано чиновником. Вы должны ввиду этого подготовить к указанному полудню Ваш крупный багаж и ручной багаж. Ключи от квартиры и комнат Вам надлежит вручить чиновнику. Вы должны направиться с чиновником в полицейский участок, в районе которого расположена Ваша квартира, захватив с собой как крупный, так и ручной багаж. Крупный багаж Вам надлежит сдать в полицейский участок, отсюда он будет доставлен нашим багажным отделением на грузовой машине на сборный пункт — ул. Ловетцова, 7/8.
Вслед за транспортировкой большого багажа в полицейский участок Вам надлежит с ручным багажом направиться на сборный пункт, в синагогу по ул. Ловетцова (вход с ул. Ягова). Туда Вы можете проехать обычным средством сообщения.
Ваше содержание на сборном пункте и во время проезда по ж.д. мы берем на себя. Не мешает все же захватить с собою в ручном багаже имеющееся в Вашем домашнем обиходе продовольствие, особенно ужин.
Как на сборном пункте, так и в пути имеется врачебное и продовольственное обслуживание”.
В приложении имеется памятка с необходимыми указаниями:
”Следует придерживаться самым тщательным образом этих указаний и провести подготовку к пути спокойно и обдуманно”.
...Эшелон подходил к перрону рижского вокзала. Его встречал оберштурмфюрер Краузе или кто-нибудь из высоких чиновников генерал-комиссариата. Немец вежливо улыбался и в самых изысканных выражениях поздравлял старшину эшелона с благополучным прибытием к новому местожительству. После взаимного обмена любезностями немец извиняющимся тоном сообщал, что по непредвиденным заранее обстоятельствам вышло небольшое недоразумение с транспортом, — автобусы пришли в неполном составе. Поэтому он просит старосту отделить мужчин и наиболее здоровых женщин, которым предстоит пройти пешком 3-4 километра; старики, дети и остальные женщины проделают этот путь в автобусах. Посадка в автобусы проходила в высшей степени организованно. Полицейские и жандармы с любезными улыбками и шутками помогали женщинам и старикам усаживаться в машины, детей приподымали и вручали их матерям.
Мужчины шли пешком на Московский Форштадт, в освободившиеся квартиры рижских евреев; женщин, стариков и детей увозили в Бикерниекский лес. И там с поразительной быстротой менялось обращение. Открывались дверцы автобусов, цепи полицейских и жандармов стояли так же, как и на вокзале. Но здесь они не улыбались и не старались казаться галантными. Всех подвернувшихся под руку они били прикладами, кое-кого тут же расстреливали. Следовал приказ раздеться, сложить одежду и идти к обрыву, где были уже заранее вырыты огромные ямы...
Иные эшелоны целиком увозились в Бикермиекский лес, из других отбирались наиболее работоспособные. Вскоре большое гетто снова было заселено евреями — из Берлина, Кельна, Дюссельдорфа, Праги, Вены и других городов Европы.
Гетто в Риге после приезда немецких евреев просуществовало целый год. Оно состояло из двух частей — большого и малого. В большом жили германские евреи, в малом — рижские. Между обеими частями был сооружен забор из колючей проволоки. Начальником всего гетто являлся комендант оберштурмфюрер Краузе, который имел право лично судить и расстреливать, а общее руководство истреблением евреев принадлежало командующему латвийской полицией штандартенфюреру Ланге, имевшему в Германии официальное звание ”доктора антисемитизма”.
Среди других ограничений и запрещений, существовавших в гетто, был запрет рожать детей. Когда Краузе узнал, что приехавшая из Германии Клара Кауфман должна скоро родить, он приказал перевести ее в больницу. Через час после родов к больнице было согнано несколько сот человек. На балконе стоял Краузе в полной парадной форме и знаком дал полицейским приказ начать действовать. Вахмистр Кабнелло вынес ребенка и, высоко подняв его над головой, показал его всем собравшимся. Затем, держа ребенка за ножки, он размахнулся и ударил его головой о ступеньку крыльца. Брызнула кровь. Кабнелло вытер лицо и руки чистым платком, а затем вывел роженицу и ее мужа. Они были расстреляны тут же, возле трупа своего первенца. Так в гетто было ознаменовано рождение первого ребенка.
А за оградой гетто немцы развернули активную деятельность по ”сохранению чистоты расы”. Как ни старались гитлеровцы, но в одном им пришлось пойти на некоторые уступки. Желая привлечь на свою сторону бывших офицеров латвийской армии и крупных чиновников буржуазного правительства Ульманиса, они разрешили этим лицам взять своих жен еврейского происхождения из гетто. Но скоро все они получили повестки явиться в комиссариат на регистрацию. Там их принимал референт по расовым вопросам Фриц Штейнигер. Он долго расспрашивал каждую женщину, интересовался ее родословной, состоянием здоровья и т.п. Каждая посетительница получала предписание явиться в клинику доктора Крастыня и внести деньги за двухнедельное пребывание в ней. Все они были обеспложены. Стериализация была проведена под наблюдением немецких врачей в полном соответствии с ”Нюрнбергским законом”.
8. Саласпилсский лагерь
Спустя год немцы решили, что гетто портит вид столицы Остланда, и выселили всех евреев в Саласпилсские лагеря. Центром других лагерей был лагерь в Кайзервальде, служивший своеобразным пропускным пунктом. Этого страшного места никто избежать не мог. Во главе лагеря немцы поставили штурмбанфюрера Зауэра, известного в Германии уголовного преступника. Зауэр усовершенствовал обыски. Все прибывающие в Кайзервальд проходили двухдневную ”диету” — их кормили только касторкой для того, чтобы обнаружить проглоченные бриллианты и золотые монеты. Старшинами над еврейскими бараками были поставлены привезенные из Германии ”преступники III степени” — уголовные арестанты, отбывшие половину своего срока в тюрьме и показавшие свою преданность национал-социализму.
При ликвидации гетто были умерщвлены все дети. В Саласпилсском лагере шел неумолимый и последовательный процесс истребления взрослых. Было проведено несколько ”дезинфекций” бараков, — после этого сотни отравленных газом вывозились в окрестные овраги. Тысячи людей были замучены на непосильных каторжных работах.
Немало людей было истреблено в ”экспериментальных командах” при немецких ”научных” заведениях, функционировавших в Риге,— Гигиеническом институте и Институте медицинской зоологии. В этих институтах дипломированные палачи разрабатывали и совершенствовали науку смерти. Группе евреев, и среди них доценту Сорбонны — Шнайдеру, немцы вскрыли вены, изучая, как действуют гормоны и железы внутренней секреции при полном истечении крови. Один из научных сотрудников этих институтов готовил диссертацию об историческом развитии способа повешения людей. Он тщательно изучал, какие виды веревок дают наиболее эффективные результаты. Эта ”диссертация” обошлась в 35 еврейских жизней.
...Наступил 1944 год. Линия фронта все приближалась к Прибалтике. Немцы торопились разделаться с евреями. Одна ”акция” следовала за другой. Наконец, все обитатели концлагерей были погружены на пароход, вывезены в Земгалию, где их всех расстреляли.
Немцы торжествовали: Прибалтика очищена от евреев. Но время от времени им приходилось признаваться в том, что не всех они успели выловить. Вот выдержка из немецкой газеты, издававшейся в Риге, от 28 августа 1944 года:
”Обезврежена еврейская банда
Охранная полиция и команда СД в Латвии сделала следующее сообщение: на основании произведенного расследования, 24 августа была обезврежена еврейская банда, состоящая из 6 евреев и одной еврейки. Все они прятались в одной из квартир в доме по Пловучей улице №15 в Риге. Мужчины-евреи имели револьверы и при аресте начали стрелять в чинов охранной полиции. Один из полицейских был смертельно ранен. Два еврея, которые пытались сопротивляться, были полицейскими убиты, остальные пытались бежать в ближайшие дома. Сейчас же вокруг домов этого квартала была организована сильная охрана полицейских частей и команды полевой жандармерии, а также патрулей СС. Были обысканы все дома от погреба до крыши. Вся скрывавшаяся часть еврейской банды была задержана. Снова возникла перестрелка между полицейскими и евреями.
Арестована латышка Анна Полис, владелица квартиры, которая скрывала евреев у себя и снабжала их едой. Она понесет заслуженное наказание. Кроме того, задержаны все жители дома по Пловучей улице №15.
Арестованные евреи, а также их укрыватели, сейчас же после расследования будут немедленно преданы суду”.
В этот день на Пловучей улице погибли доктор Липманович, Грунтман, Манке, Блюм, Беркович и др. Анна Полис, прятавшая их, была расстреляна через два дня. Но на соседней улице учительница Эльвира Ронис и ее мать 70-летняя Мария Вениньж в течение полугода прятали группу евреев и сумели сохранить им жизнь вплоть до прихода Красной Армии. Латыш Жан (Янис) Липке[48] несколько месяцев скрывал на хуторах свыше 30 евреев и затем провел большинство их через линию фронта.
* * *
На третий день после изгнания немцев из Риги в городе произошла стихийная многолюдная демонстрация: утром рижане узнали, что в два часа дня части латышского стрелкового корпуса, которые перемещаются на другой участок фронта, промаршируют по улицам города. Тысячи жителей Риги с цветами в руках вышли на главную улицу Риги — Бривибас.
Послышались звуки военного оркестра. Все с нетерпением ждали появления войск. В это время собравшиеся увидели небольшую колонну демонстрантов, человек 60—70, появившуюся со стороны Западной Двины. Знаменосец, его ассистенты и многие из колонны были одеты в полосатые арестантские костюмы, на груди каждого виднелась желтая шестиугольная звезда, на спине — номер, напечатанный большими черными буквами. Они были смертельно бледны, видно было, что эти люди давно не видели дневного света; у других лица были в синяках и ссадинах; некоторые шли, сильно прихрамывая. В первую минуту показалось, что это не люди шагают по асфальту улицы Бривибас, а тени замученных и расстрелянных встали из своих страшных могил и вышли навстречу воинам Красной Армии.
И действительно, в этой колонне шли люди, которые лежали в массовых могилах, люди, которые выползли из-под трупов своих отцов и детей и затем в течение трех страшных лет, гонимые и травимые, боролись за жизнь.
Эта колонна состояла из обитателей бывшего Рижского гетто. Это было все, что осталось от 45-тысячного еврейского населения Риги.
Рижские жители, увидев колонну евреев, опустили головы.
Генералы и адмиралы, стоявшие у подножья обелиска Свободы, отдали демонстрантам воинские почести. И сразу на переполненной людьми площади стало необычно тихо.
Стройными рядами прошли батальоны латышского корпуса. Народ забрасывал бойцов и офицеров цветами. Вдруг из толпы на еврейском языке послышался возглас:
— Меер, это ты?
— Я!
Молодая бледная девушка и седой длиннобородый старик выбежали из рядов и бросились к сержанту Морейну, стали его обнимать и целовать. Сержант с двумя медалями на груди, прошедший огромный боевой путь от Нарофоминска до Риги, воевавший вместе со своими товарищами по оружию, спас своего отца и сестру. И они зашагали рядом с ним по торжествующим улицам Риги в рядах красноармейцев.
Часом позже в одной из пустых квартир на Гертрудинской улице я встретился с людьми в полосатых арестантских костюмах. От них я услышал рассказ о гибели тысяч их братьев.
На Гертрудинскую улицу приходили рижские евреи с винтовками и автоматами на ремнях — бойцы, сержанты и офицеры Красной Армии. Они приходили навести справки о своих родных и близких. Чаще всего они получали скорбные ответы: ”Расстреляны при первой ”акции”, ”покончили самоубийством”, ”замучены в гестапо”. Бойцы подтягивали ремни своих автоматов и уходили, говоря: ”Мы за все заплатим сполна”.
ИЗ ДНЕВНИКА СКУЛЬПТОРА РИВОША (Рига). Подготовили к печати Василий Гроссман и Р. Ковнатор.
На Московском Форштадте начинают огораживать несколько кварталов — строят гетто. Перед нами ожило средневековье. Евреям запрещено покупать в лавках, читать газеты и... курить.
Организовался так называемый Юденрат — представители местных евреев. Еврейский совет должен заботиться о медицинской помощи, о размещении евреев и т.п. В него вошли Г.Минскер, Блуменау, Кауфер, М. Минц. На рукаве у них голубая повязка со звездой, на груди и спине конечно тоже по звезде — словом, разукрасили их вовсю. Юденрат помещался на ул. Лачплеша, около Московской, в бывшей школе.
В городе много самоубийств, главным образом, среди врачей.
Мой маленький сынок Димочка стал пугливым, нервным. Как только завидит на улице немецкого солдата, тотчас бежит в дом. Бедный ребенок боится, он не понимает даже, что такое еврей. Нашей крошке дочурке хорошо, она еще совсем глупая, она не знает ни горя, ни страха...
Мама с Московского Форштадта принесла съестное. Еврейские порции, конечно, гораздо меньше нормальных, к тому же продукты самого низшего качества. Мама разбита виденным и слышанным.
Забор вокруг гетто строят усердно, местами уже натягивают колючую проволоку.
На Московском Форштадте рябит в глазах от желтых звезд. Мужчин почти не видать, только старухи и дети. Но не видно ни одного играющего ребенка, все, как загнанные зверьки, боязливо держатся около матерей или сидят в подворотнях.
Со всех сторон тянутся тележники-евреи с разным хламом. Большой бывший школьный двор битком набит народом. И здесь совсем мало мужчин, большинство женщин; у них печальные лица, заплаканные глаза. Вдоль забора — горы мебели, хлам, который разрешили взять с собой после выселения. Часть мебели расклеилась от дождя.
Встречаем знакомых, — нет никого, кто не потерял бы близких родственников. Встретили Ноэми Ваг. Она решила уйти из жизни, так как ее мужа Моню сожгли живьем в синагоге. Она производит впечатление не вполне нормальной.
Встретили Феню Фальк, ее мужа и брата забрали. На руках у нее больная мать, маленький сын Феликс, невестка с двумя крошечными детьми. Мне больно было видеть, как она осунулась и постарела. Когда-то я с ней катался на шоссе на велосипеде, и она меня пугала. Дурачились, она мчалась прямо на встречные автомобили. Я сердился, ругал ее, но она уверяла, что с ней никогда не может случиться ничего плохого, она говорила, что умрет, когда будет совсем-совсем старенькой... Кто может знать свою судьбу? Теперь смерть занесла над ней свою страшную, палаческую гитлеровскую лапу...
Бетти Марковна рассказала мне случай с ее падчерицей Геди. Геди — тип красивой северной арийки, высокая, прекрасно сложенная: светлая блондинка с васильковыми глазами, прямым носом. Она выросла в Вене и, естественно, великолепно говорит по-немецки. На улице ее остановил немецкий офицер и резко обвинил в провокации за то, что она нацепила еврейские звезды. Когда она спокойно заявила, что нет никакой причины для волнения, так как она в полном праве носить эти ”знаки отличия”, он рассвирепел вконец.
Психологическая загадка. Последние месяцы перед войной я работал в мастерской, где нас было четверо — Ной Карлис, мастер Л., я и еще один парень неопределенной профессии по имени Анравс. Про него мне рассказывали всякие нелестные истории и, вообще, всячески настраивали против него. У меня с ним не было никаких отношений, ни плохих, ни хороших. Когда я очутился вне закона, все бывшие друзья детства — арийцы, все друзья по работе исчезли, и тут, как чудо, является А. Пришел и просто заявил, что хочет помочь мне и моей семье, что готов сделать все, что будет в его силах. Он сказал, что решил взять работу по ремонту поврежденных войной фасадов домов, а меня устроить у себя. Он стал приносить Диме гостинцы, играл с ним, словом, проявлял глубокий интерес к нашей судьбе. Для этого нужна была немалая доля душевной стойкости и благородства. Есть большая человеческая радость в том, чтобы в беде находить друзей...
В гетто евреев начали выселять по районам. Первыми идут жители центральных районов. Многим перебравшимся на Московский Форштадт, но поселившимся не на входящих в гетто улицах, опять приходится искать и менять свое жилье.
Приезжала из Лимбажи Димкина Меланья, плакала и умоляла отдать мальчика. Я готов был согласиться, но Аля заявила, что если нам суждено погибнуть, так она не хочет оставить сироту. Право распоряжаться детьми принадлежит матери, — Димочку Меланье не дали.
Вечер. Ветер, осенний проливной дождь. В такую погоду чувствуешь себя спокойнее, знаешь, что непрошеные гости не пожалуют. Сижу с Алей и Димочкой на кровати и, уйдя в свои мысли, напеваю советскую песенку. Димочка взобрался к матери на колени. Вдруг я слышу ее возглас: ”Димочка, что с тобой, солнышко, чего ты плачешь?” Димочка не отвечает, он весь красный и трется лицом о ее шею. Сквозь слезы он говорит тихим голосом: ”Папочка поет советскую песенку, она мне так нравится, я давно ее не слыхал. Мамочка, только бы немцы ее не услыхали”. У Али по щекам текут слезы. Я закуриваю папиросу. Маленькое существо, у него уже разбито сердечко. А я и не думал, что мой сынок так глубоко переживает...
Наступает и наш черед перебраться в гетто.
Пошел с Алей искать жилье.
Я стараюсь всячески ее успокоить, отвлечь от темных мыслей, расписываю, как мы устроимся, уверяю, что сделаю даже голубятню на чердаке. Мы целуемся и шутим, так как мы хотим обмануть друг друга. Темнеет. Мы отправляемся за Двину; может быть, в последний раз совершаем мы этот путь. Идем под руку, в близости мы хотим найти утешение.
Завтра мы должны покинуть свое насиженное, любимое гнездо, свой родной дом. С невыразимой тоской хожу по комнатам; злоба, отчаяние душат меня. Димочка тоже в страшном волнении. И все напоминает, чтобы мы не забыли забрать его игрушки. Он перечисляет свое добро: гипсовые собаки и слоны, кубики, и поезд, и грузовики. В тревоге он говорит: ”Мамочка, а что если немцы не дадут забрать мой аэроплан, ты сможешь его спрятать?” Как взрослый, он успокаивает мать: ”Если заберут мою кроватку, мамочка, ты не огорчайся, я же могу у вас спать”.
Утро. Осенний ветер.
Двое полицейских, с портфелями, с деловым видом, в сопровождении дворничихи, появляются на дворе. Они проходят важно, презрительно осматривают нашу квартиру.
Я иду искать извозчика.
Евреям на арийской телеге, с арийской лошадью и арийским кучером ездить не разрешается, — это, видимо, тоже считается осквернением расы. Но мы решаем пренебречь этим распоряжением.
Грузим воз. Воз растет, куча хлама на дворе убывает. Натягиваем веревки. Надо прощаться...
Воз медленно, но верно приближается к цели. Мост уже позади. Мы все ближе и ближе к колючей проволоке. Воз с Московской сворачивает на ул. Лачплеша. Справа забор, еще несколько минут, и мы въезжаем в ворота гетто. Садовниковская улица. Грубый булыжник, воз покачивается и трясется. Впереди нас и за нами тоже возы. Улицы полны народу. Вот и наша ”квартира”: Маза Калну ул., дом 11/9/7, кв. 5. Взяв разбег, лошадь, сопя, втаскивает воз в ворота. Наскоро втаскиваем барахло и запираем его пока в сарай. Направляюсь к Гутманам — втаскивать вещи стариков. На Лудзас улице, около маленького домика, меня кто-то окликает. Вижу в окне знакомого жестянщика Маркушевича. Он очень просит зайти на несколько минут, ему хочется закурить и заодно поболтать. У Маркушевича большая семья, несколько взрослых дочек, одна с детьми, все живут в одной комнате. Жена его, хотя ей и не больше 40 лет, выглядит, как настоящая старуха, Спрашиваю, где он работает и как живет. Не жалуется, он всю жизнь нуждался, и нужда ему близка, как мать. Работает он у немцев. Я думал, что к нему, как к мастеру-специалисту, отношение лучше и положение его легче. Когда я высказал это предположение, он даже отшатнулся: ”Что вы, что вы, стану я для них работать как специалист и приносить им пользу; они даже не знают, что я умею резать жесть. Я работаю как чернорабочий. Если я даже буду подыхать с голоду, так все равно им не скажу, что я жестянщик”. Эта встреча осталась у меня светлым пятнышком. Маленький, никем не отмеченный, никем не замеченный, храбрый и сильный духом человек! После этой встречи я его в гетто не видел, наверно, расстреляли.
Приехал последний воз с мелкими пожитками и дровами. Извозчик торопится, и поэтому дрова просто скидывает во дворе. Идет дождь, оставить их на дворе нельзя, мы дружно беремся за работу. Аля, хоть и устала, но тащит поленья, не отставая от меня. Цапкин выбежал во двор, Аля волнуется, не пропал бы. Я рад, что у нее сохранилась забота о коте, значит она ”жива”. Серьезное беспокойство вызывает дочка. Мы ее оставили у Мими, а гетто могут закрыть в любую минуту. Нас ведь не предупреждают о всяких мерах и распоряжениях, но ставят перед совершившимся фактом. В течение нескольких минут выселяют, забирают на работу, без предупреждения расстреливают.
Я лично думаю, что девочку вообще лучше оставить там. Мими ее не бросит, а девочка не мальчик, что она неарийка доказать нельзя. Правда, Мими стара, но если она даже умрет, то соседи воспитают девочку. Если мы спасемся, мы ее найдем, если погибнем, она вырастет и будет жить без нас. Но с Алей я боюсь даже говорить об этом.
Пришла мама. ”Друзья” Роммы для ночлега предложили ей только стул, — она на нем и просидела всю ночь. Бедная мама, наверное, она позавидовала папе, что он давно умер. Поглядел я на нее, и мне стало страшно. Как люди в горе быстро тают!
Аля и мама весь вечер измеряют и спорят, что где поставить. Меня это мало интересует, и я в их дела не вмешиваюсь. Мы начинаем привыкать и к новому месту, мы медленно перерождаемся и скоро станем другими людьми. Над Диминой кроваткой висят его любимые картинки. На полу вчетверо сложенный ковер, чтобы девочка не простудилась: ведь мы, собственно, живем в сарае.
На дворе дети играют, бегают, дерутся, а Димочка боится выйти из дому. Выйдя со мной или с Алей, он ни на шаг не отходит от нас.
Наш дом в стороне и поэтому очень-очень тихо. А в центральной части происходит охота — ловля на работу. Занимается этим тройка — немецкий лейтенант Станке, фельдфебель Тухель и местный немец Дралле. Евреи боятся этих работ не работы ради, а боятся того, что при выходе и при возвращении немилосердно бьют. Бьют, как кому нравится, — кулаком, папкой, ногами.
После обеда Аля привела Лидочку. Они обе устали и расстроены, — тяжело им было прощаться с Мими. Мими и наша дворничиха обещали передавать провизию через проволоку.
Наконец, гетто закрыли. Официально заявлено, что вся связь с внешним миром прекращается. При разговоре или передаче через проволоку постовые будут стрелять. Стража у ворот обыскивает всех выходящих на работу и возвращающихся самым тщательным образом, в особенности молодых женщин. Холодными, грязными, грубыми руками под общий смех и замечания они залезают под одежду, шарят по голому телу. У многих женщин после обыска на груди ссадины и кровоподтеки. Мужчин обыскивают поверхностно, но зато бьют всерьез. На следующий день после закрытия гетто в городе поймали еврейского парня, ночевавшего у своей подруги — христианки. Его привели в гетто и расстреляли на дворе караула, для острастки труп не убирался...
Настроение у всех подавленное, чувствуешь себя как в мышеловке. Охота за людьми усилилась, теперь ловят даже ночью по квартирам. Наше положение напоминает рыбную ловлю в аквариуме или охоту в зоологическом саду. В лесу зверь может удрать, спрятаться, сопротивляться, а человек в гетто? Со всех сторон проволока, за нею часовые с оружием, и мы, как скот в загоне...
Я обратился к инженеру Антоколю, работавшему в течение 20 лет в городской управе, как строительный инженер. Антоколь сказал, что во всем гетто нет ни одного печника, и если бы я попробовал им стать, то это было бы благом для гетто.
Весть о том, что Юденрат обзавелся печником, разнеслась по гетто. В тот же вечер у меня объявилась первая просительница.
На другое утро я не успел даже поесть, как раздался стук в дверь. Какой-то мужчина хочет меня видеть. В чем дело? Рассказывает, что недалеко от нас снял бывшую лавку, поселил там свою мать и сестру. Но лавка не имеет печки, пристроить хотя бы маленькую печурку надо. Не успел еще уйти этот заказчик появилась моя кузина Роза Гиршберг. Словом, меня, как видно, не хватит, придется стать ”недоступным”.
Новый неприятный сюрприз — прекратили выдачу молока. Еврейским детям такой роскоши не полагается. Больнице тоже отказали в молоке.
Так как были замечены случаи передачи продуктов через забор, то построили второй ряд проволоки, но, конечно, не за счет улицы, а за счет тротуара. В некоторых местах — на Герсикас, Лазденас и др. тротуары настолько узки, что пройти можно только боком, чтобы не изорвать одежду о колючую проволоку. Толстому человеку вообще не пройти. Во избежание неприятностей, Юденрат распорядился все дворы на примыкающих к периферии гетто улицах соединить между собой; и движение происходит по дворам. Наш двор тоже стал проходным, и мимо наших окон все время снуют люди.
Со знакомым мальчиком Б. Заксом, нашим бывшим зассенгофским соседом, был такой случай. Проходит он по Большой Горной улице. Раздается окрик часового: ”Жид, скажи, который час?” Мальчик отгибает перчатку и, посмотрев на часы, отвечает на вопрос. Солдат направил на него дуло ружья: ”А теперь живо, пока цел, бросай часы в снег!” Так постовые зарабатывают часы.
Вечером купали девочку. Ей хоть бы что, сидела в ванночке, плескалась, как утка, играя и радуясь. Несмотря на гетто, она здоровая и круглая, прямо удовольствие ее держать в руках. Димочка вытирал ей ножки и целовал розовые пятки. Она заливелась смехом и рвала его волосы. Аля и мама от этой идиллии были в восторге. Говорят, только в горе познаются настоящие отношения. Никогда прежде мы с Алей не проявляли друг к другу столько взаимной нежности, заботы и внимания.
После Лидочки в той же воде ”купалась” Аля. Она так похудела, что детская ванночка ей почти впору. Мыльную воду не вылили и мочили в ней белье. Экономия!
7 часов утра. Мама уже встала, затопила плиту, сварила картофель, вскипятила чай. Во время завтрака приходит сын Фридмана Изька со своим приятелем, это — мои ”подмастерья”. У меня в портфеле инструменты, мальчики собирают санки с ящиком для материала, и наша тройка направляется к Герцмарку. По Ерсикас улице идем по такому узкому тротуару, что я прохожу с трудом. Рядом с нами идут на работу русские, латышские рабочие, такие же труженики как и мы, но между нами проволока, и она создает бездну. Стараюсь не видеть и не замечать людей за забором...
Дом номер 5. Старые тяжелые ворота, покосившаяся калитка. Справа большой дом, слева старая, полуразвалившаяся халупа. Крутая, узкая деревянная лестница, ступеньки протерты и стоптаны. Упираюсь в дверь с окошечком, наполовину забитым фанерой. Стучу раз, другой, никто не открывает. Наконец, моя энергия возымела действие, дверь раскрывается. Вхожу, — мансардная, средней величины комната, стены косые и черные, такие же окна, несколько квадратиков заклеены бумагой. Холод, как на дворе. Пол, как латгальская дорога, весь в выбоинах и ямках, по краям бутылками заткнуты крысиные щели. Посреди комнаты стол, табуретка, около нее старый большой топор. У стены облезлая железная кровать, заваленная ворохом тряпья. Хозяйка ”квартиры”, впустив меня, первым делом снова забралась под тряпье. И только после этого она осведомилась, кто я и зачем пришел. Думал, что она выразит радость, но глубоко ошибся. С любопытством вглядываюсь в нее. Это старуха лет 60-70, на ее лице написано такое безразличие ко всему, что становится не по себе. Берусь за разборку плиты и ”исследование” печки, все это находится в жутком состоянии. Мне как ”спецу” придется пораскинуть мозгами, как это все исправить. Глина моя тверда, как камень, мне нужна горячая вода, и я прошу старушку мне помочь. С тем же своим безразличным видом она вылезает из своего логова и отправляется к соседям за горячей водой. Вернувшись, говорит, что вода скоро будет.
От работы мне становится тепло. Снимаю пальто, на стене вижу гвоздь. Спрашиваю — ”скажи, матушка, а у тебя на стенке клопов и мошек нет, можно повесить пальто?” — ”Как же, милый, все есть, и клопы и вши, только можешь спокойно повесить, в такой холод они из дыр не вылезают” — слышу словоохотливый ответ.
Не хочу тревожить старушку, и сам иду за водой, чтобы заодно поглядеть на ее соседей. Рядом с ее дверью еще одна, забитая старым одеялом. Меня впускает маленькая девочка. Комната и кухня приблизительно в таком же состоянии, как у моей старушки, только завалены всяким хламом. Здесь живет большая семья — несколько маленьких детей, подростков, взрослые, старушка. Посреди комнаты на горшке сидит маленькая девочка и играет тряпочкой.
У меня коченеют руки от холодной глины, время от времени опускаю их в горячую воду. Тороплюсь, скоро 4 часа, а у меня впереди ”частный” заказ, за который меня ожидает целое богатство — 2 яйца и пачка махорки.
Я грязен, как трубочист, но настроение приподнятое. Работа когда ею приносишь пользу не только себе, но и людям, которым хочешь помочь, — дает большое удовлетворение. Убеждаюсь, что печник зимой в гетто не менее важное лицо, чем врач во время эпидемии.
Умывшись и поужинав, иду к Фридману. Нужно ”реваншироваться” — он мне как-то дал спичечную коробку махорки, теперь я богат и сам могу угостить. У Фридмана сравнительно хорошая квартирка — комната и маленькая кухня; спать в ней нельзя, но все же помещение. Жена его — очаровательная женщина, в ней чувствуется большая доброта и сердечность. Как в большинстве семей, — у них свой крест. Кроме двоих сыновей моего подручного Изьки и младшего сына 16-ти лет, они имеют еще девочку. Ей 12 лет, но она Диминого роста, калека, с так называемыми сухими ножками. Она целыми днями сидит, вырезает из бумаги нанизывает бусинки или сшивает тряпочки. Она всегда печальная и разговаривает разумно, как взрослая. Она любит, когда к ней приходят дети, но как она должна страдать, видя, как все бегают. Бедную девочку обожают родители и братья. Младший брат старается ее развеселить и насмешить. От мальчика его возраста я такой нежности не ожидал. Пока мы с Фридманом покуриваем и обмениваемся новостями и надеждами, входит сосед из другой квартиры. Он рассказывает, что сегодня работал в Бикерниеках. Они рыли в лесу ямы, длинные и глубокие. ”Без всякого сомнения, — говорит он, — это будущие укрепления, а раз так, значит ждут советского наступления”.
У нас, вернее, у оптимистов, выработалось умение во всех событиях усматривать хорошую сторону. Не знаю, умно ли, глупо ли это, но во всяком случае, так легче жить. Я вменил себе в обязанность в присутствии посторонних, кто бы это ни были, свои или чужие, шутить и подбадривать в несчастьях и неудачах. Я уверен, что эти ямы роются не для укреплений. Но для какой другой цели? Неужели... Отгоняю безумные мысли.
С каждым днем в гетто увеличивается количество нищих. Они ходят по квартирам, собирая съестное. Им подают несколько картофелин, брюкву, тарелку супа. Есть и другого рода нищие, которые не побираются. Я видел на одном дворе на Саркану ул. старичка, занятого выискиванием картофельной шелухи и случайных корочек в мусорной яме. Делал он это с такой опаской, чтобы никто не заметил, что было ясно — это не профессионал. Меня он увидел уже тогда, когда я прошел мимо, и так растерялся, что принял вид, будто занят совсем другим делом.
Муравейник в лесу на случайного прохожего не произведет особого впечатления ־־ кучи муравьев, да и только. Вот и наше гетто — внешне все серо, суетливо, напугано, полуголодно. А на деле и в гетто жизнь полна напряжений и трагедий...
В приюте на Садовниковской, в каморке, живет профессор Дубнов и пишет продолжение ”Еврейской истории”. В больнице на Лудзас улице врачи оперируют больных.
Каждый день в гетто несколько похорон. В течение дня по Лудзас улице к кладбищу плетутся простые сани с черным ящиком, за ними 2—3 человека. Иногда сани с ящиком проезжают быстро, значит, родных нет...
Недавно у проволоки опять застрелили молодого парня.
На домах появились объявления-приказы: все евреи обязаны в течение недели сдать все золото, серебро, драгоценности, ковры. По истечении срока будут обыски, несдавшие будут строго наказаны. Нам известно только одно наказание — расстрел.
У нас с Алей по тонкому обручальному кольцу, да у Али еще 23 колечка, вот и все.
Приходят знакомые с просьбой припрятать ценности. Ко многим знакомым ходил на дом, делать ”сейфы”, кому в двери, кому в карниз шкафа, иному под пол, иному в каблук. Серебро я советовал кидать в уборную или зарывать, лишь бы не отдавать немцам.
Недоедание Али сказывается. На днях она долго стояла в очереди, когда уже выстояла свое и собиралась уходить, у нее закружилась голова и с ней случился обморок — первый в ее жизни.
Иду на работу. Открываю дверь. Первое, что вижу — кровать, на ней измученная женщина, рядом с ней под одеялом ребенок с повязанной шеей. У ног кровати, как зверьки прижались друг к другу еще трое ребятишек в пальтишках. У противоположной стены дверь, поставленная на кирпичи, на ней одеяло и несколько серых подушек. Горшок, ведро и стул — вся обстановка. ”Кто вы, зачем вы пришли?” Объясняю, что прислан Юденратом — починить плитку и печку. Справляюсь, нельзя ли ей чем-нибудь помочь. — ”Как вы сможете мне помочь, у меня желчные камни и, кажется, рак. Нам нечем топить и нечего есть”.
В кухне стоит пришибленный человек, его зовут Хаим. Он собственник этого богатства. Начинаю работать. Хаим засуетился, побежал за горячей водой, словом, ожил. Видно, ему страшно оставаться наедине с семьей, он рад чужим людям. В кухне полутьма, часть окна заклеена бумагой. На полу несколько горшков, грязная посуда, корзина мерзлой картошки, ящик, это все. Холод жуткий. И опять из-за двери раздается жалкий страдальческий голос: ”Бедный, мой бедный Хаим, на кого я вас оставляю, что ты будешь делать с этими червячками без меня?”
Стук в дверь, Хаим впускает молодого человека, говорящего по-немецки с заграничным акцентом. Это чешский эмигрант, он три дня ничего не ел, может, что-нибудь для него найдется. Хаим, не говоря ни слова, вытаскивает горшок, в нем вареная в шелухе картошка, еще теплая. Откуда-то он достает чашечку с солью. — ”Кушайте прямо из горшка, тогда она не так быстро стынет, кушайте сколько хотите, картошки хватит, не стесняйтесь”. Хаим выражает сожаление, что у него больше ничего нет. Парень голоден, но он видит, что его угощает нищий, да еще упрашивает другого нищего не стесняться! На прощание Хаим насильно запихивает парню в карман несколько картофелин.
Дни летят, работы все больше и больше. По гетто распространяются слухи один другого фантастичнее. Стараюсь на них не обращать внимания и не думать о них.
В гетто новое объявление: все евреи обязаны немедленно заявить полиции о скрывающихся в пределах гетто неевреях. В случае невыполнения приказа пострадает все гетто.
Говорят, что в гетто скрываются немецкие дезертиры. От знакомого узнал, что была облава, двоих поймали, судя по описанию, один из пойманных тот самый нищий, что выдавал себя за чеха, которого я встретил в доме по Даугавпильской. Жаль парнишку, теперь вместо картошки получит пулю.
По субботам я для Юденрата не работаю. У меня ”выходной день”.
В эту субботу решили отдохнуть и никуда не ходить.
Хотим с Димой лепить снежную бабу, но снег слишком сухой. Сидим дома, держу его на коленях, читаю ”дяди” Пушкина ”Сказку о попе и работнике его Балде”. Это Димина любимая сказка и он может ее слушать без конца. На ковре шалит Лидочка.
Слухи, слухи без конца.
Говорят, что в гетто оставят только работоспособных мужчин, а женщин и детей отправят в лагерь, может быть, в Люблин. Все это очень тревожит, люди теряются в разных догадках и предположениях. Еще только на днях Юденрат получил распоряжение выстроить баню; целое здание дали для устройства различных мастерских. Если гетто устроено всего на несколько месяцев, то зачем надо было выселять из него неевреев, почему мы ведем все это ”строительство”?
Еврейские врачи будто бы получили приказ всех опасно-больных лишать жизни. В Германии, по слухам, в больницах всех тяжелобольных и вообще нежизнеспособных отравляют сладким кофе.
Гетто до крайности взволновано. Нет шума, крика, оживленных бесед. Наоборот, тихо, как на похоронах. Все ждут чего-то страшного, все чувствуют, что гроза разрядится — слезами и кровью.
С минуты на минуту ждем нового приказа. Промелькнуло слово ”акция”. Оно прошло как-то мимо нас, мы его не поняли. Скоро от этого кратенького слова будет стынуть кровь. Ждать пришлось недолго. Появились сразу даже два приказа. Приказ номер 1-й: 28 ноября 1941 года (может быть, я ошибаюсь на несколько дней, точно числа не помню), в 7 час. утра по Садовниковской улице должны собраться все мужчины, начиная с 17-летнего возраста.
Приказ номер 2-й: все неработоспособные мужчины, все женщины и дети должны приготовиться к переселению в лагерь. Каждый имеет право забрать с собой вещей до 20 кг. О дне и часе переселения будет объявлено особо.
После второго приказа — приказ номер 1-й как-то отступил на задний план. Все старики, без исключения, поняли, что им вынесен смертный приговор. Тяжело видеть их — смертников, не знающих за собой никакой вины. К Але пришла ее тетка Софья Осиповна, очень сдержанная старушка. Она сидит, как будто спокойно, только слезы беспрерывно текут. У нее, кроме сына в Америке, никого нет, она просит меня и Алю, когда наступят хорошие времена, передать ему привет, но не рассказывать, как она кончила жизнь. И в эту минуту мать одержала верх, и ею владеет одна мысль — ”зачем сыну лишнее огорчение”.
Все соседи снабжают друг друга чем могут. Теплые вещи, обувь, провизия, все стало общим. Сегодня все щедры и от души делятся всем. Сегодня больше нет ”моего” и ”твоего”, сегодня есть только ”наше”.
По дороге захожу к Магарику. С его женой целуемся, как брат с сестрой. Мне все женщины стали дорогими и любимыми, мне их так жаль, они так геройски держатся. Женщины, я убедился в этом, лучше переносят серьезные потрясения.
Дети инстинктивно чуют свою гибель, они тихи и пришиблены, у них нет ни капризов, ни слез, ни суеты. Мои тоже, как мышки, куда-то забились. Мама движется с окаменелым лицом. Аля отбирает для меня теплые вещи. Теперь вечер, завтра чуть свет уходить. Вернусь ли, увижу ли когда-нибудь моих дорогих?..
Мы знаем, что это наша последняя ночь вместе. Увижу ли я еще Алю. С мамой я больше никогда не проведу ночи под одной крышей — в этом я уверен. Любимая, бедная мама, прости меня, что я бессилен оберечь твою старость.
Мирно тикает будильник, стрелка безжалостно совершает свой путь, часы проходят. На плече у меня голова Али, рубашка в этом месте становится мокрой. Беззвучные тяжелые слезы; что происходит в ее душе, в тысячах таких женских душ, этого никто не знает, потому что этого нельзя передать словами... Будильник все тикает.
На дворе уже суетятся люди. Стоят кучками, маленькими группами. Темно, лиц не видно.
Улица уже полна народу. Выхожу из рядов, забираюсь на крыльцо дома, чтобы увидеть, какой длины колонны. Это странное и страшное зрелище. Оно напоминает грандиозные похороны. Многих стариков ведут под руку молодые. Колонна медленно ползет вперед, на Садовниковской улице останавливается. Видно, власти опасаются ”восстания рабов”, потому что на каждом шагу группы из 4—5 до зубов вооруженных фашистов.
Лютый мороз; чтобы не замерзнуть, большинство приплясывает. Если не глядеть на лица, а смотреть только на ноги, можно подумать, что людям весело. Постепенно колонна теряет свой вид и превращается в большую толпу. Люди меняют свои места. Разыскивают знакомых. Издали вижу своего учителя Григория Яковлевича. Он стоит, опираясь на палку. Его глаза распухли от слез и мороза и превратились в еле заметные щелочки. Он смотрит на меня и у него начинают дрожать губы. От волнения он долго не в состоянии вымолвить слова. Он держится за мою руку и судорожно ее пожимает; ”Прощай, Элик, последний раз тебя вижу. Тяжело знать, что скоро я буду уничтожен, как старая никому ненужная тряпка. Будет уничтожена и моя Фанни... Смотри, не падай духом, ты еще молод, ты доживешь до светлых дней. Вспоминай иногда своего старого учителя и друга. Дай я тебя на прощание поцелую”.
В эту минуту проходит полицейский и выкрикивает распоряжение, что все инвалиды и перевалившие за 60 лет могут отправляться по домам.
Толпа ожила и зажужжала. Вдали слышны команда и громкие немецкие голоса. Быстрым шагом по тротуару приближаются Станке, Тухель и остальные.
Станке обходит наш фронт, как на параде. Речь и приказ его лаконичны: ”Теперь 2 часа, бегом по домам, забрать свои пожитки и к 2 с половиной часам собраться у ворот ”Маленького гетто”. Марш!”
Запыхавшись, вваливаюсь в дом. Уже 10 минут третьего, через 20 минут надо быть у ворот. Необходимые вещи летят в чемодан, инструменты в мешок, и одеяло, подушка — в узел. 10 минут могу посидеть ”спокойно”. Узнаю новость — Лиза Л. родила ребенка, роды были очень тяжелые, но и она и ребенок ”вне опасности”.
Уславливаемся с Алей, что куда бы нас ни отослали, что бы с нами ни случилось, при первой возможности мы даем знать о себе нашим друзьям в Зассенгоф. Мы всегда таким образом сможем найти друг друга. С мамой такого уговора нет, он лишний. У мамы губы холодные, лицо каменное. Девочка спит, лежа на животике, из-под одеяла вылезает розовая пяточка. Я прижимаюсь к ней, пяточке щекотно от усов, и она исчезает под одеялом. Диму прижал сильно-сильно. Но он не крикнул. Что с ним будет, куда их денут? Почему, за что? Ненависть, отчаяние, надежда сплелись в один ком. Он давит и сжимает горло. Самые сильные страдания причиняет нам не наше личное горе, а горе наших близких и любимых.
У ворот ”Маленького гетто” уже толпа. Стража следит за порядком, иногда работает прикладом. У ворот, как статуя, стоит красавец офицер, новый помощник коменданта гетто. Он красив, такие глаза, как у него, редко встретишь, но это не человеческие глаза, а просто органы зрения. Они, как светлое прозрачное стекло, как мертвый красивый камень. В них нет ни злобы, ни скуки, ни любви, ни ненависти; они видят, но ничего не выражают. Искать жалости, пощады в этих глазах так же безнадежно, как заставить их смеяться. Хороший помощник коменданта — слов нет.
Герцмарк встретил своего знакомого С. Финкельштейна. Жил он на Ликснас, 26 и намеревается попасть в свою квартиру. Предложил и нам устроиться там же. Торопимся, чтобы успеть прибыть туда прежде других. В этой квартире Финкельштейн еще вчера жил со своей семьей. У него жена и двухлетняя дочь, ему в данную минуту труднее, чем нам; мы в чужом месте. У него каждая мелочь, каждый предмет вызывает образ жены и девочки. Минутами он напускает на себя удаль, то на него находит волна отчаяния, он кидается навзничь и трясется от рыданий.
Виляну улица (она расположена между Большой Горной и Лудзас) короткая и широкая, как площадь. У Большой Горной новые ворота, ведущие из гетто на ”волю”. Вся улица полна народу. Кое-где строятся в колонны. Расхаживают немцы, набирая людей.
Мои товарищи по несчастью, знающие, что это тяжелейшая работа, ищут случая улизнуть. Наконец, колонна в 120 человек набрана. С Московской сворачиваем на узенькую улочку, ведущую мимо фабрики Брауна, и выходим на Двину. На острове лесопильный завод, а остров соединен с береговой дамбой. На этой дамбе длиной в 200-300 метров и прокладывают этот знаменитый кабель. Место для работы зимой неуютное: ветер так и свищет, и мороз сильный.
У фабричной конторы навес, под ним кирки, лопаты, ломы. Ямы роют приблизительно на расстоянии в три с половиной метра одна от другой, потом дно ям соединяют туннелем. Прокопать его можно только лежа на боку или на животе. Самое неприятное и трудное — добраться до мягкого песка. Не зная земляных работ и не умея обращаться с мерзлой землей, это так же трудно, как вырыть яму в камне. Мне часто приходилось зимой вкапывать заборные столбы, да и на военной службе копал землю, так что меня это не пугает. Физически слабому человеку, конечно, эта работа не под силу и для него она мука.
У нас три начальника. Главный инженер — немец. Крупный мужчина с обветренным красным лицом, холодными крошечными глазками, узкими губами и широким подбородком. Говорят, что в молодости он был любителем бокса и в разговоре, для большей убедительности, любит пользоваться кулаками, а иногда и ногами. Работаем по двое над одной ямой. Один из нас откалывает ломом куски мерзлой земли, другой ее отбрасывает в сторону. Не работать на голодный желудок — замерзнешь, мороз наш самый лучший погоняльщик. Днем на 30 минут нам разрешают собраться кучей, это считается, что мы пообедали. В помещение нас не пускают, там рабочие завода, а мы с ними не имеем права разговаривать. Некоторые рабочие уходят с завода на обед домой. Среди них узнаю хорошего знакомого, мы были с ним большие друзья на фабрике, сотрудничали в разных комиссиях и МОПРе. Незаметно для других сталкиваюсь с ним на дорожке, и несколько минут идем рядом. Он сует мне в карман горсть папирос. ”...Фронт приближается, вот мой адрес... Может быть, он вам пригодится”. Незаметно крепко пожимаем друг другу руки.
Вторая половина дня проходит так же, как первая, только трудней работать — очень холодно и хочется есть. Темнеет, немцы нас наскоро подсчитывают, и мы трогаемся. Вот уже забор гетто, видны ворота. Через мгновение по колонне проносится слово ”акция”. В гетто была ”акция”!
Последние десятки метров мы не шагаем, а бежим. Стража в воротах нас не пересчитывает, обыска нет. Часовой не смотрит на нас, неужели, неужели у него зашевелилась совесть? На бегу узнаю, что часть гетто этой ночью была уведена, было много убитых, весь день работали рабочие команды по уборке трупов. Теперь из ”Маленького гетто” пускают в Большое. Бегу к воротам. Постовой, повернувшись к нам спиной, смотрит куда-то в сторону, теперь никто из них не смотрит нам в глаза. Наконец, я за воротами, я в ”Большом гетто”. Улица пуста, ставни закрыты, на многих окнах спущено затемнение. На краю тротуара следы подков, конский помет и лужи крови. Лужи, пятна, полоски, отдельные капли. Видно, что улицу убирали, но местами встречаются втоптанные в снег перчатки, детские галоши. То и дело наступаешь на маленькие медные трубочки — гильзы револьверных пат[ронов. Не заме]чаю, как попадаю ногой в кровь. Странно — мороз, а она еще липкая.
У нас во дворе ничего не изменилось. Еще светло, но окна в нашем домике затемнены. Стучу два раза в окно, это условный знак. Мама и Аля открывают мне. На них нет лица. В квартирке необычный беспорядок, посуда не мыта, кровати не постланы. Всю ночь не спали, сидели не раздеваясь, и ждали, что за ними придут. Детей уложили одетыми. Вечером уже узнали, что на Католической, Садовниковской и Московской — ”началось”.
Улица усеяна трупами стариков. Стариков не хотят в лагере понапрасну кормить, и для экономии и удобства расстреляли в самом гетто.
В эту ночь многие покончили с собой, в том числе несколько врачей. Алина двоюродная сестра Леля Бордо перерезала на руках артерии себе и своему пятилетнему сыну Жоржику. Их утром нашли в постели, залитых кровью. Жоржик был уже мертв, мать теперь в больнице, ей сделали переливание крови, и она будет жить. К чему спасать Лелю? Постарайтесь вдуматься, на мгновение понять, что должно происходить в душе такой матери, когда она бритвой перерезает артерии на ручках своего обожаемого маленького сына?
Лужи крови за один день стали обычным явлением. Мы проходим мимо них, попадаем ногами. На углу Даугавпильской и Лудзас заходим в дом. Первое, что бросается в глаза, — разбитая топором входная дверь. Первая квартира раскрыта настежь. Кровати разрыты, на полу подушки, одежда, хаос всяких вещей. На столе разные объедки, недопитый чай. Видно, что люди были выгнаны неожиданно и в спешке. В квартире налево дверь полуоткрыта, сильный сквозняк. Проходим через кухню в комнату, в ней разбито окно и гуляет ветер. На кровати кто-то лежит. Подходим и вглядываемся в лицо покойника. Старик, небольшая седая бородка, глаза стеклянным взором упираются в потолок.
Не знаю для чего, прикрываю его опять, даже слежу, чтобы не было щелей — окно ведь выбито. Для первого впечатления достаточно...
Мама, впуская меня, делает знак, чтобы не шумел. В неубранной комнате, на неряшливой кровати, прикрывшись пальто, спит Аля. Дети тоже уснули, хотя всего 7 часов. Алю и детей мама поцелует за меня, надо торопиться.
Те, кто лишились своих, чьи семьи уже угнали, уверены, что и остальных выселят. Они больше не надеются ни на что и смотрят на вещи ясно; они убиты, но трезвы. Мы, у кого родные еще ”дома”, живем надеждой. Мы еще слепы, мы все еще не понимаем всей жестокой последовательности системы ”акций”.
Двое обитателей нашей квартиры работали по уборке и зарыванию трупов. Убитых в пределах гетто было не то 500, не то 600 человек. Как правило, стреляли только в старых и больных, и может быть, случайно убито несколько молодых и детей. Стреляли в голову — знаменитый ”копфшусс”.
Утром, чуть свет, собираемся на месте сборища. День проработал в гавани, грузил уголь. Был опять на ”Кабеле”, ужасно промерз.
В ”Большое гетто”, к семьям нас эти дни не пускают, но полицейские уверяют, что там все спокойно. О том, что стало с первой партией выселенных, ничего толком не знаем. Слухи идут самые разнообразные, среди них один совсем фантастический, будто ни в какой лагерь никого не отправляли, а партиями увели в ближайшие леса и всех без исключения перестреляли из пулеметов.
В полиции нам сказали, что мы сможем раз-два в неделю навещать семьи.
Сегодня, придя с работы, узнал, что пускают в ”Большое гетто”, — своих не видел шесть дней, а в наших условиях шесть дней — это вечность. Не заходя к себе, побежал к воротам. Часовой греется у огня и не интересуется никем; я беспрепятственно выхожу на Лудзас улицу. За эти дни выпал свежий снег и улица покрыта белым ковром, скрывшим все следы недавней трагедии. Пустынность гетто бросается в глаза. Из этого района ведь никого не выселяли, дома битком набиты людьми, а какая безлюдная улица, какая зловещая тишина! Спешу, чтобы не потерять драгоценных минут. Наш двор занесен снегом, только узкие тропочки ведут от дома к дому...
Мы почти не разговариваем, сидим близко-близко, и гладим друг другу руки.
Нарубил на неделю дров, почистил в плите трубу, поел картошки с солью, — и вот уже опять надо прощаться. Прощай, мама, детки, прощай моя родная Ленушка, может быть, через неделю опять приду, а может быть, мы прощаемся навеки!..
За мной закрылась дверь. На небе первые звезды, под ногами скрипит снег. Хочется полной грудью вдыхать зимний воздух, но что-то невыразимо тяжелое сжимает грудь.
За время моего отсутствия увеличилось население нашей квартиры. Появилось несколько совсем старых людей. Они старательно побрили бороды, даже головы, чтобы не было видно седых волос. Изо всех сил они хотят казаться молодыми, ”работоспособными”.
Понемногу начинают укладываться на покой. В наших комнатах темно, слышно перешептывание, отдельные слова, затем наступает гнетущая тишина. Но что это, как будто где-то стучат, совсем близко, и вдруг ночную тишину разрывает дикий крик: ”Ауфмахен, швейнехунде, одер вир шисен!” Мигом мы у окна. Благодаря снегу и луне все ясно видно. Напротив у двухэтажного дома группа вооруженных людей стучит в дверь, вдоль нашего заграждения — усиленная солдатская охрана. Мигом по квартире проносится слово ”акция”. Крик и ругань усиливаются, раздается выстрел, блеснул топор, разлетелись ставни погребного помещения. В погребе свет, в окно влезает солдат, и через несколько минут парадные двери открыты. Мимо открытого окна в погребе промелькнула женщина с дорожным мешком на спине. Со стороны ”Большого гетто” слышны отдельные выстрелы, там происходит то же самое. Из дома напротив начинают выходить согнутые фигуры. Их выстраивают по двое в ряд, у многих женщин на спинах мешки, а на руках ребенок. Взад и вперед шагают солдаты с папиросами в зубах. На дворе мороз, а женщины с детьми все стоят и стоят. Скоро час ночи. Наконец, после половины второго ночи раздается команда, и под веселый говор и брань колонна двинулась по направлению к Лудзас улице. Все чаще и чаще раздаются выстрелы. Каждый выстрел это конец чьей-то жизни. Лежу на кровати, тела не чувствую, души не чувствую — как деревянный. Неужели и маму, Алю, Диму и дочку выгнали из дома? Почему, за что? Нет, это неправда, это мне снится...
В доме уже движение, утро, но на дворе еще темно. Я сегодня на работу не пойду, я должен знать, как прошла ”акция”. Чтобы не быть схваченным охотником за рабами, иду с Герцмарком в технический отдел. Там уже все известно. Прошлой ночью угнали все оставшееся население гетто. На улицах большой беспорядок, к 9 часам должна собраться рабочая команда для уборки. Технический отдел обязан представить людей для работы на... кладбище. Присоединяюсь к ним. Из склада вытаскиваем лопаты, кирки, ломы. На всех улицах видны следы бессонной ночи. Все серы и молчаливы.
Солнце взошло, незаметно наступило светлое утро. Улиц в ”Большом гетто” не узнать. Где вчерашний снег! Он исчез, умят, придавлен и загажен. Я видел улицы после отступления армии, с разбитыми орудиями и повозками, трупы людей и лошадей, всевозможный военный хлам, но то были следы боя, а здесь следы бойни. Улица залита кровью, белый снег за ночь стал серым с красными разводами. Трупы — старики, женщины, дети! Помятые колясочки, детские санки, сумочки, перчатки и галоши, мешочки с продовольствием, бутылочка с соской, в ней замерзшая овсянка, детский ботик. Трупы еще теплые и мягкие, лица залиты кровью, глаза открыты.
Мы должны доставить трупы на кладбище. Укладываем по два на санки или тележку. Когда везем их на тележке, то они колышатся, как живые, а кровь комьями падает на снег.
Мы возим трупы пока только за ворота кладбища, там складываем их рядами — мужчин и женщин отдельно. Члены общин разыскивают у убитых документы. Привезли мальчика лет 12-ти. Прелестный, красивый ребенок в серой шубке с меховым воротничком, в новых сапожках. Он лежит на спине с широко открытыми голубыми глазами. Револьверная пуля попала в затылок, и только часть воротничка залита кровью. Он лежал, как кукла, и как-то не верилось, что еще недавно он был живым, наверное, веселым ребенком.
Нас сменили другие, и теперь мы идем копать могилы. Роем яму у сожженной кладбищенской синагоги. Земля так замерзла, что приходится откалывать куски, как от камня. Не замечаешь, как из закушенной губы идет кровь. Нет ясных мыслей, все какие-то обрывки. Внешне спокоен, закуриваю, сплевываю кровь и продолжаю кусать губы. Наконец, мы пробили замерзший слой земли, вырубаем корни, и яма начинает заметно углубляться. Могила большая, приблизительно 2 на 5 метров. Мы уже по грудь в земле, выроем еще метр и начнем хоронить. Часть трупов уже перенесли, их пока уложили у уцелевших стен синагоги, некоторые прислонены в полусидячем положении.
К нам подходит полицейский и предупреждает, чтобы теперь никто не выходил с кладбища, и не подходил к ограде. Оказывается, что некоторые — крайние — улицы не успели за ночь очистить, и сейчас проведут последнюю колонну. Полицейский предупреждает, что любопытных будут расстреливать. Прислушиваемся и ждем. Ждать не долго, раздаются знакомые окрики. Над оградой появляются головы и плечи конных стражников, за оградой — шарканье многих ног. Железные ворота кладбища не достигают до земли на 25—30 сантиметров. Стоя в яме, можно видеть бесконечное количество ног. Ноги движутся осторожно, мелкими шажками, точно боясь поскользнуться. Все женские, иногда мелькают маленькие, детские ножки; кто-то ощупывает дорогу палкой. В маленьком домике напротив кладбища, в мансардной комнате, раздвинута занавеска, и в окне видны лица нескольких женщин. В них выражение ужаса, немой упрек и сочувствие.
Ноги жертв и головы всадников. Как много они говорят: как ужасны эти ноги, сколько наглости и удовлетворения в этих головах и плечах. У нас нет оружия, есть только ненависть и жажда мести, этим горю не поможешь. За оградой удивительная тишина, изредка слышится детский плач или окрик погонщиков. Ног больше не видно, всадники медленно удаляются. Одна из женщин в окне подносит к глазам платок. Занавеска опускается. Перед нами спокойно лежат и полусидят трупы. Их лица не изменились...
Яма готова, но хоронить будет другая смена, она уже явилась, и мы можем пойти отдохнуть. Почему-то снимаю с руки обручальное кольцо и зарываю на дно могилы. С ним я хороню прошлое и надежду.
Идем к первым воротам, чтобы взглянуть на новопривезенные трупы, может быть, среди них будут близкие. Идем по узкой снежной дорожке, среди старых могил. Солнце уже низко и бросает длинную неровную тень. На этом кладбище похоронен мой отец. Кладбище старое, на нем уже много лет никого не хоронили. Не ждало оно такого наплыва покойников. У ворот ряды трупов не уменьшаются: вхожу и приглядываюсь. Несколько знакомых лиц — старики. За кустами, метров 70 налево от ворот, к готовой могиле спешно несут трупы. Носилки как будто окрашены в красный цвет, так обильно пропитаны они кровью.
Солнце все ниже. Надо торопиться с работой. Ямы быстро засыпаются мерзлым песком. Вырастает большой светложелтый бугор. Все тихо, только за оградой движение, слышно поскрипывание саней и тележек, направляющихся на кладбище. И вот как бы по молчаливому уговору 40—50 евреев становятся полукругом, лицом к востоку, у могилы. Вперед выходят те, кто только что похоронил своих матерей и отцов. Я не молюсь — не умею, но стою, как завороженный, не ощущая тела, только сердце готово выскочить из груди, по затылку ползут мурашки.
Я слов молитвы не понял, и смысл мне непонятен, знаю только, что эта картина каленым железом выжжена в моей памяти.
Сумерки. Улица, по которой мы проходим, еще не убрана, трупов нет, на их месте остались пятна.
Наша квартира полна народу. О происшедшем стараемся не говорить, по крайней мере, сейчас.
Прилег и тотчас заснул без снов и кошмаров. Часам к десяти проснулся. Медленно прихожу в себя. Напротив на тахте сидит Герцмарк, сжав голову руками. Глаза его полны слез, но лицо сухое. Губы его только повторяют без конца: ”бедные, бедные״. Как ножом полоснуло по сердцу. Мигом все предстало в живых и ярких красках. Я увидел, как в нашем маленьком домике разлетаются двери, как в него врываются люди с зелеными повязками. Аля наспех закутывает Диму, выхватывает из кроватки сонную девочку. Мама помогает дрожащими руками. Аля с мешком за плечами толкает колясочку с девочкой, мама тоже с мешком на спине — ведет за руку Диму. Они становятся в колонну, ждут, мерзнут, ждут. Что было у них на душе, что они переживали?.. Эту тайну они унесли с собой...
РАССКАЗ СЕМЫ ШПУНГИНА (Двинск). Подготовил к печати О. Савич.
Мне 16 лет. Когда пришли немцы, мне было 12. Я тогда перешел в пятый класс. Мы жили в Двинске, на улице Райниса, 83/85. Отец, Илья Шпугин, был фотографом. Еще у меня были мать и 6-летняя сестра Роза.
Когда пришли немцы, мы всей семьей, со многими друзьями ушли из Двинска пешком. Шли под бомбежкой. Дошли до самой Белоруссии, и тут немцы нас обогнали. Мы поняли, что дальше не проберемся, и вернулись в Двинск.
В Двинске евреев ловили на улицах и уводили в тюрьму, где над ними очень издевались. Их заставляли без конца ложиться на землю и вскакивать и пристреливали тех, кто не мог делать это быстро. Мы не дошли до своего дома, наш дом сгорел, и мы на некоторое время поселились у бабушки, а потом нас перевели в гетто. Это было ”счастьем”, потому что в тюрьме расстреляли много народу. Их убивали во дворе и в железнодорожном саду.
20 июля все евреи, оставшиеся в живых, оказались в гетто. Оно было устроено на другом берегу Двины, напротив крепости, в старом здании. Немцы сами говорили, что оно не годится и для лошадей. С нами был доктор Гуревич. Он сказал, что дети не проживут здесь больше двух месяцев. Но дети прожили дольше.
Было очень тесно и грязно. И очень холодно: жили без стекол, а здание было каменное. Приблизительно недели через две немцы велели всем старикам (не помню точно, кажется старше 65 лет) собраться во дворе и сказали, что их переведут во ”второй лагерь”. Вместо этого стариков расстреляли. В то же время расстреляли всех, кто приехал в Двинск из других мест. Вещи убитых палачи брали себе.
Потом началась ”сортировка”. Это делалось почти каждый день. Собирали людей и делили их на две группы. При этом никто не знал, почему его включают в ту или иную группу, и что будет с его группой: поведут на работы или на расстрел.
Палачи очень часто бывали пьяные.
Было очень холодно. А немцы еще объявили вдруг ”карантин”. Во время карантина нельзя было уходить в город даже на работу. А выдавали нам 125 граммов ужасного хлеба и воду с гнилой капустой. Люди начали пухнуть от голода. Одна женщина по фамилии Меерович, у которой было семь детей, тайком пыталась попросить хлеба у рабочих, работающих возле гетто. Ее поймали и расстреляли на глазах у всех. Детей ее убили 1 мая 1942 года.
Я заболел брюшным тифом, и меня спрятали в самом гетто, чтобы немцы не убили; я поправился.
Нашей семье везло до 6 ноября. Мы даже удивлялись, что все четверо еще уцелели. Папа работал; он тайком приносил немного еды. Он недоедал того, что ему давали на работе, и тайком приносил это в гетто.
6 ноября началась большая сортировка. Одна женщина, которая стояла недалеко от нас, бросилась бежать. Ее не поймали, и немцы объявили, что за нее расстреляют десять других. Уже отобрали мою мать и сестру, и они вышли из рядов. Должен был идти и я. Но я схватил маму за руку, а она держала сестру, и я втащил их обратно в толпу. А толпа была густая, искать в ней было долго, и немцы не обратили на это внимания.
9 ноября, мужчины, которые работали у немцев, в том числе мой отец, ушли. А после их ухода всех выгнали во двор. Велели сперва, чтобы из толпы вышли члены назначенного немцами ”комитета”, а потом — чтобы отдельно построились медицинские работники с семьями. Не знаю, как я догадался, что остальных убьют. Я бросился к медицинским работникам и стал умолять, чтобы кто-нибудь объявил меня своим сыном. Зубной врач Магид, у которого была маленькая дочь, сказал мне: ”хорошо”. Тогда я кинулся к матери и сестре. Но я уже не нашел их. Я обегал всех, я кричал: ”Мамочка! Роза!” Никто не отзывался. Оказалось, что одну партию немцы уже увели. Вероятно, мама и Роза были в этой партии. А я помнил, как я все спрашивал маму, когда нас вывели во двор: ”Мама, куда нам идти?” И Роза тоже спрашивала маму, куда идти. Мы ведь понимали и Роза тоже, что одних будут убивать, а других оставлять. А мама отвечала: ”Не знаю”. Я хотел отвести Розу, а потом маму к медицинским работникам и умолить кого-нибудь, чтобы их тоже выдали за членов семьи. Но я опоздал.
Вечером вернулся папа и те, кто работал с ним. Папа уже что-то знал. Он сразу спросил меня: ”Мама есть? Роза есть?”
В гетто поднялся ужасный плач. Очень много мужчин не нашли больше никого из своих семей. И папа ужасно плакал. Немцы сказали, что будут стрелять, если плач не прекратится.
Убивали всю зиму. Мы с папой остались одни. На случай новой ”сортировки” мы условились, что спрячемся в одном тайнике. Один раз я не успел там спрятаться и просидел целый день в уборной по горло в нечистотах. В уборную приходили, но меня не заметили.
Зимой во дворе при всех повесили женщину по фамилии Гительсон. Ее поймали в городе. Она имела право быть там, но она не надела еврейского знака и шла по тротуару, а не по мостовой, как было приказано евреям. Мы не имели права ступить на тротуар. И еще повесили одну девушку, фамилии которой я не знаю, а звали ее Машей, — она пыталась скрыть, что она еврейка. Вешать заставили одного еврея, фамилии которого я не знаю. Он отказался, его били. В конце концов, немцы сами накинули петлю, а его заставили под прицелом автомата выбить скамейку из-под ног Маши. Несколько немцев снимали это.
Помню еще, как вечером прибежали полицейские и сказали, что у них сломалась машина и что им нужна веревка. Им дали цепь, они сказали, что цепь не годится, тогда все поняли, что веревка им нужна не для машины, и мы сказали, что веревок у нас нет. Они долго ругались, потом уехали. Потом оказалось, что они везли кого-то на расстрел и решили повесить его, но у них не было веревки.
Следующая большая сортировка с убийствами была 1 мая 1942 года. Нас уже оставалось совсем немного, — может быть, тысячи полторы. После 1 мая осталось 375 человек, не считая тех, кто работал на немцев. Люди часто говорили: ”Чем мы лучше наших родителей, наших жен, братьев, сестер и детей? Разве мы можем жить, когда они убиты?” Бежать было некуда, наш город маленький, скрыться нельзя. Где партизаны — мы не знали. Все-таки кое-кто вооружился. Оружие взяли на немецких складах, в крепости, где работало много наших. Я спрашивал папу — не воровство ли это. Но папа сказал, что немцы забрали у нас все, убили наших близких, убивают весь еврейский народ, и, значит, все, что мы можем сделать против немцев, это не преступление, а война. А немцы не солдаты, а преступники.
Молодежь убегала к партизанам. Нам с папой было трудно сделать это. У нас не было оружия, папе трудно было уйти с того места, где погибли мама и Роза, и он боялся за меня. Мне тогда было 13 лет.
23 сентября ночью (даже под утро) вдруг прибежали тайные часовые, которых мы сами выставляли, и закричали: ”Евреи! Кажется, очень плохо! Гестаповцы приехали!”
Оказалось, что гестаповцы уже во дворе. Они могли приехать только для убийства. Я крикнул папе: ”Папочка, я — на старое место!” — то-есть на наше условленное место. И бросился бежать, думая, что отец бежит за мной. Наверное, он и бежал за мной. Но к нашему месту уже нельзя было пройти: дорога была отрезана. Я кинулся под лестницу, потом через окно выскочил на улицу. Было очень темно. Я подождал минуту — отца нет... Началась перестрелка между нашими и гестаповцами. Потом мне рассказали уцелевшие, что в эту ночь, в ожидании смерти, много людей отравилось (они приняли яд), вешались, чтобы не попасть живыми в руки гестапо. Говорят, что Фейгин, у которого немцы застрелили родных, припрятал много веревки и давал каждому, кто хотел повеситься, и даже помогал им повеситься, а под конец повесился сам. Некоторые из спасшихся это сами видели.
В темноте я столкнулся с двумя взрослыми и одним мальчиком моего возраста, которые бежали, как я. Мы пошли по дороге. Взрослые скоро отстали: вчетвером мы слишком рисковали, что нас заметят. До вечера мы с мальчиком (помню только, что он из Креслава и звать его Нося) прошли 25 километров. Я очень стер ноги. При встречах с людьми я кричал: ”Ваня, где папа?” или громко пел русские песни, чтобы нас приняли за местных русских.
Нося очень боялся. Переночевали мы в сгоревшем доме. Утром мы поняли, что в Белоруссию не попадем; я решил идти в Польшу. Нас накормила какая-то женщина, которой я прямо сказал, что мы бежали от немцев. Нося говорил, что надо сдаваться — все равно мы не сможем скрыться, но я его ободрял. По дороге ехал грузовик. Я решил не обращать на него внимания, а Нося остановился. Я ушел вперед и не заметил этого, потому что решил не оглядываться. Я услышал крик по-немецки. Тогда я свернул на тропинку. Скоро меня нагнал велосипедист и сказал мне, что в грузовике сидят гестаповцы и что велели мне идти к ним. Я сказал: ”Не пойду”. Велосипедист сказал: ”Как знаешь. Только за это можешь ответить”. Но сам он поехал дальше, а не к немцам. Я спрятался в кустах. Слышал свистки, слышал, как немцы кого-то спрашивали, не видал ли он мальчика. Носю тогда поймали.
Так я остался совсем один. Когда все затихло, пошел дальше. Решил себя выдавать за вывезенного немцами из центральных областей СССР. Но я еще не успел придумать, что я буду говорить, как меня уже арестовали. Пока меня вели по дороге в штаб, я успел выбросить из кармана маленькую красную звезду — в гетто я ее сберег. На допросе я заявил, что меня зовут Иван Островский, что отец мой татарин, а мать русская. Мне казалось, что надо объяснить, почему у меня густые, черные брови, и я еще прибавил, что моя бабушка цыганка. Я не знал, что немцы истребляют всех цыган. Я знал, что мусульмане подвергают детей обряду обрезания, когда им исполняется 13 лет, то-есть как раз столько, сколько мне было. А я еще сказал, что отец мой умер, когда мне был один год, в оправдание того, что я не понимаю ни слова по-татарски. На мое счастье немцы разбирались в этих делах так же мало, как я. Я придумал, что моя мать была прачкой и работала в ”Коллективе лесного департамента” в Брянске. Все это было первое, что приходило мне в голову. О Брянске я не имел никакого понятия, и, когда меня спросили, где мы с матерью жили, я ответил: ”за городом, в слободе, адреса у нас не было, и писали нам так: ”Брянск, КПД”. Убежать мне не удалось, и утром меня отправили в Двинск. У меня ужасно болели ноги, но с дороги я все-таки попробовал бежать, потому что понимал, что в Двинске меня, конечно, выведут на чистую воду, а то и просто узнают. Но меня поймали, избили и повели дальше.
В двинской полиции меня били и все приставали: ”Скажи правду, что ты еврей, и тебе ничего не будет, а то убьем”. Но я стоял на своем. Тут мне очень повезло. Во-первых, из той деревни, где меня арестовали, так и не прислали моего документа, из которого я вырвал слово ”еврей”, но по которому меня сейчас же узнали бы: ведь там значилась моя настоящая фамилия. Во-вторых, так и не пришел врач, который должен был меня освидетельствовать, чтобы установить — мусульманин я или еврей. Наконец, в сопроводительном документе из деревни было сказано, что в Двинск посылается подозрительный мальчик, выдающий себя за Ивана Островского. И это имя так и осталось за мной.
В полиции меня сильно били. Один раз полицейский дал мне такую пощечину, что я покатился кубарем: я не встал, когда он вошел в камеру. Я уже думал, что погиб, но решил не сдаваться до конца. И вдруг меня отправили в ”Арбейтсамт” (биржа труда). В бумаге было сказано, что ”выдающего себя за Ивана Островского” надо отправить на работы. Очевидно, мне все-таки поверили. ”Арбейтсамт” дал мне путевку в деревню. В ней уже было сказано просто: Иван Островский. В деревне я и провел почти 9 месяцев до прихода Красной Армии. Там я никому не сказал, что я еврей. Только раз со сна я закричал по-еврейски. Хозяин стал меня допрашивать, но я уговорил его, что кричал по-немецки. После этого я очень тревожно спал, боясь, что опять закричу.
Когда я вернулся в Двинск, евреи, которых я встретил и которые спаслись из гетто, рассказали мне, что мой отец еще три недели прятался в городе, пока его не нашли и не убили.
Я не могу сказать точно — сколько нас было в гетто. Всего в Двинске погибло больше 30000 евреев, а в гетто, как мне кажется, было около 20000. Вот фамилии тех, кто выжил: мужчины — два брата Покерман, Мотл Кром с женой и ребенком, портной Антиколь, Ляк с женой и ребенком, Мулер, Галлерман и две женщины: Олим и Зеликман. Всего спаслось 18 человек, но фамилии остальных я не помню.
Я уехал из Двинска и не хотел бы возвращаться туда, потому что мне больно ходить по улицам, по которым ходили мои родные и столько погибших евреев, и проходить мимо нашего сожженного дома. Больше всего я хочу учиться и найти людей, которых бы я полюбил, и они меня тоже, чтобы не чувствовать себя одиноким в мире.
СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ ЕДИНЫ
ПИСЬМО ОФИЦЕРОВ ЛЕВЧЕНКО, БОРИСОВА, ЧЕСНОКОВА (Лопавши, Ровенская область). Подготовил к печати Илья Эренбург.
Мы выбили немцев с господствующей высоты и на плечах противника ворвались в населенный пункт. Немцы в панике бежали.
Радостно встретили нас жители, наперебой рассказывали о зверствах фашистов. К нам подошла гражданка Красова Вера Иосифовна и пригласила к себе. Мы увидели ужасную картину — в комнате сидело шесть человек. Нет, нельзя было в них узнать живых людей. Это были тени.
Вера Иосифовна со слезами стала рассказывать:
— Этих людей я сохраняла от немцев полтора года. Когда пришли немцы, стали делать облавы на евреев, каждый еврей должен был носить на рукаве повязку. Затем сменился комендант и приказал носить повязку больше размером, чтобы можно было различать издали. Следующий комендант сменил нарукавную повязку на широкую ленту на груди.
Вскоре началось массовое уничтожение евреев в городе Дубно. Их согнали на площадь, где творили чудовищные зверства — прогоняли сквозь строй, у стариков вырывали бороду, а затем заставляли танцевать, петь, молиться.
После этого евреев заставляли копать могилы и ложиться в них в несколько рядов и расстреливали, а многих закапывали живыми. Сперва было расстреляно 90 человек. Детей брали за ноги и разбивали головы, топили в ваннах, душили — все это делали немки, которые, как и их мужья-звери, тоже зверели. Затем уничтожение евреев приняло еще более массовый характер...
В местечке Демидувка сделали специальный лагерь, обнесли колючей проволокой и согнали туда до 3700 евреев, где они ежедневно уничтожались. Мне приходилось много раз наблюдать за всем этим. Однажды я встретила знакомого доктора Гринцвейга Абрама Эммануиловича, у которого я когда-то лечилась. Я предложила оказать ему помощь в спасении его жизни. Но он сказал мне, что он не один. И я ночью в повозке перевезла их к себе на хутор, где стала скрывать. Но укрывать было трудно, и я решила сделать подземелье. Целые ночи, тайно от всех, я рыла подземелье, там скрывала всех, вывезенных из лагеря смерти. Об этом никто не знал, кроме моей дочки Ирины. Несколько раз немцы делали облавы и даже обыски, но моей тайны не раскрыли. Мне было очень трудно. Ночами я носила им пищу, пускала свежий воздух в подземелье. Все это было сопряжено с большой опасностью. Но мы с дочкой Ириной тайну хранили. Мы надеялись, что скоро придут наши и что немцу не жить на нашей земле. А жизнь наших советских людей была нам очень дорога. И вот вы пришли. Эти люди впервые за полтора года увидели ”свет божий”.
В комнате сидят шесть человек, — две сестры Горингот, Мария 21 года, Анна 18 лет. Они не похожи на цветущих девушек, худые, черные, едва могут говорить, на их глазах слезы радости. Они все еще не верят в свое спасение. У сестер Горингот нет родителей, их расстреляли немцы.
Сець Михель 20 лет и его сестры, Ита 14 лет, Этл 15 лет и брат Яков 10 лет. Родители их расстреляны немцами. Двадцатилетний Михель похож на старика. Он с трудом произносит слова. Маленький Яков не может ходить, он растерянно смотрит на нас.
Наши сердца после всего этого еще больше переполнились ненавистью к трижды проклятому немцу.
Вера Иосифовна говорит:
— Товарищи! Ведь это не все, кому я сохранила жизнь. Еще четыре человека находятся в подземелье, только в другом.
И хозяйка повела нас. В сенцах мы опустились в узкий колодец, прошли по темному извилистому коридору и при тусклом свете увидели еще четырех человек. Это были: доктор дубенской больницы Гринцвейг Абрам Эммануилович, его отец Эммануил 70 лет и мать Анна Яковлевна и жена дубенского аптекаря Олейник Анна Львовна.
Мы им помогли вылезть из подземелья. Радости ихней не было предела, они наперебой благодарили нас и свою спасительницу.
Тов. Эренбург! Мы решили написать Вам об этом, чтобы Вы о героическом поступке Красовой Веры Иосифовны, жительницы деревни Лопавши, Демидувского района, Ровенской области, и ее 16-летней дочки Иринки написали и чтобы узнала об этом вся наша страна.
С фронтовым приветом: гвардии капитан Левченко, гвардии капитан Борисов, гвардии лейтенант Чесноков...
П/п 39864. 20.3.44.
КРЕСТЬЯНКА ЗИНАИДА БАШТИНИНА (Домбровицы, Ровенская область). Подготовил к печати Илья Эренбург.
Недавно я был послан на выполнение специального задания. В одном из населенных пунктов прифронтовой полосы, где я остановился, хозяйка очень хорошо меня приняла. Она рассказала про все, что пришлось пережить мирным людям за годы немецкой оккупации. Во время нашего разговора в хату вошла девочка. Увидев меня, она убежала. Я удивился, спросил, кто эта девочка? Хозяйка сначала сказала, что это дочь, а потом рассказала ужасную историю, которую я буду помнить до конца моих дней. Это девочка по национальности еврейка. Ее родителей, сестер и братьев немцы расстреляли. Она спаслась чудом. И вот честная русская женщина ее спрятала, хотя немцы за это могли убить ее и всю ее семью. Скромная русская крестьянка спасла девочку, кормила ее, одевала наравне с пятью своими детьми. Эта старушка сделала большое дело. Когда я вернулся в часть, я рассказал командиру и всем боевым товарищам эту историю. Они взволнованно слушали мой рассказ.
Старушку зовут Зинаида Баштинина. Девочку мы забрали к себе в часть, она будет жить у нас. Конечно, хорошо бы ее отправить в тыл, чтобы она училась — ведь ей всего 14 лет. Зовут ее Фейга Фишман. Она жила до войны в селе Домбровицы, Ровенской области. Прошу Вас, опишите подвиг Зинаиды Баштининой. Пусть мир знает, что русский народ никогда не относился враждебно к евреям и что в тяжелые дни русские люди протягивали евреям братскую руку помощи.
9 июня 1944 г. С фронтовым приветом Р.Сельцавский.
КОЛХОЗНИЦА ЮЛИЯ КУХТА СПАСЛА ЕВРЕЙСКИХ ДЕТЕЙ. Сообщение лейтенанта юстиции Майкова. Подготовил к печати Василий Гроссман.
В начале войны хирург Первой Советской больницы в Минске, Сарра Борисовна Трускина, посадив на подводу своих двух сыновей — Марка 7 лет и Алека 11 месяцев вместе с их няней Юлией Кухта, пошла за ними пешком по шоссе Москва-Минск. Во время бомбежки она потеряла подводу из виду. Поток беженцев увлек ее за собой. Она добралась до Чкалова, где и проработала всю войну, оплакивая детей.
Через неделю после освобождения Минска брат ее переслал от Юлии открытку с сообщением, что дети живы. Сейчас мать живет вместе с ними в Минске.
Вот что рассказала об этом старшему лейтенанту юстиции Маякову Юлия Кухта, тридцатилетняя колхозница из деревни Кривое Село, Вешенковического района, Витебской области.
”С 1934 года я жила сперва домработницей, а потом няней в семье Сарры Борисовны Трускиной. При мне родились оба ее мальчика — Марк и Алек. 24 июня 1941 года, когда мы уходили из Минска, я держала детей около себя на подводе и все время старалась не потерять из виду Сарру Борисовну. Но началась бомбежка, мы потеряли друг друга. С нами на подводе ехала еще сестра Сарры Борисовны — Анна Борисовна с мужем и дедушка мальчиков Борис Львович. Отъехав километров 20 от Минска, Фелициан Владиславович, муж Анны Борисовны, сказал, что дальше ехать бессмысленно, и к вечеру мы вернулись в Минск.
Первое время мы жили все вместе у родителей Фелициана Владиславовича. Но когда дедушку и Анну Борисовну немцы загнали в гетто, мать Фелициана Владиславовича, Полина Осиповна, стала настаивать, чтобы я отвезла в гетто и Марка, потому что у него в лице есть еврейские черты.
”Из-за него может погибнуть вся наша семья, отведи его в гетто”, — твердила она мне и однажды сама пошла со мной и Марком и оставила его у дедушки.
Но сдав мальчика, я никак не могла успокоиться. ”Ведь он погибнет”, — думала я. Каждый день я ходила в гетто и украдкой от полицейских, передавала через проволоку продукты. Алека в это время я успела записать на свое имя как своего ребенка и никогда с ним не расставалась. Однажды меня потащили в полицию и стали допытываться, откуда у меня мальчик.
”Ты, наверное, за большие деньги решила спрятать еврейского ребенка”.
Я все отрицала, даже когда меня начали стегать плеткой. ”Мой ребенок — и все”. К счастью, Алек испугался, когда меня начали бить, схватил меня за платье и стал кричать: ”Мама, мама”. Меня отпустили.
Но тогда Полина Осиповна потребовала, чтобы я с мальчиком уехала от них. Я наняла себе комнатку на дальней улице, где меня не знали.
Между тем в гетто стали евреев расстреливать. Меня ужасно мучила мысль о Марике. Я решила: будь что будет, но мальчика надо забрать. И однажды во время свидания с Анной Борисовной, она украдкой от полицейских вывела мне Марка за проволоку.
Полина Осиповна несколько раз через соседей запугивала меня, что я погублю и их и себя. Но я твердо решила лучше погибнуть вместе с детьми, но никуда их не отдавать. Ведь у них, кроме меня, никого больше не было на всем свете. В это время уже ни дедушки, ни Анны Борисовны в гетто не стало, наверное, их расстреляли, как и других.
Вскоре мне удалось вписать в свой паспорт и Марка.
Правда, для этого мне пришлось крестить обоих мальчиков. Сделал это один хороший батюшка в соседней деревне.
С этих пор я уже никуда детей от себя не отпускала. Уходя на работу, я запирала их в комнате, оставляла еду, и Марк, как большой ухаживал за малюткой, он понимал, что от этого зависит их жизнь.
Несколько раз я должна была менять место работы, как только дети возбуждали подозрение. Каждый день я дрожала за их жизнь.
Но я знала, что немцам у нас не жить, ибо рано или поздно придут наши. И я сохранила детей живыми и здоровыми”.
МЕНЯ УДОЧЕРИЛА СЕМЬЯ ЛУКИНСКИХ. Сообщение Полины Аускер-Лукинской Подготовил к печати В. Ильенков.
20 июня 1941 года я выехала из Минска, где училась на втором курсе Медицинского института, в г. Борисов, чтобы повидаться с родителями перед отъездом на работу в пионерский лагерь. Я должна была выехать 23 июня, но отъезд не состоялся: 22 июня я услышала по радио о нападении немцев на нашу Родину.
Немцы пришли в Борисов в первых числах июля. Я не успела эвакуироваться. Напуганная рассказами о зверствах немцев, я никуда не выходила в течение двух недель. Немцы ходили по домам, интересовались национальностью населения и забирали лучшие вещи. 25 июля немцы начали создавать гетто. Еврейское население должно было покинуть свои дома и переселиться на окраину города, на участок, огражденный колючей проволокой и заранее очищенный от русского населения.
Нам было запрещено сношение с внешним миром: на всех улицах и единственных входных воротах немцы повесили вывески: ”Жидоуски равноваход заборонен”. Каждый шаг наш контролировался внешними полицейскими и полицией внутри гетто. Выход из гетто разрешался только по специальным пропускам.
В гетто все население обязано было носить на левой стороне груди и на спине нашивки ярко-желтого цвета. Если нашивка отсутствовала или была закрыта платком, полагался расстрел.
Был издан приказ для русских: ”При встрече с жидом переходить на другую сторону улицы, поклоны запрещаются, обмен вещей также”. За нарушение этого приказа русские подвергались той же участи, что и евреи.
Вот как протекал день... Все работоспособные должны были явиться на особо отведенную площадь в 6 часов утра, затем людей распределяли по партиям и под конвоем отправляли на работу. Уходя на работу, ни один еврей не знал: вернется он в гетто, или нет. Пайком для всех работающих были 150 граммов хлеба. Начался голод. От голода, адской работы и скученности начались инфекционные болезни, многие умирали, лекарств не было.
Немцы приказали населению гетто сдать все теплые вещи: шубы, валенки, джемпера, перчатки, фуфайки и т. д. Затем последовал приказ о сдаче золотых и серебряных вещей. Немцы угрожали расстрелять 500 человек — за несдачу теплых вещей и 1200 за несдачу золотых вещей. После этого приказано было сдать все шелковые вещи: рейтузы, комбинации, трикотаж. Когда все вещи были отобраны, немцы наложили контрибуцию в 300 тысяч рублей.
А затем началось массовое истребление еврейского населения. Все евреи в местечках и деревнях были уничтожены.
21 октября в 6 часов утра гетто в Борисове было окружено полицейскими. Я жила в центре гетто и слышала крики и детский плач вокруг: людей хватали, грузили в машины и увозили ”на работу”, то есть на расстрел. В 4 часа дня 20 октября забрали моего отца, мать и других родственников и тоже увезли. Я слышала, как кричала мать, просила о помощи... Но что я могла сделать? Я с двумя маленькими братьями (5 и 11 лет) скрывалась на чердаке и оттуда видела, как уводили людей на казнь. Немцы расстреливали евреев три дня. Палачи старались обставить это массовое убийство людей так, чтобы оно оставалось в тайне. Хождение по близлежащим улицам было запрещено; на кожевенном заводе, прилегающем непосредственно к гетто, на три дня была прекращена работа. Из гетто уходили машины, нагруженные людьми, а назад возвращались с вещами убитых. Убежать было невозможно — вдоль улиц стояли полицейские и открывали бешеную стрельбу, если кто-нибудь пытался скрыться.
Сидя на чердаке, я слышала пьяные голоса полицейских, которые искали в нашем доме добычу и тут же делили ее. Кричала девушка, которую они истязали за попытку к бегству. Она кричала: ”Я русская!” — но ее убили.
На третий день на чердак, где мы скрывались, ворвались полицейские. Приказав всем лежать с поднятыми вверх руками, они обыскали нас, отняли деньги и ценные вещи, присоединили к партии человек в 60 и повели на расстрел. Больных, которые не могли идти, расстреливали на месте.
Нас привели в Разуваевку, вблизи от аэродрома, в 2-3 километрах от города. Здесь было место казни: земля была свежевскопана, и видны были даже человеческие головы, не засыпанные землей. Нас заставили раздеться, обнаруженные при нас фотографии и документы были изорваны, затем нам раздали лопаты и приказали рыть ямы. Стоило на минуту остановиться, тотчас же полицейский бил прикладом в спину. Я отставала от других, так как должна была вырыть яму не только для себя, но и для моего младшего брата, и меня часто били за то, что я отставала, а немцы, стоявшие недалеко с фотоаппаратами, хохотали.
Когда ямы были готовы, нас расставили лицом к яме, и я поняла, что нас будут расстреливать в спину. Я стояла в самом конце шеренги, ближе всех к группе немцев. Среди них находился один австриец, в части которого я работала как поломойка. Я взглянула на него, и он узнал меня, махнул мне рукой, и я, не обращая внимания на полицейских, побежала к нему. Начальник полиции Ковалевский потребовал, чтобы я назвала свою фамилию, но австриец сказал, что он знает меня как русскую. Он отвел меня в сторону, усадил в машину и повез в Минск. Отъезжая, я услышала стрельбу из пулеметов, — это расстреливали ни в чем неповинных людей. За три дня было убито свыше 10 тысяч евреев.
Километрах в двадцати от Минска меня высадили из машины и сказали: ”Спасайся как можешь”. Я провела ночь под открытым небом, вздрагивая от каждого шороха. ”Куда же идти?” — думала я. Утром я направилась в Минск, где прожила два года, — там были знакомые и родственники. Минск был очень разрушен, особенно в центре. Документов у меня не было никаких, и я отправилась в Минское гетто. Здесь я рассказала о том, что произошло в Борисове. Пробыв один день, я решила двигаться дальше на восток, ближе к фронту, чтобы перебраться на нашу землю.
Всякими способами я в день годовщины Октябрьской революции, 7 ноября, добралась до незнакомого мне города Смоленска. Я стояла на мосту через Днепр, не зная, где приютиться. Был вечер. Оставалось пойти на ночлег в Смоленское гетто, находившееся в Садках. Фронт продвинулся далеко на восток, а двигаться дальше я уже не имела сил. Я решила задержаться пока в Смоленске. В городе очень строго проверяли документы, и мне пришлось искать пристанища в пригороде. Я узнала, что в Серебрянке, в 2 километрах от Смоленска, проживает одна еврейская семья Морозовых, еще не попавших в гетто, и я отправилась к ним. Но у Морозовых пробыла всего одни сутки, так как за ними следил немец-переводчик с льнозавода. Мне порекомендовали обратиться за помощью к русской семье Лукинских. Я рассказала им все о себе, и они оставили меня у себя.
Лукинские рисковали своей жизнью, предоставляя мне приют, но это их не устрашило, и они отнеслись ко мне, как к родной дочери. Нужно было достать мне документы. Лукинские познакомили меня с русскими девушками, и одна из них, Печкурова, согласилась пойти в паспортный стол и получить паспорт для меня на имя своей подруги Ольги Васильевны Храповой. Так началась моя новая жизнь под новым именем и фамилией. Получив документы, я устроилась на работу. Я очень быстро привыкла к своей новой семье, и Лукинские заменили мне расстрелянных немцами родителей.
10 ноября немцы арестовали Морозовых, Лукинские успели скрыть от ареста их детей и переправить в безопасное место. Семья Морозовых была расстреляна немцами. Весной 1942 года Смоленское гетто постигла такая же печальная участь, как и Борисовское: было расстреляно 2000 человек. Немцы пытались обнаружить евреев, скрывшихся под русскими именами, и, если находили таких, то убивали вместе с евреями и русских, которые их укрывали у себя. Мои новые родители Лукинские очень волновались за мою судьбу. То там, то здесь гестапо выхватывало людей и уничтожало.
Я часто падала духом, но второй отец мой — Лукинский Е. П. поддерживал во мне бодрое настроение и веру в то, что придет Красная Армия и спасет нас от фашистской каторги. Мы читали советские листовки, сброшенные самолетами, узнавали, что Красная Армия неудержимо движется на запад. Мы жили надеждой на скорое избавление. Немцы угоняли всю молодежь на рытье окопов или в Германию. Я боялась каждого полицейского, проходившего мимо дома, но, к счастью, очередь не дошла до меня, и нас освободила могучая Красная Армия. Однако самые последние дни немецкой оккупации были особенно тяжкими. Я только что вышла из больницы и сейчас же ушла в лес, так как немцы выгоняли жителей из домов и жгли их.
Нас было немало в лесу, и мы говорили шепотом, чтобы немцы не обнаружили нас. 24 сентября над нашими головами полетели снаряды советской артиллерии, и мы аплодировали им. 25 сентября 1943 года мы увидели в лесу первого разведчика-красноармейца, и я расцеловала его со слезами радости на глазах.
Лукинская Ольга Евгеньевна Аускер Полина Марковна
РУССКИЕ УЧИТЕЛЬНИЦЫ ТОЛЬНЕВА, ТЕРЕХОВА, ТИМОФЕЕВА. Сообщение Анны Ефимовны Ходос. Подготовил к печати Илья Эренбург.
Окончив Смоленское педагогическое училище, я три года работала в Касплянском районе Смоленской области, сначала в еньковской школе, а потом в касплянской. Все свои знания и силы я отдавала детям, и я пользовалась их любовью и уважением родителей.
Когда немцы заняли Смоленскую область, я находилась в с. Касиле, так как не успела эвакуироваться. Когда немцы начали регистрацию еврейского населения, я должна была скрываться. Мне помогали в этом знакомые учительницы и ученики, особенно Тольнева Екатерина Абрамовна и Терехова Анна Евсеевна. В течение четырех месяцев я скиталась с места на место — где день, где ночь. Наконец меня укрыла у себя учительница Тимофеева Александра Степановна, с которой я вместе учительствовала в течение двух лет в еньковской школе. Я поселилась у нее в деревне Бабинцы, в маленьком домике, в котором жила мать Александры Степановны Домна Арсентьевна и замужняя сестра с двумя детьми. Всем им угрожала смертельная опасность, но Тимофеева мужественно помогала мне укрываться от немцев. Они прятали меня от посторонних глаз под подушками, на печке...
Но вот в деревне поселились немцы, и мне нельзя было больше оставаться в Бабинцах. Александра Степановна устроила меня на жительство к тетке своей, Екатерине Ефимовне Ксендзовой, которая жила в соседней деревне вместе с дочерью Ниной, студенткой Смоленского пединститута. Ксендзовы уже скрывали у себя еврейку Сарру Вениаминовну Винц, подругу Нины по институту. Они жили в школе, где Е.Е. Ксендзова давно учительствовала. И вот мы сделали под школой подземный ход и прятались там с Саррой. Шесть месяцев я жила таким образом: то у Тимофеевых, то у Ксендзовых. Иногда мне хотелось умереть, казалось, что положение мое безнадежно. Но мои друзья Тимофеевы и Ксендзовы поддерживали во мне бодрость и желание жить. Они много помогли и местным партизанам. Пожилая Екатерина Ефимовна Ксендзова могла по целым ночам стоять на посту и охранять сон партизана.
8 мая 1942 года я с Саррой ушла в лес к партизанам. Здесь я встретила знакомых людей: секретаря Касплянского райкома ВКП(б) Волкова, который был командиром отряда, и заведующего районным отделом народного образования Гольднева — комиссара отряда. Через некоторое время в отряд пришли Ксендзова и ее дочь. Из партизанского отряда меня отправили в глубокий советский тыл.
Вскоре после того, как немцев выгнали из Смоленской области, я получила возможность обнять прекрасных русских женщин, спасших мне жизнь.
БУХГАЛТЕР ЗИРЧЕНКО. Подготовил к печати Илья Эренбург.
Семь еврейских семейств, проживавших в городе Орджоникидзе. Сталинской области, не успели эвакуироваться. Беженцы ушли в деревню Благодатное Гуляйпольского сельсовета Днепропетровской области.
За укрывательство евреев немцы расстреливали. Об этом знал бухгалтер колхоза, Павел Сергеевич Зирченко. Однако он не выдал евреев немцам. Евреи работали в колхозе и 22 ноября 1943 года вместе со всеми жителями деревни были освобождены Красной Армией.
Так спаслись семьи Трайберг, Нухимович, Бабской, Кусковской, Гонтовой, Переседского, Шабис, а всего тридцать человек.
РАССКАЗ Ф. М. ГОНТОВОЙ. Подготовил к печати Г. Мунблит.
В октябре 1941 года я жила с детьми в Енакиеве. Муж мой был в Красной Армии. Когда немцы стали подходить к нашему городу, я с детьми уехала в Ростовскую область. Там мы прожили до июня 1942 года. Но в июне немцы подошли и сюда, и село, в котором я жила, оказалось в центре военных действий. С несколькими еврейскими семьями я ушла в степь. Нам удалось скрыть, что мы евреи, и на подводах, двигаясь от села к селу, под непрерывной угрозой смерти, мы прожили до осени. К этому времени мы оказались поблизости от села Благодатное, где у одной из наших женщин был знакомый ветфельдшер Г. И. Волкозуб. Он очень приветливо ее встретил и помог нам всем найти жилье и работу. Большую помощь нам оказал бухгалтер колхоза П. С. Зирченко. Мы обо всем ему рассказали, и он, рискуя жизнью, помог нам устроиться.
В Благодатном мы и прожили до того счастливого дня, когда немецкие изверги отступили под ударами Красной Армии.
УЦЕЛЕЛ ОДИН. Рассказ Евсея Ефимовича Гопштейна. Литературная обработка Л. Сейфуллиной.
2 ноября 1941 года в Симферополь ворвались немцы. Все они были свежевыбриты и чисто одеты, будто явились с военного парада, а не из-под Перекопа. Это были немцы для показа, для психического воздействия на советских людей — воинская часть, переброшенная в Крым из немецкого тыла. Наглухо были закрыты все ставни, заперты ворота и двери во дворах и домах. Лишь во второй половине дня тревога заставила некоторых выйти из домов. На углах улиц и на площадях стали появляться небольшие группы горожан. Евсей Ефимович Гопштейн, старожил и уроженец Симферополя, экономист в системе Народного Комиссариата коммунального хозяйства, шестидесятилетний человек, был среди них. Сын Гопштейна — летчик, трижды орденоносец, находился на фронте, а его жена профессор, русская по национальности, проживавшая в Симферополе вместе со своими двумя девочками, еще в августе эвакуировалась из Крыма. Она уговорила выехать вместе с собой и внучками свою свекровь, жену Евсея Ефимовича. Старый Гопштейн остался в Симферополе один, но до прихода немцев не чувствовал себя одиноким. В Симферополе остались его пожилая сестра, химик с высшим образованием, работавшая в одной из городских лабораторий, и многолетние друзья разных национальностей. На улицу Гопштейн вышел, удрученный сознанием, что враг ворвался в цветущий, плодоносный Крым. Он рассказывает:
”День был тогда солнечный, погода была еще не осенняя, просто прохладная. Я прошел по центральным улицам, заглянул на Пушкинскую. Там, около театра в ярко-красной рамке висел первый приказ на трех языках: русском, украинском и немецком. Несколько десятков человек столпилось около приказа, и кто-то зычным голосом читал его вслух. Читал ясно, и если не все, то общий смысл приказа я усвоил. Жуткое, удручающее впечатление. Прежнюю нашу советскую жизнь будто топором обрубили. Население Симферополя многонационально. Люди жили по-братски, дружелюбно. А половина приказа была отведена евреям. Слово ”еврей” в нем не употреблялось. На все лады склонялось слово ”жид”. Сообщалось, что засыпку котлованов, уборку русских и немецких трупов, уборку мусора и всяких нечистот должны производить ”жиды”. Обязанность привлечь еврейское население на эти работы возлагалось на старост, назначенных германским командованием, и частично избранных населением. Я перестал слушать и стал всматриваться в лица толпы. Она была смешанная. Здесь были армяне, татары, евреи и русские. И я не ошибаюсь, я точно помню, — ни на одном лице я не уловил одобрения немецкому приказу. Люди стояли с опущенными головами. Молчаливо слушали и молча разошлись в разные стороны”.
В последующие дни немецкие приказы посыпались на жителей города один за другим:
”1. Евреям и крымчакам явиться на регистрацию. За уклонение — расстрел.
2. Им-же: надеть отличительные повязки и шестиугольные звезды. За уклонение — расстрел.
3. Русским, татарам и другим жителям города явиться на регистрацию. За уклонение — расстрел.
4. С 5-ти часов вечера хождение по городу воспрещается. За нарушение — расстрел”.
Симферополь превратился в сплошной застенок и отвратительную человеческую бойню. 9 декабря 1941 года немцы истребили древнейшее население Крыма — крымчаков. 11, 12, 13 декабря расстреляли всех евреев. Немцы зарегистрировали в Симферополе 14 тысяч евреев, включая в это число тысячи полторы крымчаков. Это не было прежнее, довоенное еврейское население города. Из Симферополя во время войны большая часть евреев эвакуировалась с учреждениями и предприятиями, а кое-кто и одиночным порядком. Но зато здесь осели евреи, бежавшие из Херсона, Днепропетровска. Нахлынуло в Симферополь и население еврейских деревень Фрайдорфского, Лариндорфского районов, а также из Евпатории. Здесь, в гуще большой еврейской общины, люди думали найти свое спасение, а нашли смерть. Крымчаков гитлеровцы уничтожили 9 ноября, а через день в разных местах различными способами стали умерщвлять и евреев. Их смертный стон подряд трое суток стоял и в Симферополе, и в окрестностях. В. Давыдов, русский рабочий Симферопольского механического завода, рассказывает:
— Я жил на Пушкинской улице, дом №78, недалеко от стадиона. Из окна двухэтажного дома мне было видно все. С раннего утра на площадь потянулись тысячи семейств. Улицы Санитарная, Гоголя, Пушкинская и Кооперативная, по которым гнали несчастных, были оцеплены эсэсовцами. Немцы не были уверены, что явились все евреи, поэтому в городе началась облава. Особенно усиленно искали в татарском районе Субри, у консервного завода на улице Карла Маркса. Многие рабочие прятали у себя еврейских детей и больных из больницы. Пойманных немецкие солдаты избивали прикладами ружей, топтали ногами. К вечеру тысячи евреев были пригнаны в район большого городского сада. В саду была яркая иллюминация, играла музыка. Немецкие офицеры и солдаты развлекались. Около десяти часов немцы приступили к чудовищной резне. Стариков выделили в особую группу: их повесили на балконах ближайших улиц — Ленинской, Салгярной, Кировской и Почтового переулка. Остальных — провели в глубокие рвы близ новой бани, где и расстреляли из автоматов. В ту ночь был убит известный всему миру психиатр еврей Балабан и заслуженный артист республики еврей Смоленский. Жители этого района после рассказывали мне, как немцы бросали детей живыми в ямы, как они у девушек отрезали груди.
Тов. Давыдов заканчивает свой рассказ словами: ”В Симферополе ни одного еврея не осталось”. Давыдов ошибся. Один — уцелел. Из четырнадцати тысяч человек — один. Это Евсей Ефимович Гопштейн, слушавший на улице Пушкина первый немецкий приказ. Гопштейн больше не читал немецких приказов. Он решил им не подчиняться. Но укрыться от зловещих слухов, отовсюду доносившихся, было нельзя. Вот пять вариантов этих слухов:
1. Еврейское население в качестве заслона пошлют впереди германской армии, наступающей на Севастополь.
2. Отправят на работу в Бессарабию.
3. Пошлют на сельскохозяйственные работы в колонии Фрайдорфского и Лариндорфского районов, где не засеяны еще озимые поля.
4. Всех евреев вышлют в СССР, за фронтовую полосу. И наконец,
5. всех уничтожат.
Последнему не мог поверить ни один советский человек. Сестра Гопштейна погибла, явившись в указанный для регистрации пункт. Расстреляли и всех его друзей еврейской национальности — от дряхлых стариков до грудных детей включительно. Потом уничтожили русских, состоявших в смешанном браке, и потомство их. Казалось, даже воздух изменился и был насыщен ужасом и кровью. В январе 1942 года начались массовые облавы. Из улицы в улицу, из дома в дом, из квартиры в квартиру немцы ходили с обыском. В начале регистрации многие евреи скрывались у родственников и знакомых. Но в декабре 1941 года все убежища были обнаружены, люди выловлены, как звери, на охоте с облавой. Гопштейн жил 28 лет в одном и том же доме. Во дворе помещалось двадцать квартир. Население их — русские, евреи, татары. Никто из них не выдал Гопштейна. Русская учительница, давний друг семьи Гопштейн, спрятала его у себя в комнате в другом доме. Для него самого и для его покровительницы наступили ЖУТкие дни и ночи. Никто в квартире не знал, что в комнате одинокой русской учительницы скрывается еврей. Уходя, она запирала его на ключ. И ни при каких обстоятельствах Гопштейн не должен был выдавать своего присутствия в запертой комнате, чтобы вместе с собой не погубить свою спасительницу. Однажды в отсутствие хозяйки немцы пробовали открыть комнату. Дверь была массивная, с крепким американским замком. Ударам и толчкам снаружи она не сразу поддалась. Вдруг Гопштейн услышал, что в дверь скребется собака. Он замер внутри комнаты, разговор за дверью подтвердил, что немецкий офицер пришел с овчаркой. От собаки невозможно скрыть, что за дверью притаился человек, но в коридор вбежала своя собака, принадлежавшая кому-то из прежних жильцов дома. Обычно играли с ней дети во дворе. Она сцепилась с овчаркой офицера. Немцы бросились их разнимать. Опасаясь за целость своей собаки, офицер оттащил ее от двери и увел из коридора. Рядом с комнатой, в которой скрывался Гопштейн, немцы устроили столовую для своих зенитчиков. В коридоре постоянно сновали захватчики. Учительнице пришлось перевести своего жильца в кладовую, а через несколько часов обратно — к себе в комнату. На рассвете, услышав, что началась облава, спасительница провела Гопштейна в помещение кладовой, заставленное шкафами, заваленное географическими картами, чемоданами и книгами, заперла дверь, а ключ положила к себе в карман. Но у хозяев дома нашелся второй ключ. Евсей Ефимович стоял в тесном промежутке между двумя шкафами. Когда немцы вошли в кладовую, страха уже не было в душе Гопштейна. ”Я примирился с мыслью, — рассказывает он, — что на этот раз мне не уйти. Нужно было собрать все свои силы, чтобы достойно, без унижения встретить смерть”.
Но в полумраке заваленной вещами кладовой немцы так и не увидели притаившегося человека. Они ушли, забрав ключ с собой, чтобы через некоторое время явиться сюда за книгами. После их ухода учительница сумела выбрать мгновение, чтобы вернуть Гопштейна в свою комнату, уже обысканную. О том, что у нее имеется второй ключ от замка кладовой, чужие в доме не знали.
Гопштейн прожил в своем убежище 23 месяца, до 13 апреля 1944 года. Он боялся сойти с ума. Читал, писал. Все это он должен был делать беззвучно для соседей. Было голодно и холодно — всему населению вообще, a его спасительнице — особенно. Свои скудные запасы она делила на двоих. И было у них всего — пуд муки, пуда полтора картофеля, бутылка постного масла, несколько килограммов крупы и начатая баночка смальца. Эту баночку еще в начале декабря 1941 года принес Гопштейну знакомый русский плотник. Тогда Евсей Ефимович еще выходил на улицу и у Феодоссийского моста он встретил этого знакомого плотника. Разговаривали недолго. Русскому плотнику было известно, как голодно и трудно жить евреям при немцах. Он просто сказал: ”Я вам кое-чем могу помочь. Я зарезал барана и принесу вам немного сала”. Вечером, действительно, принес и мясо и смалец. Самого Гопштейна на старой квартире уже не застал и передал свой посильный дар через других своих знакомых. Этими запасами и жили два человека в продолжение трех месяцев, а затем учительнице пришлось делить с Гопштейном свой скудный паек. Так уцелел в Симферополе один из четырнадцати тысяч евреев.
СВЯЩЕННИК ГЛАГОЛЕВ. Сообщение И. Минкиной-Егорычевой. Подготовила к печати Р. Ковнатор.
18 сентября 1941 года в Киев вступили немецкие полчища. Страшная дата! На следующий день мне пришлось проходить через Крещатик. Эта с детства знакомая мне улица показалась зловеще-чужой. Возле некоторых зданий стояла усиленная немецкая охрана (почтамт и другие места). Я была здесь свидетельницей того, как немец хлестал нагайкой гражданина, осмелившегося приблизиться к охраняющемуся зданию.
29 сентября (т. е. через 9 дней после захвата фашистской ордой Киева) на перекрестках города, на стенах и заборах появился приказ о том, что ”...всі жиди міста Київа мусять зголоситися 29 вересня, з 8 години ранку на Дехтярівській вулиці коло жидівського кладовища”.[49]
Надлежало взять с собой теплую одежду, деньги и ценности. Приказ угрожал расстрелом всякому неявившемуся еврею и каждому нееврею, осмелившемуся укрыть евреев.
Страшная тревога охватила не только евреев, но и всех, кто сохранил хоть какое-то человеческое чувство.
Томимые предчувствием ужасного, люди то впадали в полное отчаяние, то, подобно утопающим, хватались за соломинку — слабую надежду, что еврейское население будет куда-то вывезено за пределы города (в районе места, указанного для явки, есть ж.д. пути и станции).
Мысль о насильственной скорой смерти, о смерти своих родных и близких, а особенно малюток-детей была настолько кошмарна, что каждый старался отогнать ее прочь. Во всех концах города раздавался вопль смертельной тоски. Ужасная ночь сменилась еще более ужасным утром. К месту, указанному приказом, потянулись непрерывным потоком десятки тысяч евреев. В этом людском море были представлены все возрасты: цветущие, здоровые юноши и девушки, полные сил мужчины, сгорбленные старики и матери с детьми, даже грудными.
Здесь были профессора, врачи, адвокаты, служащие, ремесленники, рабочие. Люди стекались с разных концов города. Море голов, десятки тысяч узлов и чемоданов. Улица была оживленной, как никогда, и в то же время холодный ужас смерти давил все...
Утром 29-го мои родные отправились в путь (последний!). Я проводила их несколько кварталов, а затем, по их настоянию, отправилась узнать, подлежу ли явке я с дочерью. Мой муж — русский. Мы условились с родными, что они подождут меня в одном из сквериков вблизи Дорогожицкой улицы.
Я заходила в разные учреждения с целью добиться разрешения себе как жене русского на проживание в Киеве и чтобы узнать, куда же идут евреи. Конечно, никакого ”разрешения” я не получила и ничего не узнала. Немцы всюду с угрожающим мрачным видом говорили: ”Идите к кладбищу”.
Дочь свою Иру 10 лет я отвела к бабушке (матери мужа), туда же отнесла часть своих вещей.
Того же 29-го числа, около 5 часов пополудни, я отправилась к еврейскому кладбищу. В скверике, в условленном месте, я уже никого не нашла: они ушли навсегда. Идти домой мне было нельзя. Я пошла к родным мужа и скрывалась около недели в чуланчике, за дровами.
Очень скоро стало известно, что в Бабьем Яру 29-го и в ближайшие дни зверски погублено более 70 тысяч евреев.[50]
Мои родственники по мужу обратились за советом о помощи к семье священника Алексея Александровича Глаголева. А. А. Глаголев — сын известного профессора-гебраиста Киевской Духовной Академии Александра Александровича Глаголева, бывшего настоятелем церкви Николы Доброго, на Подоле. Профессор Глаголев в свое время выступал на процессе Бейлиса, доказывая, что ритуальных убийств нет, и защищал Бейлиса.
Отец Алексей отправился хлопотать обо мне к профессору Оглоблину, бывшему тогда городским головой.
Оглоблин знал нашу семью. Он, в свою очередь, обратился по этому вопросу к немецкому коменданту. От коменданта Оглоблин вышел очень смущенным и бледным. Оказывается, комендант указал ему на то, что вопрос о евреях подлежит исключительно компетенции немцев и они его разрешают, как им угодно. Положение мое было безвыходным. Прятаться у родных мужа — значило подвергать их угрозе расстрела. Жене о. Алексея Глаголева — Татьяне Павловне Глаголевой — пришла в голову отчаянная мысль: отдать свой паспорт и метрическое свидетельство о крещении мне, Изабелле Наумовне Егорычевой-Минкиной. С этими документами мне посоветовали отправиться в село к знакомым крестьянам.
Т. П. Глаголева, оставаясь сама без документов в столь тревожное время, подвергла себя большой опасности.
Кроме того, на паспорте вместо фотокарточки Т. П. Глаголевой надо было поместить мою фотокарточку. К счастью, такая операция облегчалась тем, что паспорт по краям обгорел и был залит водой при гашении пожара, бывшего в квартире Глаголевых. Печать на нем была неясная и расплывчатая. Операция с заменой фотокарточки удалась. В тот же день к вечеру я, с паспортом и метрикой Т. П. Глаголевой, отправилась в предместье города — Сталинку (Демеевку), а оттуда дальше в с. Злодиевку (ныне Украинка). В селе у знакомых крестьян я и проживала под именем Т. П. Глаголевой 8 месяцев.
Гестаповцы, ходившие по квартирам в поисках добычи, едва не увели с собой Т. П. Глаголеву как подозрительную особу без документов. Еле удалось ее отстоять путем свидетельских показаний.
Как я уже сказала, мое пребывание в с. Злодиевка было недолгим. Местные сельские власти стали поглядывать на меня с некоторым подозрением. Дело в том, что стали появляться партизаны, и поэтому все ”чужие” стали казаться подозрительными. Кончилось тем, что меня вызвали в сельуправу для установления личности. Кое-как выпутавшись из этой беды, я поспешно бежала в Киев. Поздно вечером 29 ноября я пришла к Глаголевым. С тех пор я и, несколько позже, моя 10-летняя дочь Ира поселились в семье священника Глаголева как родственницы. В течение двух лет мы никуда от них не уходили и всюду странствовали вместе с ними.
Мы прятались в квартире Глаголевых и на церковной колокольне. Задача была очень трудная, так как мне приходилось прятаться не только как еврейке, но и как женщине, подлежащей по своему возрасту мобилизации на разные работы, вплоть до отправки в Германию. В городе меня очень многие знали и могли выдать меня, даже не желая этого.
Кроме меня с дочерью, Глаголевы помогли еще нескольким евреям. К числу таких относятся Татьяна Давыдовна Шевелева и ее мать Евгения Акимовна Шевелева. Т. Д. Шевелева, 28-летняя женщина, была женой украинца Д. Л. Пасичного. Они жили в большом доме на ул. Саксаганского, 63.
Ознакомившись с приказом от 28 сентября 1941 года, Д. Л. Пасичный решил, что здесь таится что-то недоброе. Он запер жену и тещу в квартире, а сам отправился ”на разведку”.
Он явился в назначенный для евреев час на Лукьяновку и в своих изысканиях зашел так далеко, что был задержан и чуть сам не погиб вместе с евреями (случаи гибели неевреев с евреями имели место). Едва-едва ему удалось оттуда вырваться. Было совершенно очевидно, что идти на кладбище Т. Д. и Е. А. Шевелевым значило идти на верную гибель. Оставаться в своей квартире было тоже гибелью. Что же делать? Во время странствования по городу Д. Л. Пасичный встретил певицу М. И. Егоричеву, с которой когда-то работал. Она рекомендовала ему обратиться за советом к священнику Глаголеву. О. Алексей перерыл все бумаги своего покойного отца, среди которых были обрывки старых церковных записей. Здесь он нашел несколько бланков давно уже отмененного и потерявшего силу гражданского акта свидетельства о крещении. На одном из этих бланков и была написана метрическая запись о крещении ”Полины Даниловны Шевелевой, родившейся в 1913 г. в православной русской семье”. Гербовую марку для этого свидетельства достал сам Пасичный, отклеив ее от какого-то старого документа. С этим весьма сомнительным для сколько-нибудь компетентных в этом деле лиц, документом Полина Даниловна с матерью были тайком приведены в церковную усадьбу и помещены в маленьком домике по Покровской ул. №6, который находился в ведении церковной общины. Во всех этих делах активную помощь оказывал священнику Глаголеву научный сотрудник Академии наук Александр Григорьевич Горбовский. Он не захотел продолжать свою работу при немцах и ”оформился” как управитель церковных зданий Киево-Подольской Покровской церкви. В своих ”владениях” он укрывал не только евреев, но и многих русских подростков, которым угрожала отправка в Германию. Он ухитрился даже для всех своих ”жильцов” получать хлебные карточки.
В целях укрытия от Германии ряд лиц получил справки о том, что они певчие, пономари, сторожа и т.д. Если бы немцы разобрались, что при столь маленькой и бедной церкви такой огромный штат, авторам этих справок не поздоровилось бы.
Упомянутая мною семья Пасичного укрывалась в церковном домике около 10 месяцев.
Очень много усилий приложила семья Глаголевых для спасения семьи Николая Георгиевича Гермайзе.
Эта семья еврейского происхождения крестилась еще в дореволюционное время. По паспорту все они числились украинцами. Сам Н. Г. Гермайзе был преподавателем математики. Его жена Людмила Борисовна вела домашнее хозяйство. Их приемный сын Юра, чрезвычайно одаренный подвижный 17-летний мальчик, студент пединститута. Если Юра по внешнему виду мог быть принят за украинца, то его родители принадлежали к ярко выраженному семитскому типу. Это их и погубило.
Через несколько дней после событий в Бабьем Яру была объявлена поголовная регистрация всех мужчин. На регистрацию пошел и Юра. При регистрации обратили внимание на его фамилию. Спросили — не из немцев ли он. Ответ мальчика показался неудовлетворительным, и ему предложили позвать отца. Внешность Гермайзе-отца моментально вызвала подозрение, и дело кончилось тем, что отец и сын после страшного избиения были увезены на кладбище. Товарищ Юры, знакомый с Глаголевыми, сообщил Глаголевым обо всем еще тогда, когда Юру услали за отцом. Глаголевы бросились в школу, где преподавал Гермайзе, дабы достать свидетелей о том, что Гермайзе — не еврей. Пока доставали нужные бумаги — трагедия совершилась.
Надо было спасти хотя бы Людмилу Борисовну. Ее документы погибли вместе с мужем и сыном. Несчастная, убитая горем жена и мать (они очень любили своего приемыша) переживала страшные дни. Глаголевы навещали ее все время, хотя до этого они и не были знакомы с семьей Гермайзе. Однажды соседи Людмилы Борисовны принесли страшную весть, что она задержана и увезена в гестапо, как еврейка. Т. П. Глаголева с письмом О. Алексея о том, что Л. Б. Гермайзе не еврейка, поспешила в гестапо, но там ее приняли очень сурово и ни с чем выпроводили. Позднее выяснилось, что Людмилу Борисовну в течение 5 дней морили голодом, а на шестой день, вместе с другими задержанными по городу евреями, собирались увезти в Бабий Яр. Среди задержанных были и дети, которых тщетно пытались укрыть у себя русские родственники и соседи.
Л. Б. Гермайзе оставили в гестапо, а через некоторое время следователь явился к Т. П. Глаголевой допросить — украинка ли Гермайзе. Т. П. Глаголеву заставили расписаться в том, что ее показания верны, и что в случае, если Гермайзе еврейка, Глаголеву расстреляют вместе с Гермайзе. Глаголева заявила, что она давно знает семью Гермайзе, как прихожан церкви, где служил отец ее мужа, и что не может быть даже двух мнений о национальности Гермайзе. После этого Гермайзе отпустили.
Дома Людмилу Борисовну ждал новый удар. Она узнала, что ее старушка-мать, 70 лет, была обнаружена немцами и отправлена в Бабий Яр. Спустя три месяца бедная Людмила Борисовна вновь попала в гестапо, где и погибла.
Осенью 1942 года и зиму 1942/43 г. я с семьей Глаголевых проживала в селах за Днепром: сначала в селе Тарасовичи, а потом в селе Нижняя Дубечня. К этому времени, т.е. с осени 1942 года, за Днепром, особенно в лесных районах, начали усиливаться партизанские выступления. Партизаны появлялись по ночам, а иногда и среди дня. Они расправлялись с угнетателями и их прихвостнями-полицейскими.
Будучи не в состоянии справиться с партизанской вооруженной силой, немцы избрали другой путь борьбы. Они присылали в ”провинившиеся” села свои карательные отряды, которые сжигали села, расстреливали и вешали, сжигали мирных жителей. Цветущие села были превращены в сплошные пепелища. Так были сожжены вблизи Киева Писки, Новая Висань, Новоселица, а позже — Ошитки, Днепровские Новоселки, Жукин, Чернин и др. Эта волна докатывалась и до Нижней Дубечни, где мы жили. Однажды Глаголевых вызвали в сельскую управу для проверки паспортов. Здесь им в грубой форме заявили, что батюшке с матушкой и детьми, а также дьяку жить пока разрешают, а ”якийсь там родичци з дивчиной” (т. е. мне и дочери Ирочке) ”нема чого тут без дила ходити, хай идуть до Киева працювати”.
С большими трудностями я добралась с дочерью в город и опять поместилась на колокольне Покровской церкви. Это было 9 января, а к концу месяца в Киев вернулась вся семья о. Алексея. Он же сам оставался в Н. Дубечне. 31 января в село явился карательный отряд проводить расправу за то, что через Н. Дубечню накануне утром проехал партизанский отряд. Прибывшие гитлеровцы совместно с полицейскими пропьянствовали всю ночь, а на рассвете совершили чудовищное злодеяние. В одной хате заперли они трех мужчин, одну женщину и 5-летнего мальчика, облили постройку керосином и подожгли.
Узнав о случившемся, священник Глаголев поспешил к месту казни, но кроме пожарища и нескольких плачущих людей там никого не было. На следующий день (было воскресенье) он объявил в церкви, что после обычной службы совершит панихиду по невинно-замученным.
Через два дня обгорелые человеческие останки были похоронены о. Алексеем на кладбище. После этого о. Алексею оставаться в селе нельзя было и он возвратился в свою городскую церковь.
Все это время я получала справки, что я работаю в церкви как уборщица и что на моем иждивении находится малолетняя дочь. Для меня получали хлебные карточки. В это время за людьми охотились всякие инспектора, выискивая жертвы для немецкой каторги. К счастью, эти ревизоры никогда не проникали в нашу ”тихую обитель”. Упомянутые справки, а также искусное маневрирование А. Г. Горбовского спасли нас.
Когда осенью 1943 года, в связи с приближением Красной Армии, немцы объявили эвакуацию Подола, мы все твердо решили отсиживаться в квартире о. Алексея.
Через 10 дней после объявления Подола (часть Киева) ”запретной зоной” немецкие жандармы ворвались в помещение и всех нас, полураздетых, выволокли в ближайший скверик, а затем погнали на Лукьяновку, где еще можно было жить. После этого мы три раза меняли свое местопребывание, все не желая уехать из Киева. Последним местом нашего пребывания была церковь в подвале в Покровском женском монастыре (улица Артема). Отсюда жандармы нас погнали в концлагерь на Львовской улице (бывший военкомат). Здесь нас продержали голодных и заставили чистить уборные. После этого, разделив мужчин и женщин, погнали на вокзал. При этом семья о. Алексея оказалась отделенной от нас, и мы потеряли друг друга.
Меня с дочерью и А. Г. Горбовского с матерью с массой другого люда в закрытых вагонах довезли до Казатина и здесь отпустили (это произошло чисто случайно). В Казатине мы дождались прихода Красной Армии, а затем вернулись в Киев.
Здесь мы узнали, что семья о. Алексея в Киеве, но сам он тяжело хворает. За нежелание выехать из Киева его сильно избили немцы. После этого он захворал сотрясением мозга и долго лежал в больнице.
Все мы, спасенные Глаголевым, бесконечно признательны и благодарны ему.
Приход Красной Армии вернул нас к жизни. Трудно было поверить, что мы вновь свободно живем, чувствуем, ходим...
КСЕНДЗ БРОНЮС ПАУКШТИС. Автор Гирш Ошерович. Перевел с еврейского М. А. Шамбадал.
Паукштис, высокий, полный человек лет сорока, пригласил нас в свой кабинет — кабинет древнейшего в Ковно прихода ”Триединства” и рассказал о различных подробностях своей деятельности по вызволению и спасению евреев в дни немецкой оккупации.
Паукштис установил связь с неким монахом Бролюкасом[51]. доставлявшим паспорта для спасения евреев. Нередко Паукштису приходилось выдавать из собственных средств по 500 марок на расходы, связанные с получением подложного паспорта.
Как священник Паукштис сам выписывал метрики для похищенных и спасенных из гетто детей и лично помогал находить места для их устройства. Когда он устраивал четвертую спасенную им еврейскую девочку — Визгардискую, ему сообщили, что им интересуется гестапо...
— Что мне оставалось делать? — говорит Паукштис. — Я сел в поезд и, сообщив по приходу, что еду посетить своих коллег-ксендзов, уехал к крестьянам, у которых я устроил еврейских ”дочурок”. Считая, что я разъезжаю по своим коллегам, гестапо перестало интересоваться мной.
В общей сложности Паукштис выдал сто двадцать метрических свидетельств еврейским детям.
Но не только детям помогал Паукштис. Двадцать пять взрослых скрывалось у него в костеле. Среди спасенных им или тех, которым он помогал спастись, мы встречаем имена доктора Тафта, адвоката Левитана, дочери главы Слободского ешибота Гродзенского, Рашель Розенцвейг, Кисениской, юриста Аврама Голуба с семьей, Капит и других.
Когда кто-нибудь из спасенных им попадался в руки властей, Паукштис искал возможности подкупить гестаповцев и нередко ему это удавалось.
— Вы считаете, — говорит ксендз Паукштис, — что я во многом помог, но я с грустью думаю о том, насколько больше я мог бы сделать, если бы был одарен свыше пониманием конкретных дел.
Паукштис показал нам письмо от еврейской девушки Рашель Розенцвейг, которой он помог спастись и которая сейчас учится в Ковенском университете.
Письмо написано по-литовски. Я переведу несколько начальных строк.
”Дорогой отец! Разрешите мне так называть Вас. Разве Вы не отнеслись ко мне, как отец к дочери? Разве Вы не приютили меня, когда я пришла к Вам после стольких переживаний, такая несчастная. Не спрашивая ни о чем и ничего от меня не требуя, как если бы это было само собой понятно. Вы сказали: ”Здесь, у меня, ты успокоишься, дитя мое, и пробудешь некоторое время...”
Письмо длинное. Оно написано с любовью и уважением, и все его содержание свидетельствует о том, что в жутких условиях гитлеровского произвола в Советской Литве были добрые, честные люди, которые выполняли свой человеческий долг спокойно, как вполне естественное дело.
ЛАГЕРЯ УНИЧТОЖЕНИЯ
В ХОРОЛЬСКОМ ЛАГЕРЕ. Сообщение А. Резниченко. Подготовил к печати Василий Гроссман.
При немцах я, художник Абрам Резниченко, скрывался под именем Аркадий Ильич Резенко, уроженец Кустанайской области, шофер.
В дни отступления — осенью 1941 года — я попал в окружение на левом берегу Днепра.
Раненый, отбившись от своих, я кружил вокруг Пирятина и две недели скитался по лесам, прятался в балках. Войти в город я боялся. Измученный, голодный, обессиленный, вшивый, я, в конце концов, попал в руки немцев. Они заключили меня в Хорольский лагерь.
На небольшом, обнесенном колючей проволокой, участке, томилось шестьдесят тысяч человек. Здесь были люди всех возрастов и профессий, военные и штатские, старики и юноши многих национальностей.
Вся моя сознательная жизнь протекала в советском государстве. Естественно, что мне, советскому гражданину, никогда не приходилось скрывать, что я — еврей.
В первых числах октября 1941 года на виду у многих военнопленных, немецкий солдат нагайкой рассек лицо ни в чем не повинному человеку и крикнул ему, обливавшемуся кровью: ”Ты должен умереть, еврей!” Тогда же всех нас выстроили, этот солдат через переводчика приказал всем евреям выступить вперед.
Тысячи людей стояли молча, никто не двинулся с места.
Переводчик, немец из Поволжья, прошел вдоль шеренги, внимательно вглядываясь в лица.
— Евреи, выходите, — говорил он, — вам ничего не будет.
Несколько человек поверило его словам.
И только они шагнули вперед, как их окружил караул, отвел в сторону за холмы. Скоро мы услышали несколько залпов.
После убийства этих первых жертв перед нами появился гроза Хорола — комендант лагеря.
Комендант обратился к нам с речью:
— Военнопленные, — сказал он, — наконец-то, война закончена. Установлена демаркационная линия — она пролегает по Уральскому хребту... По одну сторону хребта — великая Германия, по другую сторону — великая Япония. Еврейские комиссары, как и следовало ожидать, бежали в Америку. Но мы, немцы, найдем их и в Америке. По воле фюрера, вы, военнопленные, завтра же будете отпущены домой. В первую очередь мы освободим украинцев, потом русских и белорусов.
В Хорольском лагере, устроенном на территории бездействующего кирпичного завода, был всего лишь один полусгнивший, на покосившихся столбах, барак, — единственное место, где можно было хоть как-нибудь спрятаться от осеннего дождя и стужи.
Немногим из нас — шестидесяти тысяч пленников — удавалось туда проникнуть.
Однажды я попал в барак.
Плотно прижавшись друг к другу, стояли обитатели лагеря. Они задыхались от вони и испарений, обливались потом. Уже через минуту я понял — лучше на дождь, лучше одеревенеть под осенним ветром, чем оставаться здесь. Но как вырваться? Крича, я по спинам и плечам соседей стал пробираться к единственному выходу. Меня толкали, отбрасывали в сторону. Со слепой настойчивостью я лез и лез вперед, навстречу тем, кто во что бы то ни стало хотел попасть в барак...
В 5 часов утра нас подымали на завтрак. Тысячи людей тотчас же выстраивались друг другу в затылок. Вонючее жидкое пойло (в сравнении с ним баланда казалась лакомством) выдавали медленно. Многим поэтому приходилось ”завтракать” поздно ночью.
Почти ежедневно, а иногда и по нескольку раз в день, комендант лагеря появлялся у места раздачи пищи. Он пришпоривал лошадь и врывался в очередь. Много людей погибло под копытами его лошади.
Около бочек с горячим пойлом стояли немцы-кашевары, гестаповцы и их верные помощники — фольксдойчи.
— Юде?
— Нет, нет!
— Жид.
И несчастного выталкивали из очереди.
Был такой случай: полуголого, застывшего, грязного, покрытого коростой человека, изобличенного гестаповцами в том, что он еврей, подняли над толпой и, раскачав, головой вниз бросили в куб с горячим пойлом.
Несколько минут его держали за ноги. Потом, когда несчастный затих, кашевары опрокинули куб.
Часто в Хорольский лагерь приводили новые партии пленных евреев. Их приводили под усиленным конвоем, на руках и на спинах у них были нашиты опознавательные знаки — шестиугольные звезды. Евреев гнали по всему лагерю, посылали на самые унизительные работы, а к концу дня, на глазах у всех, уничтожали.
Казни в Хорольском лагере были разнообразны, немцы не ограничивались расстрелами и повешением.
На евреев натравливали овчарок, овчарки гнались за бегущими врассыпную людьми, набрасывались на них, перегрызали им горло и мертвых или умирающих волокли к ногам коменданта...
К молодому врачу-еврею подошел патрульный и с криком ”юде” — выстрелил. Патрульный стрелял в упор. Истекая кровью, врач упал, пуля раздробила ему челюсть. Немцы подняли его, и, держа за руки и ноги, бросили в яму. Яму тут же стали засыпать. Врач все еще дышал, земля над его телом шевелилась.
В лагере началась повальная дизентерия. Ежедневно умирали тысячи.
Счастливейшим среди нас считался тот, у кого сохранился котелок, — его уступали соседу за часть дневного рациона. Люди, не имевшие котелков, подставляли кашевару пилотку или вырванный рукав гимнастерки...
Жители ближайших деревень старались передать пленникам хоть какую-нибудь еду.
Парню из Золотоноши жена принесла однажды мешочек с продуктами. Этот мешочек ей удалось перебросить через проволочное заграждение. Счастливца обступили. Испуганными глазами он глядел на собравшихся.
— Братики, люденьки, вас тысячи, а я один, — шептал он. — И торбинка у меня одна... Разве я накормлю вас?
И он обхватил руками буханку хлеба и прижал ее к себе, как ребенка.
Три с половиной месяца я провел в этом лагере; декабрь уже был на исходе.
Время от времени из того или другого района в Хорольский лагерь прибывали старосты. Они договаривались с администрацией об освобождении своих земляков.
С завистью я приглядывался к тому, как отбирают людей. Я знал: никто за мной не придет. Я присматривался к тому, как держат себя счастливцы. И однажды (вызывали лохвицких) я решил испытать судьбу.
— Кто лохвицкий? — кричал староста. — Лохвицкие, объявляйся!
Какой-то парень откликнулся, еще двое подошли к старосте. И вот я решил оказаться четвертым.
Мне повезло: староста ”узнал” меня, своего ”земляка”...
Так я вышел из Хорольского лагеря.
В Лохвицу мы шли пешком. Стоял морозный декабрь. С незаживающей раной на ноге мне мучительно трудно было передвигаться. И все-таки я шел: я боялся отбиться от ”своих”, лохвицких.
На второй день меня свалила дизентерия.
Один я остался на снегу. Прошло несколько часов. Я встал, поплелся. К вечеру добрался до села и постучал в дверь большой хаты. Это оказалась школа. Здесь меня приютили, позволили переночевать.
Здесь я жил у сторожихи, ел, обогрелся. Однако долго оставаться у нее было невозможно, — я не имел документов, во мне могли признать еврея...
Я решил добраться до родного города, до Кременчуга.
По дороге в Кременчуг я забрел в село Пироги и заночевал у одной селянки. Я заявил, что я военнопленный, отпущенный из лагеря, и она приютила меня.
Утром в хату неожиданно ввалился немец. За мгновение до того, как он переступил через порог, мои новые друзья — хозяйка и ее дети спрятали меня на печи.
Немец чувствовал себя в хате хозяином, сидел за столом распоряжался, ел все, что хозяйка приготовила для себя и своих детей.
Наконец, он удалился, и я продолжал свой путь.
В Кременчуге, куда я, наконец, добрался после долгих мучительных странствий, я попал в городскую больницу: продолжала гноиться раненая нога.
Много горя я видел в кременчугской больнице. Я видел душегубку, увозившую больных и раненых евреев. Я видел смерть доктора Максона, крупного специалиста, всеми уважаемого человека, ласкового, отзывчивого старика. Несмотря на возраст, доктор продолжал работать в больнице. Он оставался на своем посту — в палате, у больничных коек.
И вот однажды в здание больницы пришел патруль.
— Максон — еврей. Давайте нам этого еврея!
Тысячи кременчужан ходатайствовали об освобождении доктора Максона.
Немцы уступили. Восьмидесятилетний старик покинул здание комендатуры, окруженный людьми, ушел домой. На следующее утро немцы ворвались в квартиру Максона, старика бросили в тачку и повезли за город. Там он был расстрелян. Один из больных, сапожник, услыхав о судьбе Максона, попытался бежать.
Сапожника поймали, избили и связанного вернули в больницу. Ночью он бритвой перерезал себе горло.
Утром к койке агонизирующего сапожника подошел гестаповец, гестаповец надел халат и белую врачебную шапочку.
— Бедняга, — сказал он, присев на койку. — До чего тебя довел страх.
Он погладил сапожника и повторил: ”Бедняга, бедненький.”
Внезапно немец вскочил, размахнулся и кулаком ударил лежавшего по лицу.
— У, юде! Юде! Юде!
Сапожник был расстрелян за воротами больницы.
Расстреливал его тот же гестаповец, он даже не...[52]
ЛАГЕРЬ В КЛООГА (Эстония). Подготовил к печати О. Савич.
От редакции
Красная Армия заняла эстонское местечко Клоога настолько стремительной атакой, что костры из трупов расстрелянных немцами евреев еще пылали. Один из костров немцы не успели даже поджечь. Иностранные корреспонденты, находившиеся при наступающих частях, видели эти костры. Их описания и фотографии обошли весь мир.
Стремительность советского наступления застала немцев врасплох, иначе они, разумеется, покончили бы со своими пленниками заранее и постарались бы уничтожить следы расстрела. Но неожиданность спасла жизнь лишь нескольким десяткам заключенных в лагере. Эти счастливцы успели спрятаться, а немцам было уже не до их поисков.
Ниже публикуются рассказы нескольких спасшихся.
* * *
ВАЙНТРАУБ, студент Виленского университета.
Я находился в Виленском гетто. 23 сентября 1943 года нас разбудили и приказали готовиться к эвакуации. В 5 часов утра нас выстроили по 5 человек в ряд и под охраной большого отряда штурмовиков вывели из гетто. Около ограды гетто лицом к стене стояли человек 40-50. Это были отобранные для расстрела. Почему отобрали именно их, не знаю.
Нас повели в район Субоч (четыре километра от гетто). Гетто и весь путь к нему находились под усиленной охраной штурмовиков.
В Субоче нас, мужчин, отделили от женщин и детей. Как мы узнали впоследствии, женщин и детей отправили в Майданек.
”Сортировка” продолжалась до 10 часов утра. Пока длилась эта операция, немцы вызвали Плаевского. Его не было, — он скрывался в гетто. Тогда был вызван Левин, в десятке которого работал Плаевский. Левина, как и Хвойника, Бика и учителя Каплана, увели. Впоследствии мы узнали, что они были расстреляны.
Только в 16 часов нас посадили в вагоны-теплушки. Окна и выходы были огорожены колючей проволокой. Теплушки были заперты, и поезд, охранявшийся штурмовиками, тронулся.
Ехали мы 4 дня и прибыли в лагерь Вайвари. Оттуда нас отправили в Клоога.
Там находились в это время 400 мужчин и 150 женщин.
Нас прежде всего тщательно обыскали и отобрали все, что представляло какую-нибудь ценность. Штурмовик нашел у одного заключенного 20 рублей советскими деньгами и застрелил его на месте.
Нас поместили в разрушенном здании казарм. Спать приходилось на цементном полу. Нас разделили на бригады и отправили на работы. На работе мы находились в подчинении у служащих организации Тодта. В лагере нами командовали штурмовики-эсэсовцы. В обращении и те и другие были одинаковы.
Я принадлежал к группе в 300 мужчин, переносивших 50-килограммовые мешки с цементом от завода к станции (150 метров). За нами, носильщиками, следовали надсмотрщики. Они били толстыми палками по головам тех, кто не проявлял достаточного усердия. В результате мы не ходили, а должны были бегать с таким грузом.
Остальные мужчины работали на цементном заводе, на лесопилке, в шахтах и в мастерских. Женщины работали на каменоломнях. Они перетаскивали огромные камни. Норма для них была 4 тонны в день.
Распорядок дня был такой: вставали в 5 часов утра, пили пустой эрзац-кофе, выходили на ”аппель” (проверку), в 6 часов приступали к работе, от 12 до 12.45 мин. обедали и снова работали до 18 часов, после чего следовал вечерний ”аппель”. Обед состоял только из жидкого супа. Ужина не полагалось.
Во время ”аппелей” мы выстраивались по 100 человек в ряд и должны были ждать, пока надсмотрщик не отправит на работу или вечером — в лагерь. Стоять приходилось иногда часами; тех, кто стоял не навытяжку, наказывали.
Каждая сотня имела своего мучителя. Особенно неистовствовали Штейнбергер, — он бил лопатой и дубинкой по голове, — Карель и Дыбовский. Дыбовский однажды сломал ногу рабочему Леви. Кроме того, в лагере был один обергруппенфюрер, фамилии которого я не знаю, заключенные прозвали его ”Шестиногим”. Его неизменно сопровождал большой волкодав, который вылавливал ”преступников”: тех, кто спрятал хлеб или присел, чтобы отдохнуть. Собака набрасывалась на ”преступника”, рвала на нем одежду, кусала его и порой причиняла ему жестокие раны, а ”Шестиногий” от себя еще давал провинившемуся 25 ударов нагайкой.
Был еще такой надсмотрщик Дауп. Он без всякого повода застрелил Вайнштейна.
Много горя причинили нам поклоны. Было распоряжение: евреи не имеют права кланяться немцам. Однако когда мы не кланялись, нас били за ”невежливость”. А когда кланялись — за ”невыполнение приказа”.
Мы лишились своих имен: каждый получил номер, обозначенный на плече и на колене. В случае какой-либо провинности немец записывал этот номер и во время ”аппеля” вызывал провинившегося для телесного наказания.
Имелась скамейка, изогнутая, длиной в один метр. К ней привязывали провинившегося за руки и за ноги. Один из палачей садился ему на голову, а другой бил. Наказываемый должен был сам считать удары. Если он сбивался со счета, наказание начиналось сначала. Если он терял сознание, его обливали водой и продолжали экзекуцию. Сперва били березовой палкой, потом стали бить удом быка, сквозь который была протянута стальная проволока. Наказание производилось в присутствии всех заключенных.
Были и другие виды наказаний: привязывали к дереву и оставляли под солнцем или на морозе на много часов, лишали пищи и т. д. Работа была тяжелой и условия жизни трудные, а так как, кроме эрзац-кофе, жидкого супа и 340 граммов хлеба с примесью песка, мы ничего не получали, то многие заболевали, опухали, ослабевали и попадали в госпиталь. Количество больных росло с каждым днем. Но от тяжелых больных немцы избавлялись простым способом: их отравляли и затем сжигали. Медицинской помощи никакой не оказывалось.
Старшим ”санитетером” был доктор Водман. Он и решал, кого надо отравить, составлял яд и прописывал дать его больному. Когда он являлся к больным, он кричал: ”Ахтунг” (внимание). Все больные должны были мгновенно уложить руки крестом поверх одеяла. Запоздавших доктор бил палкой.
Втайне мы устраивали вечера. На них выступали артисты Бляхер, Ротштейн, Розенталь, Тумаркин, Фин, Познанский, Мотек, Кренгель и др. Мы устраивали беседы о политическом положении, о положении на фронтах и т. д. Вопреки всем предписаниям, мы ухитрялись раздобывать газеты и обсуждали их. Чтобы найти крупицы правды в немецких газетах, надо было проявить немало сообразительности. Был у нас и партизанский кружок. Втайне, в подвале, мы учились стрелять.
Женщины были отделены от нас. Их положение было еще хуже нашего. Они работали сверх всяких сил, их чаще секли и вообще чаще наказывали. Одна из них попыталась убежать. Сделать это оказалось невозможным: лагерь слишком хорошо охранялся. Ее поймали. Мало того, что ее избили — бедную женщину заставили еще носить на груди большой плакат с надписью: ”Ура! Ура! Я снова здесь!”.
В лагере родилось несколько детей. По приказанию лагерфюрера их бросили в кочегарку.
В августе 1944 года большая часть эстонских лагерей была ликвидирована, в том числе Кивиоли, Эреди, Понар (Понары)[53], Филипоки. Мы узнали об этом из надписей на мешках цемента, привезенных оттуда. Таков был способ переписки заключенных между собой.
Мы знали, что Красная Армия приближается, и ждали ее с затаенным дыханием. 19 сентября утром нас вывели на площадь, где производились ”аппели”. Мужчин построили отдельно от женщин. Вызвали 300 самых здоровых мужчин и объявили, что всех эвакуируют, а мужчины нужны для того, чтобы вывезти дрова. Ввиду приближения Красной Армии и эвакуации других лагерей все это показалось нам правдоподобным. Кроме того, немцы приказали приготовить для всех обед, в том числе и для 300 мужчин, отправляемых на работы.
Но в 13 час. 30 мин. мы услышали выстрелы. Сперва мы подумали, что это эсэсовцы упражняются, как они делали это неоднократно раньше. Вскоре, однако, в лагерь явились 30 вооруженных эсэсовцев и, выбрав 30 человек, вывели их. Когда после этого послышались выстрелы, мы поняли, что все будем убиты. Многие бросились бежать. Я вместе с 20 другими спрятался в подвале. Спустя некоторое время мы услышали, как немцы говорили друг другу: ”Скорее, скорее! Советы близко!”
А через несколько дней мы услышали наверху голоса красноармейцев...
АНОЛИК
Всего в Эстонии было 23 лагеря. В них помещалось около 20000 человек, половина людей была из Литвы. Большинство лагерей находилось на востоке Эстонии. В Вайвари был концентрационный лагерь: туда отправляли всех увезенных из разных гетто, а там их уже распределяли по другим лагерям.
Лагерь в Клоога был окружен колючей проволокой в два ряда. Между рядами лежали большие шары, сплетенные тоже из колючей проволоки. Вдоль ограды стояли высокие башни, оттуда часовые наблюдали за нами днем и ночью.
Всех брили: женщин — наголо, мужчин — полосою в 5 сантиметров спереди.
Больше одной рубашки нам не полагалось. Если находили вторую — секли. А если у кого-нибудь находили хлеб сверх нормы, то наказывали обитателей всей камеры. С 1 апреля мы должны были сдавать верхнюю одежду и работать без пальто. Выстаивать долгие часы на ”аппелях” тоже приходилось без пальто.
В некоторых лагерях было еще хуже. В Пификони лагерь освещался сильными рефлекторами. Там заключенные ютились в бараках, построенных на болоте. Если идти в этот лагерь пешком, приходилось двигаться по колено в воде. Особая форма наказания в этом лагере: надзиратели связывали заключенных и бросали на несколько часов в болото. Несколько человек в Пификони засекли насмерть. А в лагере Вайвари за короткое время из 1000 заключенных умерло 600.
В декабре 1943 года в лагерях вспыхнула эпидемия сыпного тифа. Огромное количество больных умерло. Выздоравливающие уже на 14-й день посылались на работу. Они, разумеется, не выдерживали и падали, тогда их убивали. Тогда же стали сжигать трупы умерших и убитых на больших кострах.
В лагере Кивиоли заключенные работали на сланцевых разработках. В Зрите был лагерь больных. Там находился и я. 1 февраля 1944 года этот лагерь был эвакуирован. Больные должны были пройти пешком 180 км. 23 человека так ослабели, что не могли идти. Сопровождавший нас врач приказал нам бросить этих людей в море. Это было около Еви. Мы наотрез отказались выполнить приказ. Тогда эсэсовцы и сам врач бросили несчастных в море.
В июле 1944 года были истреблены все старики и больные в лагере Кивиоли. Это называлось ”акцией”. Во время этой акции погибли виленские врачи Волковыский и Рудик. В июле же был эвакуирован лагерь Лаэди, причем стариков и больных тоже расстреляли. У остальных отобрали платье и увели их полунагими.
Я попал в Клоога лишь в мае 1944 года, и, таким образом, пробыл там недолго. Когда началось истребление заключенных, я спрятался в бараке и пролежал там под одеялами, не двигаясь, пять дней до прихода Красной Армии.
А. ЕРУШАЛМИ
Как бывший член Юденрата Шавельского (Шауляйского) гетто я могу рассказать следующее. В начале февраля 1944 года через Шавли проехал эшелон с женщинами, детьми и неработоспособными из Эстонии. Все время поездки — 5 дней только до Шавли — их везли в пломбированных и опутанных колючей проволокой вагонах — без еды и без воды. В эшелоне находился 17-летний Бекер. Он болел сыпным тифом и, как только температура спала, его послали на работы за 16 км от лагеря. Он отморозил ноги, простудил почки и стал инвалидом, — поэтому он попал в эшелон. На станции Мешкуйчай, с разрешения конвойного, он вышел из вагона, чтобы налиться. Тем временем эшелон ушел, а на станции его арестовали.
Так как он едва мог ходить, то его отправили в наше гетто и заключили в помещение для арестованных. Комендант нашего гетто оберштурмфюрер Шлеф запросил начальника всех еврейских лагерей Гекке, и тот наложил резолюцию: ”Зондеркоманде”. Это означало, что Бекера надо передать в руки ”Зондеркоманде”, то есть эсэсовцев, занимавшихся истреблением евреев. Юденрат узнал об этом и выхлопотал у Шлефа разрешение отравить Бекера в самом гетто. Шлеф согласился, Бекера перевезли в больницу, где в течение месяца всеми правдами и неправдами выполнение приговора оттягивалось. Тем временем в гетто умер один из его обитателей и был записан в больничную книгу под именем Бекера, а Бекер под именем умершего был отправлен в другой лагерь. Позже мы узнали, что эшелон от которого отстал Бекер, ушел в Майданек.
ВАЦНИК
Я был среди тех 301 человека, которых немцы первыми вывели из лагеря на смерть под предлогом использования их на заготовке дров. Я попал также в число первых 30, отправленных в лес таскать дрова. Мы клали дрова на подводы, подводы уезжали. Когда уехала последняя подвода, нам приказали лечь на землю. Мы пролежали до 16 час. 30 мин. Затем нас повели к бараку. По дороге вооруженные эсэсовцы стояли шпалерами. Нам было приказано идти ”с поникшей головой” и с руками, заложенными назад. Нас остановили у одного барака. Ко мне подошел эсэсовец и велел мне идти вперед в барак. Я понял, что меня ждет смерть и задрожал, переступив порог барака. Немец очень ласково сказал мне: ”Что ты дрожишь, мальчик?” И в ту же секунду выстрелил в меня два раза — в шею и в спину. Одна пуля ранила меня навылет, другая осталась в теле. Но я не потерял сознания. Я упал и притворился мертвым. Я услышал, что немец вышел из барака и хотел подняться. В это время немцы ввели еще двух заключенных. Я снова притворился мертвым. Этих двоих положили на меня и застрелили. Затем приводили все новых, всех клали в одну кучу — и убивали. Ввели ребенка — я услышал, как он закричал: ”Мама”, и в ту же минуту раздался выстрел. Умирающие стонали и хрипели. Наконец, выстрелы прекратились.
Я стал выбираться из-под трупов. Мне это удалось с большим трудом. Пришлось шагать по трупам, чтобы добраться до выхода. Вдруг я увидел, что мой друг Липенгольц еще жив. Я помог ему выбраться. Был еще жив и Янкель Либман. Он просил: ”Помогите мне вытянуть ноги”. Мы тянули его, сколько могли, но у него не было сил, мы оба были ранены, Либман вскоре затих...
Мы почувствовали запах бензина. Бросились к двери, к окнам — забиты! Ударив по окну изо всех сил, я выбил его и выпрыгнул, Липенгольц за мной. Мы упали на траву, вскочили и бросились бежать. Не соображая ничего, мы побежали к кострам, на которых немцы жгли трупы. Нас обстреляли, но мы бежали без оглядки и, к счастью, пули нас не задели. Бежали мы 7 километров и достигли лагеря для русских заключенных. Те нас спрятали в больнице, и там мы дождались Красной Армии.
АНОЛИК Беньямин[54] младший.
Первым мы увидели капитана Красной Армии. Мы попросили разрешения дотронуться до него, так как нам все не верилось, что мы свободны, что перед нами красноармейцы. Капитан обнял нас и поздравил нас с освобождением. А мы, мы плакали, и каждый хотел пощупать звездочку на фуражке капитана.
Мы повели наших освободителей по лагерю. Вот скамейка, на которой нас секли. Окровавленная нагайка из бычьего уда лежит на земле. Вот деревья, к которым нас привязывали. А вот блок, где жили люди. Капитан вынимает платок: пахнет трупным запахом, здесь лежат те, кого немцы не успели отнести на костры и сжечь. Вот лежит трехмесячный ребенок мертвый. Руки его протянуты к мертвой матери. Я смотрю на капитана. Из глаз его текут слезы, и он не скрывает их. У него на груди ордена и нашивки ранений. Это русский человек. Он знает, что такое смерть и горе. Он плачет. Эти слезы для нас дороже всего на свете...
А вот здесь стоял дом в 8 комнат, переполненный заключенными. От него остались два дымохода и груды обгорелых костей. А вот костры. Кругом разбросаны вещи — пальто, юбки. Костров четыре, из них три еще дымятся: трупы горят. Один немцы не успели поджечь. Ряд дров, ряд убитых, ряд дров, ряд убитых...
Мужчины, умирая, закрыли глаза шапками, женщины — руками.
Вот двое лежат обнявшись: это братья. И есть один костер без трупов, только дрова. Этот был приготовлен для нас. Если бы Красная Армия пришла несколькими днями позже, вероятно, и мы, уцелевшие, лежали бы здесь и горели. Нас, чудом уцелевших, 82 человека. А на кострах 2500...
Мы просили капитана: ”Возьмите нас с собой! Возьмите нас в армию! Мы должны отомстить”.
На глазах капитана снова слезы. ”Вы все больны, — говорит он, — погодите. Вам необходимо отдохнуть. Мы отомстим за вас. Мы придем в Берлин и там предъявим немцам счет за вас”.
И все-таки один из нас сразу попадает в армию. Он здоровее других. Это — поэт с именем, которое много говорит каждому еврею: Бейлис. Это однофамилец Бейлиса, которого когда-то царская власть судила по обвинению в ритуальном убийстве и должна была оправдать. Его тоже уговаривают отдохнуть, подождать. Он показывает на звездочку на фуражке капитана и говорит: ”Это мой единственный отдых”. И потом он показывает на запад: ”Это мой единственный путь”. И на красноармейцев: ”Это мои братья”.
ТРЕБЛИНКА[55]. Автор — Василий Гроссман.
I
На востоке от Варшавы, вдоль Западного Буга, тянутся пески и болота, стоят густые сосновые и лиственные леса. Места эти пустынные и унылые, деревни тут редки. И пешеход, и проезжий избегают песчаных, узких проселков, где нога увязает, а колесо уходит по самую ось в глубокий песок.
Здесь на седлецкой железнодорожной ветке расположена маленькая захолустная станция Треблинка, в 60 с лишним километрах от Варшавы, недалеко от станции Малкинья, где пересекаются железные дороги, идущие из Варшавы, Белостока, Седлеца, Ломжи.
Должно быть, многим из тех, кого привезли в 1942 году в Треблинку, приходилось в мирное время проезжать здесь, рассеянным взором следить за скучным пейзажем — сосны, песок, песок и снова сосны, вереск, сухой кустарник, унылые станционные постройки, пересечения железнодорожных путей... и, может быть, скучающий взор пассажира мельком замечал идущую от станции одноколейную ветку, уходящую среди плотно обступивших ее сосен в лес. Эта ветка ведет к песчаному карьеру, где добывался белый песок для промышленного и городского строительства.
Карьер отделен от станции расстоянием в 4 километра, он находится на пустыре, окруженном со всех сторон сосновыми лесами. Почва здесь скупа и неплодородна, и крестьяне не обрабатывают ее. Пустырь так и оставался пустырем. Земля кое-где покрыта мхом, кое-где высятся худые сосенки. Изредка пролетит галка или пестрый хохлатый удод. Этот убогий пустырь был избран и одобрен германским рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером для постройки всемирной плахи; такой не знал род человеческий от времен первобытного варварства до наших жестоких дней.
В Треблинке было два лагеря: трудовой лагерь № 1, где работали заключенные разных национальностей, главным образом поляки, и еврейский лагерь, лагерь №2.
Лагерь №1 — трудовой или штрафной — находился непосредственно возле песчаного карьера, неподалеку от лесной опушки. Это был обычный лагерь, каких гестаповцы построили сотни и тысячи на оккупированных восточных землях. Он возник в 1941 году.
Бережливость, аккуратность, расчетливость, педантичная чистота — все это неплохие черты, присущие многим немцам. Приложенные к сельскому хозяйству и промышленности, они дают свои плоды. Гитлеризм приложил эти черты к преступлению против человечества, и рейхс СС действовало в польском трудовом лагере так, словно речь шла о разведении цветной капусты или картофеля.
Площадь лагеря нарезана ровными прямоугольниками, бараки выстроились под линеечку, дорожки обсажены березками, посыпаны песочком. Были устроены бетонированные бассейны для домашней водоплавающей птицы, бассейны для стирки белья с удобными ступенями, службы для немецкого персонала — образцовая пекарня, парикмахерская, гараж, бензоколонка со стеклянным шаром, склады. Примерно по такому же принципу, с садиками, питьевыми колонками, бетонированными дорогами, был устроен и Люблинский лагерь на Майданеке, по такому же принципу устраивались в Восточной Польше десятки других трудовых лагерей, где гестапо и СС полагали осесть всерьез и надолго.
В устройстве этих лагерей отразились черты немецкой аккуратности, мелочной расчетливости, педантичной тяги к порядку, немецкой любви к расписанию, к схеме, разработанной до малейших деталей и мелочей.
Люди поступали в лагерь на срок, иногда совсем небольшой, 4, 5, 6 месяцев. В него пригоняли поляков, нарушавших законы генерал-губернаторства, причем нарушения были как правило незначительными, ибо за значительные нарушения полагался не лагерь, полагалась немедленная смерть. Донос, оговор, случайное слово, оброненное на улице, недовыполнение поставок, отказ дать немцу подводу либо лошадь, дерзость девушки, отклонившей любовные предложения эсэсовца, даже не саботаж в работе на фабрике, а одно лишь подозрение в возможности саботажа — все это привело сотни и тысячи поляков — рабочих, крестьян, интеллигентов, мужчин и девушек, стариков и подростков, матерей семейств — в штрафной лагерь. Всего через лагерь прошло около пятидесяти тысяч человек. Евреи попадали в лагерь лишь в том случае, если они были выдающимися, знаменитыми мастерами — пекарями, сапожниками, краснодеревщиками, каменщиками, портными. Здесь имелись всевозможные мастерские и среди них — солидная мастерская мебели, снабжавшая креслами, столами, стульями штабы германской армии.
Лагерь №1 существовал с осени 1941 года по 23 июля 1944 года. Он был ликвидирован полностью, когда заключенные слышали уже глухой гул советской артиллерии... 23 июля, ранним утром, вахманы и эсэсовцы, распив для бодрости шнапса, приступили к ликвидации лагеря. К вечеру были убиты все заключенные в лагере, убиты и закопаны в землю. Удалось спастись варшавскому столяру Максу Левиту — раненым пролежал он под трупами своих товарищей до темноты и уполз в лес. Он рассказал, как, лежа в яме, слушал пение команды 30 лагерных мальчиков, перед расстрелом затянувших песню ”Широка страна моя родная”, слышал, как один из мальчиков крикнул: ”Сталин отомстит”; упавший на него в яму после залпа вожак мальчиков, любимец лагеря Лейб, приподнявшись, попросил: ”Пан вахман не трафил, проще пана еще раз, еще раз”[56].
Сейчас можно подробно рассказать о немецком порядке в этом трудовом лагере — десятки свидетелей поляков и полек, бежавших и выпущенных в свое время из лагеря №1, в своих подробных показаниях рассказывают о законах трудового лагеря. Мы знаем о работе в песчаном карьере, о том, как невыполнявших норму бросали с обрыва в котлован, знаем о норме питания: 170—200 граммов хлеба и литр бурды, именуемой супом, знаем о голодных смертях, об опухших, которых на тачках вывозили за проволоку и пристреливали, знаем о диких оргиях, которые устраивали немцы, о том, как они насиловали девушек и тут же пристреливали своих подневольных любовниц, о том, как сбрасывали с шестиметровой вышки людей, как пьяная компания ночью забирала из барака 10—15 заключенных и начинала неторопливо демонстрировать на них методы умерщвления, стреляя обреченным в сердце, затылок, глаз, рот, висок. Мы знаем имена лагерных эсэсовцев, их характеры, особенности, знаем начальника лагеря, голландского немца Ван-Эйпена, ненасытного убийцу и ненасытного развратника, любителя хороших лошадей и быстрой верховой езды, знаем массивного молодого Штумпфе, которого охватывали непроизвольные приступы смеха каждый раз, когда он убивал кого-нибудь из заключенных или когда в его присутствии производилась казнь. Его прозвали ”смеющаяся смерть”. Последним слышал его смех Макс Левит, когда по команде Штумпфе вахманы расстреливали мальчиков. Левит в это время лежал недостреленным на дне ямы.
Знаем одноглазого немца из Одессы, Свидерского, названного ”мастером молотка”. Это он считался непревзойденным специалистом по ”холодному” убийству, и это он в течение нескольких минут убил молотком 15 детей в возрасте от 8 до 13 лет, признанных непригодными для работы. Знаем худого, похожего на цыгана, эсэсовца Прейфи, с кличкой ”Старый”, угрюмого и неразговорчивого. Он рассеивал свою меланхолию тем, что, сидя на лагерной помойке, подстерегал заключенных, приходивших тайком есть картофельные очистки, заставлял их открывать рот и затем стрелял им в открытые рты.
Знаем имена убийц-профессионалов Шварца и Ледеке. Это они развлекались стрельбой по возвращавшимся в сумерках с работы заключенным, убивая по 20, 30, 40 человек ежедневно.
Так жил этот лагерь, подобный уменьшенному Майданеку, и могло показаться, что нет ничего страшней в мире. Но жившие в лагере №1 хорошо знали, что есть нечто ужасней, во стократ страшней, чем их лагерь.
В трех километрах от трудового лагеря немцы в мае 1942 года приступили к строительству еврейского лагеря, лагеря-плахи. Строительство шло быстрыми темпами, на нем работало больше 1000 рабочих. В этом лагере ничто не было приспособлено для жизни, а все было приспособлено для смерти. Существование этого лагеря должно было, по замыслу Гиммлера, находиться в глубочайшей тайне. Стрельба по случайным прохожим открывалась без предупреждения за 1 километр. Самолетам германской авиации запрещалось летать над этим районом. Жертвы, подвозимые эшелонами по специальному ответвлению железнодорожной ветки, до последней минуты не знали о ждущей их судьбе. Охрана, сопровождавшая эшелоны, не допускалась даже за внешнюю ограду лагеря. При подходе вагонов охрану принимали лагерные эсэсовцы. Эшелон, состоявший обычно из 60 вагонов, расчленялся в лесу перед лагерем на 3 части, и паровоз последовательно подавал по 20 вагонов к лагерной платформе. Паровоз толкал вагоны сзади и останавливался у проволоки, — таким образом, ни машинист, ни кочегар не переступали лагерной черты. Когда вагоны разгружались, дежурный унтер-офицер войск СС свистком вызывал ожидавшие в 200 метрах новые 20 вагонов. Когда разгружались полностью все 60 вагонов, комендатура лагеря по телефону вызывала со станции новый эшелон, а разгруженный шел дальше по ветке к карьеру, где вагоны грузились песком и уходили на станции Треблинка, Малкинья уже с новым грузом.
Здесь сказалась выгода положения Треблинки — эшелоны с жертвами шли сюда со всех четырех стран света: с запада и востока, с севера и юга. Эшелоны из польских городов Варшавы, Мендзыжеца, Ченстохова, Седлеца, Радома, из Ломжи, Белостока, Гродно и многих городов Белоруссии; из Германии, Чехословакии, Австрии, Болгарии, из Бессарабии.
Эшелоны шли к Треблинке в течение 13 месяцев, в каждом эшелоне было 60 вагонов, и на каждом вагоне мелом были написаны цифры 150, 180, 200. Эти цифры показывали количество людей, находившихся в вагоне. Железнодорожные служащие и крестьяне тайно вели счет этим эшелонам. Крестьянин деревни Вулька (самый близкий к лагерю населенный пункт) 68-летний Казимир Скаржинский говорил мне, что иногда бывали дни, когда мимо Вульки проходило по одной лишь седлецкой ветке 6 эшелонов, и почти не бывало дня в течение этих 13 месяцев, чтобы не прошел хотя бы один эшелон. А ведь седлецкая ветка была лишь одной из четырех железных дорог, снабжавших Треблинку. Железнодорожный ремонтный рабочий Люциан Цукова, мобилизованный немцами для работы на ветке, ведущей от Треблинки к лагерю №2, говорит, что за время его работы с 15 июня 1942 года по август 1943 года в лагерь по ветке со станции Треблинка ежедневно подходили от одного до трех железнодорожных составов в день. В каждом составе было по 60 вагонов, а в каждом вагоне не менее 150 человек. Таких показаний мы собрали десятки...
Сам лагерь, с внешним обводом, складами для вещей казненных, платформой и прочими подсобными помещениями занимает очень небольшую площадь — 780х600 метров. Если на миг усомниться в судьбе привезенных сюда миллионов и если на миг предположить, что немцы не убивали их тотчас по прибытии, то спрашивается, где же они, эти люди, могущие составить население маленького государства или же большого [столичного европейского города? Так][57] что сохрани хоть на несколько суток жизнь приезжавшие сюда, через 10 дней не уместились бы за проволокой людские потоки, лившиеся со всех концов Европы, из Польши и Белоруссии. Тринадцать месяцев — 396 дней — эшелоны уходили, груженные песком или пустыми, ни один человек из прибывших в лагерь №2 не уехал обратно.
Все, что написано ниже, составлено по рассказам живых свидетелей, по показаниям людей, работавших в Треблинке с первого дня существования лагеря по день 2 августа 1943 года, когда восставшие смертники сожгли лагерь и бежали в лес, по показаниям арестованных вахманов, которые от слова до слова подтвердили и во многом пополнили рассказ свидетелей. Этих людей я видел лично, долго и подробно говорил с ними, их письменные показания лежат передо мной на столе — и все эти многочисленные, из различных источников идущие свидетельства сходятся между собой во всех деталях, начиная от описания повадок комендантской собаки ”Бари” и кончая рассказом о технологии убийства жертв и устройства конвейерной плахи.
Пойдем же по кругам треблинского ада.
Кто были люди, которых везли в эшелонах в Треблинку? К весне 1942 года еврейское население Польши, Германии, западных районов Белоруссии было согнано в гетто. В этих гетто — Варшавском, Радомском, Ченстоховском, Люблинском, Белостокском, Гродненском и многих десятках других, более мелких, были собраны миллионы еврейского населения — рабочих, ремесленников, врачей, профессоров, архитекторов, инженеров, учителей, работников искусств, людей нетрудовых профессий, все с семьями, женами, дочерьми, сыновьями, матерями и отцами.
В одном Варшавском гетто находилось около пятисот тысяч человек. По-видимому, это заключение в гетто явилось первой предварительной частью гитлеровского плана истребления евреев. Лето 1942 года, пора наибольшего военного успеха фашизма, было признано подходящим временем для проведения второй части плана — физического уничтожения. Известно, что Гиммлер приезжал в это время в Варшаву, отдавал соответствующие распоряжения. День и ночь шла подготовка треблинской плахи. В июле первые эшелоны уже шли из Варшавы и Ченстохова в Треблинку. Людей извещали, что их везут на Украину для работы в сельском хозяйстве. Разрешалось брать с собой 20 килограммов багажа и продукты питания. Во многих случаях немцы предлагали своим жертвам покупать железнодорожные билеты до станции ”Обер-Майдан”. Этим условным названием немцы именовали Треблинку. Дело в том, что слух об ужасном месте вскоре прошел по всей Польше и слово Треблинка перестало фигурировать у эсэсовцев при погрузке людей в эшелоны. Однако обращение при погрузке в эшелоны было таким, что не вызывало уже сомнения в судьбе, ждущей пассажиров. В товарный вагон набивалось не менее 150 человек, обычно 180—200. Весь путь, который длился иногда 2-3 дня, заключенным не давали воды. Страдания от жажды были так велики, что люди пили собственную мочу. Охрана требовала за глоток воды сто злотых и, получив деньги, обычно воды не давала. Люди ехали, прижавшись друг к другу, иногда даже стоя, в каждом вагоне умирало к концу путешествия, особенно в душные летние дни, несколько стариков и больных сердечными болезнями. Так как двери до конца путешествия ни разу не раскрывались, то трупы начинали разлагаться, отравляя воздух в вагонах. Едва кто-либо из едущих зажигал в ночное время спичку, охрана [открывала стрельбу по стенам вагона.][58] Парикмахер Абрам Кон рассказывает, что в его вагоне было много раненых и пятеро убитых в результате стрельбы охраны по стенам вагона.
Совершенно иначе прибывали в Треблинку поезда из западно-европейских стран — Франции, Бельгии, Австрии и т.д. Здесь люди ничего не слышали о Треблинке и до последней минуты верили, что их везут на работы, да притом еще немцы всячески расписывали удобства и прелесть новой жизни, ждущей переселенцев. Некоторые эшелоны прибывали с людьми, уверенными, что их вывозят за границу, в нейтральные страны, за большие деньги они приобрели у немецких властей визы на выезд.
Однажды прибыл в Треблинку поезд с гражданами Англии, Канады, Америки, Австралии, застрявшими во время войны в Европе и Польше. После длительных хлопот, сопряженных с дачей больших взяток, они добились выезда в нейтральные страны. Все поезда из европейских стран приходили без охраны, с обычной обслуживающей прислугой, и в составе этих поездов были спальные вагоны и вагоны-рестораны. Пассажиры везли с собой объемистые кофры и чемоданы, большие запасы продуктов. Дети пассажиров выбегали на промежуточных станциях и спрашивали, скоро ли будет Обер-Майдан.
Прибывали изредка эшелоны цыган из Бессарабии и из других районов. Несколько раз прибывали эшелоны молодых поляков — крестьян и рабочих, участвовавших в восстаниях и партизанских отрядах.
Трудно сказать, что страшней: ехать на смерть в ужасных мучениях, зная о ее приближении, либо в полном неведении гибели, выглядывать из окна мягкого вагона в тот момент, когда со станции Треблинка уже звонят в лагерь и сообщают данные о прибывшем поезде и количестве людей, едущих в нем.
Для последнего обмана людей, приехавших из Европы, сам железнодорожный тупик в лагере смерти был оборудован наподобие пассажирской станции. На платформе, у которой разгружались очередные 20 вагонов, стояло вокзальное здание с кассами, камерой хранения багажа, с залом ресторана, повсюду имелись стрелы-указатели: ”Посадка на Белосток”, ”На Барановичи”, ”Посадка на Волковыск” и т. д. К прибытию эшелона в здании вокзала играл оркестр, все музыканты были хорошо одеты. Швейцар в форме железнодорожного служащего отбирал у пассажиров билеты и выпускал их на площадь. Три-четыре тысячи людей, нагруженных мешками и чемоданами, поддерживая стариков и больных, выходили на эту площадь. Матери держали на руках детей, дети постарше жались к родителям, пытливо оглядывая площадь.
Что-то тревожное и страшное было в этой площади, вытоптанной миллионами человеческих ног. Обостренный взор людей быстро ловил тревожащие мелочи — на торопливо подметенной, видимо за несколько минут до выхода партии, земле видны были брошенные предметы — узелок одежды, раскрытые чемоданы, кисти для бритья, эмалированные кастрюли. Как попали они сюда? И почему сразу же за вокзальной платформой оканчивается железнодорожный путь, растет желтая трава и тянется трехметровая проволока? Где же путь на Белосток, на Седлец, Варшаву, Волковыск? И почему так странно усмехаются новые охранники, оглядывая поправляющих галстуки мужчин, аккуратных старушек, мальчиков в матросских курточках, худеньких девушек, умудрившихся сохранить в этом путешествии опрятность одежды, молодых матерей, любовно поправляющих одеяльца на своих младенцах? Все эти вахманы в черных мундирах и эсэсовские унтер-офицеры походили на погонщиков стада при входе в бойню. Для них вновь прибывшая партия не была живыми людьми, и они невольно улыбались, глядя на проявление стыдливости, любви, страха, заботы о близких, о вещах; их смешило, что матери выговаривали детям, отбежавшим на несколько шагов, и одергивали на них курточки, что мужчины вытирали лбы носовыми платками и закуривали сигареты, что девушки поправляли волосы и испуганно поддерживали юбки, когда налетал порыв ветра. Их смешило, что старики старались присесть на чемоданчики, что некоторые держали под мышкой книги, а больные кутали шеи. До 20000 человек проходило ежедневно через Треблинку. Дни, когда из вокзала выходило 6—7 тысяч, считались пустыми днями. Четыре, пять раз на день наполнялась площадь людьми. И все эти тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч людей, все эти юные и старые лица, чернокудрые и золотоволосые красавицы, горбатенькие и сутулые, лысые старики, робкие подростки, — все это сливалось в едином потоке, поглощающем и разум, и прекрасную человеческую науку, и девичью любовь, и детское недоумение, и кашель стариков, и сердце человека.
И вновь прибывшие с дрожью ощущали странность этого сдержанного сытого насмешливого взгляда, взгляда превосходства живого скота над мертвым человеком.
И снова, в эти короткие мгновения, вышедшие на площадь ловили мелочи, непонятные и вселяющие тревогу.
Что это там, за этой огромной шестиметровой стеной, плотно закрытой одеялами и начавшими желтеть сосновыми ветвями? Одеяла тоже внушали тревогу: стеганые, разноцветные, шелковые и крытые ситцами, они напоминали те одеяла, что лежали в постельных принадлежностях приехавших. Как попали они сюда? Кто их привез? И где они, владельцы этих одеял? Почему им не нужны больше одеяла? И кто эти люди с голубыми повязками? Вспоминается все передуманное за последнее время, тревоги, слухи, передаваемые шепотом. Нет, нет, не может быть! И человек отгоняет страшную мысль. Тревога на площади продолжается несколько мгновений, — может быть, две-три минуты, пока все прибывшие успеют выйти на площадь. Этот выход всегда сопряжен с задержкой: в каждой партии имеются калеки, хромые, старики и больные, едва передвигающие ноги. Но вот все на площади. Унтершарфюрер (унтер-офицер войск СС) громко и раздельно предлагает приехавшим оставить вещи на площади и отправиться в баню, имея при себе лишь личные документы, ценности и самые небольшие пакетики с умывальными принадлежностями. У стоящих возникают десятки вопросов — брать ли белье, можно ли развязывать узлы, не перепутаются ли вещи, сложенные на площади, не пропадут ли. Но какая-то странная сила заставляет их молча поспешно шагать, не задавая вопросов, не оглядываясь, к проходу в шестиметровой проволочной стене, замаскированной ветками. Они проходят мимо противотанковых ежей, мимо высокой, в три человеческих роста, колючей проволоки, мимо трехметрового противотанкового рва, снова мимо тонкой, клубками набросанной стальной проволоки, в которой ноги бегущего застревают, как лапы мухи в паутине, и снова мимо многометровой стены колючей проволоки. И страшное чувство, чувство обреченности, охватывает их — ни бежать, ни повернуть обратно, ни драться: с деревянных низеньких и приземистых башен смотрят на них дула крупнокалиберных пулеметов. Звать на помощь? Но ведь кругом эсэсовцы и вахманы с автоматами, ручными гранатами, пистолетами.
А на площади перед вокзалом две сотни рабочих с небесно-голубыми повязками (”группа небесковых”) молча, быстро, умело развязывают узлы, вскрывают корзинки и чемоданы, снимают ремни с портпледов. Идет сортировка и оценка вещей, оставленных только что прибывшей партией. Летят на землю заботливо уложенные штопальные принадлежности, клубки ниток, детские трусики, сорочки, простыни, джемпера, ножички, бритвенные приборы, связки писем, фотографии, наперстки, флаконы духов, зеркала, чепчики, туфли, валенки, сшитые из ватных одеял на случай мороза, дамские туфельки, чулки, кружева, пижамы, пакеты с маслом, кофе, банки какао, молитвенные одежды, подсвечники, книги, сухари, скрипки, детские кубики. Нужно обладать квалификацией, чтобы в считанные минуты рассортировать все эти тысячи предметов, оценить их — одни отобрать для отправки в Германию, другие, второстепенные, старые и штопанные — для сожжения. Горе ошибившемуся рабочему, положившему старый фибровый чемодан в кучу отобранных для отправки в Германию кожаных саквояжей, либо кинувшему в кучу старых штопанных носков пару парижских чулок с фабричной пломбой. Рабочий мог ошибиться только один раз. Два раза ему не дано было ошибаться. 40 эсэсовцев и 60 вахманов работали ”на транспорте”, так называлась в Треблинке первая, только что описанная нами, стадия: прием эшелона, вывод партии на ”вокзал” и на площадь, наблюдение за рабочими, сортирующими и оценивающими вещи. Во время этой работы рабочие часто незаметно для охраны совали в рот куски хлеба, сахара, конфеты, найденные в продуктовых пакетах. Это не разрешалось. Разрешалось после окончания работы мыть руки и лицо одеколоном и духами: воды в Треблинке не хватало и для умывания ею пользовались только немцы и вахманы. И пока люди, все еще живые, готовились к ”бане”, работа над их вещами подходила к концу — ценные вещи уносились на склад, а письма, фотографии новорожденных, братьев, невест, пожелтевшие извещения о свадьбе, все эти тысячи драгоценных предметов, бесконечно дорогих для их владельцев и представляющих лишь хлам для треблинских хозяев, собирались в кучи и уносились к огромным ямам, где на дне лежали сотни тысяч таких же писем, открыток, визитных карточек, фотографий, бумажек с детскими каракулями и первыми неумелыми рисунками цветным карандашом. Площадь кое-как подметалась и была готова к приему новой партии обреченных. Не всегда прием партии проходил, как только что описано. В тех случаях, когда заключенные знали, куда их ведут, вспыхивали бунты. Крестьянин Скаржинский видел, как из двух поездов, выломав двери, вырвались люди и, опрокинув охрану, кинулись к лесу. Все до единого они в обоих случаях были убиты из автоматов. Мужчины несли на руках четырех детей. И дети эти также были убиты. О таких же случаях борьбы с охраной рассказывает крестьянка Марьяна Кобус. Однажды на ее глазах, когда она работала в поле, были убиты 60 человек, прорвавшихся из поезда к лесу.
Но вот партия переходит на новую площадку, уже внутри второй лагерной охраны. На площади огромный барак, вправо еще три барака, два из них отведены под склады одежды, третий — под обувь. Дальше, в западной части, расположены бараки эсэсовцев, бараки вахманов, склады продовольствия, скотный двор, стоят автомашины, легковые и грузовые, броневики. Впечатление такого же обычного лагеря, как лагерь № 1.
В юго-восточном углу лагерного двора огороженное ветвями пространство, впереди него будка с надписью ”Лазарет”. Всех дряхлых, тяжелобольных отделяют от толпы, ожидающей ”бани”, и несут на носилках в ”лазарет”. Из будки навстречу больным выходит ”доктор” в белом фартуке с повязкой Красного Креста на левом рукаве. О том, что происходило в ”лазарете” мы подробно расскажем ниже.
Вторая фаза обработки прибывшей партии характеризуется подавлением воли людей беспрерывными короткими и быстрыми приказами. Эти приказы произносятся тем знаменитым тембром голоса, которым так гордится немецкая армия, тембром, являющимся одним из доказательств принадлежности немцев к расе господ. Буква ”р”, одновременно картавая и твердая, звучит как кнут.
”Ахтунг!” — проносится над толпой, и в свинцовой тишине голос шарфюрера произносит заученные, повторяемые несколько раз на день, много месяцев подряд, слова: ”Мужчины остаются на месте, женщины и дети раздеваются в бараках налево”.
Здесь, по рассказам очевидцев, обычно начинаются страшные сцены. Великое чувство материнской, супружеской, сыновней любви подсказывает людям, что они в последний раз видят друг друга. Рукопожатия, поцелуи, благословения, короткие слова прощания, в которые люди вкладывают всю свою любовь, всю нежность, все отчаяние свое... Эсэсовские психиатры смерти знают, что эти чувства нужно мгновенно затушить, отсечь. Психиатры смерти знают те простые законы, которые в Треблинке скоты применяли к людям. Это один из наиболее ответственных моментов: отделение дочерей от отцов, матерей от сыновей, бабушек от внуков, мужей от жен.
И снова над площадью: ”Ахтунг, Ахтунг!”. Именно в этот момент нужно снова смутить разум людей, запорошить его надеждой, правилами смерти, выдаваемыми за правила жизни.
Тот же голос рубит слово за словом: ”Женщины и дети снимают обувь при входе в барак. Чулки вкладываются в туфли. Детские чулочки вкладываются в сандалии, ботиночки и туфельки детей. Будьте аккуратны”.
И тотчас же снова: ”Направляясь в баню, иметь при себе драгоценности, документы, деньги, полотенце и мыло... Повторяю...”
Внутри женского барака находится парикмахерская — голых женщин стригут под машинку, со старух снимают парики. Странный психологический момент: эта смертная стрижка, по свидетельству парикмахеров, более всего убеждала женщин, что их ведут в баню. Девушки, щупая головы, иногда просили: ”Вот тут неровно, подстригите пожалуйста”. Обычно после стрижки женщины успокаивались, почти каждая выходила из барака, имея при себе кусочек мыла и сложенное полотенце. Некоторые молодые плакали, жалея свои красивые косы. Для чего стригли женщин? Чтобы обмануть их? Нет, эти волосы нужны были на потребу Германии. Это было сырье... Я спрашивал многих людей, что делали немцы с этим ворохом волос, снятых с голов живых покойниц. Все свидетели рассказывают, что огромные груды черных, золотых, белокурых волос, кудрей, кос подвергались дезинфекции, прессовались в мешки и отправлялись в Германию. Все свидетели подтверждали, что волосы отправляют в мешках в германские адреса. Как использовались они? В письменных показаниях Кона утверждается, что потребителем этих волос было военно-морское ведомство — волосы шли для набивки матрасов, технических приспособлений, плетения канатов для подводных лодок. Другие свидетели показывают, что волосы шли для набивки подушек кавалерийских седел.
Мужчины раздевались во дворе. Из первой утренней партии отбирались полтораста-триста человек, обладающих большой физической силой, их использовали для захоронения трупов и убивали обычно на второй день. Раздеваться мужчины должны были очень быстро, но аккуратно, складывая в порядке обувь, носки, белье, пиджаки и брюки. Сортировкой вещей занималась вторая рабочая команда, ”красная” отличавшаяся от работавших ”на транспорте” красной нарукавной повязкой. Вещи, признанные достойными быть отправленными в Германию, поступали тут же на склад. С них тщательно спарывались все металлические и матерчатые знаки. Остальные вещи сжигались или закапывались в ямы. Чувство тревоги росло все время. Обоняние тревожил страшный запах, то и дело перебиваемый запахом хлорной извести. Казалось непонятным огромное количество жирных, назойливых мух. Откуда они здесь, среди сосен и вытоптанной земли? Люди дышали тревожно и шумно, вздрагивая, вглядываясь в каждую ничтожную мелочь, могущую объяснить, подсказать, приподнять завесу тайны над судьбой, ждущей обреченных. И почему там, в южном направлении, так грохочут гигантские экскаваторы?
Начиналась новая процедура. Голых людей подводили к кассе и предлагали сдавать документы и ценности. И вновь страшный гипнотизирующий голос кричал: ”Ахтунг! Ахтунг!”
”За сокрытие ценностей — смерть... Ахтунг!”
В маленькой, сколоченной из досок будке сидел шарфюрер. Возле него стояли эсэсовцы и вахманы. Подле будки стояли деревянные ящики, в которые бросались ценности — один для бумажных денег, другой для монет, третий для ручных часов, для колец, для серег, для брошек с драгоценными камнями, для браслетов.
А документы летели на землю, уже никому не нужные на свете, документы живых мертвецов, которые через час уже будут затрамбованными лежать в яме. Но золото и ценности подвергались тщательной сортировке, десятки ювелиров определяли чистоту металла, ценность камня, чистоту воды бриллиантов.
Здесь, у ”кассы”, наступал перелом — здесь кончалась пытка ложью, державшей людей в гипнозе неведения, в лихорадке, бросавшей их на протяжении нескольких минут от надежды к отчаянию, от видений жизни к видениям смерти. Эта пытка ложью являлась одним из атрибутов конвейерной плахи, она помогала эсэсовцам работать. И когда наступал последний акт ограбления живых мертвецов, немцы резко меняли стиль отношения к своим жертвам. Кольца срывали, ломая пальцы женщинам, вырывали серьги, раздирая мочки ушей.
На последнем этапе конвейерная плаха требовала для быстрого своего функционирования нового принципа, и поэтому слово ”Ахтунг!” сменялось другим, хлопающим шипящим ”Шнеллер! Шнеллер!” — ”Скорей, скорей, скорей!”
Из жестокой практики последних лет известно, что голый человек теряет сразу силу сопротивления, перестает бороться против судьбы, сразу вместе с одеждой теряет и силу жизненного инстинкта, приемлет судьбу, как рок. Непримиримо жаждущие жить становятся пассивными и безразличными. Но для того чтобы застраховать себя, эсэсовцы дополнительно применяли на последнем этапе работы конвейерной плахи метод чудовищного оглушения, ввергали людей в состояние психического, душевного шока.
Как это делалось?
Внезапным и резким применением бессмысленной жестокости. Голые люди, у которых было отнято все, но которые упрямо продолжали оставаться людьми в тысячу крат больше, чем окружавшие их твари в мундирах германской армии, все еще дышали, смотрели, мыслили, их сердца еще бились. Из рук их вышибали куски мыла и полотенца. Их строили рядами по пять человек в ряд.
”Хэндэ хох! Марш! Скорей! Скорей!”
Они вступали на прямую аллею, обсаженную цветами и елками, длиной в сто двадцать метров, шириной в два метра, ведущую к месту казни. По обе стороны этой аллеи протянуты проволоки и плечом к плечу стояли вахманы в черных мундирах и эсэсовцы в серых. Дорога была покрыта белым песком и те, что шли впереди, с поднятыми руками, видели на этом взрыхленном песке свежие отпечатки босых ног: маленьких — женских, совсем маленьких — детских, тяжелых — старческих ступней. Этот зыбкий след на песке — все, что осталось от тысяч людей, которые недавно прошли по этой дороге, прошли так же, как шли сейчас по ней новые четыре тысячи, как пройдут после этих четырех тысяч через два часа еще тысячи, ожидавшие очереди на лесной железнодорожной ветке. Прошли так же, как шли вчера, и десять дней назад, и сто дней назад, как пройдут завтра и через пятьдесят дней, как шли люди все 13 месяцев существования треблинского ада.
Эту аллею немцы называли — ”Дорога без возвращения״.
Кривляющееся человекообразное, фамилия которого Сухомиль, с ужимками кричало, коверкая нарочно немецкие слова:
”Детки, детки, шнеллер, шнеллер, вода в бане уже остывает. Шнеллер, детки, шнеллер!”— и хохотало, приседало, приплясывало.
Люди с поднятыми руками шли молча между двумя шеренгами стражи, под ударами прикладов, резиновых палок. Дети, едва поспевая за взрослыми, бежали. В этом последнем скорбном проходе все свидетели отмечают зверство одного человекообразного существа эсэсовца Цэпфа. Он специализировался по убийствам детей. Обладая огромной силой, это существо внезапно выхватывало из толпы ребенка и либо, взмахнув им, как палицей, било его головой оземь, либо раздирало его пополам.
Путь от ”кассы” до места казни занимал 3-4 минуты. Подхлестываемые ударами, оглушенные криками, люди выходили на третью площадь и на мгновение, пораженные, останавливались.
Перед ними стояло красивое каменное здание, отделенное деревом, построенное, как древний храм. Пять широких бетонированных ступеней вели к низким, но очень широким, массивным, красиво отделанным дверям. У входа росли цветы, стояли вазоны. Кругом же царил хаос — всюду видны были горы свеже-вскопанной земли, огромный экскаватор, скрежеща, выбрасывал своими стальными клещами тонны желтой песчаной почвы, и пыль, поднятая его работой, стояла между землей и солнцем. Грохот колоссальной машины, рывшей с утра до ночи огромные рвы-могилы, смешивался с отчаянным лаем десятков немецких овчарок.
С обеих сторон здания смерти шли узкоколейные линии, по которым люди в широких комбинезонах подкатывали самоопрокидывающиеся вагонетки.
Широкие двери здания смерти медленно распахивались, и два подручных Шмидта, шефа комбината, появлялись у входа. Это были садисты и маньяки: один высокий, лет тридцати, с массивными плечами, со смуглым, смеющимся, радостно возбужденным лицом и черными волосами; другой помоложе, небольшого роста, шатен с бледно-желтыми щеками, точно после усиленного приема акрихина. Имена и фамилии этих предателей человечества, родины и присяги известны.
Высокий держал в руках метровую массивную газовую трубу и нагайку, второй был вооружен саблей.
В это время эсэсовцы спускали натренированных собак, которые кидались в толпу и рвали зубами голые тела обреченных. Эсэсовцы с дикими криками били прикладами, подгоняя замерших, словно в столбняке, женщин.
Внутри самого здания действовали подручные Шмидта, загоняя людей в распахнутые двери газовых камер.
К этой минуте у здания появлялся один из комендантов Треблинки, Курт Франц, ведя на поводу свою собаку Бари. Хозяин специально натренировал ее, — бросаясь на обреченных, вырывать им половые органы. Курт Франц сделал в лагере хорошую карьеру, начав с младшего унтер-офицера войск СС и дойдя до довольно высокого чина унтер-штурмфюрера. Этот 35-летний высокий и худой эсэсовец обладал не только организаторским даром в устройстве конвейерной плахи, он не только обожал свою службу и не мыслил себя вне Треблинки, где все происходило под его неутомимым наблюдением, он был до некоторой степени теоретиком и любил обобщать смысл и значение своей работы.
Потрясают до глубины души, лишают сна и покоя рассказы о том, как живые треблинские мертвецы до последней минуты сохраняли человеческое достоинство. Рассказывают о женщинах, пытавшихся спасти своих сыновей и шедших ради этого на великие безнадежные подвиги, о молодых матерях, прятавших, закапывавших своих грудных детей в кучу одеял и прикрывавших их своим телом. Никто не знает и уже никогда не узнает имен этих матерей. Рассказывали о десятилетних девочках, утешавших своих рыдающих родителей, о мальчике, кричавшем у входа в ”газовню”: ”Русские отомстят, мама, не плачь!” Никто не знает и уж никогда не узнает, как звали этих детей. Рассказывали нам о десятках обреченных людей, вступавших в борьбу против огромной своры вооруженных автоматическим оружием и гранатами эсэсовцев и гибнувших стоя, с грудью, простреленной десятками пуль. Рассказывали нам о молодом мужчине, вонзившем нож в эсэсовца-офицера, о юноше, привезенном из восставшего Варшавского гетто, сумевшем чудом скрыть от немцев гранату; он ее бросил, уже будучи голым, в толпу палачей. Рассказывают о сражении, длившемся всю ночь между восставшей партией обреченных и отрядами вахманов и эсэсовцев. До утра гремели выстрелы, взрывы гранат, и когда взошло солнце, вся площадь была покрыта телами мертвых бойцов и возле каждого лежало его оружие — палица, вырванная из ограды, нож, бритва. Сколько простоит земля, уже никогда никто не узнает имен погибших. Рассказывают о высокой девушке на ”дороге без возвращения”, вырвавшей карабин из рук вахмана и дравшейся против десятков стрелявших в нее эсэсовцев. Два скота были убиты в этой борьбе, у третьего раздроблена рука. Он вернулся в Треблинку одноруким. Страшны были издевательства и казнь, которым подвергли девушку. Имени ее никто не знает.
Гитлеризм отнял у этих людей дом, жизнь, хотел стереть их имена в памяти мира. Но все они: и матери, прикрывающие телом своих детей, и дети, утиравшие слезы на глазах отцов, и те, кто дрались ножами и бросали гранаты, и павшие в ночной бойне, и нагая девушка, сражавшаяся одна против десятков, — все они, ушедшие в небытие, сохранили навечно самое лучшее имя, которого не могла втоптать в землю свора гитлеров-гиммлеров — имя человека. На их памятниках история напишет: ”Здесь спит Человек”.
Жители ближайшей к Треблинке деревни Вулька, рассказывают, что иногда крик убиваемых женщин был так ужасен, что вся деревня, теряя голову, бежала в дальний лес, чтобы не слышать этого пронзительного, просверливающего бревна, небо и землю крика. Потом крик внезапно стихал и вновь столь же внезапно рождался, такой же ужасный, пронзительный, сверлящий кости, череп, душу... Так повторялось по три-четыре раза на день.
Я расспрашивал одного из пойманных палачей об этих криках. Он объяснил, что женщины кричали в ту минуту, когда отпускали собак и всю партию обреченных вгоняли в здание смерти:
”Они видели смерть, кроме того, там было очень тесно, их страшно били и рвали собаки”.
Внезапная тишина наступала, когда закрывались двери камер.
Крик возникал вновь, когда к ”газовне” приводили новую партию. Так повторялось два, три, четыре, иногда пять раз на день.
Ведь треблинская плаха была не простой плахой. Это была конвейерная плаха, организованная по методу потока, заимствованному из современного крупного промышленного производства.
И как подлинный промышленный комбинат Треблинка не возникла сразу в том виде, как мы ее описываем. Она росла, постепенно развивалась, ставила новые цеха. Сперва были построены три газовые камеры небольшого размера. В период строительства этих камер прибыло несколько эшелонов, и так как камеры еще не были готовы, все прибывшие были убиты холодным оружием — топорами, молотками, дубинами. Эсэсовцы не хотели стрельбой расшифровывать перед окрестными жителями работу Треблинки. Первые бетонированные камеры были небольшого размера, 5х5 метров, т. е. площадью в 25 квадратных метров каждая. Высота камеры 190 сантиметров. В каждой камере имелось две двери — в одну впускались живые люди, вторая служила для вытаскивания загазированных трупов. Эта вторая дверь была очень широка, около двух с половиной метров. Камеры были смонтированы вместе на одном фундаменте.
Эти три камеры не удовлетворяли заданной Берлином мощности конвейерной плахи.
Тотчас же приступили к строительству описанного выше здания. Руководители Треблинки гордились тем, что оставляют далеко позади по мощности, пропускной способности и производственной квадратуре камер все гестаповские фабрики смерти: и Майданек, и Собибор, и Бельжец.
700 заключенных в течение 5 недель работали над зданием нового комбината смерти. В разгар работы приехал из Германии мастер со своей бригадой и приступил к монтажу. Новые камеры, общим количеством 10, располагались симметрично по обе стороны широкого бетонированного коридора. В каждой новой камере, как и в трех прежних, имелись две двери — первая со стороны коридора, в нее вводились живые люди; вторая, расположенная параллельно, проделанная в противоположной стороне, служила для вытаскивания загазированных трупов. Эти двери выходили на специальную платформу, их было две, симметрично расположенных по обе стороны здания. К платформе подходили линии узкоколеек. Таким образом трупы вываливались на платформы и оттуда сразу же грузились в вагонетки, отвозились к огромным рвам-могилам; их день и ночь копали колоссы-экскаваторы. Пол в камерах был устроен с большим наклоном от коридора к платформам, и это значительно убыстряло работу по разгрузке камер.
(В старых камерах трупы разгружались кустарно: их носили на носилках и волокли на ремнях.) Площадь каждой камеры была 7x8 метров, т. е. 56 квадратных метров. Общая площадь новых десяти камер составляла 560 квадратных метров, а считая и площадь трех старых камер, которые продолжали работать при поступлении небольших партий, всего Треблинка располагала смертной промышленной площадью в 635 квадратных метров. В одну камеру загружались одновременно 400-600 человек. Таким образом, при полной загрузке 10 камер в один прием уничтожалось в среднем 4000-6000 человек.
Умерщвление длилось в камере от 10 до 25 минут. В первое время, когда были пущены новые камеры и палачи не могли сразу наладить газовый режим и производили опыты по дозировкам различных отравляющих веществ, жертвы подвергались страшным мучениям, продолжавшимся два и три часа. В самые первые дни скверно работали нагнетательные и отсасывающие устройства, и тогда муки несчастных затягивались на 8 и 10 часов. Для умерщвления применялись различные способы. Нагнетали отработанные газы от мотора тяжелого танка, служившего двигателем треблинской станции. Этот отработанный газ содержит в себе 2-3% окиси углерода, обладающей свойством связывать гемоглобин крови в стойкое соединение, так называемый карбоксигемоглобин. Этот карбоксигемоглобин во много раз устойчивей соединения (оксигемоглобин), образуемого при соприкосновении в альвеолах легких крови с кислородом воздуха.
В течение 15 минут гемоглобин человеческой крови плотно связывается с окисью углерода, и человек дышит ”впустую” — кислород перестает поступать в его организм, появляются признаки кислородного голодания: сердце работает с бешеной силой, гонит кровь в легкие, но отравленная окисью углерода кровь бессильна захватить кислород из воздуха. Дыхание становится хриплым, появляются явления мучительного удушья, сознание меркнет и человек погибает так же, как гибнет удавленный.
Вторым, принятым в Треблинке способом, получившим наибольшее распространение, было откачивание с помощью специальных насосов воздуха из камер. Смерть при этом наступала примерно от таких же причин, как и при отравлении окисью углерода: у человека отнимали кислород. И, наконец, третий способ, менее принятый, но все же применявшийся — убийство паром; и этот способ также основывался на лишении организма кислорода: пар вытеснял из камер воздух. Применялись различные отравляющие вещества, но это было экспериментирование: промышленными способами массового убийства были названные нами первые два способа.
Найдем ли мы в себе силу задуматься над тем, что чувствовали, что испытывали в последние минуты люди, находившиеся в этих камерах? Известно, что они молчали... В страшной тесноте, от которой ломались кости и сдавленная грудная клетка не могла дышать, стояли они один к одному, облитые последним липким смертным потом, стояли, как один человек. Кто-то, может быть мудрый старик, с усилием произносит: ”Утешьтесь, это конец”. Кто-то кричит страшное слово проклятия... И неужели не сбудется это святое проклятие!.. Мать со сверхчеловеческим усилием пытается расширить место для своего дитяти — пусть его смертное дыхание будет хоть на одну миллионную облегчено последней материнской заботой. Девушка костенеющим языком спрашивает: ׳׳Но почему меня душат? Почему я не могу любить и иметь детей?” А голова кружится, удушье сжимает горло. Какие картины мелькают в стеклянных умирающих глазах? Сознание меркнет, и приходит минута страшной последней муки... Нет, нельзя себе представить того, что происходит в камере... Мертвые тела стоят, постепенно холодея. Дольше всех, показывают свидетели, сохраняли дыхание дети.
Через 20-25 минут подручные Шмидта заглядывали в глазки. Наступала пора открывать двери камер, ведущие на платформы. Заключенные в комбинезонах, под шумные понукания эсэсовцев, приступали к разгрузке. Так как пол был покатым в сторону платформы, многие тела вываливались сами. Люди, работавшие на разгрузке камер, рассказывали мне, что лица покойников были очень желты и что примерно у 70% убитых из носа и изо рта вытекало немного крови. Физиологи могут объяснить это. Эсэсовцы, переговариваясь, осматривали трупы. Если кто-нибудь оставался жив, стонал или шевелился, его достреливали из пистолета. Затем команды, вооруженные зубоврачебными щипцами, вырывали у лежащих в ожидании погрузки убитых платиновые и золотые зубы. Зубы эти сортировались согласно их ценности, упаковывались в ящики и отправлялись в Германию. Если бы хоть чем-нибудь для эсэсовцев было выгодно или удобно вырывать зубы у живых людей, они, конечно, не задумываясь, делали бы это так же, как они снимали волосы с живых женщин. Но, по-видимому, вырывать зубы у мертвых было удобней и легче.
Трупы грузились на вагонетки и подвозились к огромным рвам-могилам. Там их укладывали рядами, плотно, один к одному. Ров оставался незасыпанным, ждал. А в это время, когда лишь приступали к разгрузке газовни, шарфюрер, работавший ”на транспорте”, получал по телефону короткий приказ. Шарфюрер подавал свисток, сигнал машинисту, и новые двадцать вагонов медленно подкатывали к платформе, на которой стоял макет вокзала станции ”Обер-Майдан”. Новые 3-4 тысячи человек, неся чемоданы, узлы, пакеты с едой, выходили на вокзальную площадь. Матери несли детей на руках, дети постарше жались к родителям, внимательно оглядывались. Что-то тревожное и страшное было в этой площади, вытоптанной миллионами ног. И почему сразу же за вокзальной платформой кончается железнодорожный путь, растет желтая трава и тянется трехметровая проволока...
Прием новой партии происходил по строгому расчету, таким образом, чтобы обреченные вступали на ”дорогу без возвращения” как раз в тот момент, когда последние трупы из газовен вывозились ко рвам. Ров стоял незасыпанным, ждал.
И вот спустя некоторое время снова раздавался свисток шарфюрера и снова 20 вагонов выезжали из леса и медленно подкатывали к платформе. Новые тысячи людей, неся чемоданы, узлы, пакеты с едой, выходили на площадь, оглядывались. Что-то тревожное, страшное было в этой площади, вытоптанной миллионами ног...
А комендант лагеря, сидя в диспетчерской, обложенный бумагами и схемами, звонил по телефону на станцию Треблинка и с запасных путей скрежеща, громыхая, двигался шестидесятивагонный эшелон, окруженный эсэсовской охраной, вооруженной ручными пулеметами и автоматами, и уползал по узкой, меж двумя рядами сосен идущей колее.
Огромные экскаваторы работали, урчали, рыли день и ночь новые огромные, на сотни метров длины и темной, многометровой глубины рвы. И рвы стояли незасыпанные. Ждали. Недолго ждали.
II
В конце зимы 1943 года в Треблинку приехал Гиммлер, сопровождаемый группой крупных чиновников гестапо. Группа Гиммлера прилетела в район лагеря на самолете, а затем на двух легковых машинах въехала в главные ворота. Большинство приехавших носило форму, но некоторые, возможно, эксперты, были гражданскими лицами — в шубах и шляпах. Гиммлер лично осмотрел лагерь, и один из видевших его рассказывал нам, как министр смерти подошел к огромному рву и долго молча смотрел. Сопровождавшие его лица стояли в некотором отдалении и ожидали, пока Генрих Гиммлер созерцал колоссальную могилу, уже наполовину заполненную трупами.
Треблинка была самой крупной фабрикой в концерне Гиммлера. В тот же день самолет рейхсфюрера СС улетел. Покидая Треблинку, Гиммлер отдал приказ командованию лагеря, смутивший всех — и гауптштурмфюрера барона фон Пфейна, и заместителя его Короля, и капитана Франца: немедленно приступить к сожжению захороненных трупов и сжечь их все до единого, пепел и шлак вывозить из лагеря, рассеивать по полям и дорогам. В земле находились уже миллионы трупов, задача эта казалась необычайно сложной и тяжелой. Кроме того, было приказано вновь загазированных не закапывать, а тут же сжигать.
В начале дело с сожжением трупов совершенно не ладилось — трупы не хотели гореть; правда, было замечено, что женские тепа горят лучше, ими и пытались разжигать трупы мужчин. Тратились большие количества бензина и масла для разжигания трупов, но это стоило дорого, и эффект получался ничтожный. Казалось, дело это находится в тупике. Но нашелся выход. Из Германии приехал эсэсовец, плотный мужчина под пятьдесят лет, специалист и мастер.
Под его руководством приступили к постройке печей. Это были особого типа печи-костры, ибо ни люблинский, ни любой крупнейший крематорий мира не был бы в состоянии сжечь за такой короткий срок такое гигантское количество тел.
Экскаватор выкопал ров-котлован длиной в 250-300 метров, шириной в 20-25 метров, глубиной в 5 метров. На дне рва по всему его протяжению были установлены в три ряда на равных расстояниях друг от друга железобетонные столбы, высотой каждый над уровнем дна в 100-120 сантиметров. Столбы эти служили основанием для стальных балок, проложенных вдоль всего рва. На эти балки поперек были проложены рельсы, на расстоянии 6-7 сантиметров одна от другой. Таким образом, были устроены гигантские колосники циклопической печи. Была проложена новая узкоколейная дорога, ведущая от рвов-могил ко рву-печи. Вскоре построили вторую и третью печь таких же размеров. На каждую печь-решетку нагружалось одновременно 3500-4000 трупов.
Был доставлен второй ”Багер” — колосс-экскаватор, а за ним вскоре третий. Работа шла день и ночь. Люди, участвовавшие в работе по сожжению трупов, рассказывают, что печи эти напоминали гигантские вулканы, страшный жар жег лица работавших, пламя извергалось на высоту 8—10 метров, столбы черного густого и жирного дыма достигали неба и тяжелым, неподвижным покрывалом стояли в воздухе. Жители окрестных деревень видели это пламя по ночам за 30—40 километров, оно поднималось выше сосновых лесов, окружавших лагерь. Запах горелого человеческого мяса заполнял всю округу. Когда ветер дул в сторону польского лагеря, расположенного в трех километрах, люди задыхались там от страшного зловония. На этой работе по сожжению трупов было занято свыше 800 заключенных — численный состав, превышающий количество рабочих, занятых в доменном или мартеновском цеху любого металлургического гиганта. Этот чудовищный цех работал день и ночь в течение 8 месяцев беспрерывно и не мог справиться с миллионами закопанных человеческих тел. Правда, все время прибывали новые партии для газирования, и это тоже загружало цех.
Прибывали эшелоны из Болгарии; эсэсовцы и вахманы радовались их прибытию: обманутые и немцами, и тогдашним болгарским фашистским правительством, люди, не ведавшие своей судьбы, привозили большое количество ценных вещей, много вкусных продуктов, белый хлеб. Затем стали прибывать эшелоны из Гродно и Белостока, потом эшелоны из восставшего Варшавского гетто, прибыли эшелоны польских повстанцев — крестьян, рабочих; солдат. Прибыла партия цыган из Бессарабии, человек 200 мужчин и 800 женщин и детей. Цыгане пришли пешком, за ними тянулись конные обозы; их также обманули, и пришла эта тысяча человек под конвоем всего лишь двух стражников, да и сами стражники не имели понятия, что пригнали людей на смерть. Рассказывают, что цыганки всплескивали руками от восхищения, видя красивое здание газовни, до последней минуты не догадываясь об ожидавшей их судьбе. Это особенно потешало немцев. Жестоко издевались эсэсовцы над прибывшими из восставшего Варшавского гетто. Из партии выделяли женщин с детьми и вели их не к газовым камерам, а к местам сожжения трупов. Обезумевших от ужаса матерей заставляли водить своих детей среди раскаленных колосников, на которых в пламени и дыму корежились тысячи мертвых тел, где трупы, словно ожив, метались и корчились, где у беременных покойниц лопались от жары животы и мертворожденные дети горели на раскрытом чреве матери.
Зрелище это могло помрачить рассудок любого, самого закаленного человека, но немцы правильно рассчитывали, что стократ сильней это будет действовать на матерей, пытавшихся закрыть ладонями глаза своим детям, кидавшимся к ним с безумными криками: ”Мама, что с нами будет, нас сожгут?”
”Лазарет” тоже переоборудовали по-новому. Был вырыт круглый котлован, на дне его устроены колосники, на которых горели трупы. Вокруг котлована, как вокруг спортивного стадиона, стояли низенькие скамеечки, так близко к краю, что садившийся на скамеечку находился над самой ямой. Больных и дряхлых стариков приносили в ”лазарет”, и затем ”санитары” усаживали их на скамеечку, лицом к костру из человеческих тел. Потешившись зрелищем, каннибалы стреляли в седые затылки и в согбенные спины сидевших: убитые и раненые падали в костер.
Может ли кто-нибудь из живущих на земле людей, представить себе, что такое эсэсовский юмор в Треблинке, эсэсовские развлечения, эсэсовские шутки?
Эсэсовцы устраивали футбольные состязания смертников, заставляли их играть в ”ловитки”, организовали хор обреченных. Вблизи общежития немцев был устроен зверинец и в клетках сидели лесные безобиднейшие звери — волки, лисы, а самые страшные свиноподобные хищники, которых носила земля, ходили на свободе, сидели на березовых скамеечках и слушали музыку. Для обреченных был даже написан специальный гимн ״Треблинка” и там имелись такие слова:
Für uns giebt heute nur Treblinka, Das unser Schicksal ist...[59]Окровавленных людей за несколько минут до смерти заставляли хором разучивать идиотские немецкие сентиментальные песенки:
...Ich brach das Blümlein Und schenkte es dem Schönsten, Geliebten Mädlein...[60]Главный комендант лагеря отобрал в одной партии несколько детей, убил их родителей, одел детей в лучшее платье, закармливал их сластями, играл с ними, а затем, спустя несколько дней, когда эта забава надоела ему, приказал детей убить.
Возле уборной немцы поставили старика в молитвенных одеяниях, ему приказали следить, чтобы заходившие в уборную оправлялись не больше трех минут. На грудь ему повесили будильник. Немцы с хохотом рассматривали его одежду. Иногда немцы заставляли стариков-евреев производить богослужение, устраивать похороны отдельным убитым с соблюдением всех религиозных обрядов, устанавливать надгробия, а спустя некоторое время разрывали эти могилы, выбрасывали трупы, разбирали надгробия.
Одним из главных развлечений были ночные насилия и издевательства над молодыми красивыми женщинами и девушками, которых отбирали из каждой партии обреченных. Наутро сами насильники отводили их в газовню. Так развлекались в Треблинке эсэсовцы, оплот гитлеровского режима и гордость фашистской Германии.
Здесь следует отметить, что существа эти вовсе не были механическими исполнителями чужой воли. Все свидетели подмечают общую им всем черту: любовь к теоретическим рассуждениям, философствованию. Все они имели слабость произносить перед обреченными речи, хвастать перед ними, объяснять великий смысл и значение для будущего того, что происходит в Треблинке.
Лето 1943 года выдалось необычайно жарким в этих местах.
Ни дождя, ни облаков, ни ветра в течение многих недель. Работа по сожжению трупов находилась в разгаре. Уже около 6 месяцев день и ночь пылали печи, а сожжено было немногим больше половины убитых.
Заключенные, работавшие на сожжении трупов, не выдерживали ужасных нравственных и телесных мучений, ежедневно кончали самоубийством 15-20 человек. Многие искали смерти, нарочно нарушая дисциплинарные правила.
”Получить пулю это был ”люксус” (роскошь), — говорил мне коссувский пекарь, бежавший из лагеря. Люди говорили, что быть обреченным в Треблинке на жизнь во много раз страшней, чем быть обреченным на смерть.
Шлак и пепел вывозились за лагерную ограду. Мобилизованные немцами крестьяне деревни Вулька нагружали пепел и шлак на подводы и высыпали его вдоль дороги, ведущей мимо лагеря смерти к штрафному польскому лагерю. Заключенные дети с лопатами равномерно разбрасывали этот пепел по дороге. Иногда они находили в пепле сплавленные золотые монеты, сплавленные золотые коронки. Детей звали ”дети с черной дороги”. Дорога эта от пепла стала черной, как траурная лента. Колеса машин как-то по-особенному шуршали на этой дороге, и когда я ехал по ней, все время слышался из-под колес печальный, негромкий шелест, словно робкая жалоба.
Эта черная траурная лента, идущая среди лесов и полей от лагеря смерти к польскому лагерю, была словно трагический символ страшной судьбы, объединившей народы, попавшие под топор гитлеровской Германии.
Крестьяне возили пепел и шлак с весны 1943 года по лето 1944 года. Ежедневно на работу выезжало 20 подвод, и каждая из них нагружала по 6—8 раз на день по 7—8 пудов пепла и шлака.
В песне ”Треблинка”, которую немцы заставляли петь 800 человек, работавших на сожжении трупов, есть слова, где заключенных призывают к покорности и послушанию; за это им обещается ”маленькое, маленькое счастье, которое мелькает на одну, одну минутку”. И удивительное дело, в жизни треблинского ада был действительно один счастливый день. Немцы, однако, ошиблись, не покорность и послушание подарили этот день смертникам Треблинки. Безумство смелых родило этот день. У заключенных родился план восстания. Терять им было нечего. Все они были смертниками, каждый день их жизни был днем страданий и мук.
Ни одного из них, свидетелей страшных преступлений, немцы не пощадили бы — всех их ждала газовня; да их и отправляли туда после нескольких дней работы, заменяя новыми из очередных партий. Лишь несколько десятков человек жили не дни, и часы, а недели и месяцы — квалифицированные мастера, плотники, каменщики, обслуживавшие немцев пекари, портные, парикмахеры. Они-то и создали Комитет восстания. Конечно, только смертники и только люди, охваченные чувством лютой мести и всепожирающей ненависти, могли составить столь безумно смелый план восстания. Они не хотели бежать до того, пока не уничтожат Треблинку. И они уничтожили ее. В рабочих бараках стало появляться оружие: топоры, ножи, дубины. Какой ценой, с каким безумным риском было сопряжено добывание каждого топора и ножа! Сколько изумительного терпения, хитрости, ловкости понадобилось, чтобы укрыть все это от обыска и спрятать в бараке. Были созданы запасы бензина, чтобы облить и поджечь лагерные постройки. Как накапливался этот бензин и как бесследно исчезал он, точно растворялся!? Для этого понадобились сверхчеловеческие усилия, напряжение ума, воли, страшная дерзость. Наконец, был произведен большой подкоп под немецкий барак-арсенал. И здесь дерзость помогла людям, бог смелости стоял за них. Из арсенала были вынесены 20 ручных гранат, пулемет, карабины, пистолеты. Все это исчезло в тайниках, вырытых заговорщиками. Участники заговора разбились на пятерки. Огромный, сложный план восстания был разработан до последних мелочей. Каждая пятерка имела точное задание. Одним поручался штурм башен, на которых сидели вахманы с пулеметами. Вторые должны были внезапно атаковать часовых, ходивших у проходов между лагерными площадками. Третьи должны были атаковать бронемашины. Четвертые резали телефонную связь. Пятые нападали на здание казармы, шестые делали проходы в колючей проволоке. Седьмые устраивали мосты через противотанковые рвы. Восьмые обливали бензином лагерные постройки и жгли. Девятые разрушали все, что легко поддавалось разрушению.
Было предусмотрено даже снабжение деньгами бежавших, варшавский врач, который собирал деньги, едва не погубил всего дела. Однажды шарфюрер заметил, что из кармана его брюк видна толстая пачка кредиток — это была очередная порция денег, которые доктор собирался укрыть в тайнике. Шарфюрер сделал вид, что ничего не заметил, и тотчас доложил об этом самому Курту Францу. Это было, конечно, событием чрезвычайным. Франц лично отправился допрашивать врача. Он сразу заподозрил нечто недоброе; в самом деле, для чего смертнику деньги? Франц приступил к допросу уверенно и не спеша, — вряд ли на земле был человек, умевший так пытать, как он. И он был уверен, что нет на земле человека, который мог бы устоять против пыток, известных гауптману Курту Францу. В треблинском аду умели пытать великие академики этого дела. Но варшавский врач перехитрил эсэсовского гауптмана. Он принял яд. Один из участников восстания рассказывал мне, что никогда в Треблинке не старались с таким рвением спасти человеку жизнь. Видно, Франц чутьем понимал, что умирающий врач уносит важную тайну. Но немецкий яд действует верно, и тайна осталась тайной.
В конце июля наступила удушающая жара. Когда вскрывали могилы, из них, как из гигантских котлов, валил пар. Чудовищное зловоние и жар печей убивал людей; изнуренные люди, тащившие мертвецов, сами мертвыми падали на колосники печей. Миллиарды тяжелых, обожравшихся мух ползали по земле.
Восстание было назначено на 2 августа. Сигналом к нему послужил револьверный выстрел. Знамя успеха осенило святое дело. В небо поднялось новое пламя — не тяжелое, полное жирного дыма пламя горящих трупов, а яркий, знойный и буйный огонь пожара. Запылали лагерные постройки, и восставшим казалось, что само солнце, разорвав свое тело, горит над Треблинкой, правит праздник свободы и мести.
Загремели выстрелы, захлебываясь, затараторили пулеметы на захваченных восставшими башнях. Торжественно, как колокола правды, загудели взрывы ручных гранат. Воздух всколыхнулся от грохота и треска, рушились постройки, свист пуль заглушил гудение трупных мух. В ясном и чистом воздухе мелькали красные от крови топоры. В день второго августа на землю треблинского ада полилась злая кровь эсэсовцев, и пышущее светом голубое небо торжествовало и праздновало миг возмездия. И здесь повторилась древняя как мир история: существа, громоподобно возглашавшие: “Achtung! Mützen ab”[61] существа, вызывавшие варшавян из их домов на казнь потрясающими, рокочущими голосами властелинов: ”Alle r-r-r-raus! unter-r-r-r!”[62], эти существа, столь уверенные в своем могуществе, когда речь шла о казни миллионов женщин и детей, оказались презренными трусами, жалкими, молящими пощады пресмыкающимися, чуть дело дошло до настоящей смертной драки. Они растерялись, они метались как крысы, они забыли о дьявольски продуманной системе обороны Треблинки, о всеубивающем огне, заранее организованном, забыли о своем оружии. Но стоит ли говорить об этом и нужно ли хоть кому-нибудь дивиться этому?
Когда запылала Треблинка и восставшие, молчаливо прощаясь с пеплом народа, уходили за проволоку, со всех концов ринулись эсэсовские и полицейские части преследовать уходящих. Сотни полицейских собак были пущены по следам. Немцы мобилизовали авиацию. Бои шли в лесах, на болотах, и мало кто, — считанные люди из восставших, — дожили до наших дней. Но что с того — они погибли в бою, с оружием в руках.
После дня 2 августа Треблинка перестала существовать. Немцы дожигали оставшиеся трупы, разбирали каменные постройки, снимали проволоку, сжигали недожженные восставшими деревянные бараки. Было взорвано, погружено и увезено оборудование здания смерти, уничтожены печи, вывезены экскаваторы, огромные, бесчисленные рвы засыпаны землей, снесено до последнего камня здание вокзала, наконец, разобраны рельсовые пути, увезены шпалы. На территории лагеря был посеян люпин, построил свой домик колонист Стребень. Сейчас этого домика нет, он сожжен. Чего хотели достичь всем этим немцы? Скрыть следы убийства миллионов людей в треблинском аду? Но разве это мыслимо сделать? Разве мыслимо заставить молчать тысячи людей, свидетельствующих о том, как эшелоны смертников шли со всей Европы к месту конвейерной казни? Разве мыслимо скрыть то мертвое, тяжелое пламя и тот дым, что 8 месяцев стояли в небе, видимые днем и ночью жителями десятков деревень и местечек? Разве мыслимо вырвать из сердца, заставить забыть 13 месяцев длившийся ужасный вопль женщин и детей, что и по сей день стоит в ушах крестьян деревни Вулька? Разве мыслимо заставить молчать оставшихся в живых свидетелей работы треблинской плахи, от первых дней ее возникновения до дня 2 августа, последнего дня ее существования, — свидетелей, согласно и точно рассказывающих о каждом эсэсовце и вахмане, свидетелей, шаг за шагом, час за часом восстанавливающих треблинский дневник? Им уже не крикнешь: ”Mützen ab!”, их уже не свезешь в газовню. И уж не властен Гиммлер над своими подручными, которые, низко опустив головы, теребя дрожащими пальцами край пиджака, глухим, мерным голосом рассказывают кажущуюся безумием и бредом историю своих преступлений.
Мы приехали в Треблинский лагерь в начале сентября 1944 года, то есть через 13 месяцев после дня восстания. 13 месяцев работала плаха. 13 месяцев пытались немцы скрыть следы ее работы. Тихо. Едва шевелятся вершины сосен, стоящих вдоль железной дороги. Вот на эти сосны, на этот песок, на этот старый пень смотрели миллионы человеческих глаз из медленно подплывавших к перрону вагонов. Тихо шуршат пепел и дробленный шлак по черной дороге, по-немецки аккуратно обложенной крашенным в белый цвет камнем. Мы входим в лагерь, идем по треблинской земле. Стручки люпина лопаются от малейшего прикосновения, лопаются сами, с легким звоном; миллионы горошинок сыплются на землю. Звук падающих горошин, звук раскрывающихся стручков сливаются в сплошную печальную и тихую мелодию. Кажется, из самой глубины земли доносится погребальный звон маленьких колоколов, едва слышный, печальный, широкий, спокойный. А земля колеблется под ногами, пухлая, словно обильно политая льняным маслом, бездонная земля Треблинки, зыбкая, как морская пучина. Этот пустырь, огороженный проволокой, поглотил в себя больше человеческих жизней, чем все океаны и моря земного шара за все время существования людского рода.
Земля извергает из себя дробленные косточки, зубы, вещи, бумаги, она не хочет хранить тайны.
И вещи лезут из лопнувшей земли, из незаживающих ран ее. Вот они — полуистлевшие сорочки убитых, брюки, туфли, позеленевшие портсигары, колесики ручных часов, перочинные ножики, бритвенные кисти, подсвечники, детские туфельки с красными помпонами, полотенца с украинской вышивкой, кружевное белье, ножницы, наперстки, корсеты, бандажи. А дальше из трещин земли лезут на поверхность груды посуды: сковородки, алюминиевые кружки, чашки, кастрюли, кастрюльки, горшочки, бидоны, судки, детские чашечки из пластмассы... А дальше из бездонной вспученной земли точно чья-то рука выталкивает на свет захороненное немцами, выходят на поверхность полуистлевшие советские паспорта, записные книжки на болгарском языке, фотографии детей из Варшавы и Вены, детские, писанные каракулями письма, книжечки стихов, списанная на желтом листочке молитва, продуктовые карточки из Германии... И всюду сотни флаконов и крошечных граненных бутылочек из-под духов — зеленых, розовых, синих... Над всем этим стоит ужасный запах тления, его не могли победить ни огонь, ни солнце, ни дожди, ни снег, ни ветры. И сотни маленьких лесных мух ползают по полуистлевшим вещам, бумагам, фотографиям.
Мы идем все дальше по бездонной колеблющейся треблинской земле и вдруг останавливаемся. Желтые, горящие медью волнистые густые волосы, тонкие, легкие прелестные волосы девушки, затоптанные в землю, и рядом такие же светлые локоны и дальше черные тяжелые косы на светлом песке. А дальше еще и еще. Это, видимо, содержимое одного, только одного лишь, невывезенного, забытого мешка волос. Все это правда! Дикая последняя надежда, что это сон, рушится. А стручки люпина звенят, стучат горошины, точно и в самом деле из-под земли доносится погребальный звон бесчисленных, маленьких колоколен. И кажется, сердце сейчас остановится, сжатое такой печалью, таким горем, такой тоской, каких не дано перенести человеку.
ДЕТИ С ЧЕРНОЙ ДОРОГИ. Автор — В. Апресян.
Мы шли по полю, густо заросшему люпином. Солнце жгло, шелест сухих листьев и треск стручков сливались в грустные, почти певучие звуки. Обнажив седую трясущуюся голову, старик-проводник перекрестился и сказал:
— Вы шагаете по могилам.
Мы шли по земле Треблинского лагеря смерти, куда немцы свозили евреев со всех концов Европы и оккупированных районов СССР.
Здесь немцами были умерщвлены миллионы людей. Страшная черная дорога прорезывает треблинское поле; она черна оттого, что на протяжении трех километров засыпана человеческим пеплом.
На подводах подвозили тонны пепла, 11-13 летние дети-заключенные лопатами разбрасывали его по дороге. Их называли: дети с черной дороги.
В морозный февральский день 1943 года очередной товарный поезд в числе прочих ”пассажиров” доставил в Треблинский лагерь смерти 60 мальчиков. Это были еврейские дети из Варшавы, Вильно, Гродно, Белостока и Бреста. При высадке эшелона их отделили от семей. Взрослые были отправлены в лагерь смерти, а мальчики — в ”трудовой лагерь”.
Начальник этого лагеря, гауптштурмфюрер голландский немец Ван-Эйпен решил, что мальчиков убить всегда успеет, а пока их можно использовать на работе. Он поручил унтерштурмфюреру Фрицу Прейфи взять детей под свое начало.
Детей, оставленных для работы, разместили в бараке. Их койками были нары, устроенные в три яруса. Прейфи приказал, чтобы они спали на необструганных досках. Самого рослого из них — 14-летнего Лейбу — он назначил капо (вожаком).
В пять часов утра отряд детей шел на работу. Весь день до них доносились вопли тысяч убиваемых немцами мужчин, женщин и детей. Крики то замирали, то вновь нарастали. Это были вопли горя и мук. Они леденили сердце, наполняли души мальчиков несказанным страданием.
Взрослые обитатели барака приняли ребят с трогательным участием, какое могут проявить только отцы, потерявшие собственных детей. Это были евреи — рабочие высокой квалификации, оставленные в живых для работы, семьи их были истреблены.
Среди них был пожилой мастер из гродненского мясокомбината Арон, его фамилия осталась неизвестна (в лагере людей называли по имени или по кличке), который сдружился с ребятами. Они ласкательно называли его Арли.
Арли хорошо пел и даже сочинял песни. Чтобы отвлечь ребят от мрачных мыслей, он по вечерам учил их петь. Рыжего мальчика прозвали Рыжиком. Он обладал мягким дискантом и хорошо пел. Когда Рыжик пел, каждый из взрослых вспоминал своих детей. Арон плакал и гладил мальчика по голове.
У детей из советских районов немцы отняли все. Отняли родных, дом, школу, книги, отняли радость, мечты, детство. Одного только не смели немцы отнять — песен. И они пели о Родине, о Москве. Нередко в мрачном, тесном бараке звучала песня: ”Широка страна моя родная”.
Отряд детей пас гусей, коров, чистил на кухне картошку, пилил дрова. Весь лагерь знал детей. По приказу Прейфи ребят одели в форму — синие полотняные мундирчики с железными пуговицами. Прейфи заставлял ребят часами маршировать и добивался идеальной отработки строевого шага на манер солдатского. Он забавлялся ребятами, как живыми игрушками, и ломал их, когда хотел. Он хвастливо показывал маршировку своих ”игрушек” начальнику Ван-Эйпену.
Однажды Арли решил расшевелить в немце чувство жалости к детям. Он заставил ребят спеть самую грустную песню, которую знал. Детские голоса звенели безмерной горечью.
В это время вошел еще один мальчик, несший тощую брюкву своему Арли. Немец подозвал столяра из Варшавы Макса Левита, дал ему палку и приказал нанести мальчику 25 ударов. Левит слабо ударил один раз. Прейфи вырвал у него палку и с остервенением начал избивать мальчика. Последние удары он нанес уже мертвому. Разбив ”игрушку”, Прейфи сказал: ”Вот как надо бить”.
Был среди ребят мальчик Изак. Он умел хорошо плясать. Прейфи приказал Изаку плясать на столе, потому что все заводные игрушки пляшут на столах. И Изак плясал на квадратном метре стола с поразительной быстротой, с мертвым механическим ритмом, с восковым печальным лицом, действительно похожий на заводную игрушку.
Был еще мальчик Яша — художник. Он рисовал на кусках фанеры унылые картины из жизни лагеря. Иногда он рисовал танк с пятиконечной звездой, который, разрывая проволочные заграждения, давил вахманов (охранников). Потом он быстро стирал рисунок. Яша и Рыжик спали вместе. В холодные ночи маленький певец и маленький художник согревали друг друга.
Прейфи был откомандирован в Краковский лагерь. Начальник лагеря Ван-Эйпен назначил ”шефом״ ребят другого унтерштурмфюрера — Штумпфе. Это молодой упитанный эсэсовец гигантского роста. По показаниям свидетелей, — поляков и евреев, Штумпфе всегда смеялся во время казни заключенных и был прозван ”Смеющаяся смерть”.
Этот ”шеф” нашел новую работу для детей. Он приказал отряду вооружиться лопатами и разбрасывать по дороге человеческий пепел, который подвозили в вагонетках из лагеря смерти.
Наступил июль. Солнце жгло нещадно. Воздух накалился так, что нельзя было дышать. Задыхаясь от жары и смрада, истощенные, измученные дети, подгоняемые нагайками вахманов, падали в обморок на пепел своих отцов и матерей.
Во время вечерней проверки Штумпфе обнаружил, что нехватает пятерых ребят. Особенно заметно было отсутствие Рыжика.
— Где Рыжик? — рявкнул ”шеф”.
— Я здесь, — раздался робкий голос.
Штумпфе заметил чернокудрого мальчика. Это был Рыжик, весь в черной пыли. Штумпфе подошел, погрузил пальцы в густые кудри мальчика, поднял его сильной рукой за волосы.
— Негритос, — презрительно сказал он и отпустил Рыжика. Нехватало четверых. Оказалось, что двое умерли, не выдержав нечеловеческих мук. Их маленькие тела лежали на черной дороге среди пепла. Исчезли двое: тихий Миша и красавец Полютек. Мальчики бежали.
Беглецов поймали через несколько дней на железнодорожной станции и привели в лагерь.
Отряд выстроили перед виселицей. Подвели Мишу и Полютека. Их руки не были связаны. Унтерштурмфюрер Ланц сказал: ”Так лучше. Если руки свободны, повешенный начинает махать ими, как птица крыльями, и улетает прямо на небо”.
”Смеющаяся смерть” — Штумпфе громко захохотал. Ребят повесили. Полютек умер быстро, почти без судорог. Для Миши веревка оказалась чересчур длинной, и он носками доставал до земли. Он долго хрипел, вздрагивал, вращая во все стороны страшными глазами. Ланц отвязал конец веревки от бревна, положил живого еще мальчика на землю, уперся ногой в его голову, и, туго стянув петлю, легко поднял худенькое тельце Миши и снова его повесил.
Впервые мальчики заплакали. Муки товарищей растопили окаменевшие сердца. Стасику стало дурно. Его поддержал ”капо” Лейб — он сказал:
— Не плачьте. Мише и Полютеку теперь хорошо, ведь они больше не будут жить.
Гауптштурмфюрер Ван-Эйпен и унтерштурмфюрер Штумпфе, Ланц, Гаген и Ледеке сели на велосипеды, сделали большой круг вокруг виселицы и, весело переговариваясь о чем-то, сфотографировались.
Вечером дети пели песню, которую назвали ”Мы проиграли”. Ее сочинил Арли. Длинная, заунывная, она рисовала жизнь лагеря, оплакивала живых ребят.
Кончалась песня так:
Бушует на поле смерти костер. Жжет сердце пепел братьев и сестер. На этом свете нам больше не жить Мы прожили свою короткую жизнь.Всю ночь после казни друзей дети не могли уснуть. Певец и художник, обнявшись, тихо плакали.
22 июля 1944 года отряд детей был направлен с лопатами не на черную дорогу, а к опушке леса. Там надо рыть ямы ”для зенитных точек”, объяснил им Штумпфе. Но капо заметил, что яма, которую они рыли, не похожа на зенитную точку. Скоро все услышали отдаленный гул орудий — это приближался фронт. Рыжик прислушался к гулу и сказал:
— Немцы бегут, а мы останемся здесь, — и стукнул лопатой о дно ямы.
Дети поняли, что копают могилу. Рано или поздно это должно было случиться. Они были обречены, и смерть их не страшила. Она стала спутницей их короткой жизни в лагере. И Рыжик спокойно сказал своему неразлучному другу Яше:
— Когда нас убьют, давай ляжем рядом.
— Мы упадем в яму, как попало. Как же мертвые могут лечь рядом?
— Могут. Мы встанем на краю могилы, обнимемся и вместе упадем. Вот и все.
И они оба аккуратно разровняли края могилы.
Наступило утро. Вдали за оградой крестьяне убирали хлеб, запасались на зиму сеном. Гул орудий слышался яснее. Нервно свистя, куда-то неслись немецкие паровозы. Немцы спешно ликвидировали Треблинский ”трудовой лагерь” (лагерь смерти был ликвидирован раньше). Гауптунтер и прочие фюреры, вахманы выпивали оставшиеся запасы вина. В 7 часов утра начались расстрелы. Для безопасности к могилам вели только по 10 человек. ”Работа” затянулась до вечера. Вот повели очередную десятку, в числе которой были Арли и столяр Макс Левит. Проходя мимо ожидавших своей очереди ребят, Арли крикнул:
— Прощайте, дети мои!
— Прощайте, — ответили ребята.
— До свидания, Арли, мы скоро придем к тебе, — сказал Лейба.
Рыжик, прошмыгнув мимо вахмана, цепко обхватил Арли, прижался к нему. Арли обнял своего любимца.
— Когда мы пели в последний раз, в среду? Запомни. В среду, — сказал он мальчику.
Арли знал, что идет на расстрел. Он знал, что будет убит и маленький певец. Для чего он сказал ”запомни”? Не успел Рыжик задать вопрос, как вахман отшвырнул его в сторону.
Когда вахманы отсчитали 10 ребят, весь отряд взбунтовался:
— Мы хотим умереть все вместе.
Из было 30. Вахманы торопились, поэтому уступили. Лейб выстроил свой отряд и, подняв голову, повел их строем — к могилам, которые они сами вырыли.
Макс Левит уже лежал в яме. Пьяные вахманы стреляли плохо. Макс Левит был невредим, но притворился мертвым. До него доносились стройные детские голоса. Они пели, идя на смерть. Маленькие смертники пели песню о советской Москве.
Ближе, громче, ближе. Левит слышал дружный топот ног и окрик немца Шварца.
— Молчать!
— Да здравствует Сталин! — отвечал отряд. — Он отомстит за нас!
Певец и художник крепко обняли друг друга. Раздался залп. Сраженный насмерть Яша, падая, увлек раненого Рыжика в яму.
Рыжик зашевелился, пристроился поплотнее к другу, взглянул на страшное лицо лежавшего рядом Арли. Мальчик закрыл глаза и, упершись лбом в плечо Яши, минуту не шевелился. Потом Рыжик поднял голову и произнес:
— Пан вахман не трафил (не попал), проше пана, еще раз, еще раз.
Вахман выругался. ”Смеющаяся смерть” — Штумпфе рассмеялся. Вахман снова выстрелил. Медно-золотистая курчавая головка упала и больше не поднялась.
Наступили сумерки, усталые вахманы (они за этот день — 23 июля 1944 года — расстреляли 700 поляков и евреев) решили, что ямы засыпят землей на следующий день, и ушли.
Макс Левит выполз из-под детских трупиков и ушел в лес.
Мы встретились со столяром из Варшавы в деревне Вулька-Окронтик, в двух километрах от бывшего Треблинского лагеря. К нам пришел и 62-летний старик-поляк из этой деревни Казимир Скаржинский, работавший с детьми по разброске человеческого пепла. Столяр Макс Левит и крестьянин Казимир Скаржинский поведали нам правду о детях с черной дороги.
ВОССТАНИЕ В СОБИБОРЕ[63]. Авторы — П. Антокольский, В. Каверин.
I
Собиборский лагерь смерти, наряду с лагерями на Майданеке, в Треблинке, Белжеце, Освенциме, был создан немцами с целью организованного массового уничтожения еврейского населения Европы. Он был расположен на огромной площади в лесу, рядом с полустанком Собибор. Железная дорога заходила в тупик, — и это должно было способствовать сохранению тайны. Как всегда, немцы тщательно оберегали ее от окрестного населения: всякое преступление боится свидетелей.
Лагерь окружали четыре ряда колючей проволоки высотой в три метра. Между третьим и четвертым рядами пространство было заминировано. Между вторым и третьим расхаживали патрули. Днем и ночью на вышках, откуда просматривалась вся система заграждений, дежурили часовые.
Лагерь делился на три основные части — ”подлагеря” — у каждого было свое, строго определенное значение. В первом находились жилые бараки, столярная, сапожная, портняжная мастерские, два офицерских дома. Во втором — парикмахерский барак, магазины, склады. В третьем стояло кирпичное здание с железными воротами, которое называлось ”баней”.
Собиборский лагерь начал действовать 15 мая 1942 года. Первые партии заключенных прибыли из Франции. Голландии, Западной Польши. Вот что рассказывает голландская еврейка Зельма Вайнберг о своем пребывании в лагере:
״Я родилась в 1922 году в городе Эволле (Голландия). В Голландии не было вражды между голландцами и евреями, мы жили дружно и не чувствовали никакой разницы между народами. Но пришли немцы, и начались гонения. В Вестербурге в 1941 году был создан лагерь для евреев, высланных из Германии. Когда в стране начались преследования евреев, когда их заставили носить специальные знаки, голландцы приветствовали людей, носящих такие знаки. Когда евреев начали высылать в Польшу (это было в 1941 году), в Амстердаме возникла забастовка. Жизнь города замерла на три дня. Голландцы прятали евреев от немцев. В Утрехте было 2000 евреев, из них поехали всего 200 человек; остальных спрятало местное население. В стране действовала специальная организация по спасению евреев, она оказывала большую продовольственную и денежную помощь людям. Многих евреев спасла организация “Свободная Голландия”.
Я вместе со своей семьей попала в лагерь Вестербург, расширенный к 1942 году. В лагере находилось 2000 человек, но состав заключенных все время менялся, так как каждый вторник эшелон увозил около 1000 человек в Польшу. Немецкий офицер говорил заключенным, что они едут на работу в Польшу и на Украину. Многие ехали туда с охотой, брали с собой одежду, обувь, продукты. Дело в том, что из Влодавы приходили письма, в них не говорилось, что все это была немецкая провокация. Людей заставляли подписывать напечатанные немцами открытки. Собибор в них не упоминался.
Я не хотела уезжать из Голландии и убежала из Вестербурга. Меня приютила голландская семья. Всех моих родных увезли в Польшу. Голландский немец (”фольксдойче”) выдал меня. Два месяца я просидела в тюрьме в Амстердаме, потом попала в лагерь в Фихте, где были и политзаключенные и евреи. Работала там в прачечной.
В марте 1943 года нас повезли в Польшу. Многие надеялись, что встретятся там с родными. Ведь больных евреев даже лечили сперва в голландских госпиталях, а потом уже отправляли в Польшу. Создавалась видимость, что людям ничего не угрожает. Когда мы проезжали по Германии, в наши вагоны являлись немецкие сестры милосердия и оказывали медицинскую помощь заболевшим в дороге.
9 апреля 1943 года я приехала в Собибор. Мужчинам было приказано раздеться и идти дальше, в третий лагерь. Женщины по сосновой аллее проходили в бараки раздеваться и стричься. Немецкий офицер отобрал двадцать восемь молодых девушек для работы во втором лагере. Я провела в Собиборе пять месяцев”.
Массовое уничтожение людей — это сложная работа. В том, как она была поставлена в Собиборе, видна полная продуманность, постоянная забота обо всех мелочах ремесла и сметка давно практикующих палачей. На казнь люди шли совершенно голые. Их вещи, одежду, обувь сортировали и отправляли в Германию. Женщин стригли. Из человеческого волоса делались матрасы и седла; мебельная мастерская была и в самом лагере, так что волосы казненных находили применение и сбыт тут же в лагере. Наконец, само устройство ”бани”, т.е. главного цеха в этом чудовищном производстве смертей, было сложным и требовало внимания, заботы, квалифицированных техников, истопников, сторожей, подавальщиков газа, гробовщиков, могильщиков.
На разных этапах эту работу под угрозой немедленной смерти должны были выполнять сами заключенные.
Один из немногих оставшихся в живых собиборцев, варшавский парикмахер Бер Моисеевич Фрайберг в своем показании от 10 августа 1944 года указывает, что в первом подлагере работало около 100 человек, а во втором — 120 мужчин и 80 женщин.
”Я работал во втором лагере, — пишет он, — где находились магазины и склады. Когда обреченные на смерть раздевались, мы собирали все вещи и разносили их по магазинам: обувь отдельно, верхнее платье отдельно и т.д. Там вещи делились по сортам и упаковывались для отправки в Германию. Каждый день из Собибора отходил поезд из десяти вагонов с вещами. На кострах мы сжигали документы, фотографии и другие бумаги, а также малоценные вещи. В удобные моменты мы бросали в костер также деньги и ценные вещи, найденные в карманах и чемоданах, чтобы все это не досталось немцам.
Через некоторое время меня перевели на другую работу. Во втором лагере построили три барака, специально для женщин. В первом из них женщины снимали обувь, во втором — одежду, в третьем им стригли волосы. Меня назначили парикмахером в третий барак. Нас было двадцать ребят — парикмахеров. Стригли мы ножницами, а волосы складывали в мешки. Немцы говорили женщинам, что стригут их для чистоты, ”чтобы вши не заводились”.
Работая во втором лагере, в июне 1943 года, я невольно наблюдал картины страшного нечеловеческого обращения с невинными людьми. На моих глазах из Белостока пришел эшелон, до отказа наполненный совершенно голыми людьми. Очевидно, немцы боялись побега заключенных. Полуживые в этом эшелоне были перемешаны с мертвыми. Людям в дороге не давали ни пить, ни есть. Еще живых обливали хлорной известью.
Гестаповцы в лагере часто бросали детей на землю, били их сапогами, раскраивали черепа. На беззащитных натравливали собак, которые разрывали людей в клочья. Многие не выдерживали и кончали жизнь самоубийством. Заболевших немцы уничтожали немедленно”.
Что же происходило в третьем ”подлагере”, в кирпичном здании, называемом баней? Согласно всем показаниям, территория ”бани” была в свою очередь окружена колючей проволокой. Работникам первых двух ”подлагерей” вход на эту территорию был строжайше запрещен и карался немедленной смертью.
”Когда партия в восемьсот человек входила в ”баню”, дверь плотно закрывалась, — пишет тот же Бер Фрайберг.
В пристройке работала электрическая машина, вырабатывающая удушающий газ. Выработанный газ поступал в баллоны, из них по шлангам в помещение. Обычно через 15 минут все находившиеся в камере были задушены. Окон в здании не было. Только сверху было стеклянное окошечко, и немец, которого в лагере называли ”банщиком”, следил через него, закончен ли процесс умерщвления. По его сигналу прекращалась подача газа, пол механически раздвигался и трупы падали вниз. В подвале находились вагонетки, и группа обреченных складывала на них трупы казненных. Вагонетки вывозились из подвала в лес третьего лагеря. Там был вырыт огромный ров, в который сбрасывались трупы, затем они засыпались землей. Люди, занимавшиеся складыванием и перевозкой трупов, тут же расстреливались.
Был такой случай. Партия людей уже находилась в помещении ”бани”, но неожиданно испортилась машина, подающая газ. Несчастные взломали дверь и пытались разбежаться. Гестаповцы многих убили, а остальных загнали обратно. Механики быстро наладили машину, и все пошло своим порядком.
Одна из заключенных, ухаживавшая за кроликами, которых немцы разводили для себя, увидела сквозь щели кроличьего закута шествие голых женщин и детей. Идущие ни о чем не догадывались и мирно переговаривались между собой на разных языках Европы о том, какая жизнь предстоит им в лагере.
Бывало и по-другому. Восемнадцатилетняя девушка из Влодавы, идя на смерть в солнечный летний день, крикнула во всеуслышание: ”Вам отомстят за нас. Придут Советы и вам, бандиты, не будет пощады”.
Ее насмерть избили прикладами карабинов.
Среди немецкой прислуги третьего лагеря особенно был страшен берлинский боксер Гомерский, хваставший тем, что убивает человека с одного удара. Зато другой сентиментальный немец обходил голых детишек, обреченных на смерть, гладил их по головкам, совал конфеты и бурчал:
— Здравствуй, милочка. Только смотри, не бойся, все будет хорошо.
Однажды из третьего лагеря раздались особенно страшные крики. Оказалось, что детей и женщин живьем бросают в огонь. Это были забавы — экстра для гестаповцев.
Действительность лагеря изобиловала фантастическими драмами, перед которыми меркнет любое воображение. Какой-то голландский юноша, работавший на сортировке только что прибывших вещей, неожиданно увидел вещи своих родных. Вне себя он выбежал из склада, где работал, и в толпе идущих на казнь узнал всю свою семью. Другой юноша среди задушенных нашел тело своего отца. Он пытался украсть и собственноручно зарыть это бедное родное тело. Немцы убили и сына.
Все эти подробности ничем не отличаются от страшных и отвратительных рассказов о том, что делалось на Майданеке или в Треблинке. Может быть, единственное, в чем проявилась фантазия и личная инициатива собиборских палачей, это в способе скрывать от окружающего населения свою работу. Они развели в подсобных хозяйствах лагеря стада гусей, и когда производилась расправа, этих гусей дразнили и заставляли кричать. Немцы, таким образом, заглушали стоны и плач своих жертв.
Летом 1943 года, желая скрыть следы своих преступлений, немцы построили в третьем ”подлагере” печи. В Собибор была доставлена специальная земляная машина. Могильный ров был раскопан. Машина подавала выкопанные трупы на костры, разложенные под рельсами. В такие дни по всей округе слышен был трупный запах.
И вот в этом страшном месте, реальность которого, как она ни документальна, все же кажется диким вымыслом больного мозга, на этом маленьком пространстве испоганенной немцами земли 14 октября 1943 года произошло восстание, кончившееся победой заключенных. Во время этого восстания было убито 12 немцев, виднейших из несущих охранную службу офицеров — руководителей лагеря — и четыре рядовых охранника. После восстания Собиборский лагерь был уничтожен.
Как это произошло? Чья человеческая сила оказалась достаточно стойкой и организованной, чтобы противостоять немецкому железу, направленному на безоружных? У кого в этой страшной атмосфере смерти и унижения нашлись воля, ум, дальновидность? 22 сентября 1943 года в Собибор пригнали из Минска шестьсот военнопленных евреев, офицеров и бойцов Красной Армии. Из них 80 человек были оставлены для работы во втором ”подлагере”. Остальных немцы задушили и сожгли. В числе оставшихся был офицер Александр Аронович Печерский.
II
Печерский родился в Кременчуге, в 1909 году. С 1915 года он жил в Ростове-на-Дону. В последние годы перед войной его основная профессия была — руководство художественной самодеятельностью. В первый же день Отечественной войны Печерский был призван в армию и в сентябре 1941 года был аттестован как техник-интендант II ранга. В октябре он оказался в окружении на Смоленском направлении и попал в плен. В плену заболел тифом, провалялся больной в ужасающих условиях в течение семи месяцев. Только чудом Печерский выжил после тифа. Тифозных больных немцы расстреливали. Ему удалось скрыть свою болезнь. В мае 1942 года Печерскому удалось бежать, но в тот же день он был пойман вместе с четырьмя другими беглецами. Пойманных отправили в ”штрафную” команду в Борисов, оттуда в Минск. В Минск они прибыли уже осенью 1942 года. Здесь прибывшим предстояла процедура медицинского осмотра. Так было обнаружено, что Печерский — еврей.
Его повели на допрос.
— Признаете ли вы себя евреем?
Печерский признался. Если бы он не признался, он был бы избит плетьми. Вместе с другими он был посажен в ”еврейский” подвал, где провел около десяти дней. В подвале было абсолютно темно, из него никуда не выпускали. Кормили через день: 100 граммов хлеба и кружка воды.
20 августа Печерский был отправлен в Минский рабочий лагерь СС (Широкая улица). Там он пробыл до середины сентября. В этом лагере находилось около пятисот евреев-специалистов из Минского гетто, а также евреи-военнопленные; было там и человек двести-триста русских. Русские попали в лагерь за связь с партизанами, прогул на работе и т.д., словом, это были те, кого немцы считали окончательно ”неисправимыми”. Лагерники жили впроголодь, главным образом, тем, что удавалось украсть у немцев. Работали с рассвета до темна. ”Комендант лагеря Вакс, — рассказывает Печерский, — не мог прожить дня, не убив кого-нибудь. Иначе он просто заболевал. Надо было посмотреть ему в лицо, — это садист: тощий, верхняя губа вздрагивает, левый глаз налит кровью. Всегда в пьяном, мутном похмельи. Что он вытворял! Ночью кто-то вышел оправиться. Вакс застрелил его из окна, а утром с упоением показывал своей даме труп убитого: вот моя работа.
Люди строятся в очередь за хлебом. Вакс выходит, командует ”смирно”, кладет парабеллум на плечи первому стоящему в очереди и стреляет. Горе тому, кто хоть сколько-нибудь ”вылезает” из строя, — он получит пулю в голову или в плечо. Обычное развлечение Вакса травить лагерников собаками, причем защищаться от собак не полагалось, — это любимцы Вакса.
Из общего гетто приводили женщин в баню. При этом всегда присутствовал Вакс и собственноручно обыскивал голых женщин.
В лагере были случаи массового побега. Рядом с продуктовым складом лагеря было общежитие ”шуцполицай”. Иногда заключенным удавалось там стащить и оружие. Таким образом группа в пятьдесят человек, работавшая в продуктовом складе, ухитрилась раздобыть некоторое количество гранат, пистолетов и патронов. За день до побега их намерение было обнаружено. Их выдал шофер, с которым была договоренность: за двадцать тысяч марок он обещал вывезти их с территории лагеря.
Выданных беглецов немцы согнали в подвал сгоревшего дома, окружили усиленной охраной и спустили собак. По замыслу немцев все при этом должны были остаться в живых: для дальнейших издевательств и пыток. Затем всю группу повели через город с поднятыми вверх руками. В лагере все началось сначала: избиение плетьми, травля собаками. Участвовали в этом все немцы, ”кому только не лень”. Каждого в отдельности уводили в жарко натопленную баню. В бане был бассейн с горячей водой. Жертву сталкивали в бассейн, снова вытаскивали и обливали холодной водой, после чего людей выводили на мороз и через два часа пристреливали”.
Эта группа в пятьдесят человек состояла исключительно из евреев-военнопленных. Двух из них Печерский знал лично: Борис Коган из Тулы и Аркадий Орлов из Киева.
В сентябре 1943 года лагерь начали разгружать. 18 сентября Печерский оказался в эшелоне, направлявшемся в Собибор.
Комендант Минского лагеря Вакс сказал заключенным, что они едут ”на работу в Германию”. Они ехали четверо суток в вагонах с забитыми окнами, без хлеба и воды. На пятые сутки поезд подошел к полустанку Собибор. Поезд был переведен на запасной путь, и, давая задний ход, паровоз подтолкнул вагоны к воротам, на которых висел щит с надписью: ”Зондеркомандо”. Печерский прибыл в Собибор после двухлетнего пребывания в немецком плену, умудренный горчайшим и страшным опытом, достаточно видевший и перенесший, чтобы сразу ориентироваться в открывшейся перед его глазами обстановке нового лагеря.
Вот что рассказывает Печерский о первом дне своего пребывания в лагере:
”Я сидел на бревнах возле барака с Шлеймой Ляйтманом, который впоследствии стал главным моим помощником по организации восстания. К нам подошел незнакомый человек лет сорока. Я спросил у него, что там горит вдалеке, метрах в пятистах от нас, и что это за неприятный запах паленого во всем лагере.
— Не смотрите туда, это запрещено, — ответил незнакомец. — Это горят трупы товарищей, приехавших вместе с вами.
Я не поверил ему. Но он продолжал:
— Этот лагерь существует уже больше года. Здесь находится пятьсот евреев — польских, французских, голландских, чехословацких. Русских евреев привезли впервые. Эшелоны по две тысячи новых жертв приходят сюда почти каждый день. Их уничтожают в течение часа, не больше того. Здесь, на маленьком клочке земли в 10 гектаров, убито 500 тысяч женщин, детей и мужчин”.
Появление военнопленных с востока, красноармейцев и офицеров, произвело огромное впечатление в лагере. Оно оказалось своего рода сенсацией. К новоприбывшим потянулись жадные, любознательные, ждущие, надеющиеся на что-то глаза. Люди с востока, ”военнопленные” — для остального населения лагеря они казались почти ”людьми с воли”.
Печерский с первых дней своего пребывания в Собиборе задумался о будущем. Что предпринять? Пытаться ли спастись от гибели, здесь уже неизбежной? Бежать? Но бежать самому или с небольшой только группой товарищей, оставив всех остальных на мучения и гибель? Он отверг эту мысль.
С самого начала идея спасения слилась для него с идеей мести. Отомстить палачам, уничтожить их, уйти всем лагерем на свободу, по возможности, разыскать партизан — так вырисовался перед ним план будущих действий. Невероятная трудность задачи не остановила Печерского.
Прежде всего необходимо было изучить расположение лагеря, распорядок жизни заключенных, офицеров, охраны. Печерскому ясно было, что захотят бежать из лагеря все: но как среди этой массы незнакомых, изнуренных, слабых физически, а может быть и морально, людей, найти таких, на которых можно положиться.
Да и найдутся ли такие?
Через пять дней после прибытия Печерского в Собибор он неожиданно был приглашен в женский барак. Там его ждала интернациональная группа заключенных, в большинстве не знавших русского языка. Его забросали вопросами. Беседа свелась к своего рода политической консультации. Положение осложнялось тем, что Печерский совершенно не знал, с кем имеет дело. Среди присутствующих могли быть и ”капо”, то есть лагерники, работающие на немцев, надсмотрщики. Печерский говорил по-русски. Переводчики-добровольцы объясняли собравшимся смысл его уклончивых ответов.
Печерский рассказал о том, как были разбиты немцы под Москвой, окружены и уничтожены под Сталинградом, о том, что Красная Армия подходит к Днепру, о том, что недалек час, когда Армия-освободительница перешагнет германскую границу. Рассказывал также Печерский о партизанском движении на оккупированной территории Союза. Ведь еще в Минске до него доходили слухи о спущенных под откос партизанами немецких эшелонах, о террористических выступлениях в самом городе.
”Все напряженно слушали, стараясь не проронить ни одного слова. Кто хоть немного понимал по-русски, сейчас же переводил соседу. И эти обреченные на смерть люди были искренне взволнованы рассказом о чужой доблести и борьбе.
— Скажите, — раздался робкий голос, — если столько партизан, почему же они не нападут на лагерь?
— Для чего? Чтобы освободить тебя, меня, его, да? У партизан и без нас найдется дело. За нас работать никто не будет.
Резко повернувшись и хлопнув дверью, Печерский вышел из барака. Последних фраз его никто не переводил. Их поняли и без перевода.
Так или иначе о побеге из лагеря думали все заключенные. Такое впечатление вынес Печерский из этой первой встречи. Перед ним встала задача: остановить и урезонить наиболее нетерпеливых, доказать, что нужна тщательная и продуманная подготовка, прежде чем решиться действовать.
Однажды к Печерскому подошли товарищи, среди них был и Шлейма Ляйтман.
— Саша, мы решили бежать, — сказал он. — ”Вахе” (охрана) небольшая. Убьем их и уйдем в лес.
— Это проще сказать, чем сделать. Пока вы будете снимать одного часового, другой с вышки откроет стрельбу из автомата. Но допустим, что удастся снять всю охрану. Чем вы будете резать проволоку? Как пройдете минированное поле? Что будет с товарищами, которые останутся здесь? Имеем ли мы право забыть о них? Бегите, если хотите, мешать я не стану, но сам не пойду.
И я ушел с одним из товарищей, который называл себя Калимали. Побег был отменен.
В эти же дни произошло еще одно событие, сильно повлиявшее на решение Печерского. Тот самый пожилой человек, с которым он беседовал в первый день пребывания в Собиборе, еще раз подошел к нему. Старика этого звали Борух, — впоследствии оказалось, что он портной. Борух присутствовал в женском бараке при встрече Печерского с лагерниками. От этого человека Печерский услышал предупреждение о том, что за ним начали следить.
— Вы заметили, вчера в бараке около меня стоял высокий худой человек. Это ”капо” Бжецкий, отъявленный негодяй. Он понял все.
— Постойте, о чем, собственно говоря, вы беспокоитесь? Зачем же ему следить за мной? Я ничего не собираюсь делать. Бежать — это безнадежно.
Борух помолчал.
— Вы боитесь меня и вы правы, — начал он, — прошло всего несколько дней с тех пор, как мы впервые увидели друг друга. Но выхода у нас другого нет. Вы можете уйти неожиданно, и тогда все будет кончено для нас. Поймите меня, — и он схватил меня за руку. — Нас много, таких как я, которые хотели бы уйти. Но нам нужен человек, который поведет нас и укажет, что делать. Доверьтесь нам. Мы многое здесь знаем и можем помочь вам.
Я посмотрел в его открытое, доброе лицо и подумал: предатель или нет, а рискнуть все-таки придется!
— Как заминировано поле за проволокой? Понимаете вопрос?
— Не совсем.
— Обычно мины ставятся в шахматном порядке.
— Ага, теперь понимаю. Так и заминировано. Расстояние между минами полтора-два метра.
— Благодарю вас. А теперь я попрошу вас вот о чем. Познакомьте меня с какой-нибудь девушкой.
Борух удивился:
— С девушкой?
— Да. Вчера справа от вас стояла молоденькая девушка, кажется голландка, стриженая, волосы каштанового цвета. Помните, она курила. Вот хотя бы с ней. Она не говорит по-русски, и это как раз очень удобно. Со мною вам встречаться больше незачем.
Мы с Ляйтманом спим рядом, все, что надо будет вам, передавать будет он. А теперь пойдем в женский барак знакомиться с девушкой.
Прошло несколько дней. Каждый вечер Печерский встречался с Луккой, — так звали его новую знакомую, молоденькую голландку. Оба сидели на досках около барака. То один, то другой заключенный подходил к Печерскому и заговаривал с ним, — на первый взгляд о самых обыкновенных вещах. Подходил и ”капо” Бжецкий, немного понимавший по-русски, — тогда Печерский немедленно принимался любезничать с девушкой. Лукка с самого начала смутно догадывалась, что вовлечена в какую-то серьезную игру. Печерский ей и не заикался. Она молча поддерживала конспирацию. Печерский был ”восточником”, советским человеком, — уже это одно возбудило надежду Лукки, ей хотелось ему верить. Печерский был вдвое старше этой восемнадцатилетней девушки. Но он с ней подружился. Лукка рассказывала ему свою историю. Здесь в лагере ей пришлось скрыть, что она дочь немецкого коммуниста, бежавшего из Германии в Голландию, когда гитлеровцы пришли к власти. Отцу ее удалось скрыться и во второй раз, когда немцы оккупировали Голландию. Немцы арестовали ее вместе с матерью. Братьев ее убили. Мать и дочь привезли в Собибор.
Отношения между Печерским и Луккой оставались на протяжении всех этих трагических дней дружескими. Лукка поняла смысл и цель их дружбы. Привыкшая еще с детства к конспирации, она ни о чем не спрашивала, догадываясь, что у Печерского есть серьезные основания не посвящать ее в свои замыслы.
Таким образом, не возбуждая ничьих подозрений, Печерский осваивался среди массы незнакомых ему лиц и попутно узнавал кое-что о расположении лагеря, о настроениях людей, об охране.
Седьмого ноября он снова встретился с Борухом, на этот раз за шахматной доской.
— Вот первый план, — начал рассказывать Печерский, — он сложен и едва ли выполним, но все-таки выслушайте. Столярная мастерская находится в пяти метрах от проволоки. Между рядами проволоки четыре метра. Минированное поле — еще пятнадцать метров. Прибавьте к этому семь метров внутри столярной мастерской — итого тридцать пять. Нужно сделать подкоп. Я подсчитал, что придется спрятать под полом и на чердаке приблизительно двадцать кубометров земли. Копать придется только ночью. У этого плана две отрицательные стороны: едва ли шестьсот человек смогут проползти друг за другом тридцать пять метров в течение одной ночи. Кроме того, если мы и уйдем, то уйдем, так и не уничтожив немцев. Поговорите с вашими по поводу этого плана. А о втором плане я пока вам ничего не скажу.
— Почему?
— Нужны еще дополнительные сведения. А пока вот что: беретесь вы достать штук семьдесят ножей или бритв? Я раздам их ребятам.
— Будет сделано, — ответил Борух. — А теперь мне надо посоветоваться с вами об очень важном деле. В нашу группу входит Моня, — вы его знаете; из тех молодых ребят, что строят бараки. Вчера к нему подошел ”капо” Бжецкий и заявил, что знает о готовящемся побеге. Конечно, его постарались разуверить. Он выслушал все и сказал, что хотел бы присоединиться к нам и бежать.
— Я задумался, — пишет Печерский, — хотя это и похоже на провокацию, но мысль о том, что каповцы могут помочь, показалась мне необычайно соблазнительной.
— Моня считает, — продолжал Борух, — что каким бы негодяем ни был Бжецкий, тут на него можно положиться. Бжецкий отлично знает, что в последнюю очередь уничтожат и каповцев; они не могут оставить живых свидетелей своих преступлений.
— Что же вы ответили Моне?
— Что один, без вас, ничего решить не могу.
— Подумаем на счет каповцев. А пока пора разойтись.
Кузнец Райман тайно исполнял заказ Печерского — делал ножи. Кузница помещалась рядом со слесарной мастерской. Вечером десятого октября в кузнице собралось несколько человек, среди них был и Бжецкий. Немецкая охрана отдала в слесарную мастерскую для починки патефон. Печерский и Ляйтман были приглашены ”послушать патефонные пластинки”.
Разговор начался издалека. Завели патефон. Кузнец жарил оладьи с сахаром, Бжецкий объяснил, что мука и сахар украдены из второго склада, то есть при сортировке вещей казненных. Печерский рассказывает: ”Я отказался от оладий и заговорил о пластинках. Бжецкий все время пытался перевести разговор на тему о побеге. Под разными предлогами я уклонялся. Наконец, он дал знак кузнецу. Тот взял патефон и вышел в слесарную. Все пошли за ним. Мы остались с Бжецким с глазу на глаз.
— Я хотел говорить с вами, — начал он, — вы догадываетесь о чем?
— Я плохо понимаю по-немецки.
— Хорошо, будем говорить по-русски. Правда, по-русски я говорю неважно, но если хотите, мы договоримся. Прошу вас. выслушайте меня. Я знаю о том, что вы готовите побег.
— Вздор! Из Собибора бежать невозможно.
— Вы делаете это очень осторожно. Вы редко бываете в бараках. Вы никогда ни с кем не разговариваете, за исключением Лукки. Но Лукка — это только ширма. Саша, если бы я хотел вас выдать, я мог бы это сделать давным-давно. Я знаю, вы считаете меня низким человеком. Сейчас у меня нет ни времени, ни охоты разубеждать вас. Пусть так. Но я хочу жить. Я не верю Вагнеру (начальнику лагеря), что каповцев не убьют. Убьют и еще как! Когда немцы будут ликвидировать лагерь, нас уничтожат тоже.
— Хорошо еще, что хоть это поняли. Но почему же вы об этом говорите со мной?
— Я не могу не видеть того, что происходит. Все остальные только исполняют ваши распоряжения. Шлема Ляйтман говорит с людьми от вашего имени. Саша, поймите меня: если каповцы будут вместе с вами, вам будет несравненно легче. Немцы доверяют нам... У каждого из нас есть право передвижения по всему лагерю. Короче говоря, — мы предлагаем вам союз.
— Кто это мы?
— Я и Чепик, ”капо” банной команды.
Я встал, прошелся несколько раз из угла в угол по кузнице.
— Бжецкий, — начал я, посмотрев ему прямо в лицо, могли бы вы убить немца?
Он ответил не сразу.
— Если это нужно для пользы дела, мог бы.
— А если без пользы? Точно так же, как они сотнями тысяч уничтожают наших братьев...
— Я не задумывался над этим...
— Спасибо за откровенность. Нам пора разойтись.
— Хорошо. Но еще раз прошу вас, — подумайте о том, что я вам сказал.
Я ответил, что мне думать не о чем, поклонился и вышел. Однако именно то, что Бжецкий задумался, прежде чем ответить на мой прямой вопрос об убийстве немца, заставило меня предположить что, может быть, в этом случае он действует без провокационных намерений. Провокатор согласился бы сразу”.
На другой день, 11 октября, работавшие в Норд-лагере на строительстве бараков услышали крики и стрельбу из автоматов. Немедленно же немцы согнали людей в одно место, запретили выходить из мастерских первого лагеря, закрыли ворота и поставили дополнительную охрану. Только в пять часов выяснилась причина всех этих чрезвычайных мероприятий. Прибыл очередной эшелон смертников. Когда их раздели и повели, они догадались обо всем и бросились в разные стороны. Совершенно голые, несчастные могли добежать только до проволоки, — немцы встретили их огнем винтовок и автоматов.
Совещание, на котором был принят окончательный план побега, состоялось на следующий день, 12 октября, в столярной мастерской. На совещании присутствовали Борух, Ляйтман, старшина столярной мастерской Янек, Моня, Печерский и еще несколько ”восточников”. Во дворе около мастерской мирно беседовали двое, у ворот первого лагеря — еще двое. Это были посты наблюдения.
Совещание началось с вопроса — как быть с Бжецким. Решено было пригласить его. Моня ушел и через несколько минут привел Бжецкого. Пользуемся рассказом Печерского:
— Мы решили, Бжецкий, пригласить вас, — начал я, — но принимая в свой круг такого человека, как вы, мы ставим на карту судьбу всего лагеря. Поэтому помните — в случае малейшей неудачи, вы погибнете первым.
— Я это знаю.
— Итак, товарищи, вот план, который я считаю единственно выполнимым. Мы должны убить всех немецких офицеров. Разумеется, поодиночке, но в очень короткий срок. На все это дается не больше часа. Убивать немцев будут только восточные евреи, только военнопленные, которых я знаю лично и на которых я могу положиться. После обеда, в половине четвертого, ”капо” Бжецкий под каким-нибудь предлогом отведет трех человек во второй лагерь. Эти люди убьют четырех офицеров. В четыре часа электромонтеры должны перерезать телефонную связь, идущую через второй лагерь в резервную команду. Одновременно в нашем лагере начнется уничтожение гестаповцев. Надо ухитриться, чтобы они попадали к нам в разное время и убивать их по одному. В половине пятого Бжецкий и Чепик строят весь лагерь в колонну, как будто бы для работы, и колонна направляется к выходу. В первых рядах идут ”восточники”. По дороге к главным воротам нужно захватить оружейный склад, по возможности без шума. Помните, что во время движения колонны очень легко может возникнуть паника, тогда все пропало. Немцы обнаружат побег. Если удастся захватить склад, мы вступим с ними в бой. Если не удастся, придется идти напролом. Недалеко от столярной мастерской, почти вплотную к проволоке находится офицерский дом. Можно сказать наверняка, что рядом с ним немцы побоялись минировать поле, разве только заложили несколько сигнальных мин. Нужно поэтому именно в этом месте рвать проволоку. Вот и весь план. До завтра подумайте над ним. Есть возражения?
Борух ответил за всех, что возражений нет”.
III
Этот безумно смелый и отважный план родился у человека, который горел желанием свободы и мести. Само собой разумеется, что план мог быть выполнен только при условии строжайшей точности и строжайшей тайны.
Недаром каждый час следующего дня, 14 октября, отдельно отмечен в дневнике Печерского.
С утра он работал в одном из бараков, из окон которого был виден весь лагерь. Семь человек, работавших рядом с ним в то утро, ничего не знали о побеге. В соседнем бараке 20 ”восточников”, подобранных по специальному списку, строили нары под руководством Ляйтмана. В 10 часов Ляйтман позвал Печерского и доложил ему о ходе дела:
— К четырем часам в портняжную мастерскую приглашен для примерки мундира унтерштурмфюрер Эрнст Берг. Четверть пятого туда же придет обершарфюрер Гетцингер (начальник третьего, то есть смертного лагеря). В сапожную мастерскую в четыре часа должен явиться унтершарфюрер Эмиль Шумахер. С унтершарфюрером Фридрихом Гаульштих расправлюсь я собственноручно. Четырех немцев убьют во втором лагере, остальных ребята постараются как-нибудь зазвать в мастерские.
— Хорошо. Товарищей, которые взяли на себя уничтожение немцев, присылай ко мне по одному.
Через пять минут в барак, где я работал, зашел Калимали.
— Сегодня в три часа, — сказал я Калимали, — ты пойдешь в портняжную мастерскую. Возьми рубанок, стамеску и топор. Смотри, Калимали, промахнешься, — мы погибли. Понял?
— Да.
— Ну, ступай. Желаю счастья.
Я крепко пожал ему руку.
Через полчаса ко мне пришел Борис Цибульский, которому было поручено убийство гестаповцев во втором лагере.
— Борис, — сказал я ему, — время пришло. Я посылаю тебя на самый трудный участок. С тобой пойдут Михаил и Беня. Возьмите два топора. Бжецкий отведет вас во второй лагерь. Помни, Борис, ты начинаешь первый. Твой удар вдохновит всех. Если товарищи, идущие с тобой, боятся, замени их. Принуждений здесь быть не может.
— Не беспокойся, Саша, они только ждут сигнала.
В два часа в первый лагерь явился неожиданно один из гестаповцев, взял ”капо” Бжецкого и еще трех человек и повел куда-то. Страшная мысль: ”все открыто!” — поразила нас.
Через час выяснилось, что Бжецкого повели в Норд-лагерь для укладки леса. ”Капо” Чепик взял на себя поручение, данное Бжецкому: он отвел людей во второй лагерь для убийства гестаповцев.
Напряжение в лагере росло. Конспирация среди восставших была полная. Очень немногие из лагерников знали о предстоящем побеге, но многие ощущали неопределенную тревогу и почти все чувствовали, что можно верить этим молчаливым, толковым и сумрачным людям, недавно прибывшим в лагерь и сговаривающимся о чем-то в стороне. За два дня до побега был праздник, Йом-Кипур. В лагере нашлись усердные молельщики. Один из ”восточников” обратился к кантору с вопросом:
— Почему вы молитесь Богу, чем он поможет вам? Молились бы Сашке (то-есть Печерскому).
Он услышал такой ответ:
— Мы молимся Богу, чтобы Сашке все удалось.
Надежда просачивалась и сквозь молчание и сквозь всеобщий страх. Распространялись разные слухи. Разразившиеся 14 октября события нашли для себя подготовленную почву.
* * *
Первым был убит унтерштурмфюрер Эрнст Берг, явившийся в портняжную мастерскую на двадцать минут раньше, чем предполагалось. В тот момент, когда Берг снял с себя ремень с кобурой и пистолетом и начал примерять мундир, Калимали ударил его топором по голове. Труп немца бросили на койку и прикрыли одеялом. Нельзя без волнения читать дневник Печерского. ”Не было еще четырех, когда Калимали вбежал к нам в барак и положил передо мной пистолет. Мы обнялись.
— Теперь кончено, — сказал я. Если кто-нибудь и захотел бы отступить, — поздно. Спасибо тебе. друг.
Калимали ушел. Внезапно поднялся смертельно побледневший голландец и попытался выйти следом за Калимали.
— Куда?
— Хочу оправиться.
— Назад. Подождешь. Товарищи, вам понятно, что происходит, — обратился я ко всем, находящимся в бараке. Смотрите же за этим, не выпускайте его”.
В десять минут пятого в той же портняжной мастерской Семен Мазуркевич убил начальника всей охраны лагеря — Михеля. Одновременно в сапожной мастерской Аркадий Вайспапир убил начальника смертного лагеря обершарфюрера Гетцингера. В четверть пятого Цибульский доложил Печерскому, что свою задачу (уничтожение гестаповцев во втором лагере) он выполнил. Четыре гестаповца убиты, телефонная связь перерезана, выходы закрыты.
Наступила пора строить людей.
Но Печерский медлил. Он надеялся, что удастся прикончить еще кого-нибудь из немцев.
В это время Шлейма Ляйтман убил еще одного гестаповца (Фридриха Гаульштиха).
В половине пятого вернулся ”капо” Бжецкий. Это было очень кстати: только ”капо” могли, не вызывая подозрения, построить колонну.
Оружия в руках у восставших оказалось немного: одиннадцать пистолетов, снятых с убитых, да еще шесть винтовок, которые жестянщики издавна припасли, спрятав их в водосточные трубы. Приходилось довольствоваться тем, что есть.
Без четверти пять Бжецкий дал сигнал, чтобы колонна построилась. На резкий свисток со всех сторон сбежались люди.
Начальник караула (немец с Поволжья) пытался загнать людей обратно в бараки, но был убит.
Толпа бросилась к оружейному складу. Сильный пулеметный огонь преградил ей дорогу. Печерский понял, что захватить оружие не удастся. Он крикнул:
— Товарищи, вперед!
Люди бросились за ним к офицерскому дому. Многие бросились в другую сторону — к центральным воротам.
Часовые были смяты. Люди бежали напрямик по минированному полю к видневшемуся вдалеке лесу. Многие подорвались на минах. Из шестисот бежавших четыреста все же скрылись в лесу.
Столяр Хаим Поврозник, житель Холма, солдат польской армии, попавший в плен к немцам еще в 1939 году, рассказывает об этом дне:
”Большая группа собралась в лагере. В центре стоял наш славный руководитель Сашка (перед тем Поврозник называет Печерского ”славный ростовский парень”). Сашка крикнул:
— За Сталина, ура!
Разделившись на мелкие группы, мы разбрелись в разные стороны по всему лесу. Немцы устроили облаву. Самолеты обстреливали нас пулеметным огнем. Очень многие были убиты. В живых осталось не больше пятидесяти человек. Мне удалось добраться до Холма, где я скрывался до прихода Красной Армии. В тот день ко мне, узнику Собибора, вернулась жизнь”.
Голландка Зельма Вайнберг рассказывает:
”Когда в лагере произошло восстание, мне удалось бежать.
Вместе со мной убежали еще две девушки: Кетти Хокес из города Гах и Уржля Штерн из Германии. Кетти попала потом в партизанский отряд и там умерла от тифа. Уржля тоже воевала в партизанском отряде. Сейчас она во Влодаве. Вместе с Уржлей я была в Вестербурге и в тюрьме в Фихте, вместе прожила в Собиборе, вместе с нею бежала и спаслась”.
Судьба подруги Печерского, голландки Лукки, осталась неизвестной, так же как и ее настоящее имя.
22 октября Александр Печерский, после долгих странствий по дорогам и проселкам Польши, встретился с партизанским отрядом, в который был принят вместе с несколькими своими товарищами. В настоящее время в звании капитана он находится в рядах Красной Армии.
* * *
...На десяти гектарах польской земли, где был расположен Собиборский лагерь уничтожения, ветер позванивает ржавой колючей проволокой. Картофельное или капустное поле, которое немцы развели здесь, чтобы скрыть следы своей чудовищной преступной работы, еще раз перекопано. Под ним найдены осколки человеческих костей, жалкие обломки лагерного быта, разрозненная обувь всех размеров и фасонов, множество бутылок с этикетками Варшавы, Праги, Берлина, детские молочные рожки и зубные протезы, еврейские молитвенники и польские романы, открытки с видами европейских городов, документы, фотографии, побуревший молитвенный талес рядом с трикотажной тряпкой, потерявшей цвет, консервные коробки и футляры от очков, детская кукла с вывороченными ручками. Все это — немые свидетели убийств сотен тысяч людей, свезенных в лагерь смерти со всех концов Европы.
ПОНАРЫ (Рассказ инженера Ю. Фарбера). Подготовила к печати Р. Ковнатор.
— Я по профессии инженер-электрик. До войны я жил в Москве, работал в Научно-исследовательском институте связи и заканчивал аспирантуру по специальности.
С первых дней войны я находился в рядах Красной Армии.
Осенью 1941 года я попал в окружение и после блуждания по лесам и попытки выбраться к своим был захвачен немцами.
Один из немцев, посмотрев на меня, сказал: ”Этому в плену мучиться не придется — он еврей и сегодняшнего заката уже не увидит”. Я все понял, так как владею немецким языком, но не подал и виду.
Нас, большую группу пленных, повели на пригорок, окруженный колючей проволокой. Мы лежали на площадке под открытым небом; по сторонам стояли пулеметы. Через три дня нас заперли в товарные вагоны и повезли: не давали ни еды, ни воды, не отворяли дверей... На шестые сутки нас привезли в Вильнюс. В вагонах осталось очень много трупов. Восемь тысяч пленных поместили в лагерь, в Ново-Вилейку, около Вильнюса. Люди жили в бывших конюшнях без окон и дверей, стены были в огромных щелях. Начиналась зима.
Пищевой рацион был таков — килограмм хлеба на 7 человек, но часто хлеба не давали: немцы привозили смерзшуюся глыбу картофеля с грязью, льдом, шелухой, соломой. Ее бросали в котел, разваривали до состояния крахмала, пленный получал пол-литра баланды.
Каждое утро из всех бараков вытаскивали мертвецов. К яме волокли трупы, их слегка присыпали хлорной известью, но не закапывали, ибо на другой день в эту же яму сбрасывали новую партию трупов. Бывали дни, когда число трупов превышало полтораста, нередко вместе с трупами в яму бросали еще живых людей.
Немцы называли нас подонками человечества ”унтерменш”. Однажды за какую-то ничтожную провинность немцы приказали двум пленным лечь животами в лужу, которая уже покрылась тонким льдом.
Их оставили на ночь, а они ведь лежали голые, и они замерзли.
У меня в памяти остались две даты — ночь с 5-го на 6 декабря 1941 года и ночь с 6-го на 7-е. У меня был товарищ, молодой парень 20 лет, украинец — Павел Кирполянский. В нашем бараке было холодно и чтобы согреться, мы ложились на одну шинель, а сверху покрывались другой, и спали в обнимку. Мы были усеяны паразитами. Сыпной тиф косил людей. В эту ночь мы лежали, обнявшись с Павлом. Внезапно я был разбужен, чувствую, что он порывается бежать. Я положил ему руку на лоб и сразу понял в чем дело. Павел горел в жару, в бреду он меня не узнавал. Оставлять его без шинели нельзя было. Я его обхватил и держал крепко в своих объятиях до утра... Утром он умер, его поволокли в яму... Однако я не заболел тифом.
В ночь с 6-го на 7 декабря с двух сторон возле меня лежали украинские парни. Мы обнялись, мне было тепло, и я крепко спал. На рассвете раздается свисток, я стал толкать своего соседа Андрея. Он не отзывался, он был мертв. Я стал будить второго соседа — Михайличенко. Он тоже был мертв. Оказывается, эту ночь я спал рядом с мертвецами.
Мысль о том, что я останусь жив и буду в Москве меня никогда не покидала.
Я заставлял себя умываться и даже бриться. В бараке был парикмахер. Он изредка брил военнопленных и в качестве платы взимал одну картошку. В этот день, 7 декабря, меня ожидала большая удача: мне попалась в баланде целая картошка. Я решил побриться. Когда я протянул парикмахеру картошку, выловленную из супа, он посмотрел на меня и сказал: ”Не надо”... Я спросил: ”Почему?” Он ответил: ”Ты все равно на этой неделе помрешь, кушай сам”.
Прошла неделя. Я снова пришел бриться. Парикмахер был поражен, увидев меня: ”Как, ты еще жив? Ну ладно, я тебя еще раз побрею бесплатно, все равно ты скоро помрешь”. Когда, однако, я пришел в третий раз, то парикмахер сказал: ”Я тебя буду брить бесплатно, пока ты не умрешь”.
К новому году я уже не мог ходить — у меня был голодный отек. Пальцы на ногах сначала почернели, потом мясо отваливалось и были видны кости на пальцах.
Выделенный из пленных переводчик, ленинградский студент Игорь Деменев, — впоследствии он с товарищами убил немецких охранников и бежал, — помог мне попасть в лазарет при лагере. Среди нескольких деревянных бараков, в разрушенном кирпичном домишке, переводчик и несколько врачей-военнопленных организовали лазарет. Ко мне врачи отнеслись хорошо.
Заместителем главного врача был доктор Евгений Михайлович Гутнер из Сталинграда. Он отнесся ко мне с братским сочувствием и заботой. К маю месяцу я научился ходить, в июне мог подниматься на второй этаж. Лазарет был единственным местом в лагере, куда немцы не заглядывали, так как боялись тифа и туберкулеза. Меня не выгнали из лазарета, а сделали уборщиком. Смертность была огромная.
В этом лазарете я прожил до конца 1943 года. Количество военнопленных все уменьшалось. Из привезенных восьми тысяч осталась в живых небольшая горсточка.
Немцы использовали пленных на работах за пределами лагеря. Жители подкармливали военнопленных.
Военный врач Сергей Федорович Мартышев шел на величайший риск, чтобы спасти возможно большее количество людей. Под разными вымышленными предлогами он задерживал людей в лазарете, оказывал им всяческую поддержку.
Когда мы узнали о Сталинграде, это произвело огромный поворот в настроении военнопленных и гражданского населения, все поняли, что война немцами проиграна.
Отрезанный от всего мира, наш маленький коллектив тоже включился в борьбу против немецких захватчиков.
Для немцев писали листовки, некоторые на немецком языке писал и я. В одной листовке я писал: ”Господь бог дал немцам три качества — ум, порядочность и национал-социализм, но никто не обладает больше, чем двумя достоинствами. Если немец умный и национал-социалист, то он непорядочный, но если он умный и порядочный, то он не национал-социалист”.
В другой листовке было написано просто: ”Гитлеру капут״.
Мы написали до двадцати листовок, они пользовались успехом. Наша смелость все возрастала. Часто в 12 часов, как только погаснет свет, мы начинали петь Интернационал. Немцы неистовствовали, применяли всяческие репрессии, однако ”виновных” им обнаружить не удавалось.
Мое здоровье понемногу крепло, хотя Сергей Федорович и считал это чудом. По-моему, главное было в моей внутренней убежденности, что я должен дожить до победы. Я мобилизовал все свои физические и душевные силы. Я сам держал себя в строжайшей дисциплине. Хлебный паек в 150 граммов я делил на 20 ломтиков, а потом научился делить на 40. Это были немецкие хлебцы овальной формы. Хлеб выпекался из спецмуки, в нем было много древесных опилок. Один хлебец делили на 7 человек, из своей порции я делал 40 ломтиков, тонких, как папиросная бумага. Нам привозили хлеб в 5 часов вечера, я растягивал свою порцию на 5 часов. Я брал ломтик, насаживал на деревянную палочку, подносил к печке, поджаривал и в таком виде ел.
При лазарете был небольшой сад; на его территории нельзя было найти ни одной травинки, ни одного листика. Даже кора с деревьев съедалась.
Изредка нас водили в баню. В бане выискивали и ловили евреев. Однажды немец привязался к одному пленному и говорит: ”Ты еврей”. Немец записал его номер, чтобы доложить начальству. Военнопленный Ваня Нижний решил спасти товарища. Он улучил момент, и в какую-то долю секунды успел переменить записку с номером.
В бане мылись поздно вечером, а на следующее утро с доносчиком произошел конфуз. Вызванный парень оказался русским, и к нему никак нельзя было придраться.
В конце 1943 года начались новые проверки, вылавливали евреев. Всех выстраивали и заставляли раздеваться, нашим врачам поручили быть экспертами.
Сергей Федорович категорически сказал: ”Режьте меня, делайте что хотите, я экспертизу проводить не буду”. Ему угрожали всякими репрессиями; глядя на него, и другие врачи отказались.
В лагере я назвался украинцем Юрием Дмитриевичем Фирсовым.
Все-таки немцы дознались, что я еврей. Немцы выявили 6 евреев, среди них оказался русский парень Костя Потанин из Казани, у которого даже знакомых евреев в жизни не было. Но немцы утверждали, что у него большой нос.
Настал памятный день, 29 января 1944 года. В лагерь военнопленных прибыла крытая машина, которую называли ”Черный ворон”; комендант вывел арестованных евреев (среди них был и Костя Потанин). Нас повезли. Внезапно машина остановилась, как мы потом узнали, возле Лукишской тюрьмы. Оттуда вывели двух евреев, которые бежали из гетто, прятались, были обнаружены и забраны в тюрьму. Через несколько минут, как только машина тронулась, эти двое начали плакать. Молодой парень — Давид Канторович на наш вопрос, почему они плачут, сказал, что машина едет по направлению к Понарам, а оттуда нет дороги назад.
Привезли нас в Понары. Место было огорожено колючей проволокой. У ворот надпись: ”Подходить строго воспрещается, опасно для жизни, мины”. Машина проехала, и примерно метров через 300 оказался второй забор, за которым стояли охранники. Из ворот вышла другая группа охранников; ни тех, которые были снаружи, ни тех, что приехали с нами, за вторую проволоку не пустили. Порядок соблюдался строгий: никто не мог проникнуть в Понары.
Охранники были рослые, широкоплечие, упитанные. Машина с новой охраной въехала в лагерь. Колючая проволока образовывала две стены, и как мы потом узнали, в проходе были мины.
В проволоке был еще один небольшой узкий проход. Этим проходом нас подвели к краю огромной ямы. Это был котлован для нефтехранилища; диаметр составлял 24 метра. В глубину яма имела 4 метра. Стены ее были зацементированы. Две трети ямы были укрыты бревнами, а одна треть открыта. На дне ямы я увидел женщину и понял, что там живут люди. Наверху лежали две лестницы. Одна лестница считалась ”чистой”, ею пользовались только немцы. Нас спустили вниз по ”нечистой” лестнице, охрана осталась наверху. Откуда-то вызвали старшего рабочего, это был еврей по имени Абрам Гамбург — из Вильнюса. Немцы его звали Франц. Вызвали еще одного рабочего по имени Мотл, которого немцы звали Макс. Он был в кандалах, ему приказали и нас заковать.
Это были цепи из звеньев толщиной немного меньше пальца.
Их накладывали на ногу, пониже колена, примерно там, где оканчиваются сапоги. Цепь свисала до земли, чтобы она не мешала ходьбе, половину цепи разрешили веревкой подвязать к поясу.
Когда все прибывшие были закованы в цепи, появился начальник — штурмфюрер.
Это был утонченный садист, ему было лет 30. Он был щегольски одет, на нем были белые замшевые перчатки до локтя. Сапоги блестели, как зеркало. От него очень сильно пахло духами. Он держал себя очень высокомерно не только с нами, но и немцев-охранников держал в неимоверном страхе.
Нас выстроили, он спросил каждого — откуда он. Мы с Костей Потаниным сказали, что мы не понимаем его (я все время скрывал знание немецкого языка), старший рабочий Франц переводил. Штурмфюрер говорил по-еврейски и по-польски, кое-как он объяснялся по-русски.
Когда дошла очередь до меня и он спросил: ”Откуда ты?” — я ответил, что из Москвы.
Штурмфюрер насмешливо сказал: ”Люксус город Москва” и посмотрел на меня в упор. Я ответил: ”А что, не любишь Москву?” Переводчик Франц затрясся, он перевел мои слова в очень смягченном виде. Штурмфюрер замахнулся, но не тронул меня.
Он сказал, что мы будем работать на важной работе государственного значения. ”Не пытайтесь снять кандалы, потому что их будут проверять несколько раз в сутки, при малейшей попытке бежать вы будете расстреляны. Не думайте бежать, потому что из Понар никто не уходил и никто никогда не уйдет”. Потом началось перечисление: за малейшую попытку к бегству — расстрел. Во всем мы должны слушать команду начальников, за малейшее нарушение — расстрел. Мы должны выполнять все правила внутреннего распорядка — иначе расстрел. Должны прилежно работать, кто будет обвинен в лени — расстрел. Он говорил очень долго и мне стало ясно: умереть здесь нетрудно. После этой назидательной речи он ушел.
Мы стояли на дне ямы, там была одна женщина, и из глубины ямы вышла вторая. Мы стали с ними беседовать.
Мы сразу задали вопрос: ”Будут ли нас кормить?” Они ответили: ”Об этом вы не беспокойтесь, кормить вас будут, но выйти живыми вам не удастся”.
Мы зашли под навес: там был деревянный загон, который назывался бункером, и маленькая кухня. Женщины сказали, что здесь живут евреи из Вильнюса и окрестных сел. Они скрывались вне гетто, но их нашли, посадили в тюрьму, а потом привезли сюда. Канторович, о котором я уже упоминал, (он был виленчанин) перекинулся несколькими фразами с женщинами. Они стали откровеннее и сказали, что это Понары, где расстреляны не только виленские евреи, но и евреи из Чехословакии и Франции. Наша работа будет состоять в том, чтобы сжигать трупы. Это держится в величайшем секрете. Немцы думают, что женщины ничего не знают, и мы тоже не должны проговориться. При немцах надо говорить, что мы занимаемся заготовкой леса. Не успели мы все это услышать, как раздался свисток, и мы должны были подняться наверх по лестнице. Нас построили попарно и повели.
Первое, что нас ошеломило — это запах.
Надзиратель СД сказал:
— Возьмите лопаты, отбросьте песок, и если увидите кость, то выбрасывайте наверх.
Я взял лопату, опустил в песок, она сразу наткнулась на чтото твердое. Я отгреб песок и увидел труп. Надзиратель сказал: ”Ничего, так надо”.
То была колоссальная яма, которую начали заполнять еще с 1941 года. Людей не закапывали и даже хлорной известью не заливали, это был конвейер, действовавший непрерывно. Трупы падали в беспорядке, в разных позах и положениях. Люди, убитые в 1941 году, были в верхней одежде. В 1942 и 1943 гг. была организована так называемая зимняя помощь, — кампания ”добровольных” пожертвований теплой одежды для немецкой армии. Пригоняемых на расстрел немцы заставляли раздеваться до белья, а одежда шла в фонд ”добровольных” пожертвований для немецкой армии.
Техника сожжения была такая: на краю ямы из сосновых бревен строился небольшой очаг, 7х7 метров, помост, один ряд стволов, поперек стволы, а в середине труба из сосновых стволов. Первая операция состояла в том, чтобы разгребать песок, пока обнаруживалась ”фигура”, немцы велели так называть трупы.
Вторую операцию осуществлял крючник, так назывался рабочий, который извлекал тела из ямы железным крюком. Тела лежали плотно. Два крючника, обычно это были самые сильные люди из рабочей команды, забрасывали крюк и вытаскивали труп. В большинстве случаев тела разваливались на части.
Третью операцию делали носильщики — ”трегеры”. Надо было положить на носилки труп, причем немцы контролировали, чтобы на носилках была действительно целая фигура, т.е. две ноги, две руки, голова и туловище.
Немцы вели строгий учет того, сколько тел извлечено. У нас было задание сжигать 800 трупов в сутки; мы работали от темноты до темноты. ”Трегеры” относили тела к деревянному очагу. Там фигуры укладывались рядами, одна к другой. Когда был уложен один слой, наверх клали еловые ветки; специальный рабочий-гойфенмайстер следил за топливом и обеспечивал костры сухими бревнами.
Когда бревна и ветви были уложены, все это поливалось горючим черным маслом, тогда укладывался второй слой, за ним третий и т.д. Таким образом, эта пирамида достигала четырех метров, а иногда и больше. Пирамида считалась готовой, когда в ней было три с половиной тысячи трупов. Ее обильно поливали горючим маслом не только сверху, но и с боков, обкладывали по бокам специальными сухими бревнами, обливали бензином в достаточном количестве, закладывали одну или две термитных бомбы и вся пирамида поджигалась. Немцы каждое такое сожжение обставляли очень торжественно.
Пирамида обычно горела трое суток. У нее было характерное невысокое пламя; густой, черный, тяжелый дым как бы нехотя поднимался наверх. Он содержал большие хлопья черной сажи.
Возле костра стоял файермайстер с лопатой, он должен был следить, чтобы огонь не потух.
Через трое суток образовывалась груда пепла с частицами неперегоревших костей.
Глубокие старики и физически немощные люди работали на трамбовке. На огромный железный лист лопатами сваливали перегоревшие кости, их дробили трамбовками, чтобы не сохранилось ни одного кусочка кости.
Следующая операция заключалась в том, чтобы размолотые кости перебрасывать лопатами через мелкую металлическую сетку. Эта операция имела двоякий смысл. Если на сетке ничего не оставалось, значит их хорошо раздробили, а во-вторых, при этом обнаруживались металлические несгоревшие вещи, золотые монеты, ценные вещи и т.д.
Следует упомянуть еще об одной операции. Когда из ямы выносили труп, то специальный человек вставлял металлический крючок трупу в рот, и, если обнаруживал коронки или золотые мосты, то вырывал их и складывал в специальную коробку.
Были ямы, в которых находилось по 20 тысяч трупов. Смрад буквально выворачивал наружу нутро, доводил до головокружения.
Темпы работы были такие, что нельзя было остановиться ни на секунду.
Нас рабочих было 80 человек, охрана состояла из 60 эсэсовцев. Это были откормленные волкодавы, они отвечали за то, чтобы мы не сбежали. Они стояли цепью вокруг ямы и каждые 15 минут переходили с места на место. У них всего было в изобилии: мясо, вино, шоколад. Но за пределы Понар им нельзя было выходить. Они или отбывали вахту, или находились в своем помещении.
Страшней даже эсэсовцев были чины СД, — эти беспокоились о выработке и порядке. Они стояли с дубинками и часто пускали их в ход, мы были постоянно под их надзором. Лексикон их был очень прост: или они кричали по-немецки ”ран, ран, ран”, что означает — ”беги”, ”катись”, ”быстро”, или по-польски ”прендзей” — ”скоро”. Употребляли они и русские матерные ругательства. Они стояли так, что все участки ямы им были видны. Дубинки они пускали в ход часто, по любому поводу. Эсэсовцы кричали, когда мы носили тела: ”Неси, неси, скоро и тебя так понесут”.
В первый день появился штурмфюрер, осмотрел яму и закричал: ”А почему этот из Москвы работает лопатой, почему он не может носить?” Сейчас же ко мне подбежали СД и велели взять носилки.
Мы взяли тело, положили его на носилки. Было очень тяжело, колена подгибались. Вдруг штурмфюрер закричал изо всех сил: ”По одной фигуре он будет в Москве носить, пусть несет две”. Пришлось взять второе тело. На мое счастье у меня был физически сильный напарник. Это был Петя Зинин из Мордовской АССР. Понесли два трупа. Штурмфюрер вновь закричал: ”У них очень легкие носилки. Пусть берут третью фигуру”.
Когда кончался рабочий день, нас пересчитывали, проверяли у всех цепи и приказывали спуститься вниз в бункер; когда все спускались, лестницу забирали наверх. Когда нас привезли, пришлось строить второй бункер.
На темноту нельзя было пожаловаться: в яме было электрическое освещение.
Когда мы приходили с работы, нас ожидали тазы с марганцовкой; мы тщательно мыли ею руки.
Всех нас было 80 человек: 76 мужчин и 4 женщины. Мужчины были в кандалах. Женщины не носили кандалов. На их обязанности лежало — убрать помещение, заготовить воду, дрова, приготовить пищу. Самой старшей из женщин — Басе — было лет 30.
Это была опытная женщина, она пользовалась большим влиянием, потому что безраздельно владела старшим рабочим — Францем. Остальные были очень молодые девушки — 18, 19, 20 лет. Одна из них — Сусанна Беккер — дочь знаменитых виленских богачей. Характерно, что даже там, в Понарах, некоторые старики снимали перед ней шапки и говорили: ”Это дочь Беккера; сколько у него было каменных домов”.
Третью девушку звали Геней, она была дочерью Виленского ремесленника.
Четвертая девушка — Соня — Шейндл. Это девушка из бедной семьи, исключительно трудолюбивая и приветливая. Она старалась облегчить наше существование всем, чем только могла. Например, в ее обязанности не входила стирка белья, но она частенько стирала нам белье.
Мужчины в большинстве были виленчане.
У нас не было ни одного виленчанина, который не нашел бы свою семью среди трупов.
Вторую группу рабочих, человек 15, составляли советские военнопленные.
А третья группа мужчин была из Евье (Вевис), маленького местечка между Вильнюсом и Каунасом.
Самой многочисленной была виленская группа, в нее входили люди различных возрастов и социальных прослоек. Они знали друг друга много лет, но частенько между ними не было дружбы и единства. Люди припоминали друг другу прегрешения 10-летней давности. Из этих людей можно выделить Исаака Догима и Давида Канторовича. Догим, молодой, энергичный виленский рабочий, печатник и электромонтер, 1914 г. рождения, был крайне необщительный человек.
У Канторовича судьба была своеобразная. Это был подвижной, разбитной парень, 1918 года рождения. До войны он служил приказчиком в книжном магазине. Немцы убили его жену. Сам он связался с партизанами, но был пойман.
Мотл Зайдель был сын бедных родителей из Свенцян. Его мать и отец погибли, сам он жил в гетто. Это был миловидный юноша 19 лет, он имел прекрасный голос и любил петь. С 1941 года он непрерывно кочевал по тюрьмам, было страшно слушать про его бесконечные горестные скитания.
Мы называли его Мотл-маленький, ”ингеле”, в отличие от другого Мотла, с ”вонсами” — с усами.
Неразлучными друзьями были Лейзер Бер Овсейчик из Ошмян и Мацкин из Свенцян. Мацкину было лет 35. Это был богатый человек, владелец магазина. Овсейчик был ремесленником.
Несмотря на социальное неравенство, этих двух людей связывала тесная дружба. Овсейчик сам не съест, а отдаст товарищу, и наоборот.
Интересной личностью был Шлема Голь. Это был человек средних лет, чрезвычайно добрый, крайне слабохарактерный.
Его жена, коммунистка, член компартии Польши с 1933 года, подвергалась преследованиям, была в концлагере Березе-Картусской. В советское время они оба были на руководящей работе в Барановичах. Он никогда не злословил по адресу своих соседей и был изумительно предан делу побега. Но об этом отдельно.
Абрам Зингер, довольно известный композитор, до войны он руководил оркестром. Это был интеллигентный, образованный человек. Он хорошо владел еврейским, русским, польским и немецким языками.
Переводчиком у штурмфюрера служил наш старший рабочий Франц, но когда штурмфюрер произносил особенно торжественные речи, переводил Зингер. Даже в страшных условиях ямы Зингер сочинял песни. Как-то он сочинил хорошую песню на немецком языке, и мы стали ее петь в своей яме. К несчастью песню услышал штурмфюрер, он ее записал и напечатал за своим именем, дал Зингеру за это одну сигарету и 100 граммов повидла; на Зингера это страшно подействовало: он со мной делился своими переживаниями. Он видел в этом величайшее надругательство над своей душой и говорил: ”Я не для немцев пою песни”.
В яме было несколько лиц духовного звания. От времени до времени они устраивали поминальные трагические молебны, — они проходили торжественно и печально... Все умывались тщательно, и готовились к этим молебнам. Овсейчик молился 2 раза в день, по 2 часа ежедневно с большой искренностью и подъемом.
Скажу о военнопленных. Кроме меня, был Петя Зинин из Мордовии, русский, по профессии фельдшер, 1922 года рождения. После побега он был у партизан, где показал себя с самой лучшей стороны.
Мирон Кальницкий, еврей из Одессы, был полезен тем, что в свое время работал вблизи от Понар в лагере для военнопленных (не в лагере смерти) и хорошо знал местность. Среди пленных был также Вениамин Юльевич Якобсон из Ленинграда, 54 лет, по профессии провизор. Это был чрезвычайно добродушный человек, он по-отечески заботился о заключенных. У него в кармане всегда находились какие-то мази, бинты, порошки. Он пользовался большим авторитетом. Если возникал спор, Якобсон всегда мирил спорщиков. Но он был человеком ”поврежденным” и все твердил, что нас не расстреляют. ”Мы не виноваты, за что нас будут расстреливать?”
Грозой и ужасом был штурмфюрер. Когда он появлялся на краю ямы, все понимали, что дело добром не кончится. Люди выбивались из последних сип, а штурмфюрер стоит, заложив руки за спину, смотрит, а потом обращается к кому-нибудь (некоторым он дал презрительные клички): ”Почему ты медленно ходишь, ты болен?” Человек отвечает, что он здоров, ни на что не жалуется. Но штурмфюрер не успокаивается: ”Нет, ты не здоров”. Был у нас один старик 65 лет, мы все звали его ”Фетер” — дядя. Штурмфюрер ему сказал: ”Завтра ты пойдешь в лазарет”. Все знали, что это означает расстрел. Этот вечер в бункере был мучительно тяжелый. Нам было страшно и стыдно, что старого человека уводят на смерть и мы ничем не можем помочь. ”Фетера” попробовали утешить. Он сказал: ”Зачем меня утешать, я свое прожил”.
Однажды мы пришли с работы, дошли до ямы, вдруг появился штурмфюрер в очень злом настроении. Задает вопрос: ”Кто болен?” Больных, естественно, не оказалось. Штурмфюрер выстроил всех в две шеренги и сказал: ”Я сейчас найду больных”. Он подходил к каждому и пристально смотрел в глаза, буквально сверлил человека глазами. ”Вот ты больной, выходи”, — сказал он одному, затем второму.
Но это ему показалось недостаточным. Он подошел к молодому здоровому парню и спросил: ”Ты со слесарным делом знаком?” Тот ответил: ”Знаком”. Его также вывели из рядов и сняли кандалы. Всем было ясно: раз с человека сняли кандалы, значит его поведут на расстрел.
Штурмфюрер подошел к четвертому человеку и спросил: ”Ты со слесарным делом знаком?” Тот ответил: ”Нет, не знаком”. ”Ну ничего, научишься, выходи”. С четвертого также сняли кандалы и повели наверх.
Через несколько минут мы услышали четыре выстрела. Штурмфюрер сделал выговор нашему старшему рабочему: ”Безобразие, не могли людей помыть, отправили их в лазарет, а на них вшей полно”. Прибегал штурмфюрер и к такому методу. Он обходил шеренгу выстроенных людей, заглядывал в глаза и спрашивал, кому здесь не нравится работать? Все должны были хором отвечать, что им очень хорошо. Штурмфюрер обращался к Зингеру: ”Ты музыкант, может быть, тебе здесь неприятно работать?” Штурмфюрер продолжал спрашивать: ”Может быть, кто-нибудь из охранников груб с вами, плохо обращается?” Мы хором должны были отвечать, что охранники относятся к нам хорошо. Затем он приказывал: ”Пойте песни”. После тяжелого дня, мы еле держались на ногах, но должны были петь. Чаще всего он приказывал петь ”Сулико”, арии из оперетты ”Цыганский барон” и еще некоторые.
Он слушал, слушал и приказывал часовому: ”Я сейчас уйду, а они пусть поют, пока я не вернусь”. Грязным надругательствам немцев не было предела.
Во мне все протестовало, мне казалось недостойным погибнуть ”бараньей” смертью. Такие настроения были не у меня одного. Мысль о побеге ”витала” в воздухе.
Вскоре все это приняло реальные формы.
Мне пришлось во всем этом деле сыграть немалую роль. То, что я москвич и все сразу признали во мне человека интеллигентного, очень укрепило мой авторитет.
Меня привезли на Понары 29 января, а 1 февраля мы уже начали производить подкоп.
Самую активную роль в подкопе играли Петя Зинин, Исаак Догим, Давид Канторович. Неутомимым работником был Шлема Голь. Если надо было, он вставал в 4 часа утра.
Очень пригодились золотые руки Овсейчика: подпилить, подогнать — он был тут как тут. Виленский пекарь Иосиф Белец был неграмотный, неразвитой человек, но в работах по подкопу он оказался очень полезен, так как имел в этом деле некоторый опыт.
В связи с подкопом я должен сказать несколько слов еще о двух жителях ямы.
Иосиф Каган (его настоящая фамилия Блазар) в свое время сидел в тюрьме за уголовные дела. Каган-Блазар знаменит тем, что он ушел из Понар 2 раза. В 1941 году его забрали и отправили в Понары, поставили у края ямы и ”расстреляли”. Он выказал изумительную находчивость и самообладание. Увидев, что пулеметная очередь приближается к нему, он сумел в нужный момент, за какую-то долю секунды до выстрела упасть в яму. Он остался жив. Сверху на него падали трупы, их немного присыпали песком. Так он пролежал до вечера. Когда стало темно, он выбрался из ямы и пошел обратно в город. Он прятался в ”малине”, но его нашли и вторично отправили в Понары. Он участвовал в подкопе, и таким образом спасся из Понар во второй раз.
Франц (Абрам) Гамбург тоже два раза был в Понарах. В первый раз его нашли в одной из ”малин”, где скрывалось 17 человек. Их всех привезли в Понары; заставив раздеться догола, подвели к краю ямы. Вопреки обычаю, стали расстреливать по одному человеку. Гамбург стоял семнадцатым. Он видел, как немцы стреляют в упор, в затылок, и люди падают один за другим. Таким образом, расстреляли 16 человек. Когда очередь дошла до него, он повернулся и сказал, что у него очень много золота. ”Вы меня не расстреливайте, я вам его отдам”. ”Где золото?” спросили немцы. ”Спрятано в городе”. Ему позволили одеться, посадили в машину и повезли в Вильнюс. В Вильнюсе он знал подвал, в котором лежало 2 тысячи тонн картошки. Он привез немцев к этому подвалу и сказал, что там под картошкой, в самом углу, лежит золото. Немцы согнали большую группу рабочих, которые несколько дней разбирали картошку и освободили угол, указанный Гамбургом. Он сказал, что надо копать вглубь, так как золото зарыто в земле. Стали копать, но ничего не нашли. Немцы его смертельно избили, но он настаивал, что золото было именно здесь. К удивлению, его не расстреляли, а вернули в Понары и сделали старшим среди ”бреннеров”.
17 февраля 1944 года привезли к нам новую партию военнопленных. Среди них было двое моих личных друзей из лагеря, где и я содержался прежде.
Юрий Гудкин, инженер-строитель, до войны жил в Электростали, под Москвой. У него в Москве жена и дочь трех лет. В лагере для военнопленных он принимал самое активное участие в выпуске листовок, организовывал связи с партизанами и т.д. А второй военнопленный, Костя Жарков, студент ленинградского института, был со мной в госпитале, очень много мне помогал. У него было подавленное настроение. Я старался его ободрить. Юрию я в эту же ночь показал наш подкоп. Он одобрил его и дал несколько ценных указаний. Я очень дорожил его мнением. Наутро нас, ”стариков”, отправили на работу, а новых оставили в яме. Женщины потом рассказывали, что пришел штурмфюрер, всех выстроил; штурмфюрер осматривал новичков. Если нас он спрашивал, откуда кто родом, то им он задавал один вопрос — о профессии. Не знаю, как случилось, что Юрий Гудкин, человек, бывавший в переделках, безрассудно заявил, что он инженер-строитель. Надо сказать, что немцы в первую очередь истребляли интеллигенцию. Штурмфюрер пришел в необычайно веселое настроение. Он потирал руки от удовольствия: ”Зачем вас сюда прислали? Мы вам дадим работу по специальности. Снять с него кандалы”. Его вывели из ямы. Костя Жарков и еще один военнопленный сказали, что они студенты. Штурмфюрер был в восторге. Заявив, что немцы высоко ценят науку, он приказал снять с них кандалы. Их вывели наверх и всех расстреляли. Остальных отправили к нам.
Провокаторство, садизм, цинизм немцев были поистине невероятны.
Вот рассказ работавшего с нами Козловского.
”6 апреля 1943 года на Понары привезли эшелон женщин. Немцы пустили провокационный слух, что гетто в Вильнюсе будет ликвидировано, а гетто в Каунасе останется в неприкосновенности. Немцы отобрали две тысячи пятьсот самых красивых и здоровых женщин и сказали, что через несколько дней они поедут в Каунас. Им дали номерки, которые рассматривались как право на жизнь. За эти номерки люди отдавали все свое состояние. Эшелон пришел на Понары. Немцы вошли в вагоны и предложили всем раздеться наголо. Женщины отказались, тогда их страшно избили. Затем под усиленным, учетверенным конвоем их отвели к ямам. Контроль следил, чтобы на них не осталось ни одной тряпочки, ни одной ниточки... И действительно, когда мы раскопали эту яму, то обнаружили там две тысячи пятьсот хорошо сохранившихся обнаженных женских трупов”.
Командовал этим избиением Вайс.
Козловский, который был в команде по сбору одежды, рассказал мне такой эпизод.
Вайс всех торопил, только и слышно было: ”Скорей, скорей”. Открылись двери одного вагона (Козловский стоял у дверей), одна женщина при выходе споткнулась и упала. Тогда Вайс сделал знак всем остановиться, собрал женщин и мужчин и обратился к ним с речью: ”Как это могло случиться, что женщина, выходя из вагона, упала и никто ее не поддержал? Где ваша галантность, ваше джентльменство? Ведь эта женщина, может быть, мать в будущем”. Он читал такую нотацию в течение 10 минут, потом дал сигнал, и всех женщин, вместе с упавшей, повели на расстрел.
Был у нас мальчик Беня Вульф, 16 лет. Как-то проехала автомашина, и Беня Вульф перебежал перед машиной дорогу. Вдали стоял штурмфюрер и видел это. Он был вне себя, дал свисток, приказал немедленно собрать всех рабочих. Мы стоим грязные, с лопатами, а он учинил Бене Вульфу выговор: ”Как ты неосторожен. Ведь тебе могли повредить руку, это было бы большое несчастье. Подумать страшно, тебя могли убить, это была бы непоправимая катастрофа. Жизнь — божий дар, никто не имеет права посягать на жизнь. Тебе только 16 лет, у тебя все впереди”. Штурмфюрер считал это происшествие исключительно важным.
Исаак Догим нашел в одной яме с трупами свою жену, мать, двух сестер. Это на него так подействовало, что он был близок к помешательству. Он и до этого был мрачный и неразговорчивый человек. Немцы глумились и издевались над ним... Мотл нашел в яме своего сына. Этот день был самым тяжелым. Когда мы пришли ”домой”, в свою яму, Исаак Догим сказал, что у него есть нож, он подкрадется к штурмфюреру и убьет его. Я его очень долго уговаривал не делать этого, он погубит всех. А между тем подкоп был почти готов. Я дал ему честное слово, что он выйдет на волю первым.
Как мы делали подкоп? У нас имелась маленькая кладовка для продуктов. В этой маленькой кладовке мы соорудили вторую фальшивую стенку, приладили две доски на гвоздях: дернешь и гвозди отпадают, и туда можно проникнуть. Весь инструмент мы нашли в ямах: мертвые помогли нам.
Почва была песчаная, песок вынимался легко, но возникало одно затруднение — едва песок выберешь, он обваливался с кровли. Надо было делать крепь, деревянные подпорки, потребовались доски. К этому делу были привлечены Овсейчик и Канторович. Когда нас привезли в Понары, пришлось строить второй бункер, так как в одном бункере было тесно для всех. Они строили бункер, и тайком снимали доски.
Однажды у трупов нам удалось найти пилку для хлеба. Она стала нашим основным инструментом. Мы ее закалили на огне; кроме того, мы нашли пачку маленьких граненых напильников. Таким образом нам удалось сделать настоящую ручную пилу.
Подкоп мы вели после своей дневной работы.
Люди приходили с работы, обедали и начинали петь. Песни пели громко, немцы были довольны таким весельем. Я советский гражданин, но не знал такого количества советских песен, как виленские евреи. Они знали содержание всех советских кинокартин, имена всех советских киноартистов, все песенки из кинофильмов знали наизусть. Они очень любили песню ”Советская винтовка”: ”Бей, винтовка, метко, ловко”.
Абрам как старший рабочий оказывал нам содействие, распоряжался, чтобы нам оставляли обед. Мы обедали позже, отдельно от других. Все отдыхали и пели, а мы сразу уходили в кладовую и приступали к делу, к рытью туннеля. Вначале работа подвигалась довольно медленно. В первой половине февраля копали только я да Каган. Костя, Овсейчик занимались заготовкой досок. Мацкин помогал вытаскивать из туннеля песок и разбрасывал его по полю. Яма, в которой мы жили, была глубиной в 4 метра, к концу работы яма была глубиной в 3 метра 90 см то есть слой вынутого песка достиг толщины в 10 сантиметров. Сперва мы выкопали шахту, а затем стали рыть туннель — штольню. Проход мы делали шириной 70 см., а высотой 65 см.
Работа все ширилась, становилась все более трудоемкой. В это время у нас было два бункера: мы сделали так, что в наш бункер перевели наиболее надежных и активных участников подкопа, а во второй бункер — людей пассивных.
У нас была такая система: сначала клали две стойки и подпорки, — эту часть работы приходилось делать вдвоем.
Один выгребал землю, ставил стойки, другой подавал доски и отгребал песок. Это была крайне тяжелая работа, два человека могли работать полтора-два часа и выходили из подкопа в полном изнеможении. За эти полтора-два часа можно было поставить 4 доски. Тяжесть была в том, что воздуха не хватало, спички, зажигалки не горели. Встал вопрос о проводке электричества.
Когда двое работающих вылезали (это были либо я и Каган или Белец и Канторович, либо Шлема со своим напарником, его фамилию я забыл), в подкоп залезала бригада выбрасывать песок. Люди лежали цепью на боку, брали горстями песок у головы и бросали его к своим ногам. Это была каторжная работа.
Нам удалось провести электричество, выключатель был в комнате у девушек, в кровати. В кухне мы оставляли дежурного, он смотрел наверх, если немцев нет, то можно было работать; как только немцы показывались, он бежал к выключателю и давал сигнал: надо было выползать пулей. Мы ложились и укрывались шинелями. Один раз, буквально через три секунды после того как мы выскочили из колодца и успели поставить доски на место, появился эсэсовец.
Многие отказывались от работы в подкопе, потому что не верили в успех и, главное, все страшно уставали после дневной каторги. Были и такие, которые не хотели уходить из Понар. Они говорили: ”У меня здесь убита жена, убита семья, куда я пойду?”. Так говорили пожилые люди, среди них был и раввин.
9 апреля мы наткнулись на корни пней, расположенные треугольником. Мы стремились, чтобы подкоп вышел на поверхность между этих пней, так как это место не просматривалось часовыми. Когда мы наткнулись на корни, я понял, что мы находимся на правильном пути, очень близко от поверхности земли. У нас был железный крюк и мы протолкнули его немного вверх. Мы почувствовали струю свежего воздуха. Я радовался с товарищами и гордился, как инженер, что технически вопрос решен правильно.
У меня был компас, линейка и мы сами сделали ватерпас. Я давал указания и отвечал за выбор направления подкопа. Надо сказать, что в начале апреля люди в подкопе работали через силу. Раздавались голоса: ”Два месяца копаем, и никакой пользы”. Мы взяли пробу земли и оказалось, что рядом с подкопом имеется яма с трупами. Возникло опасение, что мы можем натолкнуться на трупы. Некоторые начали упрекать меня в том, что я неправильно определил направление подкопа. Последние дни были буквально критическими днями: только небольшая группа оставалась мне верна. Мне пришлось проявить настойчивость и волю, и тем больше было мое торжество, когда я 9 апреля наткнулся на корни и почувствовал, что выход найден. Теперь во всей остроте встал вопрос — как организовать выход. Мы знали, что кругом немецкая охрана, а дальше — все было неизвестно. Находятся ли вблизи партизаны, — об этом тоже ни у кого не было ни малейшего представления.
Зингер знал эту местность. Он мне сказал, что в 14 километрах от Понар начинается знаменитая Рудницкая Пуща — большой лес, и что где-то вблизи должна быть река.
Немцы охраняли Понары необыкновенно тщательно. Однажды у нас вдруг поднялась тревога: к нам забрел заблудившийся мертвецки пьяный эсэсовец. Штурмфюрер пристрелил его на месте. Никто не должен был проникнуть в тайну Понар.
Мы решили идти все вместе по определенному направлению.
Всех заключенных мы разбили на 8 десяток. Над каждой десяткой был поставлен командир. Этот командир знал состав своей десятки и инструктировал своих людей. Я поставил вопрос таким образом: выход возможен только на основании железной дисциплины. Я сказал: ”Выбирайте любого командира, я его распоряжения буду беспрекословно выполнять”.
Мне поручили составлять списки. Первые две десятки я объединил вместе. В это число я включил людей, которые больше всего работали по подкопу и, кроме того, могли в дальнейшем принести пользу партизанам.
Вот в каком порядке шли люди первой десятки: 1 — Догим, 2 — Фарбер, 3 — Костя Потанин, 4 — Белец, 5 — М. Зайдель, 6 — Петя Зинин, 7 — Овсейчик, 8 — М. Кальницкий, 9 — Шлема Голь, 10 — Канторович.
9 апреля все было готово. Мне хотелось уйти 12 апреля, так как это число — знаменательная дата в моей жизни: день рождения моего брата.
Но, к сожалению, 12 апреля светила луна; вот тут нам помог своим советом раввин. К нему обратился Овсейчик. Раввин ему сказал, что 15 апреля будет самая темная ночь месяца.
12 апреля мы с Белецом спустились в подкоп. У нас была маленькая медная трубка с делениями, и мы снова убедились, что до поверхности земли осталось 10 см. Мы видели уже звезды, мы почувствовали свежий апрельский воздух, и это нам придало силы. Мы воочию увидели, что освобождение близко.
15 апреля мы целый день работали. В этот день один немец, которого мы прозвали обезьяной, без всяких причин сильно ударил меня палкой по плечу.
В 11 часов вечера мы с Догимом собрали всех.
У первой десятки было два ножа и большой флакон уксусной эссенции, который разлили в две бутылки. Все это мы взяли у трупов. Вообще все, что у нас было, мы доставали у трупов. Перед выходом я сказал: ”Имейте в виду, назад дороги нет ни при каких обстоятельствах. Если нас обнаружат, нас все равно расстреляют. Лучше умереть в схватке, но идти только вперед”.
Мы поползли. Догим убрал последний слой земли, мы уже дышали полной грудью. Ночь, действительно, была очень темная, кругом стояла абсолютная тишина. Когда все было готово, Догим и я сняли цепи. Послали Вульфа дать сигнал, что все готово, и вот, по одному, первые 20 человек спустились в туннель. Костя всем снял цепи и люди поползли. Стали выползать из туннеля. Надо было соблюдать абсолютную тишину, даже при стрельбе не нарушать порядка и молчания. Ползти надо было метров 200-250 от нашей ямы, там начинался небольшой лесок. Надо было добраться до проволоки и перерезать ее кусачками. На то место в заграждении, которое прорывалось кусачками, были повешены две белые тряпки, чтобы следующие видели, где проход. Я предполагал, что 14 километров можно пройти за одну ночь. Первым полз Догим, вторым я. Держу его за ногу, выползаем и, вдруг, я вижу, что Догим сворачивает вправо. Я вижу, что налево, на фоне неба вырисовывается фигура часового. Еще отползли шагов 20-30, но и с этой стороны виднеется фигура часового. Он медленно ходит. Опять пришлось сделать поворот. Когда я полз по земле, то испытывал совершенно непередаваемое чувство. Я дышал всеми порами тела.
Я чувствовал, что наш труд не пропал, и ликовал. Вдруг раздался выстрел в воздух. Видимо, под чьей-то рукой хрустнула веточка. Как только раздался первый выстрел, началась стрельба со всех сторон. Я оглянулся: вся наша трасса была наполнена ползущими людьми, некоторые повскакивали и бежали в разные стороны. Однако, мы доползли до проволоки и разрезали ее кусачками, а выстрелы все громче и ближе.
Через 2 километра — снова проволока, мы ее также перекусили; я вижу, что около меня осталось только пять человек. А немцы ударили из миномета. Это сигнал тревоги для всего гарнизона. Мы вбежали в лес, но не учли, что со всех сторон были расположены военные объекты. Нас отовсюду обстреливали. Дошли до реки — новая беда: никто из пяти моих спутников не умеет плавать. Пришлось мне по очереди каждого из них переправить через эту реку. Мы шли всю ночь, а днем замаскировались в лесу.
Пробирались мы 14 километров целую неделю; 22 апреля мы были уже в глубине Рудницкой Пущи, пришли в лесную деревню Жигарины. Встречных крестьян я спрашивал: ”Немцы есть?” Они делали удивленные глаза, говорили: ”Немцев нэма и поляков нэма”. ”А советы есть?” ”Тего не вем, проше пана”. Вечером мы встретили трех партизан, советских офицеров, среди них оказался капитан Василенко. Я стал его целовать. Он спросил нас: ”Вы откуда?”
”С того света”. ”А точнее”. ”Из Понар”. ”Из Понар? Пойдемте со мной”.
Я сказал, что я москвич. Он также оказался москвичом. Вдруг наша беседа была прервана, начался обстрел. Сильный обстрел, а наши ребята не прячутся. Капитан Василенко их спросил с удивлением: ”Вы что, смерти не боитесь?” Они ответили: ”Нет”.
Нас привели на партизанскую базу, рядом с ней была база еврейских отрядов ”Смерть фашизму” и ”За победу”. В еврейских отрядах нашлось много знакомых моих виленских спутников. Двоюродный брат Ицика Догима, Аба Ковнер[64], был командиром отряда ”Смерть фашизму”. Еврейские партизаны отлично знали, что такое Понары. Никто не мог поверить в то, что мы оттуда пришли живыми, это произвело потрясающее впечатление. Нас буквально разрывали на части, расспрашивали обо всем и обо всех. По всем партизанским базам было отдано распоряжение встречать беглецов. Партизанская разведка в тот же день обнаружила еще 5 человек из нашей партии.
МАТЕРИАЛЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ О ЗЛОДЕЯНИЯХ В ОСВЕНЦИМЕ[65].
***
ДЕВУШКА ИЗ ОСВЕНЦИМА (№74233). Подготовил к печати Осип Черный.
16 августа 1943 года немцы окончательно ликвидировали Белостокское гетто. Всех еще уцелевших собрали и повели в тюрьму в Гродно. Там мы пробыли два дня, а оттуда нас повезли дальше. На каждой машине по 60 человек. По дороге отец мой умер, а мы, — родные мои и я, — приняли морфий, который я давно приготовила. Мой брат дал своему сыну, тринадцатимесячному ребенку, люминал в соответствующей дозе. От тряски морфий на нас не подействовал, и мы, измученные, прибыли в Ломжинскую тюрьму. Ребенок брата скончался.
В тюрьме нас продержали три месяца. 18 ноября 1943 года нас вывели во двор, записали фамилию и специальность каждого и повезли на вокзал.
Мы приехали в район Данцига. Высадили нас из вагонов в лесистой местности, где нас ожидали эсэсовцы. Рефлекторы освещали дорогу в лагерь. Нас подгоняли криками. Мужчины шли отдельно от женщин. В лагере нас передали в руки старшей лагеря — капо. Приближаясь к бараку, я почувствовала сильный запах серы. Мне стало понятно, что это — наш конец. Все было безразлично. Угроза смерти слишком часто висела над нашими головами, и я думала: ”Только бы поскорей”. На следующее утро нас повели в баню. Все наши вещи отобрали, всех переодели в лагерную одежду, дали номера и отвели в барак. Получали мы хлеб два раза в день. Кое-кто стал надеяться на то, что нас решили оставить в живых — как доказательство того, что Гитлер не уничтожает людей. Надо заметить, что в Штутгофе живых не сжигали. Уже позже, в Освенциме, я узнала от одной заключенной, прибывшей из Штутгофа через полгода после меня, что и там стали сжигать заживо.
Вскоре начали поговаривать о том, что отсюда нас повезут в другое место, скорее всего — в Освенцим. Мы снова переживали тяжелые дни.
10 января 1944 года нас погрузили на открытые вагонетки. Время от времени я посматривала в сторону мужчин, стараясь отыскать брата. Нас везли часа три. Подъехали мы к какой-то станции, и там нас погнали к пассажирским вагонам. 12 января мы прибыли в Освенцим.
Подъезжая к Аушвицу — Освенциму, мы увидели множество людей, работающих на дороге. Это немного улучшило настроение: значит, это не фабрика смерти, и люди живут здесь. Что немцы специально используют заключенных на тяжелых работах, создавая невыносимые условия, чтобы те скорей погибли, об этом мы тогда еще не знали. Сойдя с поезда, я бросила последний взгляд на брата, которого погнали вместе с другими мужчинами.
После часа пути мы подошли к воротам. Громадный лагерь, разделенный проволокой на много полей, производил впечатление целого города.
Возле ворот в деревенском доме была своего рода канцелярия. Нас подсчитали, и ворота за нами закрылись — навсегда. Нас привели в барак для ночлега. Ни коек, ни стульев не было. Пришлось сесть на голую землю. Вечером пришли комендант лагеря Гесслер и его правая рука Таубер. Нам велели построиться по пять человек; каждую из нас оглядывали пристально и спрашивали про специальность. Специальности некоторых, в том числе и мою, записали. На следующий день пришел снова главный палач лагеря Таубер. Девушки, старые заключенные, вытатуировали нам номера на левой руке. Мы перестали быть людьми. К вечеру нас повели в баню — ”заулу”, раздели и погнали под душ мыться.
Перед этим сняли машинкой волосы. Счастливыми оказались те, специальности которых были вчера записаны Гесслером. Все остальные выглядели ужасно. Девушки, оставшиеся без волос, плакали. Одна из персонала, указав на большое пламя, подымавшееся к небу, сказала: ”А знаете, что это такое? Вы тоже туда пойдете, там вам ни волосы, ни вещи, которые у вас отобрали, не понадобятся”.
После купания нам дали старое грязное белье и деревянные ботинки. На верхней одежде провели красной краской во всю длину полосу, пришили номера; затем нас направили в комнату — ”шрайбштубе”, находившуюся при бане. Каждая из нас получила в картотеке, кроме своего имени, имя ”Сара”. Я, не понимая в чем дело, сказала, что меня так не зовут; записывавшая иронически усмехнулась и сказала, что так хочет Гитлер. Опять нас построили по пять человек и погнали в так называемый карантинный блок.
Блок был поделен на ”штубы”, и за порядок в каждой ”штубе” отвечала штубовая. Спали мы на нарах, по пять-шесть человек в ужасной тесноте; когда мы, указав на пустовавшие нары, стали просить, чтобы нас переместили, нам ответили руганью и побоями. Поднимали нас в 4 часа утра, гнали в кухню за чаем, затем делали подсчет всех на блоке. Подсчет назывался ”аппель”, подсчитывали два раза в день: утром и к вечеру, когда люди возвращались в лагерь с работы. Эти ”аппели” длились по 2-3 часа каждый, невзирая на дождь, снег и холод. Мы стояли в абсолютной неподвижности, промерзшие и измученные. Тех, кто заболевал в результате этого, забирали в больничный блок, и там они пропадали.
18 января мы услышали вдруг свистки по лагерной улице и крики ”Блокшперре!” Выходить из блоков было запрещено. Всего шесть дней прошло со времени нашего прибытия в Освенцим.
Никто не объяснил нам в чем дело, но по лицам начальниц мы поняли, что должно произойти что-то нехорошее. Построили нас, подсчитали и повели в ”заупу”. Там велели раздеться и стали пропускать перед Гесслером и врачом. Некоторых, в том числе и мою мать, записали. Вернувшись, мы узнали, что эта сортировка означала ”селекцию”. Это было самое страшное слово в лагере: оно означало, что люди, сегодня еще живые, обречены на сожжение. Каково было мое состояние — я знала, что теряю мать и не в силах была помочь ей. Мать утешала меня, говоря, что свой век она уже прожила и что ей жалко лишь нас, детей. Она знала, что та же участь ожидает и нас. Два дня после селекции держали их на блоке, кормили как и нас, и 20 января пришли за ними и забрали на специальный блок смерти (блок А 25 а). Там собрали несчастных со всех блоков и на машинах отвезли в крематорий. Во время вечернего ”аппеля” нехватало на нашем блоке многих. Пламя в небе и дым говорили о том, что в этот день, 20 января, сожгли многих невинных несчастных людей; в их числе была и моя мать. Единственным моим утешением было то, что и я погибну, а они избавлены уже от страданий.
Проходили тяжелые дни. Не раз мы подвергались избиениям. Жаловаться не имело смысла. В лучшем случае — новые побои, стояние на коленях в блоке или перед блоком по нескольку часов, независимо от погоды. Штубовые гоняли нас на кухню, и мы должны были тянуть за них тяжелые котлы. Даже для здоровых мужчин эта работа была очень тяжелой. Ни мыла, ни воды не давали и не было никакой возможности поддерживать чистоту. Чтобы умыться, надо было идти в так называемую ”Бадраум”: вели нас туда целым блоком, и умыться надо было в продолжении 3—5 минут.
Обычно людей из карантинного блока определяли на работу после 5-6 недель. Нас взяли на работу раньше. Большинство девушек, прибывших в одном транспорте со мной, пошло работать на фабрику ”Унион” (фабрика снарядов): меня же как фармацевта послали на другой блок, оттуда должны были снова затребовать на работу. Так мы расстались с карантинным блоком. Но он не остался пустым: ежедневно прибывали новые жертвы из Польши, Франции, Бельгии, Голландии и других стран. В то же время очень много людей умирало. Смертность доходила до 300-350 человек в день. Свирепствовал тиф, дизентерия, вши царствовали над нами.
В новом блоке был тот же порядок, что и в первом. Те же надписи на стенах, требование соблюдения чистоты; такое же отношение блоковой и штубовых к нам. Когда я попала туда, меня стали спрашивать, каким образом я, новая, имея такой большой номер, сумела сохранить длинные волосы. Когда я объяснила, что причина в моей специальности, мне с иронией сказали: ”Ну, теперь жди, пока тебя вызовут на работу по твоей специальности”. Позже я поняла, в чем дело: для того, чтобы устроиться на такую работу, надо было иметь протекцию, а для этого дать взятку (”подарок”) тем, от кого это зависело. Для ”подарка” надо было уметь ”организовать”, то есть красть. Я этого не умела и вынуждена была ждать. Отдыхать не разрешали... Приносить и выносить котлы, убирать блок стало моей обязанностью. Если бы я возражала, я бы попала в очередную селекцию. Ввиду того, что в блоке должно было быть ”райн” (чисто), нас по целым дням не впускали туда, держали в маленькой натопленной комнатке. Нас выгоняли из блока даже в сильнейшие морозы. Лишь после вечернего ”аппеля” продолжавшегося 1,5-2 часа, нам разрешали войти внутрь. Следили за тем, чтобы на полу, который был из цемента и который мы несколько раз в день промерзшими руками, обливаясь горькими слезами, мыли, — чтобы на этом ”паркете” не было следов грязи.
Но и этого было мало: не нравилось то, что мы мало заняты и нас решили использовать на тяжелой работе. По 4—5 раз в день мы должны были ходить за 3 километра и приносить тяжелые камни, которыми другие женские команды мостили лагерь. Собирали женщин со всех блоков — тех, кто не работал на определенных местах. Нас подсчитывали у ворот, там присоединялся к нам пост — немец с собакой, и под градом ругательств нас гнали к месту, где лежали камни. Каждая старалась найти камень поменьше. Но это не удавалось — нас проверяли и били. Наблюдали за нами, кроме поста, женщины-”айнвайзерки”. Айнвайзерки были заключенные немки, в большинстве своем — проститутки. ”Айнвайзерку” можно было подкупить — пачки папирос было достаточно; но для того, чтобы эту пачку раздобыть, надо было снова уметь ”организовать”. Работа была очень тяжелая. В таких условиях я проработала пять недель и больше не могла, так как ноги страшно распухли, а я совершенно не в состоянии была ходить. В блоке тоже нельзя было оставаться, потому что приходили проверять, все ли вышли на работу: работать обязаны были все — больным места не было: этих отправляли на специальный блок для больных — ”ревир”. В то время ревир обозначал смерть — редко кто возвращался оттуда. В ”ревире” люди еще сильней заболевали, заражались друг от друга, истощались и в результате умирали.
Еще одна опасность была в ”ревире” — селекция. В случае селекции в первую очередь подвергались этой опасности люди, лежавшие в ”ревире”. Но у меня выхода не было. Зная все, что мне угрожает, я тем не менее попросила шрейберку нашего блока отправить меня в ”ревир”. Новая обстановка, новые звери. Мне дали койку еще с одной больной. Увидя, что все ее тело в прыщах и ранах, я разрыдалась. Я знала, что под одним одеялом с ней я заражусь. В то время людей съедала чесотка. Чесотка, которую в нормальных условиях ликвидировали в течение 2—3 дней, здесь длилась без конца. Кроме того, достаточно было во время селекции иметь на теле несколько следов этой болезни, чтобы быть сожженной. Я умоляла сестру, чтобы мне дали другую койку. Она уступила после долгих упрашиваний. Лежала я в ”ревире” 3 недели. Чаем, который давали по утрам, я мыла себе лицо и руки. Два раза в неделю я за две порции хлеба покупала горячую воду, чтобы помыться лучше. Делала я это по ночам. Два дня приходилось жить совсем без хлеба, чтобы быть сравнительно чистой. Я не в состоянии описать удивление моих товарок по блоку, которые увидели меня снова там.
После того, как выписывали из ”ревира”, вели в ”заупу” (баню), там мылись и получали одежду — тряпье. Снова надо было начинать ”организовывать” себе более порядочные вещи. Надо было отказаться от хлеба, чтобы за него ”купить” себе одежду.
Вещи эти покупались у тех, кто занимался сортировкой багажа транспортов, приходивших без конца в Освенцим. В таком же самом положении бывали мы после так называемых ”энтляузунгов” (дезинфекция блока и людей от вшей). Нас вели тогда в ”заупу” купаться, а вещи забирали и дезинфицировали в паровых котлах. После такой дезинфекции получали мы не вещи, а тряпье, и надо было снова все приобретать сначала.
После ”ревира” меня определили на работу в ”веберай” (ткацкую). Мне пришлось плести косы из отходов тряпок, кожи, резины. Надо было выполнять норму во что бы то ни стало, а для этого необходимо было достаточное количество сырья. Но и сырье надо было ”организовать”, то есть, давать папиросы или другие вещи ”айнвайзеркам”, наблюдавшим за работой. Кроме ”айнвайзерок” за нами наблюдали также женщины СС ”ауфзеерки”, также любившие подарки. Плохо пришитый номер на платье, отсутствие красной полосы (штрайх) на верхней одежде бывали достаточной причиной для того, чтобы такая ”ауфзеерка” записала номер ”провинившейся” и номер блока, в котором она жила. Записывали также номера и за разговоры с мужчинами, и за найденные письма от них. На следующий день вместо старой работы отправляли в специальный блок. Люди этого блока носили красный кружок на спине. Оттуда посылали заключенных на еще более тяжелые работы.
Тут я должна описать, в какой обстановке мы выходили на работу. Подъем бывал в четыре часа утра. Очередная дежурная отправлялась на кухню за чаем. После того как койки были убраны и чай выдан, нас выгоняли на ”аппель”. Мыться уже не было времени. После аппеля люди, выходившие на работу за пределы лагеря, строились по пять человек на лагерной улице (Лагерштрассе). Там снова разные ”капо” по несколько раз подсчитывали нас и затем подводили к воротам лагеря. У ворот играл оркестр. Он состоял из заключенных девушек. Когда я в лагере в первый раз услышала музыку, я заплакала, как ребенок. Музыка и пламя, пылавшее в небе: кто мог это придумать? К вечеру, когда люди возвращались с работы, их встречал тот же оркестр. Отдыхать нельзя было, надо было еще стоять 1,5—2 часа на ”аппеле”. В то время и позже вечерний ”аппель” длился долго, потому что почти ежедневно происходили побеги мужчин — из тех, которые выходили за пределы лагеря на работу. О побегах мы узнавали по вою сирены. Мы радовались тогда, и хотя в эти дни проверка продолжалась особенно долго, мы охотно стояли на аппеле. Я проработала в ”веберай” всего три дня, а затем попала на работу в ”ревир”. Попала потому, что в картотеке я числилась, как медработник. Без протекции и взятки это было редчайшей удачей: гигиенические условия на этой работе были лучше и, кроме того, не надо было ходить на работу за пределы лагеря, иначе говоря, не надо было проделывать по 16 километров в день. А самое главное было то, что в ”ревире” я работала в интересах несчастных заключенных. Ежедневно нас навещал лагерный врач Менгеле. На совести этого бандита — сотни тысяч людей. ”Ревир” находился в лагере, но был изолирован от лагеря проволокой. ”Ревир” занимал 15 блоков. Он был своего рода государством в государстве.
Начала я работать там 21 апреля. Через несколько дней, после вечернего ”аппеля”, раздались свистки и крики: ”Лагершперре” — селекция! Наступила кругом тишина, тишина перед бурей. Мне уже было понятно, что она означает: я знала, что завтра утром многих больных не увижу в блоке. С чрезвычайной пунктуальностью подъехали машины, начали вытаскивать обреченных на смерть. Активно должны были участвовать в этом блоковая и ночная смены. Крик и плач. И вдруг раздалась древнееврейская песнь ”Гатиква”[66]. Подъехало еще несколько машин, затем воцарилась тишина. Ужасно было находиться так близко, все слышать и не иметь возможности помочь! Эта селекция была проведена так же, как и предыдущая, и за несколько дней до нее по усмотрению врача Менгеле были записаны номера несчастных больных, предназначенных к сожжению.
После селекции работа продолжалась по-прежнему. Приближались самые тяжелые дни. Ежедневно прибывали большие транспорты евреев почти из всей Европы; больше всего прибывало евреев в это время из Венгрии. Раньше транспорты останавливались на станции Освенцим. Там их разгружали, там же проходил отбор, и ”счастливые” входили в ворота лагеря, а остальных, приговоренных к смерти, отвозили на машинах прямо в крематорий. Но это показалось немцам невыгодным, и от железной дороги в Освенциме построили силами заключенных ветку, которая вела к самим печам. Рельсы проходили параллельно ”ревирным” блокам и находились от нас всего на расстоянии 150—200 метров. Мы непрерывно наблюдали жуткую картину: в день прибывало по 8-9 поездов; их разгружали, багаж оставался лежать вблизи рельсов; несчастных людей, не имевших понятия о том, что с ними сделают, отбирал шеф палачей д-р Менгеле. В это лето Менгеле имел много работы. Люди, выходившие из вагонов, совершенно не представляли себе, что их ждет... За проволокой им были видны девушки в белых передниках (это были мы, работники ”ревира”); если они прибывали утром, они слышали звуки оркестра, они видели партии девушек, идущих на работу за пределы лагеря (ауссенкомандо). Вряд ли прибывшие понимали, куда их ведут. Между тем, их вели в крематорий. Там их раздевали в большом зале, давали кусок мыла и полотенце и, говоря им, что они идут в баню, на самом деле, загоняли в газовую камеру; там их с помощью газа убивали. Мертвые тела сжигали. Этим делом занимались только заключенные мужчины, принадлежавшие к так называемым ”зондеркомандо”. Но им приходилось здесь работать недолго: после одного—двух месяцев этих людей тоже сжигали и заменяли другими, которых ожидала та же участь. Как страшно было смотреть на идущих без конца в сторону крематория женщин, мужчин, стариков и детей. Они настолько не понимали того, что их ждет, что сокрушались о своем багаже, оставленном на дороге. Транспорты в это время приходили так часто, что багаж не успевали убирать; гора вещей росла, а их хозяев в живых уже не было... В период прибытия венгерских транспортов д-р Менгеле при отборе сохранял жизнь детям-близнецам, независимо от их возраста.
Кроме того, заинтересовался Менгеле и семьей карликов; они даже потом пользовались его симпатией. Следует отметить, что у нас в ”ревире” находились и ненормальные; два раза в неделю их возили в мужской лагерь в Буне, расположенный в 10 километрах от нашего лагеря: там производили над ними разные эксперименты. Этим делом занимался врач Кениг. Даже в то время, когда в крематории уже не сжигали, а стали сжигать просто во рвах, кладя людей на бревна и обливая керосином, в это же самое время садисты Менгеле и Кениг занимались своими ”научными” опытами. Опыты проделывались и над заключенными — женщинами и мужчинами.
Страшное это было лето 1944 года: бесконечные транспорты прибывали каждый день. Одновременно уходили транспорты заключенных мужчин и женщин из Освенцима в Германию на разные работы. Было ”горячее” время: Германия нуждалась в рабочей силе. Многие уезжали охотно, убегая от освенцимского ада. Настроение наше поддерживало то, что ежедневно стали нас навещать ”птички” — советские самолеты. На лагерь они бомб не сбрасывали, но два раза бомбы попали в эсэсовские бараки, где было, к нашей радости, довольно много жертв. Мы чувствовали, что фронт приближается. Побеги стали ежедневными. Однажды вечерний ”аппель” продолжался очень долго. Завывала сирена. Сначала мы подумали, что это налет, но вой был совсем другой — продолжительный. После долгих подсчетов оказалось, что не хватает одной заключенной в нашем лагере и одного заключенного в мужском. Как потом мы узнали, бежала бельгийская еврейка Маля, занимавшая большой пост: она была ”лауферкой” — направляла на работу тех, кто выходил из ”ревира”. Она была человеком в подлинном и высоком смысле этого слова и решительно всем, кому могла помогала. Маля сбежала вместе со своим другом поляком. Через несколько дней их поймали в Бельске. Они были одеты в форму СС и имели при себе оружие. Их привели в Освенцим и посадили в темницу — бункер. Немцы пытались узнать от них что-нибудь, но те не выдали никого. 21 августа мы увидели, как Малю, избитую, измученную, в лохмотьях привел эсэсовец в наш лагерь. Ее должны были повесить на глазах у заключенных. Она знала об этом. Она знала также, что ее друга уже повесили. Тогда она ударила сопровождавшего ее гестаповца, выхватила спрятанное в волосах лезвие бритвы и перерезала себе вены... Казнить эту девушку-героиню немцам не удалось.
По мере того как фронт приближался, немцы все больше нервничали. В крематориях перестали сжигать людей. Мало того: чтобы не оставлять следов своих преступлений, немцы уничтожили машины смерти. Один крематорий за другим взрывали. Казалось, варвары вспомнили о неизбежной расплате. Даже условия были кое в чем улучшены. Правда, на питании это не отразилось. Наш ”ревир” перевели на поле лагеря Биркенау, где раньше находились
17 тысяч цыган, которых сожгли еще летом. Хорошей стороной нашего нового места было то, что мы оказались между двумя мужскими лагерями. И так приятно и в то же время горько бывало, когда мы после работы ”встречались” вечером, разделенные проволокой, по которой пропускали ток. Еще приятней было то, что в последнее время нашим вечерним свиданиям стали мешать налеты советской авиации: свет на проволоке гас и мы, обнадеженные, расходились.
17 января стало известно, что лагерь ликвидируют. Ночью уничтожили все больничные листки. В 10 часов утра явился врач Кит и приказал больным, способным к маршу, и персоналу быть готовыми. Он заявил, что за тяжелобольными придут поезда. Эвакуация происходила и на всех остальных полях лагеря. Когда врач Кит при отборе на ”Лагерштрассе” направил меня к группе уходивших из лагеря, я незаметно повернула обратно и больше уже не выходила из барака, несмотря на то, что еще несколько раз предлагали приступить к маршу. Я легла на койку, сказавшись больной. Несколько тысяч больных вместе с персоналом остались в ״ревире”. Ввиду того, что заведующая аптекой тоже ушла с транспортом, мне поручили работу в аптеке. В следующие дни события развивались с большой быстротой. 20 января после грандиозного налета не стало в лагере ни воды, ни света. Налет, как всегда, явился для нас большой моральной поддержкой. Лагеря не бомбили ни разу. Мы опасались, что в последнюю минуту немцы взорвут наш ”ревирный” лагерь, чтобы замести следы своих преступлений. Это опасение и явилось причиной того, что большинство ушло 13 января. Ушедшие надеялись на то, что вне лагеря, по дороге удастся сбежать. Многим это и в самом деле удалось.
20 января царствовал уже большой беспорядок. В лагере осталось небольшое число эсэсовцев. Склады хлеба, продуктов и одежды остались открытыми. Склады были полны всякого добра. Эти варвары накопили множество всего, но нам, заключенным, давали худшее грязное белье, рвань вместо одежды, деревянные ботинки и кормили нас хуже, чем свиней. Около трех часов дня последние эсэсовцы ушли, предложив идти с ними тем, кто хотел, кроме евреев. Но никто не пошел. Ворота лагеря остались открытыми. Вечером того же дня вспыхнул пожар на соседнем поле лагеря (Бржезинка), а ночью был взорван последний крематорий. Мы боялись, что и с нашим лагерем поступят так же, как и с крематориями. Мы перерезали проволоку и оказались вместе с мужчинами, оставшимися так же, как и мы, на ”ревире”. С ними мы почувствовали себя гораздо увереннее. Многие ушли из лагеря. 23 января был очень тяжелый день. Утром появились на велосипедах несколько немцев. Они пробыли в лагере несколько часов, подыскивая для себя вещи поценней, затем уехали. 24 января утром явились другие немцы и расстреляли в мужском лагере 5 русских заключенных. 24 января приехала автомашина с группой гестаповцев. Они приказали выйти из блоков всем евреям, способным передвигаться. Построили несколько сот мужчин и столько же женщин. Я, наученная опытом, решила не выходить. Вместе с подругой мы пробрались в блок, в котором никого не осталось. Это был блок, где лежали мешки с бельем и одеждой. Мы спрятались под этими мешками, прислушиваясь к тому, что делается в лагере. Когда стало темнеть, мы вышли из нашего убежища. Поодиночке показывались те, кто не подчинился приказу гестаповцев. Так же как и мы, они спрятались кто где, и таким образом спаслись. Всех построившихся евреев погнали из лагеря и, как видно, расстреляли.
Ночь мы провели в мужском лагере. Прятаться больше уже не пришлось. 26 января я с подругой провела в аптеке мужского лагеря, где товарищи, неевреи, строили под потолком убежище для нас. В случае появления гестаповцев они должны были нас там спрятать. Этот день был исключительно для нас радостным: советская артиллерия и авиация работали, не умолкая ни на минуту. На следующий день не стало слышно артиллерийских выстрелов и не было видно самолетов. Мы решили, что фронт от нас отдалился. Нервы уже не выдерживали. При мысли о том, что гестаповцы снова могут появиться, жить казалось невозможным. И вдруг из аптеки я увидела на дороге вблизи лагеря силуэты в белой и серой одежде. Было это приблизительно в 5 часов дня. Сначала мы подумали, что это возвращаются ”лагерники”. Я выбежала из аптеки, чтобы посмотреть, кто идет. Каково же было наше счастье, когда мы увидели, что это наши спасители — советские воины. Это была разведка. Поцелуям и приветствиям не было конца. Нас уговаривали уйти, нам объясняли, что нельзя здесь стоять, потому что еще не уточнено, где враг. Мы отходили на несколько шагов и снова возвращались, чтобы быть ближе к нашим освободителям. Почти до самого вечера мы пробыли около ворот. А вернувшись в лагерь, мы и там встретили долгожданных и дорогих наших друзей.
28 января много бывших заключенных ушло из лагеря, получив, наконец, свободу. У нас в аптеке гостили командиры и бойцы. Мы рассказали им о страшной жизни в Освенцимском лагере.
3 февраля мы оставили за собой Биркенау и пришли в лагерь Освенцим. Там мы застали много людей, которым так же как и нам удалось спастись. 4 февраля мы пришли в город Освенцим. Нам не верилось, что мы свободны. С изумлением смотрели мы на проходивших по улицам людей. 5 февраля мы двинулись в направлении к Кракову. По одну сторону дороги тянулись гигантские заводы, построенные заключенными, уже давно погибшими от изнурительной работы. По другую сторону — еще один большой лагерь. Мы вошли туда и нашли больных, которые, как и мы, только потому уцелели, что не ушли с немцами 18 января. Оттуда мы двинулись дальше. Еще долго нас преследовали электрические провода на каменных столбах, так хорошо нам знакомых, — символ рабства и смерти. Нам казалось, что мы никогда из лагеря не выберемся, и мы добрались до деревни Влосенюща. Там мы переночевали и на следующий день, 6 февраля, тронулись дальше. По дороге нас подобрала машина и довезла до Кракова. Мы свободны, но радоваться мы еще не умеем. Слишком многое пережито и слишком многих мы потеряли.
ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ В ОСВЕНЦИМЕ. (Рассказ Мордехая Цирульницкого, бывшего заключенного №79414). Литературная обработка Л. Гольдберга.
1. В местечке Острино
Я родился в 1899 году в местечке Острино, ныне Гродненской области. Там же я жил со своей семьей до гитлеровского нашествия. Семья у меня была большая: пять человек детей. Славные у меня были дети. Учились все. Старшая дочка Галя — ей сейчас было бы уже двадцать два года — с приходом советской власти поступила в Гродненский инженерно-строительный техникум и весною 1941 года перешла на второй курс. Старший мальчик, семнадцатилетний Яков, учился в полиграфическом фабзавуче. Остальные учились еще в школе: шестнадцатилетний Йоэль перешел в девятый класс, тринадцатилетний Вигдор — в восьмой класс, а самая младшая — Ланя — ей было всего девять лет — перешла бы уже в четвертый класс.
Острино расположено недалеко от границы. Уже 23 июня 1941 года местечко со всех сторон было окружено немцами, и те жители, которые пытались бежать, вынуждены были вернуться обратно. А 25-го немцы вошли в Острино.
Расстрелы людей начались сразу же после вступления немцев в местечко. Первыми жертвами пали те, кто участвовал в организации советской власти и в работе Совета в нашем районе.
Наше местечко входило в Щучинский район. В начале сентября комендантом района был назначен немец-гестаповец. Фамилии его я сейчас не припомню — ослабла память после лагеря. С момента его назначения расстрелы стали обычны и часты в нашем местечке. Проводились они большей частью в базарные дни, чтобы напугать окрестное крестьянское население. Комендант, проживавший в районном центре Щучине, часто наезжал в Острино, и тогда мы уже знали, что предстоят расстрелы. Среди других были расстреляны все учителя: Миллер с женой и двумя дочерьми, Елин и другие.
По приказу коменданта в каждом доме на стене должен был висеть список жильцов. Если при проверке списка кого-либо не обнаруживали на месте, расстреливалась вся семья. Так погибла семья Ошера Амстибовского из восьми человек.
Гетто в Острине было организовано в начале декабря 1941 года. К нам в местечко согнали евреев из всех областных деревень, из местечка Новый Двор, из Дземброва. Прибывшие рассказали, что все слабые и больные по дороге были убиты. При организации гетто снова было расстреляно человек десять. Затем последовали новые приказы и новые расстрелы. Лейб Михелевич и его сестра Фейге-Соре были расстреляны за то, что привезли украдкой в гетто немного зерна. Ошер Боярский был застигнут при размоле зерна — его расстреляли. Да разве упомнишь все!
В январе 1942 года было объявлено, что Острино вместе со всем Гродненским районом включается в состав ”Рейха”.
Население гетто стали ежедневно гонять на работу в лес. Мужчины занимались лесозаготовками, гонкой смолы. Надзиратели избивали людей на работе до полусмерти, а отстававших или слабых убивали тут же на месте. Не раз случалось, что людей по обвинению в саботаже отправляли в тюрьму, а раз еврей попадал в тюрьму, он жил лишь до ближайшей пятницы. По пятницам в тюрьме производились расстрелы заключенных, в том числе и всех евреев.
2. В Келбасинском лагере
1 ноября 1942 года все еврейское население местечка Острино было вывезено в лагерь Келбасино, возле Гродно. До того там помещался лагерь для советских военнопленных. К моменту нашего прибытия в Келбасино военнопленных там уже не было. Туда постепенно свозили евреев из всех городов и местечек Гродненского района. Люди были размещены в небольших землянках, причем на каждую приходилось до трехсот человек. Не то что лежать, — стоять подчас негде было. Теснота, смрад, грязь невероятная. Гнали в болота на тяжелые работы. Хлеба выдавали по сто пятьдесят граммов в день, да и то совершенно несъедобного и одну-две мерзлых картофелины. Лагерфюрер Инсул за малейшую провинность избивал людей тяжелой палкой — бил он по голове до полной потери сознания.
Голод и тиф свирепствовали в лагере. Не было землянки, в которой за день не умерло бы несколько человек; умирали и на работе. А о так называемой больнице, то есть землянке, в которую бросали тифозных больных, и сейчас страшно вспомнить. Вряд ли кто-либо из попавших туда больных мог надеяться выжить, несмотря на все старания доктора Гордона, благороднейшего человека, все свои силы отдавшего на спасение больных обреченных людей.
С этим доктором Гордоном мы потом встретились в Освенцимском лагере. Он был одним из активнейших членов нашей организации сопротивления. Удалось ли ему выжить, не знаю.
Тела умерших в Келбасинском лагере даже не зарывали в землю. На территории лагеря, несколько поодаль от жилых землянок, была вырыта огромная яма, стоявшая все время открытой. Покойников сбрасывали в эту яму, присыпали сверху тонким слоем извести, а наверх кидали все новые и новые трупы. Трудно даже представить, сколько человеческих тел поглотила эта братская могила.
3. Первые месяцы в Освенциме
В Келбасинском лагере мы провели месяц.
2 декабря 1942 года мы получили приказ подготовиться к отъезду. Вещи предписано было упаковать, надписать имена и фамилии владельцев: их обещано было послать вслед за нами на новое место поселения; 2 декабря нас всех, вместе с семьями, погрузили в вагоны без крыш. Вагоны набили людьми до отказа и заперли. Ехали мы трое суток. Ни хлеба, ни воды не получали. Больше всего страдали люди от жажды, особенно дети. Во время движения поезда мы всячески ухищрялись раздобыть хоть несколько капель влаги: на веревочке спускали банку, стараясь захватить немного снега, смочить губки изнывавшим от жажды детям; спускали тряпочки, куски бумаги, — тряпка намокнет на снегу, тогда можно было выжать несколько капель.
Несмотря на строжайшую охрану, мне удалось на ходу спустить из вагона двух моих мальчиков: Якова и Йоэля. Авось, думал я, хоть они как-нибудь спасутся. Не спаслись... Яков решил бежать в лес, к партизанам. Уже теперь, после войны, будучи дома, я узнал, что он погиб, не дойдя до партизан. Йоэлю удалось пробраться в Гродно, где в гетто жила еще моя сестра. Он был привезен в Освенцим несколькими месяцами позже вместе со всей семьей моей сестры и прямо с поезда отправлен в ”газ”. А я вместе с женой Саррой и тремя детьми были привезены в Освенцим 5 декабря 1942 года.
Наш эшелон остановился на маленькой платформе посреди поля. Как я позже узнал, это была специально построенная платформа между Аушвицем и Биркенау... Несколько поодаль виднелись какие-то сараи. Дальше — бесконечная линия проволочных заграждений.
Около платформы стояла небольшая группа людей в штатском. И первое, что я увидел, был согбенный человек, которого упитанный эсэсовец избивал палкой. Сколько раз мне потом пришлось видеть подобные картины, но это жестокое впечатление первых минут прибытия в Освенцим мне не забыть.
На машине со знаками Красного Креста подъехал к нашей группе лагерфюрер Шварц (кстати, и коробки яда для ”газирования” людей в лагере всегда возили на машине со знаками Красного Креста). Нас окружили эсэсовцы. Из вагонов стали выгружать наши вещи. Но нас к ним не допустили. Тут же из вагонов вытащили тела умерших в дороге и сложили в сторонке. Подошла команда заключенных в полосатых костюмах; их направили к вещам.
Начался отбор. Больных и слабых отвели туда же, где лежали тела умерших. Здоровых на вид мужчин выделили в особую группу. Всех остальных — женщин, стариков, детей — посадили на машины и увезли. Так я навеки расстался с женой и детьми, даже не попрощавшись с ними, не сознавая, что их увезли на смерть.
Я оказался среди ста восьмидесяти девяти отобранных мужчин. Нас повезли в центральный лагерь — Освенцим. У въезда мы увидели арку. Наверху надпись: ”Arbeit macht frei” (труд делает свободным). В бане каждому из нас на левой руке вытатуировали номер и треугольник. Мой номер, как видите, 79414. Номера и треугольники татуировали только у евреев, — у тех из них, которых оставляли на некоторое время в живых для работы. Кроме того, все заключенные обязаны были носить на одежде, на левой стороне груди, опознавательные знаки: евреи — красный треугольник и на нем желтый, наложенный так, что получалась шестиугольная звезда (впоследствии этот знак был заменен красным треугольником с желтой полоской наверху) русские — черный треугольник. Политические заключенные носили красный треугольник, уголовные — зеленый.
Показаться на территории лагеря без опознавательного знака или же носить его не на положенном месте означало идти на верную смерть. Первый встречный эсэсовец мог задержать тебя, свалить ударом наземь, бить сапогами в лицо, в грудь, а потом отправить в газовую камеру.
Первую ночь вся наша группа провела вместе в одном из бараков. Наутро — новый отбор. Всех мужчин моложе сорока лет отделили и отправили в лагерь Буна — третий по величине лагерь после Аушвица и Биркенау. Таких мужчин набралось сто сорок человек. Нас, остальных сорок девять, поместили в четвертый блок (барак). Меня включили в рабочую команду, занятую выравниванием реки Соло (Solodurchstieg). Два-три часа продолжалась проверка (”апель”) утром, перед отправкой на работу, и столько же вечером — по возвращении в барак. На работу приходилось идти три километра. Труд был тяжелый, изнурительный. Нас сопровождали особые команды эсэсовцев, которые во время работы наблюдали за нами. Нет слов для описания садизма эсэсовцев, мучивших, избивавших нас по малейшему поводу, а то и без всякого повода.
Бывало подойдет к тебе охранник. Раздается команда: ”Нагнись!”, и тут же на месте он отсчитывает тебе двадцать пять-пятьдесят палочных ударов. Все твои мысли направлены в это время к одному: как бы удержаться на ногах, не упасть, иначе тебя ждет пуля.
В конце декабря была проведена ”санитарная” кампания (Entlaunsung). С нас сняли всю одежду, заперли совершенно голыми, затем голышом же погнали в баню.
2 января 1943 года я был зачислен в команду по разборке вещей прибывающих в лагерь заключенных. В этой же команде, вместе со мной, оказалась группа евреев, привезенных из Франции. Среди них был еврейский актер Блюмензон, мой двоюродный брат Арон Лейзерович и другие. Часть из нас занималась разборкой прибывавших вещей, другие — сортировкой, а третья группа — упаковкой для отправки в Германию. Ежедневно отправлялись в разные города Германии по семь-восемь вагонов вещей. Старые, изношенные вещи отправлялись на переработку в Мемель (Клайпеду) и Лодзь.
Работа шла беспрерывно круглые сутки, и днем и ночью, и все же нельзя было с ней справиться — так много было вещей.
Здесь, в тюке детских пальто, я нашел однажды пальто моей младшей дочурки — Лани.
Уже вскоре после того, как я начал работать в этой команде, я узнал о газовых камерах, о крематориях, где ежедневно сжигались тысячи людей, я узнал о судьбе всех тех, кому не посчастливилось попасть в рабочие команды, и понял, что та же судьба постигла и мою семью. Люди ослабевшие, истощенные, больные, негодные для рабочих команд, неизменно ”газировались”, а на их место присылались другие. Однажды, в сильный мороз, эсэсовцы заставили целую группу работать раздетыми. Через два часа люди были совершенно обморожены. Работа стала. Эсэсовцы избили людей палками, те же, кто не выдержали экзекуции и свалились, были отправлены в ”газ”.
Сказаться больным, попасть в амбулаторию было равносильно добровольной отправке в ”газ”. Мы очень скоро узнали об этом. У моего старшего брата Михла, находившегося вместе со мной в Освенциме, распухли ноги. Он пошел в амбулаторию и больше оттуда не вернулся. Так погибли и другие мои остринские земляки: Мойше-Янкель Камионский, Шлойме-Гирш Шилковский, Мотл Кринский и другие.
Я чувствовал, что силы у меня падают с каждым днем, я еле держался на ногах. Но товарищи по команде поддерживали меня, помогали скрыть от охраны мое болезненное состояние. Если бы не их помощь, не миновать бы мне ”газа”.
12 января 1943 года нашу команду переселили в Биркенау.
Аушвицу немцы старались внешне придать вид рабочего лагеря. На территории лагеря редко можно было увидеть труп заключенного.
Совершенно иначе дело выглядело в Биркенау. Здесь все свидетельствовало о том, что мы находимся на фабрике смерти. Повсюду возле блоков лежали мертвые или умирающие люди. Грязь в бараках царила неописуемая. В зимние, морозные дни людей посылали в холодные бани, окатывали ледяной водой. Заболевших отправляли в газовые камеры. Сначала отправки производились раз в неделю, потом стали отправлять все чаще и чаще. Ослабевшие, изможденные люди еле вытаскивали ноги из грязи, которой была покрыта вся площадь лагеря. А эсэсовцы, забавляясь, ставили им палки под ноги. Упадет человек, ему уже не встать. Однажды вечером, выходя на работу, я увидел два грузовика с прицепами, полные трупов.
Не меньше эсэсовцев свирепствовали надзиратели отдельных бараков, большинство которых вербовалось из уголовных преступников. На моих глазах немец-надзиратель нашего барака убил однажды четырнадцать человек. В других бараках положение было не лучше, если не хуже.
Вставали мы в четыре часа утра. ”Апель” утром и вечером продолжался часа по три. Производился он во дворе. Особенно мучительным был вечерний ”апель”. Здесь же, перед строем, производилась экзекуция над людьми, в чем-либо провинившимися на работе. В дополнение к побоям, полученным ими еще на работе от охраны, во время ”апеля” снова производилось избиение. А иногда человека прямо отправляли в ”газ”. Особенно свирепый характер носили ”апели”, если кого-либо не хватало. ”Апель” тогда продолжался бесконечно. За бежавшего расплачивались все, кто с ним работал.
Помню, как-то летом 1943 года из лагеря выехало с навозом восемь человек заключенных русских из сельскохозяйственной команды. Они остались на несколько часов работать вне лагеря. Троим из них удалось бежать. Охрана несколькими выстрелами в лицо расстреляла остальных пять заключенных. Тела их были доставлены в лагерь и для устрашения остальных заключенных уложены на столы возле ворот. Так пролежали они двое суток.
Если кто-либо не в состоянии был идти на работу, его отправляли в седьмой барак. Это было место, куда собирали всех больных. Когда барак заполнялся, всех отсылали в газовые камеры.
Не прошло и двух месяцев с момента нашего прибытия в Освенцим, как из всей нашей группы в сорок девять человек осталось лишь четверо или пятеро. Все остальные постепенно были убиты или отправлены в ”газ”.
Часть наших остринских работала в лесу, в команде, которая заготовляла дрова для крематориев или для сжигания во рвах. От одного из них, Фишеля Любецкого, я узнал, что Лейб Бриль, Яков Слацник, Лейб Слацник были повешены эсэсовцами в лесу. У самого Любецкого все тело было в кровоподтеках от побоев. Но он был крепкий парень — выдержал и пробыл вместе со мной в лагере до самых последних дней.
В феврале я увидел среди вновь прибывших своего племянника, сына моей сестры из Гродно — Йоэля Камионского. От него я узнал о судьбе моего мальчика Йоэля, которого я пытался спасти в дороге. И он не миновал Освенцима. Привезли его сюда вместе со всей семьей моей сестры, и из всей этой семьи только Йоэль Камионский попал в рабочую бригаду. Судьба остальных была уже для меня ясна — ”газ”.
До весны 1943 года транспорты людей шли преимущественно из польских областей, отнесенных гитлеровцами к Третьему Рейху, частично также из ”генерал-губернаторства”. Затем стали прибывать первые транспорты из Греции, Чехословакии, Германии, Франции.
Прибыл однажды транспорт из города Пружаны. Один из прибывших, увидя людей нашей команды, спросил: ”Скажите, какой смертью суждено нам умереть?”
Я чувствовал, как у меня с каждым днем тают силы. Как ни старались мои товарищи по команде оградить меня от взоров охраны, я часто стал попадать под палочные удары. До сих пор звучит в моих ушах команда: ”Нагнись!” В вещах, которые мы разбирали, попадалось иногда съестное. Мы старались скрыть это от охраны, но если эсэсовцы обнаруживали у нас какие-либо продукты или замечали, что мы что-нибудь съели, нас били нещадно.
Я получил однажды тридцать пять палочных ударов за передачу куска черствого хлеба, найденного в вещах, моему племяннику Йоэлю Камионскому. Жизнь становилась невмоготу. Но товарищи всячески старались поддержать во мне дух бодрости, убеждали что надо беречь жизнь, — она еще может пригодиться.
С особой благодарностью вспоминаю сейчас моих товарищей: Альберта (прибывшего из Франции) и Кабачникова. В Освенцим они попали еще раньше меня — их номера были среди 40-х тысяч.
Евреи, привезенные из Греции, были преимущественно жители Салоник. Перед отправкой из Греции им было заявлено, что они едут на работу в Польшу. Люди поверили и были поражены, когда по прибытии эшелона в Освенцим, тотчас же после выгрузки, немцы принялись отделять более здоровых мужчин от женщин, детей и стариков. ”Wie so, Frauen separat?” (Как так, женщины отдельно?), — с изумлением спросил по-немецки молодой человек, когда его отделили от семьи.
В Биркенау были доставлены прибывшие с первыми греческими эшелонами три раввина. Их заставили подписать письмо, в котором говорилось, что все люди живы, работают, живется им хорошо. Затем их постигла общая участь.
Осенью 1943 года в лагере было отобрано около четырех тысяч заключенных евреев, преимущественно прибывших из Греции. Они были увезены в Варшаву на разборку руин гетто. Небольшой части этих людей удалось бежать, большинство же было потом доставлено обратно и сожжено в освенцимских крематориях.
В одном из греческих транспортов был доставлен детский дом. На железнодорожной платформе эсэсовцы хотели отделить от детей прибывшую вместе с ними воспитательницу. Она категорически отказалась оставить детей одних и ушла вместе с ними в газовую камеру.
Мы были однажды поражены, когда к нам, в мужской лагерь, привезли несколько еврейских семейств из Германии с женами и детьми. Недоумение наше скоро разрешилось. Газовые камеры и крематории не могли сразу справиться с огромным количеством доставленных в Освенцим жертв. Пришлось задержать их на некоторое время. Через день-два все эти люди были отправлены в крематорий.
Несколько позже вблизи наших бараков находился семейный лагерь, в котором были размещены евреи, привезенные из Терезиенштадта в Чехословакии. Этот лагерь просуществовал около полугода, после чего все обитатели его были отправлены на смерть.
Видел я и семейный лагерь цыган. Они занимали два больших блока. Их там была не одна тысяча. Погибли все до единого.
Вот так жили мы, видя каждую минуту смерть перед глазами. Только товарищеская поддержка помогла мне пережить это время, вопреки всему. С наступлением весны я несколько пришел в себя, почувствовал себя лучше. А летом в моей жизни в лагере произошла перемена.
4. На заводе
В июне 1943 года меня как слесаря взяли на завод, который находился в семи-восьми километрах от Освенцима. Всего нас на заводе работало две тысячи шестьсот заключенных, из них примерно тысяча триста мужчин и полторы тысячи женщин.
Завод первое время принадлежал фирме Круппа. Машины и станки были доставлены частью новые, частью искалеченные, обгорелые, очевидно, пострадавшие от бомбардировок. Вид этих станков доставлял нам, поистине, удовлетворение. Через некоторое время все крупповское оборудование было вывезено, завод перешел к фирме ”Унион”, которая привезла сюда оборудование с советскими марками из Запорожья.
Старшим в мастерской, в которую я попал, был чех Котшеба. Мы с ним вскоре стали заниматься выделкой кастрюль, тазов и так далее. Немцам это понравилось. Требования на кастрюли возрастали с каждым днем. Иногда нам за них перепадал лишний кусок хлеба. Случаи смерти людей тут же на заводе за станком бывали у нас довольно часто.
Избиение заключенных на заводе было обычным делом. Особенно свирепствовал обермайстер Штратман, мерзавец, каких мало. Он бывало подходил к своей жертве потихонечку, говорил с улыбкой, а кончалось дело зверскими побоями.
Одно время нам казалось, что в лагере несколько затихло с газованием и сжиганием людей. Имел место даже такой случай: четыреста человек, взятых для отправки в газовые камеры, были возвращены в бараки. Лагерфюрер Гофман через старост бараков (Blockälteste) заявил, что больше никого, а тем более неевреев, газовать не будут. Но это было только для видимости. На самом деле газовые камеры и крематории продолжали ежедневно поглощать десятки тысяч жертв. На другой же день после ”торжественного” обещания Гофмана в газовые камеры было отправлено несколько тысяч человек из более мелких лагерей: Явожно, Буна, Янина-Грубен и других. Раньше людей, истощенных на работе в этих мелких лагерях, привозили в Биркенау или Аушвиц, а отсюда уже отправляли в газовые камеры. Теперь процедура сократилась — их везли в крематории прямо из этих лагерей. Нередко отправляли на газование людей и с нашего завода.
Лето 1944 года было особенно жутким по количеству людей, истребленных в Освенцимских лагерях. Тогда-то были сожжены люди, доставленные из Терезиенштадтского лагеря, и цыгане, занимавшие некоторое время в Освенциме два больших блока.
Зимою 1943-1944 года было доставлено несколько транспортов людей из Белостока — участников восстания Белостокского гетто. Многие из них были расстреляны эсэсовцами сразу же, при выгрузке из вагонов, это был первый случай массового расстрела на железнодорожной платформе. Остальные были отправлены в газовые камеры. В лагерь из этих транспортов не было доставлено ни одного человека.
Летом 1944 года была доставлена большая партия мужчин и женщин из Майданека. Среди них началась сильная эпидемия дизентерии, и каждое утро сотни людей отправлялись в газовые камеры.
В конце июня — начале июля 1944 года чувствовалось, что немцы усиленно готовятся к приемке и истреблению большого количества людей. Несмотря на беспрерывную работу всех печей в крематориях, землекопы стали рыть большие ямы, лесорубы — заготовлять дрова. Вскоре началась доставка транспортов с венгерскими евреями. В течение июля и августа их было доставлено не менее пятисот тысяч человек.
Первые партии венгерских евреев доставлялись в лагерь. Их заставляли писать домой письма о том, что они находятся в районе Вальдзее, вблизи Вены, и живется им хорошо. Вскоре, однако, эшелоны стали подвозить прямо к газовым камерам. Людей убеждали, что их ведут в баню, и они спокойно стояли у камер, дожидаясь своей очереди.
Газовые камеры ”пропускали” тогда ежедневно по двадцать-двадцать шесть тысяч человек. Крематории не в состоянии были справиться с таким огромным количеством трупов, и вокруг лагеря день и ночь пылали костры. Казалось, что все кругом охвачено пламенем, отовсюду доносился запах горелого человеческого тела. Клубы дыма стлались по земле. Мы вдыхали этот запах, этот дым — он душил, сводил нас с ума.
В самый разгар истребления венгерских евреев, в одно из воскресений, лагерфюрер Гесслер решил позабавиться. Нас всех выгнали из бараков во двор лагеря, где беспрерывно играл оркестр, а сам Гесслер, в тирольском костюме, в коротких кожаных брючках, в шапочке с пером разгуливал по лагерю, любуясь багровым от пламени небом.
Примерно в то же время в Освенцим привезли большую партию еврейских женщин и детей из Югославии, затем партию в шестьдесят пять тысяч человек из Лодзинского гетто.
В 1944 году особенно широкий размах приняли ”медицинские” опыты над людьми. Еще в 1943 году из ряда транспортов были отобраны все дети моложе шестнадцати лет. Над ними в течение некоторого времени производились какие-то эксперименты, а затем им всем был впрыснут яд. Впоследствии жертв для экспериментов стали отбирать из каждого транспорта. Весною 1944 года женщины, предназначенные для экспериментов, были переведены в отдельный барак (второй барак новой стройки). Вокруг него была сооружена ограда из колючей проволоки, поставлена охрана.
Точно так же были огорожены и восьмой, девятый, десятый бараки, в которых также содержались ”подопытные” женщины.
Почти все они постепенно были отправлены в газовые камеры. Те, которые выжили до конца существования лагеря, были истреблены во время эвакуации.
Мужчин кастрировали: некоторым вырезали по одному яичку, иным — оба.
Единичные случаи сопротивления, попытки бежать из лагеря были довольно часты. Еще летом 1943 года бежал поляк-инженер, захватив с собой планы строительства лагеря. В отместку за это бегство было повешено двенадцать поляков, работавших вместе с ним. Было объявлено, что в дальнейшем за каждого бежавшего будет казнено сто человек. Это, однако, не остановило людей. Попытки бежать продолжались. Летом 1944 года попытался бежать варшавянин Генах Громп со своим братом и одним чехословацким евреем. Их задержали. Генаха отправили в лагерь Янина-Грубен, а остальных двух посадили в ”бункер” (тюрьму) в Биркенау. В Янина-Грубен Генах пытался устроить подкоп, но опять попался. Его доставили в Биркенау и тут повесили.
Двое его товарищей сделали попытку бежать из ”бункера” и также были повешены.
Лагерная тюрьма, бункер, помещалась в одиннадцатом бараке. Судьба людей, попавших в бункер, была заранее известна. Каждые десять дней происходила комедия суда. Приговор был один — смертная казнь. Стена, у которой производились казни, получила название ”Черной стены”. Среди казненных в бункере было много поляков-партизан, мужчин и женщин. Здесь же казнили и евреев, которые бежали из гетто. Однажды расстреляли у ”Черной стены” молодую еврейскую женщину с двумя детьми.
В 1944 году расстрелы у ”Черной стены” были заменены душегубкой. Душегубка работала до последнего дня существования лагеря.
Нередко случалось, что, вернувшись с работы, мы видели на земле еще не застывшие следы человеческой крови. Однажды, войдя в ограду, мы наткнулись на грузовик, из кузова которого ручьями текла кровь. Машина была нагружена телами убитых.
Зимою, в начале 1944 года, вернувшись однажды с работы в поздний час, когда ”апель” давно уже должен был быть закончен, мы застали весь лагерь во дворе. По общему настроению мы поняли, что произошло нечто очень серьезное. И, действительно, оказалось, что произошло событие, весьма встревожившее гитлеровцев. В одном из транспортов, доставленных из Франции, была молодая еврейская женщина. Когда ее, уже голую, повели к газовой камере, она стала умолять рапортфюрера Шилингера, руководившего газованием, оставить ее в живых. Шилингер стоял, засунув руки в карманы, и, покачиваясь на ногах, смеялся ей в лицо. Сильным ударом кулака в нос она свалила Шилингера на землю, выхватила его револьвер, несколькими выстрелами убила наповал его и еще одного эсэсовца, а одного ранила.
Имел место и такой случай: один еврей из Югославии, зачисленный в ”зондеркоманду”, при сжигании трупов бросился в огонь, потащив вместе с собой эсэсовца.
В конце 1943 года в лагере возникла организация сопротивления. Как в саму организацию, так и в руководство входили люди различных национальностей. Работа велась первое время среди заключенных каждой национальности отдельно. Мы знали, что во главе организации стоят коммунисты.
Меня в организацию привлек Гутман, участник восстания Варшавского гетто. Я уже потом привлек других товарищей: Альберштата, Роберта (он был из Бельгии, фамилии его я не помню). Вообще же мы были организованы в кружки, и каждый из нас знал только свой кружок — тех людей, от которых он получал задания, и тех, которым он должен был передавать задания. Нам удалось установить контакт с женскими бараками, с рабочими зондеркоманды, даже с заключенными маленьких лагерей.
Первое время организация ставила перед собой главным образом задачу оказания помощи наиболее нуждавшимся товарищам. Затем организовали передачу информации. Через товарищей: работавших в радиомастерской, удалось установить более или менее регулярное слушание советского радио, и сведения о победах Красной Армии, передаваемые из уст в уста, вливали в нас бодрость и веру в то, что приближается час расплаты с гитлеровскими людоедами. Мы на заводе тайком заготовили ножницы, готовясь в соответствующий момент перерезать проволочные заграждения вокруг лагеря.
Мы перешли к проведению актов саботажа на заводе: замедлению темпа работы, порче станков.
В мае 1944 года мне, по предложению организации, удалось перейти в ночную смену для установления связей и налаживания работы организации в этой смене. Наша деятельность, несомненно, приносила плоды. Понемногу стали красть порох с завода и передавать его членам организации, входившим в зондеркоманды.
В конце августа гитлеровцы принялись уничтожать зондеркоманды, сжигавшие трупы венгерских евреев. Несколько сот человек из этих команд были задушены в Аушвице в камерах, в которых проводилась дезинфекция вещей. Остальные скоро узнали об этом. Сто двадцать человек из зондеркоманды напали на свою охрану, перебили ее, начальника одного из крематориев сожгли в печи, крематорий взорвали, а сами бежали. За ними была послана погоня, многие из них погибли, но, как нам передавали, тридцать шесть человек из них все же ушли.
В лагере после этого начались повальные обыски и репрессии. Был арестован и немец, ”капо” нашей ночной смены, Шульц. У одной девушки из Кракова обнаружили какое-то письмо, и по этому письму были арестованы еще три девушки. Всех их четверых повесили перед зданием завода — двоих во время дневной смены, двоих — в ночной. Казнью руководил лагерфюрер Гесслер.
Пять членов организации решили бежать из лагеря для установления связей с внешним миром и подготовки более широкого выступления. Их уложили в ящики, в которых вывозились вещи. Но шофер заметил их и выдал. Все они были доставлены обратно в лагерь и повешены ”за попытку к бегству и взрыву лагеря”.
Настроение стало крайне напряженным. Начата была постройка специальной, огражденной колючей проволокой, дороги с завода в лагерь.
В декабре 1944 года мы почувствовали, что немцы готовятся к ликвидации лагеря. Пошли слухи, что всех заключенных собираются уничтожить.
В начале января налеты советской авиации на Освенцим приняли особенно интенсивный характер. В ночь на 12 января, не успели мы заступить на ночную смену, как раздался оглушительный взрыв. Свет погас. Вскоре мы узнали, что бомба попала на участок, который занят квартирами эсэсовцев, и нанесла им много потерь.
Во время бомбежек люди молили бога о том, чтобы погибнуть от авиабомбы, а не от рук гитлеровцев.
Гитлеровцы были в совершенной панике. Чувствовалось, что близится конец. Каков будет он, однако, для нас? На душе было очень тревожно.
Началась эвакуация лагеря. Сначала вывезли всех поляков. В ночь на 18 января наш завод еще работал. А 18 января нас погнали на запад. На каждые пять заключенных был поставлен один эсэсовец. Семьдесят километров гнали нас пешком. Отстававших пристреливали — за два дня пути было таким образом убито до пятисот человек.
20 января нас привезли на какую-то маленькую станцию. На каждом шагу валялись трупы убитых. Расстреливали каждого, кто пытался на шаг отойти от команды. Здесь нас посадили в открытые вагоны и повезли.
Ночью, на маленькой станции, в пятнадцати километрах от Нейсы, мне удалось бежать. Девять дней я пролежал в лесу, затем попытался выйти, был арестован, опять бежал, втерся в группу немецких беженцев и вместе с ними добрался до Фалькенберга. Здесь меня снова задержали, приговорили к расстрелу. Но мне снова удалось бежать, и после долгих мытарств я 3 февраля перешел линию фронта. После проверки я удостоился чести быть зачисленным в ряды Красной Армии. Я счастлив тем, что мне удалось участвовать в нескольких боях против гитлеровцев. 7 мая я был ранен, два месяца пролежал в госпитале.
Сейчас я демобилизован. Был дома в Острине. Жизнь в городе восстанавливается. Но мне там сейчас слишком тяжело. Раны в сердце моем кровоточат. Все мне напоминает мою семью, моих дорогих детей. И я решил пожить в другом месте. Советская родина мне эту возможность предоставила. Мастер я неплохой, работаю. Надо жить! Будем жить!
РАССКАЗ БЫВШЕГО ВОЕННОПЛЕННОГО М. ШЕЙНМАНА
В первые дни войны я поступил добровольцем в народное ополчение и стремился скорее попасть в Действующую армию. В начале октября 1941 года, под Вязьмой, часть, в которой я служил, оказалась в окружении. Мы сразу же очутились в глубоком тылу у немцев. 12 октября во время атаки я был ранен в ногу. Зима 1941 года была ранняя. Переходя вброд речку, я обморозил обе ноги. 19 октября я уже не мог передвигаться и был оставлен в деревне Левинка Темнинского района Смоленской области. Здесь 27 октября меня обнаружили немцы.
С этого дня началось мое хождение по мукам в фашистских лагерях.
Как советский гражданин, батальонный комиссар, да еще еврей, я был в плену на положении приговоренного к смертной казни, приговор над которым мог быть приведен в исполнение каждую минуту, если бы немцам что-нибудь стало известно обо мне. Советские граждане, очутившиеся в плену, массами гибли от голода и холода, от невыносимых условий жизни в лагерях, в лагерных ”госпиталях” и в так называемых ”рабочих командах”. Тысячами расстреливали немцы пленных на этапах, при транспортировке. Раненые часто пристреливались на поле боя. Немцы разработали и осуществляли методически и настойчиво целую систему мероприятий, направленных к истреблению возможно большего числа людей, попавших к ним в плен.
В первый период войны немцы даже не старались скрывать, что они преднамеренно уничтожают пленных, будучи уверенны в своей победе и безнаказанности. Уничтожение военнопленных продолжалось до последнего дня войны. Но в конце немцы делали эго более замаскировано.
Приведу некоторые данные о лагерях, где я был, а также данные, сообщенные мне моими товарищами по плену.
С ноября 1941 года по 12 февраля 1942 года я находился в Вяземском госпитале для военнопленных. По свидетельству врачей, работавших тогда в госпитале и в лагере, за зиму 1941—1942 годов в Вяземском лагере умерло до семидесяти тысяч человек. Люди помещались в полуразрушенных зданиях без крыш, окон и дверей. Часто многие из тех, кто ложился спать, уже не просыпались — они замерзали. В Вязьме истощенных, оборванных, еле плетущихся людей — советских военнопленных — немцы гоняли на непосильные тяжелые работы. В госпиталь попадали немногие — большинство гибло в лагере.
Из Вязьмы я в феврале 1942 года был переведен в Молоданенский лагерь (Белоруссия). Здесь, по свидетельству врачей и санитаров, к этому времени (с начала войны) умерло до сорока трех тысяч человек, умирали главным образом от голода и тифа.
С декабря до августа 1944 года я был в Ченстоховском лагере (Польша). В этом лагере умерло и расстреляно немцами много десятков тысяч военнопленных. Ежедневно в закрытой повозке на кладбище вывозили умерших от голода и туберкулеза. Фельдшер, который ездил хоронить умерших, рассказывал мне, что в Ченстохове было несколько кладбищ, где похоронены советские военнопленные. Хоронили в два-три яруса: трупы клали одни поверх других в огромные ямы-траншеи, примерно по десять тысяч человек в каждую яму. В 1942—1943 годах в Ченстохове систематически производились расстрелы военнопленных — политработников, евреев, офицеров и интеллигентов.
Много тысяч советских военнопленных замучено немцами в лагерях Германии. Недалеко от последнего лагеря, где я находился — лагеря ”Везуве” (близ Меппена на Эмсе, на голландской границе), был небольшой лагерь русских военнопленных — Далюм. В июне 1945 года, после освобождения из плена, нашими товарищами, дожившими до освобождения, был воздвигнут на далюмском кладбище памятник тридцати четырем тысячам русских военнопленных, замученных немцами. В лагере №326 недалеко от Падеборна и Вилефельда после освобождения сооружен памятник шестидесяти пяти тысячам советских военнопленных, замученных немцами в этом лагере.
По свидетельству бывшего комиссара стрелкового полка Московской ополченской дивизии Сутугина М. В., так же как и я попавшего в плен под Вязьмой, в Гомельском лагере, где он находился, в декабре 1941 года умирало ежедневно по четыреста-пятьсот человек.
Мой товарищ по плену полковник Молев А. Г. (бывший командир дивизии) находился в лагере Деблин (Польша). Здесь с сентября 1941 года по март 1942 года из ста шести тысяч пленных умерло до ста тысяч. В Замостье, в лагере для офицерского состава, за зиму 1941/42 года, по свидетельству моего товарища по плену лейтенанта Шутурова Д. В. (Днепропетровск), из двенадцати тысяч человек к концу марта 1942 года осталось две с половиной тысячи. Остальные умерли от голода и холода.
По свидетельству военврача Сайко В. А., в Житомирском лагере с 1941 года по май 1943 года умерло около шестидесяти тысяч человек, в Сувалкском — с начала войны до 1 мая 1944 года (по данным немецкой комендатуры) умерло пятьдесят четыре тысячи военнопленных.
Бывший некоторое время в конце 1941 года начальником санитарной службы Могилевского лагеря военнопленных, инженер Фокин В. В., вместе с которым я находился в Кальварийском лагере в 1943 году, рассказывал мне, что в Могилевском лагере за зиму 1941—1942 года от голода и холода погибло, а также было замучено немцами более ста тысяч человек. В день умирало до семисот пятидесяти человек. Умерших не успевали хоронить.
По свидетельству военврача второго ранга Дорошенко С.П., работавшего врачом в Минском госпитале военнопленных, в Минском лесном лагере с июля 1941 года по март 1942 года, умерло сто десять тысяч человек. Ежедневно умирало четыреста-пятьсот человек.
В ряде мест осенью и зимой 1941-1942 года немцы устраивали лагеря военнопленных под открытым небом. Так было в Замостье, в Сухожеброво (около Седлеца), в Минске и в других местах. Результатом этого была почти поголовная гибель находившихся здесь людей. В лагере рядового состава в Замостье в конце 1941 года пленные жили под открытым небом. В октябре выпал снег. За два дня две тысячи человек замерзло.
Зимой 1941/42 года немцы в лагерях по утрам выгоняли пленных из бараков на двор и не пускали в помещения до ночи. Люди замерзали. Раздача пищи тоже производилась на морозе. Зимой 1941 года в Могилевском лагере для получения обеда надо было три-четыре часа простоять на морозе. В часы ожидания ежедневно умирало по нескольку человек.
Тысячи военнопленных гибли на этапах и при перевозке по железной дороге. Этапы отправляли часто пешком. Отстававших пристреливали, и это практиковалось до последних дней войны. Часто конвоиры стреляли в колонны пленных исключительно ради забавы. Зимой 1941 года бывали случаи, когда из лагеря выходила колонна в шесть тысяч человек, а к месту назначения приходило две-три тысячи.
Остальные либо замерзали по пути, либо были убиты немцами.
По железным дорогам пленных перевозили либо в товарных вагонах (без печки), либо на открытых площадках. В каждый вагон помещали до ста человек. Люди замерзали и задыхались от отсутствия воздуха. В феврале 1942 года госпиталь военнопленных из Вязьмы перевозили в Молодечно. По пути на каждой остановке из вагонов выносили умерших от истощения и замерзших.
Старший лейтенант Филькин Д. С. находился зимой 1941/42 года в Гродненском лагере № 3. Он рассказывает, что в январе 1942 года из Бобруйска прибыл эшелон, в котором было тысяча двести военнопленных. Когда открыли вагон, оказалось, что восемьсот человек в пути замерзло и задохнулось. К июлю 1942 года из всего этого транспорта людей в живых осталось шестьдесят человек.
В декабре 1941 года, когда в Вязьму прибыл эшелон с пленными, вывезенными немцами со станции Шаховская, врач, который был направлен на станцию принимать эшелон, рассказал мне, что значительная часть людей замерзла в пути. Трупы выносили из вагонов и складывали штабелями. Некоторые еще показывали признаки жизни, пытались поднимать руки, стонали. К таким подходили немцы и пристреливали.
В лагерях военнопленных, в штрафных и рабочих командах, жестокость немцев и их изобретательность в деле убийства не знали пределов.
В 1941-1943 годах первые пять-семь дней плена, как правило, людям совершенно ничего не давали есть. Немцы цинично утверждали, что это делается для того, чтобы люди ослабели и были неспособны к побегам. В январе-феврале 1942 года в госпитале на больного отпускалось в день семьдесят граммов немолотой ржи. Из этого зерна два раза в день готовили ”суп” — каждый раз по пол-литра на человека. Неудивительно, что люди слабели и умирали как мухи.
В 1941—1943 годах в лагерях летом поели всю траву на дворах, ели древесные листья, если попадались лягушки — поедали и их, жарили на огне и ели конскую шкуру, если ее удавалось добыть. Соль была недосягаемой роскошью.
Максимальная калорийность дневного рациона советских военнопленных в немецких лагерях, по подсчету врачей, составляла 1300—1400 калорий, в то время как для человека, находящегося только в состоянии покоя, нужно 2400 калорий, а для занимающегося физическим трудом — 3400—3600 калорий. В лагерях были взрослые люди, вес которых доходил до тридцати-тридцати двух килограммов. Это — вес подростка.
Немцы всемерно препятствовали серьезной постановке лечебного дела в лагерях. Они большей частью совершенно не отпускали медикаментов. В госпиталях неделями не перевязывали раны раненым, так как не было бинтов; не давали немцы и хирургических инструментов. Много тысяч советских граждан умерло в госпиталях от ран, заражения крови, а еще больше от истощения, голодных поносов, тифа, туберкулеза.
В плену я находился в госпиталях военнопленных в Вязьме, Молодечно, Кальварии, Ченстохове, Эбельсбахе. Слово ”госпиталь” никак не подходит к этим учреждениям. В Вязьме госпиталь помещался в полуразрушенных, брошенных жителями домиках, на окраинах города и в развалинах корпусов маслозавода. В домиках всегда было холодно и темно. Раненые валялись на голом полу. Даже соломы не было для подстилки. Только к концу моего пребывания в Вязьме в домиках были сооружены нары, но и на них больные лежали без соломы, на голых досках. Медикаментов не было. Вшивость в госпитале была невероятная. Бани за три с половиной месяца моего пребывания в Вязьме не было ни разу.
Так же было и в Молодечненском госпитале. На голом полу, в каждой палате в четыре ряда, плотно прижавшись друг к другу, лежало восемьдесят человек. Свирепствовал тиф. На целый этаж (восемь-десять палат) был один термометр. Я заболел тифом. За все время болезни фельдшер смог лишь один раз измерить мне температуру. Вшей обирали в обязательном порядке три-четыре раза в день. Раздевались догола и просматривали каждую вещь. За один прием набирали по триста-четыреста крупных вшей, мелких собирали пригоршнями. Немцы ничего не делали для борьбы со вшивостью. Врачи мне рассказывали случаи, когда немцы кардинально решали проблему с тифом: они поджигали тифозные бараки вместе с находившимися там больными.
Немцы разработали целую систему утонченных наказаний, рассчитанных на то, чтобы нанести физические страдания военнопленным, и на то, чтобы унизить их человеческое достоинство.
Порка, избиение, заключение в карцеры и бункеры — все это применялось в лагерях. Людей пытали, вешали и расстреливали без малейшего повода.
В Молодечненском лагере (позже и в Кальзарийском) мы много раз видели, как на дворе порют пленных. Били полицейские, но за процедурой избиения часто наблюдали немецкие офицеры. Однажды я видел, как офицер выхватил у полицейского нагайку и стал со всего размаха бить по голому телу распластанного на скамейке человека. Окончив избиение, офицер пригрозил полицейскому: если он будет жалостлив и бить будет некрепко, то его самого выпорют.
Только извращенный ум садиста мог додуматься до системы пыток, какие существовали в лагерях, особенно для политработников и евреев.
Вот что мне рассказал младший политрук Мельников (уроженец Сталинградской области, Березовского района, села Рогачева). Он попал в плен под Керчью в мае 1942 года. Его предали и сообщили немцам, что он политработник. Немцы отправили его в лагерь № 326 (близ деревни Августдорф, недалеко от Падеборна и Билефельда). Здесь был специальный ”блок СС”, куда помещали политработников, евреев и особо подозрительных.
Товарищ Мельников попал в этот блок. На допросе Немцы прежде всего интересовались его предками, не было ли среди них евреев. При допросе били пистолетом по лицу и выбили зуб.
Затем били резиновой дубинкой, добиваясь признания, что он политрук. В этом блоке на допросах били до потери сознания. Когда человек терял сознание, его окатывали холодной водой, он приходил в себя, тогда опять били. Вставляли пальцы в щель дверей и ломали их, закрывая дверь. Окунали голову в стоявшую тут же посуду с водой. Иногда держали голову в воде до тех пор, пока человек захлебывался.
После двухчасовой пытки товарища Мельникова вывели на ”тактику”: веточной канаве, куда стекала моча из уборной, нужно было проползти на животе (наполовину раздетым) пятнадцать-двадцать метров, затем по той же канаве проползти это расстояние на спине.
Процедура получения обеда в этом блоке была такова: в котелки наливали суп и в двадцати—тридцати метрах от котелков ставили людей. Они должны были ”по-пластунски”, на животе, подползти к котелкам, взять их и быстро съесть суп. Тех, кто отставал или выползал вперед, били или травили собаками. В день давали половину котелка баланды (брюква и вода) и сто граммов хлеба, а вечером — кипяток. После обеда с 12.30 и до 14.30 людей выводили на ”физзарядку” — непрерывный бег вокруг барака. Отстававших и падавших били и наказывали: два часа они должны были стоять неподвижно с завязанными назад руками и повешенным на шею камнем. После бега заставляли копать яму размером пятьдесят на пятьдесят сантиметров. Один из пленных должен был влезть в яму, а товарищи должны были по грудь засыпать его землей. После этого его откапывали и ту же процедуру проделывали над другим. Затем в яму дырявым ведром лили воду с тем, чтобы потом дырявым же ведром ее из ямы вычерпывать. Под вечер все люди в блоке (тогда — восемьдесят человек) должны были десять—пятнадцать раз по команде быстро залезать на трехъярусные нары, ложиться, соскакивать на землю и снова залезать. Отстававших травили собаками. Так продолжалось до 7—8 часов вечера. Вечером пленных заставляли вычерпывать своими котелками мочу из уборной (из этих же котелков они обязаны были и кушать). Затем людей водили в баню и поливали из брандспойта попеременно, то горячей, то холодной водой.
В 9 часов вечера пленным давали кипяток — ”чай”. С 9.30 до 11 — была еще раз ”физзарядка”: измученные люди должны были непрерывно бегать вокруг барака. С 11 до 12 часов ночи — вокруг барака ходили ”гусиным шагом”. В 12 ночи давали сигнал: отбой. День пыток снова начинался с 3 часов утра. Евреев после мучительных пыток убивали. Но мало кто из русских товарищей выдерживал эти нечеловеческие пытки. Конец для всех был один.
Немцы морили и убивали пленных на каторжных работах — на фабриках, в шахтах, каменоломнях. С декабря 1944 года до конца плена я находился в лагере смерти ”Везуве”. Сюда посылали умирать советских военнопленных, некоторое время проработавших на немецких предприятиях. Таких лагерей для умирающих было много. Недалеко от лагеря ”Везуве” находились такие же лагеря смертников — Далюм, Витмаршен, Алексис и другие. Они все входили в одно лагерное объединение — так называемый ”Шталаг VI С”.
Уже после нашего освобождения из плена в лагерь ”Везуве” приезжали английские и канадские офицеры и солдаты, приезжали врачи и спрашивали умирающих от туберкулеза, что довело их до такого состояния. Они услышали потрясающие рассказы о том, как немцы отправляли на шахты и предприятия молодых и здоровых людей, солдат и офицеров Красной Армии, попавших в плен; их заставляли работать по четырнадцать и шестнадцать часов в сутки, давая за рабочий день один-два литра баланды из травы и брюквы. Люди подвергались неслыханным издевательствам и избиениям. Даже самые здоровые через четыре-пять месяцев заболевали туберкулезом, и тогда немцы посылали их в лагеря смерти. На их место пригоняли из других лагерей специально отобранных здоровых людей, чтобы в четыре—шесть месяцев и их вымотать. Так работал немецкий конвейер смерти. Но и в лагерях смерти спокойно умирать не давали. До последней минуты жизни немцы мучили людей голодом, холодом, избиениями, надругательствами.
С первой минуты плена немцы раздевали и разували пленных и одевали их в лохмотья. Тем самым они не только обрекали пленных на муки холода, но и унижали их человеческое достоинство. В начале января 1942 года в Вяземский госпиталь прибыла группа офицеров Красной Армии, незадолго до того попавших в плен. Большинство из них прибыло с обмороженными ногами. На ногах вместо обуви у них были какие-то тряпки. Как рассказывали эти товарищи, когда они попали в плен, немцы прежде всего сняли с них всю теплую зимнюю одежду и разули, а затем разутыми погнали по этапу зимой в мороз. Я видел в феврале 1942 года, по пути из Вязьмы в Молодечно, как немцы разували пленных, снимали с них теплые валенки и тут же надевали себе на ноги.
Удивительно ли, что в этих условиях и при таком зверском обращении в немецком плену погибли сотни тысяч советских людей. Они буквально были замучены немцами.
Немцы не щадили ни русских, ни украинцев, ни белорусов, ни армян, ни грузин, ни татар, ни евреев, ни узбеков, ни казахов.
И в то же время разжигали национальную рознь среди пленных, с целью разобщить советских людей, натравить одни национальные группы на другие и таким образом облегчить осуществление своих подлых планов. В своих газетах они натравливали русских на украинцев, украинцев они натравливали на русских и белорусов. В газетках, раздаваемых немцами на украинском языке, Пушкин, Белинский и другие выдающиеся русские люди поносились самым грубым образом. В белорусских газетках немцы ругали русских, украинцев и других. Кое-где в лагерях охрана была ”украинская”, в эту охрану набирались всякие отбросы, националисты и хулиганы. Они били пленных — русских, украинцев, белорусов, татар и других, выдавали евреев. Этим путем немцы разжигали национальную вражду.
Особенно дикую вражду немцы разжигали к евреям. Фашисты вели невиданную антисемитскую пропаганду.
Каждый советский гражданин, попавший в фашистский плен, был смертником, независимо от его национальной принадлежности. И все же, еще страшнее было положение евреев. За ними и за политработниками велась ни на один день не прекращавшаяся охота. Евреи попадали в плен подобно тому, как попадали в плен русские, украинцы, белорусы, армяне, грузины и другие: либо в окружениях, либо раненые. Среди немногих евреев, которых я встречал в плену, были врачи, попавшие в окружение вместе с госпиталями и ранеными. Некоторые попали в плен тяжело раненными, истекая кровью на поле боя. Военнослужащие-евреи знали, что у немцев их ждет мучительная смерть. И если, тем не менее, они попадали в плен, то лишь в силу чрезвычайных обстоятельств.
В конце 1941 года я находился в ”госпитале” для военнопленных в Вязьме. Как-то в декабре в палату пришел санитар и сообщил: ”Немцы ищут евреев”. Недалеко от меня на нарах лежал военный врач, до войны начальник железнодорожной поликлиники в Калуге, доктор С. Лабковский. Он попал в окружение и, выходя из него, отморозил обе ноги так, что пальцы на ногах отвалились. Его ноги представляли собой кровавые обрубки. Он не мог передвигаться даже на костылях. Немцы узнали, что он еврей. Вечером пришли шесть немцев и велели ему немедленно собраться. Тяжелобольного, его увезли. В тот день увезли всех больных, в которых немцы заподозрили евреев. Арестовали и увезли также евреев врачей, фельдшеров и медицинских сестер. Все знали, что их ожидает: пытки, мучения, смерть.
В Рославльском лагере Смоленской области, по рассказам бывших там в 1941 году, немцы травили военнопленных евреев собаками: их выводили во двор лагеря и спускали собак. Пытавшихся защищаться или отгонять собак немцы, потешавшиеся этим зрелищем, избивали.
Евреев и политработников, попавших в районе Вязьмы в окружение в октябре 1941 года, немцы живыми бросали в колодцы. Находясь в Вяземском и Молодечненском лагерях, я от очевидцев слышал множество рассказов об этом. Оказавшихся в окружении собирали по лесам и деревням, свозили на сборные пункты. Здесь, по внешнему виду, отбирали евреев и убивали. В Барановичском штрафном лагере (так называемый ”Остлагерь”) производились систематические расстрелы военнопленных евреев, в том числе и женщин — медицинских сестер и врачей.
В Брест-Литовском лагере существовала особая рота ”Рур” (рота усиленного режима), состоявшая из политработников и евреев. Время от времени людей из этой роты увозили на расстрел.
Во многих лагерях немцы устраивали поголовное освидетельствование военнопленных в целях выявления евреев. Немецкие врачи опозорили себя своей подлой ролью прислужников Гитлера и его клики. В Славутском лагере каждый вновь прибывший транспорт военнопленных немцы выстраивали и приказывали людям обнажать половые органы. Гестаповцы обходили ряды и отбирали заподозренных. Их уводили на расстрел. То же самое практиковалось в лагере №326. Здесь, помимо евреев, немцы вылавливали политработников, офицеров и интеллигентов.
Капитан Манушин К. Я. (уроженец Симферополя) рассказал мне, что в лагере-госпитале Богунья (близ Житомира) в феврале 1942 года немцы устроили поголовный телесный осмотр всех больных и раненых (четыре тысячи человек). Ходячих больных выстроили во дворе лагеря: комиссия в составе коменданта, фельдфебеля и двух врачей свидетельствовала каждого человека в отдельности. Заподозренных набралось тридцать три человека.
Их отделили от остальных пленных. Немцы и полицейские стали тут же их избивать. Осмотрев ходячих больных, комиссия отправилась свидетельствовать лежащих. Тяжелобольных и раненых, заподозренных в том, что они евреи, стаскивали с коек, били и на тележках отправляли в общий лагерь. В 5 часов утра всех отобранных, сорок человек, в нижнем белье вывезли за ограду лагеря и расстреляли. То же было проделано и в Житомирском лагере.
Систематически производились облавы на евреев в Ченстоховском лагере: ”комиссия” из коменданта, фельдфебеля и врача отбирала по внешнему виду из группы прибывавших пленных евреев. Отобранных расстреливали.
Командир Пшеницын В. А., попавший в плен в сентябре 1941 года восточнее Пирятина, рассказал мне, что охоту на евреев он наблюдал с первого же дня своего пленения на этапах, сборных пунктах и в лагерях. На сборном пункте в селе Ковали выстроили колонну пленных и стали по внешнему виду отбирать евреев. В отборе помогали немцы Поволжья и изменники, украинские националисты. Отобранных уводили группами за село, заставляли рыть могилы и тут же расстреливали. На всех последующих этапно-пересылочных пунктах, на остановках немцы объявляли: ”Евреи и политработники, выходи”. На остановке в Хороле вышли четыре врача-еврея. Над ними немцы вдосталь поиздевались, а позже, в Виннице, расстреляли. В Винницком лагере в первых числах октября 1941 года немцы расстреляли 378 евреев. В.А. Пшеницын видел, как в конце сентября 1941 года в Кременчугском лагере увели на расстрел военнопленных-евреев. Раненых, которые не могли передвигаться, несли на расстрел на носилках. Такую же расправу немцы учинили и во Владимиро-Волынском лагере. 2 марта 1942 года двести двадцать человек политработников и евреев, в их числе были и врачи, вывели за проволоку и расстреляли. Были расстреляны тяжелобольные и тифозные. Их в беспамятстве (с температурой 40°) вынесли на расстрел на носилках. В числе других погибли командиры Шилькрот, Зингер, киевский врач Гринберг и другие.
Товарищи, попавшие летом 1942 года в Ченстоховский лагерь, рассказывают, что после помещения прибывших в бараки полицейские начали охоту за евреями и политработниками. Евреев отбирали по внешнему виду. Евреев вывели на расстрел 5 октября 1942 года, политработников — десятью днями позже.
В Житомирском лагере немцы старались прежде всего уничтожить евреев и политработников, с тем, чтобы затем медленно и методично уничтожать тысячи пленных других национальностей. Все прибывшие в лагерь должны были пройти специальную ”комиссию”. Признанные евреями отдавались в руки СС. Их помещали отдельно от других пленных и заставляли выполнять самые грязные и тяжелые работы. Кормили их один раз в три дня. Ежедневно вечером в бараки к ним приходили гестаповцы с собаками. Собаки набрасывались на людей, кусали и рвали их. После длительных издевательств их выводили за город и расстреливали.
Старший лейтенант Филькин Д. С. рассказывал, что 9 июля 1942 года в Гродненский лагерь № 3 прибыли двое эсэсовцев. В лагере была ”особая” комната, где помещались сто шесть человек — раненые евреи и политработники. Всю ночь немецкие звери избивали находившихся здесь безруких, безногих и тяжелораненых людей. Утром 10 января к лагерю подъехала машина с прицепом и пятьдесят человек из ”особой” комнаты в одних кальсонах уложили на машину и увезли на расстрел. Через некоторое время машина вернулась и увезла на расстрел еще пятьдесят человек. Оставили в живых шесть человек.
Майор Тихоненко, находившийся в 1941—1942 годах в Митавском лагере военнопленных, рассказывает, что всех политработников и евреев немцы выявляли через свою агентуру, после чего они бесследно исчезали.
Вот что рассказал мне командир Берлин Л.Б. В сентябре 1941 года в Житомирский лагерь привели партию военнопленных. Их собрали во дворе, и немец-переводчик в присутствии лагерного офицера выступил перед ними с речью и сказал: ”По распоряжению командования, украинцы завтра же могут разъехаться по домам. Но отпустить вас мы не можем, так как среди вас есть комиссары и евреи. Выдайте их нам, тогда мы вас отпустим по домам”. Измученным людям предлагали освобождение ценой предательства.
В феврале 1942 года меня перевезли в лагерь военнопленных в Молодечно. К этому времени в лагере было до восьми тысяч человек, а в госпитале — до двух тысяч. Пленные жили в бараках. В них было невыносимо холодно. Питание в лагере было на грани голодного минимума. В декабре 1941 года немцы выстроили живших в бараке и отсчитали каждого десятого. Таких набралось сто пятьдесят человек. Их отвели в сторону и на глазах всего лагеря открыли по ним огонь из автоматов. Небольшая лишь часть из них спаслась, смешавшись после первых выстрелов с толпой пленных.
В лагере был жестокий режим: людей публично пороли. В виде наказания держали в клетке несколько часов на жестоком морозе.
Врачей-евреев немцы не допускали к работе. Были отдельные исключения, но и то временные. В Молодечненском лагерном госпитале работал врачом доктор Копылович (бывший заведующий поликлиникой города Шахты). Его допустили к работе только потому, что он был отличный хирург. Я слышал от многих товарищей, что этот врач в тяжелых условиях немецкого плена честно выполнял свой врачебный долг и спас много советских людей от смерти. Сам он был отправлен из Молодечно в Барановичский штрафной лагерь ”Ост”, куда немцы посылали политработников и евреев и откуда возврата не было.
Военврач Дорошенко С. П., находившийся в 1941 году в Минском лагере, рассказывал мне, что в конце 1941 года немцы запретили евреям-врачам работать в госпитале. Госпиталь одно время возглавлял врач Фельдман (как говорили, бывший заведующий могилевским Облздравом). В конце ноября он был вызван в немецкую комендатуру и больше его в лагере не видели. Еврейки-врачи также были увезены и частично заморены голодом, частично расстреляны. Раненых и больных евреев помещали в тифозное отделение, хотя они и не были больны тифом. Позже их всех отправили в специальное еврейское отделение Минского лесного лагеря. Здесь был установлен крайне жестокий режим: пищу давали через день и очень недоброкачественную. К весне все евреи в этом лагере были убиты или умерли от голода и болезней. В том же Минском лагере, по свидетельству офицера Дерюгина И. К., евреи помещались в подвале, откуда время от времени их группами выводили на расстрел. В подвале свирепствовал тиф. Трупы умерших выносили раз в неделю.
В июне 1942 года из Молодечненского лагеря вывезли всех офицеров в Кальварию (Литва). Вместе с госпиталем и я в числе больных попал в этот лагерь. Режим дикого произвола господствовал и здесь.
Особенно тяжело было положение небольшой группы военнопленных врачей-евреев, прибывших из Молодечно (человек двадцать). Среди них были врачи: Беленький, Гордон, Круп (Москва), Клейнер (Калуга) и другие. До Кальварии они уже пережили много ужасного. В Кальварии их и небольшую группу политработников поместили изолированно. Что бы ни случилось в лагере ־־ немцы прежде всего свою злобу вымещали на евреях. Старик-доктор Гордон, хирург, образованный врач (по его словам, за свою врачебную практику сделавший более десяти тысяч операций), был тяжело болен. Он опух от голода и одно время находился в госпитале. По приказу немецкого врача Бройера, его как еврея из госпиталя выгнали и он, тяжелобольной, должен был часами выстаивать на проверках и подвергаться неслыханным унижениям.
За госпиталем наблюдал немецкий санитар, парикмахер по профессии, молодой по возрасту, но большой подлец. Он со злобным презрением относился ко всем советским людям. Как-то он зашел в барак. Доктор Гордон, сидевший в это время на нарах, не успел вовремя встать. Тогда этот фашистский выродок жестоко избил его. Живя под постоянной угрозой смерти, преследуемый и гонимый, доктор Гордон находил в себе силы проводить в кругу своих товарищей-врачей беседы по медицине и тайно консультировать с молодыми русскими врачами госпиталя при сложных заболеваниях.
Другой врач, специалист по детским болезням, доктор Беленький подвергался избиениям того же немецкого парикмахера”санитара”. Он погиб осенью 1942 года.
Охота за евреями и политработниками в лагере не прекращалась ни на один день. К весне 1943 года в лагере было выявлено около двадцати пяти евреев, прибывших с партиями пленных в разное время, скрывших ранее свою национальность и чудом уцелевших от расправы. Немецкий комендант приказал, чтобы они нашили на верхней одежде — на груди и на спине — белые четырехугольные лоскуты — ”знак позора”. Летом 1943 года их вместе с группой политработников увезли из лагеря.
Советские люди, имевшие несчастье очутиться в немецком плену и оставшиеся верными своей родине, отлично понимали цели подлой политики немцев и, по мере сил, старались противодействовать ей. Многие советские врачи, работавшие в госпиталях лагерей военнопленных, прятали в госпиталях евреев и политработников, а также тех офицеров и рядовых, которым особенно угрожала опасность быть растерзанными. В распределительном лагере № 326, через который проходили многие тысячи пленных и где производился тщательный осмотр всех прибывавших для выявления евреев, работала группа русских врачей и санитаров, которая ставила себе целью спасать политработников, евреев, а также тех военных работников, за которыми немцы, по тем или иным причинам, охотились. Их помещали в госпиталь, им делали фиктивные операции, меняли фамилии и переправляли в лагеря инвалидов.
Я знаю случаи, когда на телесный осмотр русские товарищи шли вместо евреев и тем спасали им жизнь.
Лично я спасся благодаря моим русским товарищам — офицерам и врачам.
В Вязьме врачи Редькин и Собстель укрывали меня, раненого и больного, от немецких ищеек. В Кальварии, по настоянию некоторых товарищей, в частности, подполковника Проскурина С. Д., врачи держали меня в госпитале. Когда в феврале 1943 года меня выписали в лагерь и появилась реальная опасность быть обнаруженным немцами, врач Куропатенков (Ленинград) поместил меня в изолятор госпиталя. Позже меня, как и ряд других товарищей, — политработников, советских и военных работников — врач Евсеев Б. П. (Москва) укрывал в госпитале до конца 1943 года.
В Кальварии, где шпионаж гестапо был особенно широко развит, врачи, и в первую очередь, доктор Цветаев Н.М. (Кизляр), укрывали меня в госпитале среди туберкулезных больных и тем спасли меня от расстрела.
Значительная часть офицеров и бойцов Красной Армии, имевших несчастье в силу случайностей войны попасть в плен к немцам, погибла в лагерях от неслыханных гонений, от голода, невыносимо-ужасных бытовых условий, болезней. В Германии почти нет сейчас ни одного города, где бы не было русского кладбища. И если в числе переживших плен есть небольшая группа евреев, то она выжила только благодаря поддержке русских, украинских, белорусских товарищей.
ВОССТАНИЕ В ВАРШАВСКОМ ГЕТТО[67]. Автор — Б. Марк.
Работа писателя Б. Марка ”Восстание в Варшавском гетто” печатается в сокращенном виде.
В Варшавском гетто немцы содержали более пятисот тысяч евреев. Десятки тысяч людей умерли от голода и эпидемий. Начиная с лета 1942 года тысячи евреев ежедневно вывозились гестаповцами в Треблинку. Некоторое время население гетто верило лживым заявлениям немцев, уверявшим, что евреи из гетто вывозятся на восток, для сельскохозяйственных работ. Путем множества самых хитрых и вероломных приемов немцы поддерживали это убеждение у жителей Варшавского гетто. Этот же прием они применяли по отношению к евреям — гражданам Советского Союза во временно оккупированных фашистами советских районах. Евреям, которых немцы везли на казнь в Освенцим и в Треблинку из западных советских районов, было объявлено, что их везут работать на фабриках и в сельском хозяйстве.
Когда страшная правда о Треблинке проникла в Варшавское гетто, там произошло восстание. Организация сопротивления давно подготовляла оружие и боевые отряды в гетто. Весть о Треблинке послужила сигналом к началу восстания. Восстание произошло также в Белостоке и в других гетто, организованных немцами в советских и польских городах.
Восстание в Варшаве характеризует борьбу советских и польских евреев в тот период, когда правда о массовом убийстве евреев стала очевидной и палачи уже не могли ее больше скрыть. Мы считаем нужным опубликовать в нашей книге этот материал, характеризующий большой период борьбы. Восстание в Варшавском гетто бесспорно является одной из самых героических и прекрасных страниц в великой борьбе человечества с фашизмом. Трагический конец этого обреченного восстания лишь подчеркивает это величие.
В середине августа 1942 года к связисту Еврейского антифашистского блока[68], находившемуся в польском районе, пришел поляк-железнодорожник; он принес в Варшавское гетто первую страшную весть о судьбе вывезенных евреев, первое сообщение о газовых камерах Треблинки.
Весть эта с быстротой молнии облетела все гетто.
В одном из темных переулков гетто прозвучал выстрел. Немецкий жандарм был убит еврейским юношей Израилем Каналом. Вскоре были убиты еще несколько немцев.
Улицы гетто стали ареной необычайных в условиях фашистского террора явлений. Рука неизвестного мстителя поджигала немецкие военные предприятия и склады. Разъяренные пленники гетто вытащили на улицу драгоценные меха, награбленные немцами в оккупированных районах, и сожгли их. Жители гетто напали на немецкое бюро высылок и разрушили здание.
Сразу же на гетто посыпались кровавые репрессии.
Немцы ввели в гетто полицию. Полиция открыла огонь, обстреливая окна и убивая прохожих. Отряды фашистов врывались в квартиры еврейских общественных деятелей. Вооруженные банды расправлялись с вождями антифашистского блока. От руки убийц пали Левартовский, Заган, Каплан, молодой деятель культуры Линдер и еще многие преданные бойцы подпольного движения сопротивления.
Немецкие газеты, выходившие в так называемом генерал-губернаторстве, поместили короткие заметки об этих событиях под заголовком: ”Партийные распри в еврейском районе”. Немецкая печать попыталась изобразить первые боевое выступления евреев как эпизод внутренней борьбы между самими евреями. Тем не менее, эти “партийные распри”, по-видимому, настолько встревожили генерал-губернатора Франка, что он немедленно известил об этих событиях Берлин.
В Варшаву прилетел Гиммлер. Как заявил Луиджи Фуччо, берлинский корреспондент итальянского журнала ”Ла Трибуна”, в то время находившийся в Варшаве, план ”усмирения” гетто был разработан в кабинете варшавского губернатора Фишера при активном участии самого Гиммлера. ”Усмирение” было назначено на 1 сентября, в третью годовщину немецкого вторжения в Польшу. Оно выразилось в ужасающем кровавом избиении, продолжавшемся почти целый день.
Боевые организации существовали в гетто уже давно. Обще-польская ”Гвардия Людова” (”Народная Гвардия”) организовала отряд и в ”Еврейском районе”. Руководил им Андрей Шмит, участник освободительной войны испанского народа, человек с большим опытом, герой битв под Мадридом, Сомосьеррой и на берегах Эбро.
Народная гвардия гетто насчитывала в первый период своего существования триста боевиков. Действовала также молодежная рабочая боевая организация ”Спартак”. Под влиянием событий 1942 года все боевые элементы гетто объединились и создали единую Еврейскую боевую организацию. В нее вошли представители всех течений и широкие слои беспартийных.
Организация делилась на дружины, а дружины — на пятерки. Во главе всей организации находился штаб. В состав штаба входили: Мордехай Анелевич — двадцатичетырехлетний бойскаутский деятель, человек энергичный, боевой и идейный; Михаил Розенфельд — коммунист с большим партийным опытом; Герш Берлинский — старый рабочий деятель, в свое время возглавлявший самооборону в Лодзи против энденских погромщиков в предвоенной Польше; Исаак Цукерман — член молодежной сионистской организации ”Гехалуц”, а также Марк Эдельман из молодежной социалистической организации ”Цукунфт״.
В первые же дни своего существования организация завязала тесный контакт с боевыми штабами подпольной Польши. Одновременно она распространила свою деятельность и на другие гетто, направила своих представителей в Лодзь, Сосновец, Бендин, Белосток.
Были выпущены подпольные листовки. Население гетто призывалось не являться на сборные пункты, так называемые ”Umschlagplatz” (пункты по организации высылки в Треблинку).
Организация продолжала отправлять людей, особенно тех, кому грозил арест, в партизанские отряды. Гестапо удавалось иной раз захватить молодежь, пробирающуюся к партизанам.
Немцы жестоко пытали задержанных, чтобы добыть сведения о подпольной борьбе в гетто и о партизанском движении. Однажды гестапо поймало несколько еврейских юношей в Варшаве. Это были члены Еврейской боевой организации. Юноши боялись, что могут не выдержать пыток; они решили поэтому спровоцировать немцев, чтобы те убили их на месте. Когда немцы вели юношей по улицам Варшавы, пленники начали выкрикивать лозунги в честь Красной Армии и громко хулить Гитлера. Однако немцы их не тронули. Тогда юноши бросились на конвой. Завязалась борьба, и в борьбе с конвойными юноши нашли свою геройскую смерть.
После нескольких месяцев напряженного труда Еврейская боевая организация располагала уже многочисленной подпольной армией.
Создание Еврейской боевой организации было крупным событием во внутренней жизни гетто.
Один из членов организации, молодая девушка Тося Альтман следующим образом описывала свое душевное состояние в пору, когда она приняла решение вступить в ряды организации:
”Я чувствовала, что вся жизненная основа, на которую я опиралась, зашаталась и вдруг рассыпалась. Чувствовала, что после того, как я приняла это решение, никакая сила уже не сможет снова привязать меня к прежнему образу жизни. Я уже не принадлежала себе. Знала, что иду навстречу смерти, но сознавала, что это мой долг, что иначе поступить я не могу”.
Боевики рыли подземные ходы и строили бункеры. В бункеры проводили электричество, устраивали водохранилища, ставили радиоприемники. Там делали оружие.
Подземные ходы и бункеры строились в глубочайшей тайне. Особенно важное значение имели ходы, которые связывали гетто с внешним миром.
Вскоре Еврейская боевая организация провела первое массовое вооруженное выступление.
17 января 1943 года эсэсовцы вместе с ”синей”[69] полицией окружили несколько улиц и начали ночную облаву. Большинство схваченных оказало сопротивление. Эсэсовцы застрелили несколько человек. Из ближайших окон посыпались пули.
Эсэсовцы окружили дом и бросились вверх по лестнице. Но тут встретили их члены боевой организации.
Тем временем из соседних районов подоспели значительные группы боевиков, вооруженные револьверами. Стычка продолжалась недолго. Фашисты отступили. Облава не удалась. Задержанные разбежались.
Боевые группы подпольного гетто выдержали первый экзамен.
Немцы отплатили и на этот раз жестоко. Сто заложников было убито гестаповцами. Среди повешенных заложников были: престарелый раввин Исаак Тененбаум, старый писатель и публицист Гилел Цейтлин, известный историограф польских евреев профессор, доктор Мейер Балабан, деятель подпольной культурной организации Юзеф Гитерман и другие видные представители еврейской интеллигенции.
Тяжелы были потери, но общее дело гетто выиграло очень много. С января до апреля почти прекратился вывоз в Треблинку. Наступил период относительного покоя. Правда, все понимали, что это затишье перед бурей. Гитлеровцы тайно готовились к генеральной расправе. Заявления немецких властей о том, что время массовых расправ миновало, никого обмануть не могли.
Боевые антифашистские организации подпольной Польши, вопреки установкам польских представителей из Лондона, систематически снабжали гетто оружием через подземные ходы; оружие доставлялось также в транспортах с продовольствием. Документально установлен факт, что в транспортах картошки для столовых, обслуживавших промышленных рабочих в гетто, контрабандой провозились винтовки и пулеметы, гранаты и динамитные патроны.
Установлено, что представители сражающегося гетто покупали оружие у итальянских солдат, проездом находившихся в Варшаве; они платили долларами, золотом, драгоценностями, собранными среди наиболее состоятельных жителей гетто.
Руководители подпольного движения организовали тайное производство оружия в подвалах еврейского квартала. Этим делом руководил инженер Михаил Клепфиш и супружеская чета Фондаминских (Эдвард и Аля). Друзья-поляки предлагали Фондаминским устроить им побег из гетто, но они отказались бежать, заявив, что хотят до конца разделить судьбу народа.
Рабочие электротехники организовали тайное производство самодельных бомб: они начиняли перегоревшие лампочки динамитом. Кроме того, в подпольном гетто вырабатывались гранаты и пистолеты.
Судя по официальным донесениям варшавского гестапо, оружие евреям продавали также немецкие дезертиры и цивильные немцы-торговцы, переселенные в Варшаву из западных районов. Револьвер со ста патронами стоил в Варшаве пятьсот злотых; в гетто за него платили три тысячи злотых.
Подпольщики-боевики обучали неопытных новичков, готовили отряды санитарок, создавали отделения из подростков — разведчиков и связистов, группы пожарной охраны. Нередко на тайные занятия прибывали польские инструкторы из Варшавы и из партизанских отрядов.
Одновременно была развернута широкая агитация среди населения, подготовлявшая его к предстоящим событиям.
Но враг тоже готовился. В зданиях гестапо на Аллеях Шуха, в резиденции губернатора, в управлении гестапо возле стен гетто на улице Лешно, в эсэсовских бюро, в ”синей” полиции и в особых истребительных группах — всюду фашисты лихорадочно подготавливали окончательную ликвидацию ”еврейского района”.
Помня о январских событиях, немцы решили применить вероломство и обман. Губернатор поручил организовать эту лживую провокацию ”мирным” немцам — владельцам фабрик в гетто: утонченному Теббенсу, сентиментальному Бранду и ”другу рабочих” Стеману.
Эти ”мирные” немецкие фабриканты обратились к еврейским рабочим с предложением: ”Мы переводим наши предприятия в Травники и Понятув под Люблином; пусть те, кто хотят спокойно прожить до окончания войны, едут с нами”.
Бранд ходил с фабрики на фабрику и со слезами на глазах клялся здоровьем своей жены и детей, что говорит чистую правду. Теббенс рисовал евреям ”райскую” жизнь, которая ждет их на лоне природы.
Но евреи не верили немцам. Никто не являлся на сборный пункт.
Немцам снова пришлось применить открытое насилие.
И тогда раздался голос геттовского подполья:
”Ни одного человека!”
В таких условиях и было принято окончательное решение руководителей подпольного гетто, — решение о вооруженном восстании.
Накануне восстания было послано за границу следующее сообщение:
”Еврейская боевая организация призывает еврейское население оказать сопротивление немцам: да свершится то, чему свершиться суждено. Ничто не заставит нас изменить решение. Приняв его, мы почувствовали себя словно обновленными. Мы убедились, как прочно мы связаны между собой. Мы открыли новую страницу нашего бытия, которое может оборваться в любую минуту. Мы извещаем вас об этом, ибо знаем, что вас интересует наша судьба.
Будьте уверены, что мы сумеем дорого продать свою жизнь”.
К жителям гетто организация обратилась со следующим воззванием:
”Братья! Решение принято. Мы дадим отпор врагу. Бейтесь до последней капли крови! Пусть встанет перед вашими глазами образ Маккавеев. Да здравствует еврейский народ! Да здравствует Польша!”
В ночь с 18-го на 19 апреля еврейская боевая группа сняла часовых ”орднунгмилиции”, которые стояли у ворот внутри гетто. Когда на рассвете к воротам подошла полиция, чтобы конвоировать рабочих, она не смогла проникнуть в гетто — евреи заперли ворота гетто, не впустили полицию. Целый день в гетто царила мертвая тишина. Боевое руководство использовало это затишье для последних приготовлений. Штаб боевой организации поместился в подвале на Налевках. Была проверена боевая готовность подразделений.
Территория гетто была разделена на три оборонительные зоны: участок щеточной фабрики, командиром этого участка был назначен Марк Эдельман, центральное гетто, где командование принял Израиль Канал, обороной окраинной части командовал Элиазар Геллер.
Каждая улица получила свой склад оружия. Больных, слабых и детей разместили в подвалах и бункерах. Была организована сеть связистов — внутренних и внешних — для сообщения с подпольной Польшей. Каждая улица имела свои пункты скорой помощи и свою общественную кухню, в которой работали женщины. Из подростков были составлены отряды разведчиков. Пожарные команды держались в постоянной боевой готовности. Предателей и гестаповских агентов уничтожали. ”Орднунгмилиция” была устранена. Часть милиционеров заявила о своей готовности действовать до конца совместно с боевой организацией.
Немецкие власти, по-видимому, поняли, что гетто решило бороться. В первом часу ночи разведчики донесли в штаб на Налевках, что к гетто приближается эсэсовская часть. Вскоре эсэсовцы взломали ворота, ворвались в гетто и рассыпались группами по улицам, вероятно намереваясь провести облавы в домах.
И вдруг в гетто произошло небывалое. Из домов, которые казались пустыми и мертвыми, из окон, с чердаков и крыш на гитлеровцев посыпался град пуль. Гетто вело огонь! Эсэсовцы бросились к улицам, ведущим к выходу. Еврейские боевики завлекли немцев вглубь гетто, отрезали им путь к отступлению, окружили со всех сторон и перебили большую часть врагов. (Уничтожено было три эсэсовские роты. Триста немцев попали в плен к своим рабам, в плен к гетто!).
Все гетто сразу поднялось на ноги. Штаб выпустил первое сообщение о победе еврейского оружия, приводя число убитых и пленных немцев. Был дан приказ: выйти из домов. Народ вышел на улицы, боевики заняли отведенные им посты.
На рассвете 20 апреля, когда поруганная, оккупированная Варшава должна была праздновать день рождения Гитлера, над домами гетто были подняты польские флаги, красные знамена, флаги государств антигитлеровской коалиции, знамена еврейских партий. Губернатор Фишер вынужден был отложить торжества в честь фюрера и объявить в городе осадное положение.
На следующий день вся Варшава походила на военный лагерь.
По улицам проходили крупные немецкие части в полном вооружении. Польский район был отделен от еврейского района сильным военным кордоном. Власти производили массовые аресты и облавы среди поляков. Оккупанты панически боялись, что повстанческое движение разрастется и огонь восстания перекинется через стены гетто. Усиленные патрули появились и на улицах, заселенных немцами. Гестапо выпустило распоряжение, запрещающее въезд и выезд из города.
Целый день двигались немецкие части, постепенно окружая еврейский район. Дула орудий и минометов были обращены к стенам гетто. Так началась осада.
Как заявили впоследствии представители гестапо на пресс-конференции, немцы вначале намеревались принудить евреев к капитуляции, лишив их воды. В аппарате гестапо, которое в течение первой декады руководило подавлением восстания, был рассмотрен проект о преграждении водопроводных труб; однако немцы отказались от этого намерения, так как это поставило бы под угрозу Жолибож, Цитадель и Гданский вокзал: трубы, доставляющие воду в эти районы, проходили через еврейские улицы. Кроме того, гестапо имело сведения, что евреи давно вырыли ряд колодцев и тайком запаслись насосами новейших конструкций.
Ночью улицы Варшавы наполнились шумом проезжавших военных машин. Дрожала земля — это в сторону гетто ехали танки. Началась атака. Ворота были взломаны, и часть танков ворвалась в гетто. В первые минуты они не встретили никакого сопротивления. Евреи пропустили танки вглубь гетто, но преградили путь неприятельской пехоте, которая хотела проникнуть в гетто под прикрытием брони танков. У разбитых ворот гетто евреи устроили сильно укрепленную баррикаду. Эсэсовская пехота была отброшена, а на изрыгавшие огонь танки, вклинившиеся вглубь гетто, посылались ручные гранаты и зажигательные бутылки. Вскоре танки запылали и остановились. Водители выскакивали из горящих машин и пытались спастись бегством, но путь к отступлению был им отрезан. Экипажи всех шести танков были перебиты или сгорели вместе с машинами. На следующий день об этом факте было сообщено в сводках обеих сражающихся сторон.
Это был второй серьезный успех повстанцев. Оккупационные власти отстранили гестапо от руководства боевыми действиями, поручили ликвидацию восстания армии, считая, что гестапо не в силах справиться с повстанцами. Началась подготовка более эффективных средств. Это потребовало перерыва в военных действиях на несколько дней. Во главе воинских частей был поставлен строевой генерал Юрген Штрооп. В помощь ему выделили вызванного для этого из Люблина специалиста по разрушению еврейских районов, генерал-майора полиции Глобочника.
В свою очередь, восставшие использовали время для того, чтобы лучше организовать свои силы, укрепить позиции и запастись новым оружием. Они завладели всеми немецкими военными фабриками и складами, находившимися на территории гетто. Таким образом было захвачено много немецких военных мундиров, касок и значительные запасы продовольствия. Впоследствии это помогло евреям провести знаменитый налет на арсенал гестапо у Цитадели.
Налет произошел ночью. Отряд повстанцев, переодетых в немецкие мундиры, подошел к арсеналу гестапо. Часовые, уверенные, что имеют дело со своими, впустили прибывших вовнутрь.
Евреи перебили всю охрану, захватили оружие и амуницию, захватили также грузовики и на них перевезли свои трофеи в гетто.
В течение первой недели повстанцы не только укрепили свои позиции и увеличили запас оружия, но и расширили свою боевую базу, втягивая в борьбу новые тысячи людей.
На второй или на третий день к борьбе присоединились жители ”привилегированного”, так называемого ”малого” гетто. При вести о восстании ”привилегированные” влились в боевые ряды большого гетто. Ночью все жители оставили свои дома. ”Малое” гетто было подожжено со всех сторон. Шесть тысяч металлистов химиков, портных в боевых колоннах явились в большое гетто! Остальные жители малого гетто рассыпались по городу или ушли в леса, к партизанам.
Губернатор Варшавы Фишер и высшие чиновники гестапо с начала событий неоднократно предлагали повстанцам сложить оружие. Среди боевиков шныряли подозрительные люди, которые пробовали сеять панику, уговаривали выдать руководителей. Эти провокаторы вскоре были уничтожены специальной комиссией по борьбе с изменой, шпионажем и диверсией.
На девятый день восстания к руководству еврейских повстанцев через мегафон обратилось командование немецкой военной группы, которой поручено было любыми средствами задушить восстание. Немцы предъявили гетто последний ультиматум, который требовал, прежде всего, выдачи немецких пленных. Немецкое командование заявило, что с евреями, которые сложат оружие и добровольно сдадутся в плен, будут обходиться не как с партизанами, а как с военнопленными, и они будут пользоваться всеми правами наравне с военнопленными других национальностей и государств. Наконец, немецкое командование обязалось — в случае капитуляции евреев — не трогать гетто; если же евреи отвергнут ультиматум, гетто будет разрушено, а жители казнены.
Руководство сражающегося гетто ответило:
Повстанцы готовы выдать немецких пленных при условии, что за каждого немца противник выдаст десять заключенных евреев. Что касается остальных двух пунктов ультиматума, гетто отвергает их и заявляет, что будет сражаться до последней капли крови.
Последний ультиматум оккупантов был отвергнут. Берлин передал ликвидацию восстания в руки армии и приказал разрушить гетто дотла.
На одиннадцатый день восстания по приказу немецкого командования в центр Варшавы привезли артиллерию и установили ее в двух местах: на площади Красинских и у Гданского вокзала. В 6 часов вечера немцы начали артиллерийский обстрел гетто, продолжавшийся до следующего утра.
Артиллерийский огонь был губительнее и разрушительнее, чем удары танков и пулеметный обстрел.
За одну ночь неприятельская артиллерия разрушила стены гетто и много домов. Немецкое командование применило военно-полевую тактику: под прикрытием артиллерийского огня на передовые позиции повстанцев бросились пехотные части. Евреи отбили атаку пехоты.
Это была памятная ночь для Варшавы. Жители столицы сравнивали ее со страшной сентябрьской ночью накануне падения Варшавы, когда немецкая артиллерия разрушала дом за домом, улицу за улицей. Отголоски канонады разносились по всему городу. Взрывы снарядов сотрясали воздух, а от мощных пушечных выстрелов содрогались фундаменты домов.
Немцы были уверены, что сильного артиллерийского штурма достаточно, чтобы понудить евреев к сдаче. На площади Красинских и возле Гданского вокзала собрались ”сливки” немецкой колонии. Многих поляков вынудили присутствовать при разрушении гетто и глядеть на огромный пожар, бушевавший в еврейском районе.
Но артиллерийский штурм не принес успеха — гетто не дрогнуло. На следующий день с самого утра к немецкому командованию явилась делегация от немецкого гражданского населения Варшавы. Делегаты возмущались, что артиллерию установили на огневые позиции в центре города, где живет столько высокопоставленных немцев. Делегация указала командованию, что многие дома на площади Красинских и на близлежащих улицах получили опасные трещины и пострадали от сотрясения, во всех квартирах от грохота вылетели оконные стекла; особенно сильно повреждены дома в Старом городе (Старэ място), — дома, недавно сплошь заселенные немцами.
Однако еще сильнее, чем протест немецких обывателей, на решение об отказе от артиллерийского обстрела подействовало неожиданное вступление боевого союзника гетто — Польской народной гвардии. Ночью, когда гитлеровские сановники, сидя на балконах своих роскошных квартир, любовались столбами огня над еврейским районом, отряды народной гвардии под командованием прославленного майора ”Ришарда” (Ковальского) перерезали улицы, ведущие к площади Красинских и Гданскому вокзалу, заградили путь немецким группам, рассеяли их и под прикрытием ночи нанесли врагу ряд чувствительных ударов. Одновременно отряды народогвардейцев под командованием польских патриотов Яцека, Франека и других открыли огонь по немецким орудийным расчетам.
Выступление народной гвардии вынудило немецкое командование отказаться от публичной демонстрации артиллерийской расправы.
На следующую ночь после орудийного обстрела над гетто появились немецкие бомбардировщики. Бомбежка продолжалась всю ночь. И снова весь еврейский район был объят пламенем.
На следующую ночь налеты повторились снова. Обрушились многие дома, и под развалинами погибло много людей. Одновременно немцы начали наступление на всех участках фронта вокруг гетто. В ту ночь немцы, при поддержке авиации, одержали первые победы. Им удалось прорваться в глубину гетто. Однако евреи успели при отступлении забрать с собой в центр гетто все продовольствие, которое находилось в домах, захваченных врагом. Повстанцы отступили на участке Налевки—Повонзки.
Штаб восставшего гетто начал готовить контрнаступление. На рассвете евреи предприняли атаку; им удалось вновь завладеть несколькими домами, так как днем немцы не применяли авиации.
После двухдневных тяжелых боев, в которых противник применял авиацию и артиллерию, повстанцы еще насчитывали тридцать тысяч человек. В гетто почти не осталось жителей, не принимавших участия в борьбе.
Евреи собрали на Скоповой улице большие силы и предприняли ряд контратак. После многочасового кровавого боя повстанцам удалось выбить противника с исходных позиций, которые он занял в первый день сражения, и глубоко вклиниться в нееврейский район Варшавы.
Евреи быстро укрепились на захваченных позициях и организовали вылазки на боковые улицы.
Немецкий штаб начал стягивать подкрепления. Бои завязались с новой силой. Евреи держались на завоеванных позициях до конца дня и половину следующего дня. Только в два часа, под усиливающимся натиском врага повстанцы были вынуждены отступить.
В момент, когда вспыхнуло восстание, боевая организация насчитывала всего около тысячи человек. На второй день борьбы на позициях находилось уже несколько тысяч бойцов. Презрение к смерти, самоотверженность стали явлением всеобщим, коллективным. Над головами повстанцев на поле боя развевались знамена с надписью: ”Погибнем с достоинством!” Лозунг этот претворился в боях. Примеры мужества множились со дня на день.
Щеточная фабрика долго оказывала врагу отчаянное сопротивление. Командовавший обороной на этом участке Марк Эдельман, начальник группы Герш Берлинский, бойцы Айгер, Ратгайзер, Клейпфиш сражались до последнего патрона. Когда неприятель вытеснил их с фабричного двора, они продолжали борьбу, защищая каждый этаж, а под конец поднялись на крышу. Тут некоторые из повстанцев погибли геройской смертью, а часть из них прорвалась через вал огня и соединилась с другими, еще сохранявшими боеспособность отрядами.
Дружина рабочего Арона Овчинского насчитывала 280 бойцов. Эта дружина отличилась особо высоким мужеством, сражаясь на улице еврейской бедноты, на Павьей. В битве на Окоповой отличился отряд Элиазара Геллера, позже дравшийся на территории еврейского кладбища.
Молодежь проявляла высокий энтузиазм и презрение к смерти. Семнадцатилетняя Ревекка Пекер, с чердака окраинного дома первая встретила эсэсовскую колонну и забросала ее бутылками с горючей жидкостью. Шестнадцатилетний Шанан Лент, счастливый тем, что раздобыл винтовку, — оружие редкое в повстанческих рядах, будучи тяжело ранен, лежал на асфальте, расплавленном жаром горящих зданий, и продолжал стрелять по врагу.
Молодые бойцы гетто заманивали фашистов в якобы опустевшие, незащищаемые дома и уничтожали их, и вновь завлекали в западню новых врагов, готовя им ту же участь.
Рядом с молодыми отважно дрались старики. Во главе своих учеников бился с немцами учитель Натан Смолар, плечом к плечу с сыном до последнего дыхания держался на своем посту старый рабочий варшавского трамвая [Гирш] Лент. Врач Павел Липштат сражался вместе с рабочим Лейбе Готтом, поэт Юзеф Кирман не уступил в боевом упорстве опытному подофицеру Диаманту.
Захваченный немцами в плен Ария Вильнер вырвался из рук палачей и продолжал сражаться.
В первые дни восстания немцы пренебрежительно отнеслись к поднявшимся против них силам. Когда на первой еврейской мине взорвался немецкий мотоцикл, гитлеровские командиры никак не могли поверить, что эту мину сделали и заложили евреи.
После первой воздушной бомбардировки немецкое командование заявило, что ликвидация восстания — дело двух-трех дней.
Однако случилось иначе. Восстание продолжало разгораться. В немецких донесениях появились упоминания о собственных потерях.
После битвы на Окоповой улице немецкий штаб заявил: ”Окружение гетто наталкивается на огромные трудности; чтобы подавить восстание, придется сражаться за каждый дом. Евреи яростно защищаются. Задание требует от нас кровавых потерь и значительных усилий”.
В одном из своих донесений гестапо жалуется, что борьба с восстанием затруднена существованием подземных ходов, по которым евреи сообщаются с польскими патриотами и получают от них помощь. В другом донесении немцы отмечают, что евреи не сдаются в плен, что они либо погибают с оружием в руках, либо исчезают где-то под землей.
Также расценивали ситуацию заграничные корреспонденты.
После битвы на Окоповой улице варшавское гестапо пригласило журналистов стран ”оси”, чтобы они осмотрели ”новый фронт”. Приехало несколько итальянцев, один финн и один венгерец. Описание этого смотра мы можем прочесть в польской подпольной газете:
”Осмотр происходил на окраинных улицах гетто, разрушенных артиллерийским огнем и воздушной бомбардировкой, а затем захваченных немецкой пехотой. Над развалинами домов клубился дым. Некоторые обломки зданий еще были объяты пламенем. На улицах среди груд кирпича, балок и мусора, валялись трупы евреев и немцев”.
”В настоящих условиях, — заявил журналистам сопровождавший их представитель гестапо, — трудно воздать военные почести павшим немецким солдатам”.
”Борьба за эти улицы, — рассказывает далее газета, — носила яростный, отчаянный характер. Немцы должны были бороться за каждый дом. Захватить один дом значило положить много кровавых усилий в течение многих часов”.
Борьба стоила немцам больших потерь. В одном сообщении немецкого командования, выпущенном неделю спустя после начала борьбы, говорилось, что на ”фронте гетто” погибла тысяча немцев.
После двух недель упорных уличных боев повстанцы были вынуждены перейти к новой тактике.
Эта тактика состояла в сочетании обороны с внезапными быстрыми наступательными вылазками, преимущественно ночью.
Эти вылазки продолжались всю третью неделю восстания, которая получила в печати подпольной Польши имя ”Великой недели восстания”. Штурмовые отряды захватывали окраинные улицы Варшавы, взрывали динамитом занятые гитлеровцами дома, военные склады и предприятия. За одну эту неделю повстанцы взорвали сорок шесть немецких предприятий, в том числе фабрику ”Фражет”, завод электроприборов Клеймана и авторемонтный завод. Среди разрушенных предприятий оказалось несколько фабрик концерна ”Герман Геринг-Верке”. Это был чувствительный удар по немецкой промышленности. Вместе с домами, машинами и людьми погибли запасы сырья, готовая продукция, полуфабрикаты и оружие.
После трехнедельных боев положение гетто изменилось к худшему. Число разрушенных домов быстро росло. Повстанцы занимали на развалинах новые позиции, но кольцо окружения все теснее смыкалось вокруг них.
Руководство восстания обратилось к польскому подполью с просьбой поддержать евреев не только боеприпасами и продовольствием, но и совместным вооруженным выступлением поляков в ряде районов Варшавы. Но польские антифашистские группы не были в состоянии собственными силами начать в Варшаве крупное повстанческое движение. Антифашистские организации, однако, сумели мобилизовать группы польской молодежи, которые поспешили на помощь евреям, проникли в гетто и сражались плечом к плечу с восставшими. Антифашисты организовали транспортировку раненых из гетто в партизанские лагеря. Особенную самоотверженность проявили борцы народной гвардии. При посылке подкреплений и при подготовке, на случай разгрома, условий для отступления повстанцев особую активность проявили Польская рабочая партия и Рабочая партия Польских Социалистов.
Польские патриоты расклеили на улицах Варшавы короткое воззвание:
”Поляки! Немцы вынесли смертный приговор последним тридцати тысячам евреев Варшавского гетто. В ваших домах слышны отголоски стрельбы. Женщины и дети защищаются голыми руками. Спешите к ним на помощь!”
Первого мая рабочие организации гетто выпустили воззвание к евреям-повстанцам. Воззвание печаталось на гектографе во время налета немецкой авиации.
”В этом году, — говорилось в воззвании, — мы отметим Первое мая не уличными демонстрациями. Мы встретим день рабочего праздника в уличных боях. В этом году в первый день пробуждающейся весны мы будем говорить не о любви, а о безграничной ненависти к врагу. В этом году Первого мая мы будем сражаться и убивать”.
Но и позже, после месяца кровавых битв, когда многие позиции оказались захвачены врагом, дух повстанцев был непреклонен. Еще 23 мая командование восстания передало по радио следующую сводку из пылающего разрушенного гетто:
”В последнюю пятницу немецкие самолеты снова сбросили на гетто груз бомб. Все гетто охвачено пламенем. Немцы возобновили также танковые атаки. Наши ряды по-прежнему сплочены. Мы защищаемся и наносим врагу удары”.
На последнем этапе борьбы повстанцы вновь изменили тактику. Хотя основная сконцентрированная оборона была сломлена немецкими танками и авиацией, восставшие не допускали даже мысли о капитуляции. В штаб на Налевках ежедневно являлись еврейские юноши, желавшие вступить добровольцами в ”отряды смерти”. Это были отряды, которые нападали на немецких солдат, врывались в их ряды, забрасывали врагов ручными гранатами, не отступали и бились до последней капли крови. Бойцы ”отрядов смерти” перед операцией приносили присягу, что они вернутся к своим только в том случае, если вокруг не останется ни одного живого немца.
”Отряды смерти” вносили опустошение в ряды неприятеля. Их бойцы останавливали наступление немецких танков. Вооруженные гранатами и бутылками с бензином, они бросались под гусеницы танков и выводили из строя вражеские машины, сами погибая при этом.
И все же враг продвигался вперед. Победа над гетто дорого доставалась ему. Немецкие потери достигали уже нескольких тысяч солдат. Евреи превратили каждое здание в крепость. На крышах следили за врагом разведчики, за окнами прятались стрелки. Гетто боролось за каждый метр земли, за каждое здание. Люди сражались на развалинах и пепелищах.
* * *
К концу мая сопротивление гетто было подавлено. В еврейском районе начался голод, так как немцы захватили все важнейшие коммуникации и тайный подвоз продовольствия из польских районов Варшавы стал почти невозможен. Иссякли запасы оружия. С честью пали в боях лучшие борцы гетто. Однако борьба все еще продолжалась. На некоторых участках отдельным группам повстанцев удалось прорваться сквозь неприятельские кордоны, чтобы уйти в леса, к партизанам. Немцы организовали погоню. Бывали случаи, когда, видя безнадежность положения, пробившиеся из гетто бойцы взрывали себя вместе с настигшими их немцами. Только двум-трем десяткам бойцов удалось уйти от погони.
На сорок второй день восстания все гетто оказалось в руках немцев. Но это не был уже варшавский городской район, тут уже не было ни зданий, ни улиц. Здания, все до одного, были разрушены артиллерией, танками и воздушными налетами. Официальная немецкая сводка, сообщившая об окончательной победе германских войск, заканчивалась следующими словами:
”Есть только один способ подавить дух восстания в самом зачатке — это истребить всех жителей гетто и сжечь до основания опасное бунтовщическое гнездо”.
И все же восстание еще не было подавлено! Оно перестало существовать на поверхности и ушло в подземелья. Последние боевые отряды под началом Мордехая Анелевича спустились в катакомбы, где сохранились скудные запасы пищи.
Вначале гестапо не знало, куда скрылись повстанцы.
Боевики внезапно устроили вылазку и напали на немцев. Наутро немецкое командование по радио обратилось к укрывшимся боевикам и поставило ультиматум: сложите оружие, выйдите из убежищ, и мы сохраним вам жизнь.
Однако среди повстанцев не нашлось ни одного капитулянта и труса.
Через несколько дней гестапо с помощью звукоулавливателей и собак-ищеек засекло одно из убежищ. Крупный немецкий отряд окружил выход. ”Герои” Треблинки, Освенцима, Белжеца побоялись проникнуть внутрь. Они не решились встретиться с повстанцами лицом к лицу.
Положение осажденных было безвыходно. Запасы воды, пищи и боеприпасов иссякли. Повстанцы, чтобы не попасть живыми в руки немцев, решили покончить с собою. Среди застрелившихся был и командир Мордехай Анелевич.
Из других убежищ, когда истощились запасы продовольствия, повстанцы вышли на поверхность земли по водопроводным и канализационным каналам, которые вели в польские районы.
Бойцы Польской рабочей партии образовали вооруженные отряды, которые направились к местам выхода повстанцев; отряды окружили эти улицы, прервали движение, устранили немецкую стражу. Так удалось спасти и отправить в партизанские леса около ста человек.
Далеко не всюду попытки спасти уцелевших повстанцев увенчались успехом.
Немцы часто пускали в подземные каналы отравляющие газы.
Последние защитники гетто продолжали ожесточенно драться вплоть до июля 1943 года. Борьбою руководили могикане великого восстания — Юзеф Фарбер и Захарья Артштайн. Оба они погибли в боях.
На сороковой день восстания во всем гетто уцелело одно четырехэтажное здание. Здесь сражалась последняя горсточка храбрецов.
Целый день, с утра до вечера, защищалась последняя крепость гетто. На крыше развевались национальные флаги, из окон стреляли последние бойцы.
Немцы, решив захватить последних бойцов гетто живьем, с большим трудом отвоевывали ступеньку за ступенькой, этаж за этажом. К концу дня в живых осталось трое повстанцев. Немцы, устав от многочасового боя, подожгли здание.
И тогда на охваченной пламенем крыше показались три человека. Каждый из них был закутан в знамя. Словно движимые единой могучей силой, все трое бросились в огонь. Последние защитники гетто погибли в пламени, окутанные стягами, под которыми они сражались до последнего дыхания.
На поле чести, в бою за свое человеческое и национальное достоинство пали тысячи повстанцев. Небывалые примеры героизма показали еврейские женщины. Пожилая женщина, известная общественная деятельница Рахиль Штейн сражалась на передовых линиях и не покинула своего боевого поста, когда пуля пробила ей плечо. До последнего вздоха смело и самоотверженно сражались бойцы подполья Тося Альтман и Фрумка Плотницкая.
Авангардом и душою восстания была молодежь. Навсегда сохранится в сердце еврейского народа память о Луне Розенталь, о Самуиле Браславе, Мирском, Ленте, о сотнях юношей, обращавших в бегство неприятельские отряды и павших смертью славных на поле брани.
В рядах повстанцев сражались плечом к плечу люди физического и умственного труда, вольнодумцы и верующие. Пусть не забудется имя старого писателя Арона Эйнгорна, который отверг предложение бежать и до последней минуты был борцом гетто. В восстании погибли многие варшавские представители еврейско-польской литературы, науки и искусства; погибли поэты Израиль Штерн, Юзеф Кирман и Ехиель Лерер, писатели Соломон Гильберт и Шия Перле, публицист Самуил Гиршгорн, скульптор Остшега, художники Феликс Фридман, Вайнтрауб, Шливняк, Гершафт и другие. Погибла плеяда известных миру артистов.
На улицах сражающегося гетто пролилась также кровь поляков, слившись с братской кровью польских евреев. Отдали жизнь за дело свободы поляки Стрелецкий, Ващина, Петр Турский, Вольский, Ковальский и многие другие.
Восстание в Варшавском гетто — самая трагическая и вместе с тем самая прекрасная страница в тысячелетней истории польского еврейства. Это трагическое восстание навеки войдет в историю борьбы свободного человечества против звериных сил фашизма. Вечная память борцам и солдатам Варшавского гетто!
ПРИЛОЖЕНИЕ
РАСОВАЯ ПОЛИТИКА ГИТЛЕРИЗМА И АНТИСЕМИТИЗМ. Академик И. П. Трайнин
История цивилизованных народов не знает войны более варварской и грабительской чем та, которую гитлеровцы вели против народов советской страны.
”Расовая политика” гитлеровского государственного механизма с первых же дней своего возникновения была направлена на то, чтобы не только внедрить в сознание немца его ”право” на господство над другими народами, но и практически ”натренировать” его для этой цели.
Объектом для такой ”тренировки” для начала послужило еврейское население Германии. Здесь для этого была и подготовленная почва.
Начиная с последней четверти XIX века наиболее реакционные элементы Германии, как Трейчке, как вильгельмовский придворный проповедник Штеккер, и различные юнкерские круги еще до Гитлера использовали антисемитизм для того, чтобы отвлечь внимание недовольных масс от настоящих виновников их тяжелого положения.
Причиной всех бедствий масс выдавались евреи, которых в Германии было меньше 1% населения. Социальные вопросы, упиравшиеся в эксплуатацию юнкеров, крупных финансовых и промышленных клик, подменялись вопросами религиозными, расовыми и национальными. Антисемитизм к тому же прикрашивался ”социальными” оттенками, выдавался за ”настоящий ненемецкий и ”христианский социализм”. Еще Август Бебель назвал германский антисемитизм ”социализмом дураков”.
”Расовая тренировка” немцев с момента прихода гитлеровцев к власти началась с еврейских погромов, с избиений, убийств и грабежа еврейского населения. Погромами руководили гитлеровские штурмовики и насыщенный гитлеровскими кадрами полицейский аппарат.
Еврейское население было поставлено ”вне закона”. Евреи изгонялись из государственных, общественных и других учреждений: Евреи были лишены германского гражданства, что было формально закреплено так называемыми ”Нюрнбергскими законами 1935 года”.
Уголовные законы цивилизованных государств обычно предусматривают тяжелые наказания убийцам, грабителям, их вдохновителям и пособникам. Только в одной Германии с приходом к власти гитлеровцев в школах, в университетах, в книгах и повседневной печати открыто проповедовалось, что немцам как ”высшей расе” все дозволено, что они свое благосостояние и благополучие могут строить на костях других народов.
Это не был государственный аппарат в общепринятом смысле. Это было орудие в руках политических бандитов, которые, используя силу государства (полицию, чиновничество, армию), направляли эту силу на политический разбой и грабеж, караемые кодексами всех цивилизованных государств.
* * *
Гитлер поучал: ”Если мы хотим создать нашу великую германскую империю, то мы должны прежде всего вытеснить и истребить славянские народы — русских, поляков, чехов, словаков, болгар, украинцев, белорусов”.
Это было основным в планах гитлеровцев. Еще за несколько лет до начала войны Гитлер, возбуждая грабительские инстинкты на съезде фашистского сброда в Нюрнберге, говорил: ”Когда Урал с его неизмеримыми богатствами сырья, неисчислимые леса Сибири и бесконечные поля Украины будут в немецких руках, наш народ будет обеспечен всем необходимым”.
Алчные и самонадеянные немцы в первый год после их нападения на советскую страну ликующе шумели, что отныне украинская пшеница, украинское сало, донецкий уголь находятся в их руках. Ставленник Гитлера ”рейхскомиссар Украины” Эрих Кох писал, что Украина должна ”поддержать и обеспечить для немецкого военного командования чрезвычайно большие источники сырья и пищевых продуктов этой страны для того, чтобы Германия и Европа могли вести войну какой угодно продолжительности.
Гитлеровцы думали облегчить осуществление своего ”нового порядка” стравливанием советских народов. В ”Зеленой папке” Геринга, которая была директивой для немецких агентов во временно оккупированных советских районах, прямо указывалось, что нужно сеять противоречия и вражду между народами СССР с тем, чтобы ослабить их сопротивление.
Так например, гитлеровцы пригрели у себя кучку украинских националистов (бендеровцев и других), при помощи которых они порабощали украинский народ, стремились натравливать украинцев на русских и евреев. И в то же время в секретном циркуляре командующего германской армией Кинцингера от 18 июля 1942 года (№5771/564/42 секретно) подчеркивалось: ”Украинец был и остается для нас чуждым. Каждое простое доверчивое проявление интереса к украинцам и их культурному существованию действует во вред и ослабляет те существенные черты, которым Германия обязана своей мощью и величием”.
Главари создали систему, при которой выслужиться и подняться вверх по фашистской иерархической лестнице можно было только напрактиковавшись в убийствах и жестокостях над мирным населением бывших временно оккупированных районов, над безоружными людьми в концентрационных лагерях.
Главари в своих инструкциях постоянно напоминали своим подчиненным о необходимости стравливать национальности.
В соответствии с директивами ”Зеленой папки” Геринга немецкий комендант города Борисов сообщал своему начальству: ”Стараюсь сеять антагонизм между белорусами и русскими, а их вместе натравить на евреев”.
Везде с приходом немецких армий начинался кровавый кошмар и грабеж, жертвой которых в первую очередь являлись евреи. За армиями шли гестаповцы и ”специалисты” по оккупационному режиму.
Создавался специальный ”юденаппарат”, который специализировался на грабежах и убийствах евреев. Гитлеровцы угрожали смертью всякому русскому, украинцу, белорусу и так далее, если они укрывали евреев.
Города Львов, Киев, Харьков, Минск, Гомель, Рига, так же как и другие многочисленные города советской страны, были свидетелями почти поголовного истребления еврейских трудящихся и их семей.
Чем ближе приближалась военная развязка, тем все больше возрастало бешенство гитлеровских извергов. Во всех вассальных государствах (в Италии, Румынии, Венгрии) гитлеровские ставленники ввели ”расовое законодательство”. Из всех оккупированных районов евреи свозились в Майданек и Освенцим и там истреблялись.
В декабре 1942 года правительства Бельгии, Великобритании. Голландии, Греции, Люксембурга, Норвегии, Польши, США, СССР, Чехословакии, Югославии и Французского Национального Комитета в своей декларации указывали, что немецко-фашистские захватчики ”проводят в жизнь неоднократно высказанное Гитлером намерение истребить еврейский народ в Европе”.
Правительства вновь подтверждали ”свое торжественное обязательство обеспечить совместно со всеми Объединенными Нациями, чтобы лица, ответственные за эти преступления, не избежали заслуженного возмездия”.
Опубликованное вслед за этим сообщение Информбюро Наркоминдела СССР ”Об осуществлении гитлеровскими властями плана истребления еврейского населения Европы” (”Известия” от 19 декабря 1942 года) приводит конкретные материалы гитлеровской истребительной политики. Сообщение это, между прочим, указывало: ”Подобными зверствами против евреев и всей своей изуверской пропагандой антисемитизма гитлеровцы пытаются отвлечь внимание германского народа от надвигающейся на фашистскую Германию катастрофы, приближение которой становится очевидным. Только обреченные на гибель зарвавшиеся авантюристы из клики Гитлера могли возомнить, что можно потопить в крови многих сотен тысяч ни в чем неповинных евреев свои бесчисленные преступления против народов Европы, ввергнутых в войну ненасытным германским империализмом”.
Теперь все это уже в прошлом. Гитлеровские армии разгромлены, гитлеровский разбойничий механизм ликвидирован.
Теперь главные виновники злодеяний, вдохновители и проводники массовых убийств и истязаний стоят перед Международным Военным Трибуналом. Их пока всего двадцать четыре. Среди них ”специалист” по антисемитизму, близкий друг Гитлера и его сподвижник — Юлиус Штрейхер. Это он был главным редактором отвратительнейшей газетки ”Дер Штюрмер”, которая, потрафляя мракобесам и садистам, сочетала порнографическое смакование с антисемитизмом. Штрейхер получил звание генерала войск СС. Стал гаулейтером Франконии. Впереди его в качестве ответчиков перед Международным Военным Трибуналом идут Геринг, Риббентроп, Гесс, Кальтенбруннер, Розенберг, Франк и другие, которые руководили государственным и военным разбоем.
В освобожденной от немецко-фашистских захватчиков Европе ликвидированы все расовые и национальные дискриминации, в частности, в отношении еврейского населения.
Но можно ли сказать, что с ликвидацией гитлеровского политического бандитизма, гитлеровского государства, закончена борьба с фашизмом, с его человеконенавистнической ”идеологией”, в том числе и с антисемитизмом.
Конечно, нет! Это видно из того, как тяжело еще проходит борьба с гитлеровским охвостьем в освобожденных странах, с профашистами, которые пока ушли в подполье, но используют всякие возможности для того, чтобы вылезть наружу: снова начать свою изуверскую ”работу”.
Даже в Англии оказалось возможным, чтобы реакционный (консервативный) член парламента, капитан Рамсей (содержавшийся в тюрьме по закону об охране государства с мая 1940 года по сентябрь 1944 года), открыто с трибуны парламента внес предложение, требующее, чтобы английское правительство ”снова ввело еврейский статут[70] и провело в жизнь его пункты”.
В Румынии, оказавшийся во главе правительства генерал Радеску, борясь против демократических преобразований, пытался в феврале 1945 года вызвать гражданскую войну и с этой целью обрушился с антисемитскими выпадами против отдельных участников демократического фронта.
В освобожденной от немецко-фашистских захватчиков Польше антисемитизм находится в арсенале сторонников бывшего эмигрантского ”правительства”, которое в союзе с бывшими гестаповцами пытается еще и сейчас вызвать национальную рознь. Еще в августе 1945 года в Кракове бывшие гестаповцы стремились спровоцировать еврейский погром, но были подавлены военной силой и организованной демократической общественностью.
Борьба против антисемитизма не может поэтому быть успешной без активной борьбы за демократию, за тесный союз демократических элементов всех стран. Чем прочнее и последовательнее будет развиваться демократия, тем вернее будет укрепляться союз и сотрудничество всех наций и рас, тем скорее покончено будет и с антисемитизмом.
Примером является СССР, где, на основании Конституции, покушение на равноправие наций и рас и проповедь, имеющая характер национальной травли, караются по всей строгости советского уголовного закона.
ПОКАЗАНИЯ НЕМЦЕВ И ДОКУМЕНТЫ ИЗ МАТЕРИАЛОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ
1. Приказ Гиммлера. Сообщение члена правления Союза немецких офицеров майора Бернгарда Бехлера[71].
Выписка.
При проведении приказа в армейской группе Центра в ноябре 1941 года начальник разведывательного отдела группы выразил настоятельное желание переговорить наедине с моим генералом. По вышеуказанным причинам я принимал участие в переговорах. По поручению фельдмаршала фон Бокк, начальник разведывательного отдела сообщил нам следующее: при каждой армейской группе находится высший СС-фюрер. Третьего дня имперский фюрер СС, Гиммлер, посетил СС-фюрера данной армейской группы и при этом, между прочим, поставил вопрос о том, какое количество евреев ежедневно расстреливается по его приказанию. После того, как было названо определенное количество, Гиммлер закричал: ”Какое свинство, берите пример с вашего коллеги в армейской группе Норд, который приказывает расстреливать в пять раз больше, чем вы!”
2. Текст немецкого донесения, найденного в районе Россоши среди штабных документов 15-го немецкого полицейского полка[72]
Итоговый отчет.
После того, как приказ о немедленном марше был отменен, рота получила 27 октября 1942 года приказ: прибыть 28 октября
1942 г. в 21.00 в Кобрин. В соответствии с приказом рота прибыла на машинах в Кобрин и оттуда была направлена маршем в Пинск. К западному выходу Пинска рота явилась 29 октября 1942 г. в 04.00.
На состоявшемся 28 октября 1942 г. в Пинске у полкового командира полковника Курске совещании было решено, что два батальона, а именно 2-й батальон 15-го полицейского полка и 2-й кавалерийский дивизион, возьмут на себя наружное оцепление, в то время как 10-я рота 15-го полицейского полка и 11-я рота 11-го полевого полка без двух взводов назначаются для прочесывания гетто. 11-я рота 11-го полицейского полка без 1-го взвода, который был освобожден вечером от прочесывания, была назначена на охрану у сборного пункта, охрану отдельных перевозок к месту казни, которое находилось в 4 километрах за Пинском, и на оцепление места казни. Для последнего задания в дальнейшем частично использовались конники. Это мероприятие оправдало себя блестяще, так как при попытке 150 евреев к бегству все были вновь пойманы, хотя части из них удалось уйти на несколько километров.
Оцепление было назначено на 4.30 ч., и оказалось, что благодаря предшествующей личной разведке руководителей и соблюдению тайны, оцепление было совершено в кратчайший срок, и уклонение евреев оказалось невозможным. Прочесывание гетто следовало по приказу начать в 6.00 ч. Но благодаря темноте, начало было отодвинуто на полчаса. Евреи, обратившие внимание на происходящее, стали большей частью добровольно собираться на проверку на всех улицах; с помощью двух вахмистров удалось в первый же час привести несколько тысяч человек к месту сбора; когда остальные евреи увидели, к чему клонит дело, то они примкнули к колонне, так что предусмотренную охранной полицией на месте сбора проверку, благодаря громадному неожиданному скоплению народа, провести не удалось. (В первый день прочесывания рассчитывали только на 1000—2000 человек). Первое прочесывание закончилось в 17.00 ч. и прошло без происшествия.
В первый день было казнено около 10000 человек. Ночью рота находилась в боевой готовности в солдатском клубе.
30 октября 1942 г. гетто было прочесано во второй раз, 31 октября — в третий раз и 1 ноября — в четвертый раз. В общем к месту сбора было пригнано около 15000 евреев. Больные евреи и оставленные в домах дети подвергались казни тут же в гетто, во дворе. В гетто было казнено около 1200 евреев. Происшествий, за исключением одного, не было. На основании того, что евреям, которые укажут, где они спрятали золото, обещали жизнь, явился один еврей, сообщивший, что он спрятал массу золота. Один вахмистр пошел с ним. Но так как еврей все время медлил и просил вахмистра подняться с ним на чердак, вахмистр вернул его назад в гетто к месту сбора. Здесь еврей отказался, как все другие евреи, сесть на землю. Внезапно он бросился на одного всадника эскадрона, выхватил у того винтовку и палку и начал бить всадника. Только благодаря вмешательству солдат роты, это нападение сорвалось. Так как огнестрельным оружием пользоваться было запрещено, то в завязавшейся борьбе еврея так ударили топором по голове, что он упал и остался лежать. Он тут же был казнен.
1 ноября с 17.00 ч. роту назначили во внешнее оцепление, а второй конный отряд отправился к своему месту стоянки. Особых происшествий не было.
2 ноября 1942 г. в 8.00 ч. рота была отпущена из Пинска и отправилась маршем к месту своей стоянки. Рота достигла в 13.00 ч. Кобрина, к 17.00 ч. она снова достигла своих опорных пунктов.
Итоги:
1. Производящие прочесывание отряды обязательно должны иметь с собой топоры, секиры и прочий инструмент, так как оказалось, что почти все двери были заперты или на задвижке и их можно было открыть только силой.
2. Даже когда не видно внутренних входов на чердак, следует все же предполагать, что там находятся люди. Чердаки поэтому следует тщательнейшим образом обыскивать снаружи.
3. Даже когда нет подвалов, значительное количество лиц находится в малом пространстве подполья. Такие места следует взламывать снаружи или направлять туда служебных собак (в Пинске замечательно оправдала себя при этом служебная собака ”Аста”), или забросить туда ручную гранату, после чего во всех случаях евреи немедленно же выходят оттуда.
4. Следует твердым предметом ощупать все вокруг домов, так как бесчисленное множество лиц прячется в хорошо замаскированных ямах.
5. Рекомендуется привлекать малолетних к указанию этих укрытий, обещая им за это жизнь.[73]
Капитан полиции охраны и командир роты Заур
3. Из показания командира шуцманской роты капитана Залога, активного участника злодеяний немцев в Каменец-Подольском
...Подготовка расстрелов еврейского населения, безусловно, была заблаговременной. И, как я впоследствии узнал, она заключалась в следующем;
1. Концентрация еврейского населения.
2. Обозначение еврейских квартир (домов).
3. Составление точных списков.
4. Сбор евреев из других населенных пунктов.
5. Выбор дня и места расстрела.
На стенах домов, где проживали евреи, должны были быть написаны ярко видимые шестиугольные звезды.
Место расстрела выбиралось совместными усилиями: начальника СД (главный палач), начальника жандармерии и районшефа. За сколько дней до расстрела выбиралось место, сказать не могу. Судя по выезду начальника жандармерии в Старую Ушицу, — за 3-4 дня. В тот же день в Старую Ушицу выезжал и начальник СД, вопрос затем согласовывался с окружным комиссаром.
Из личных наблюдений знаю, что перед такими событиями начальник жандармерии очень часто и подолгу бывал у окружного комиссара и начальника СД, что и начальник СД чаще чем обычно заходил к начальнику жандармерии, что чаще велись переговоры с окружным комиссаром и начальником СД по телефону. Двери, в таких случаях, идущие из нашей комнаты, где находились я и ротные фельдфебели, в общую канцелярию начальника жандармерии, в которой находился телефон, закрывались тщательнее и на страже у дверей становился кто-нибудь из работников канцелярии, предупреждая жандармов о том, что заходить к начальнику жандармерии сейчас нельзя.
Днем расстрела выбиралась всегда суббота. Почему, сказать не могу. На такой вопрос я всегда получал уклончивые ответы.
Первые расстрелы, проводившиеся в Каменец-Подольском в 1941 г. и в начале 1942 г., мне неизвестны.
Об одном из самых больших массовых расстрелов еврейского населения мне известно со слов других следующее:
В первые дни оккупации Каменец-Подольского сюда начали прибывать евреи из Западной Украины, Бессарабии, Северной Буковины, которые по разным причинам не сумели вовремя эвакуироваться дальше вглубь страны и оказались на оккупированной территории. Этих евреев задерживали в самом Каменец-Подольском или еще на границе и доставляли в Каменец-Подольский. Впоследствии, со слов, к ним присоединили большую партию евреев из Чехословакии и здесь же в Каменце расстреляли. Цифры расстрелянных назывались противоречивые — 8-10-12 тысяч. Входили ли в эту цифру и евреи — жители Каменец-Подольского, сказать не могу.
Из массовых расстрелов еврейского населения, граждан СССР, в Каменец-Подольском, которые проводились в 1942 году, мне лично известны два.
Находясь на службе при жандармерии в Каменец-Подольском на должности командира роты шуцманской службы, я впервые участвовал со своими подчиненными в массовом расстреле еврейского населения г. Старая Ушица и Студеница в августе-сентябре 1942 года и второй раз — в Каменец-Подольском. Массовый расстрел производился в районе казачьих казарм (учбат), ноябрь 1942 года.
Мне как командиру роты накануне дня расстрела начальником жандармерии лейтенантом Райхом, через командира 1-й роты Крубазика, было приказано вызвать шуцманов моей роты, примерно в количестве около 50 человек. Одновременно было приказано позвонить командиру взвода в Старую Ушицу и узнать от него, принял ли он приказ, полученный через начальника жандармского поста Старой Ушицы о сборе шуцманского состава его взвода. Командир взвода мне ответил, что он все понял и необходимые распоряжения сделал, согласовав их с начальником жандармского поста вахмистром Кунде, крайсландвиртом и районшефом Старой Ушицы.
О чем шла речь, он мне по телефону сказать не мог, также как я не мог его об этом спросить, будучи предупрежден, он — начальником жандармского поста, я — начальником жандармерии. Командир роты Крубазик на мой вопрос, что мы будем делать, ответил: об этом мы все будем знать завтра.
На каждую винтовку было приказано взять по 10 патронов плюс пулеметную коробку в резерв. Кроме того, были взяты ручной пулемет и три автомата. Выехали — жандармов 10-12, шуцманов — около 50, из роты Крубазика и часть из моей роты. Работники СД и криминальной полиции выехали самостоятельно.
Приехав в село Грушка, мы застали там шуцманов с участков Зеленые Куриловцы и Привороття в полном сборе.
Лейтенант Райх выехал в Старую Ушицу на легковой машине с тремя жандармами; на второй легковой машине выехали четыре работника СД, во главе с начальником СД. Они отдали распоряжение остальным жандармам и шуцманам лень спать.
На рассвете, после подъема, все мы выехали на машинах (в два приема) к Старой Ушице. Не доезжая к Старой Ушице 1-1,5 км, машины были остановлены, шуцманы построены. Здесь лейтенантом Райхом была объявлена цель приезда и задача — собрать все еврейское население Старой Ушицы и Студеницы, доставить евреев к месту расстрела, которое находится здесь же, невдалеке от шоссейной дороги.
Место расстрела было согласовано между начальниками СД, жандармерии и районшефом заблаговременно, в один из приездов начальника СД и начальника жандармерии в Старую Ушицу.
Все еврейское население Старой Ушицы было собрано на площади, которая была оцеплена жандармами и шуцманским составом. Все мужчины, взрослые и дети, кроме грудных, отделялись от женщин, здесь же на площади. Всем было приказано сесть на землю и не разговаривать между собой.
Попытки разговаривать прекращались окриком и ударом приклада или палки.
Начальник СД и начальник жандармерии объявили евреям, что они пойдут в Каменец-Подольский. В отдельных случаях женщинам разрешали взять одежду на себя и детей, так как после приказа о выходе на площадь многие вышли из квартир, едва накинув платье и босые.
В процессе сбора еврейского населения в квартирах было выявлено много спрятавшихся. Убежищами служили погреба, заранее приготовленные для этой цели, с запасом продуктов и одежды, чердаки.
Всех, кого находили, избивали прикладами и палками.
Был случай, когда спрятавшегося на чердаке еврея выстрелом из винтовки там же убил шуцман.
Больных стариков и старух, которые не могли идти на площадь, вели или несли на руках родственники, а если родственников не было, то по нашему распоряжению несли другие евреи.
Одну женщину, старуху 60—70 лет, которая шла очень медленно из комнаты, ударами прикладов в спину выкинули на улицу.
После выстрелов и названного случая среди женщин и детей начался плач и крики. Эти крики и плач с большим трудом, при помощи ударов прикладами и палками, были прекращены.
Начальник СД и начальник жандармерии, отдав распоряжения, выехали на машинах к месту расстрела. Распоряжения были следующие:
1. Послать в село Студеница, Старо-Ушицкого района, автомашины для того, чтобы привезти евреев, проживающих там.
В село Студеница были отправлены 3 или 4 автомашины с шуцманским отрядом 15—20 человек во главе с представителем СД, ранга и фамилии не знаю, и гауптвахмайстером жандармерии Пойкером. К концу расстрела жителей Старой Ушицы они привезли евреев, жителей Студеницы, в количестве примерно 80-100 человек. Конвой был усилен пограничниками в количестве 8 человек.
2. Организовать охрану всех опустевших еврейских квартир.
Организация этой охраны была мною возложена на командира взвода шуцманской службы, который после того, как охрана была организована, прибыл к месту расстрела.
3. Районшефу было отдано распоряжение приготовить обед на 50-60 человек шуцманского состава и на жандармов. Обед должен был быть готов к 12 часам.
Конвой колонны был организован так: впереди шли два жандарма в 5—7 шагах от первого ряда колонны евреев, по бокам примерно по 30—35 человек шуцманов (в 3-4 шагах от колонн сбоку), задачей замыкающих было подгонять всех отстающих. Это выполнялось при помощи окриков, ударов прикладами или палок, предусмотрительно захваченных еще в Старой Ушице. Сзади за подводами шел я с одним жандармом, вахмайстер-радист и один шуцман.
Весь путь по городу Старая Ушица, от площади до окраины, прошел более или менее спокойно, без всяких инцидентов. Но как только колонна прошла окраину, поднялся вначале тихий, потом все возрастающий плач детей, а затем женщин, почти не прекращавшийся на протяжении всего пути следования. Несмотря на все меры для восстановления тишины: пинки, удары прикладами, угрозы немедленного расстрела, плач и крик прекращался на некоторое время для того, чтобы с новой силой начаться вновь. Женщины и старики шептали молитвы, некоторые, тихо перешептываясь, о чем-то говорили со своими родными или с идущим рядом соседом. Некоторые бросали узелки с вещами на дорогу, но это подбиралось шуцманом и бросалось на подводу. Ложное распоряжение о том, что евреев ведут в Каменец-Подольский, на всем протяжении пути повторялось неоднократно.
Пройдя 1—1,5 км от Старой Ушицы, я увидел стоящие на дороге легковые машины, на которых, как я впоследствии узнал, приехал окружной комиссар Райндль со своими работниками. С ними разговаривал начальник СД и начальник жандармерии.
Когда колонна почти поравнялась с машинами и впереди идущий жандарм доложил окружному комиссару, начальник СД рукой указал дальнейшее направление колонны, т. е. указал направление к яме, куда вся колонна и свернула.
В этот момент, когда колонна свернула к яме, поднялся всеобщий крик. Никакие окрики, удары прикладов, пинки ногами не могли остановить этот крик. Пронзительные высокие крики женщин переплетались с детским плачем и просьбами детей взять их на руки. Крики постепенно затихали, то с возрастающей силой подымались вновь. Так продолжалось до места расстрела, на пути протяжением 100—200 метров, до вырытой ямы.
Яма эта была размером примерно 12 на 6 и глубиной около 1,5 метров. С одной стороны, той, что была ближе к Каменец-Подольскому, яма имела вход шириной примерно около 2 метров, с уклоном ко дну ее, по которому и шли обреченные на смерть.
На этом последнем пути евреи, увидев, что обещанная отправка в Каменец-Подольский — обман, начали выбрасывать портсигары, кольца, серьги, выбрасывать и рвать документы, фотокарточки, письма, бумаги с записями и др.
В случае побега еврея из-под расстрела не разрешалось вести стрельбу внутри круга оцепления, а выпустив бежавшего за линию оцепления, надо было повернуться к нему лицом и вести огонь. Для того, чтобы дать возможность вести огонь и от ямы, два человека, ближайшие к убегающему, должны были разбежаться в стороны, освободив таким образом сектор обстрела.
Второе кольцо оцепления, внутреннее, было организовано непосредственно вокруг евреев, которых для этого заставили сжаться до последней возможности в одну группу. Выдерживался, однако, прежний порядок, т. е. мужчины стояли впереди, женщины сзади. Это кольцо замыкалось у ямы, в которой находился палач с автоматом.
Процесс расстрела слагался из следующих, если так можно выразиться, элементов.
В 15—20 метрах от ямы, как я уже говорил выше, плотной массой стояли обреченные на смерть. Всех, в том числе женщин и детей, раздевали догола и по пять человек, подгоняя ударами, направляли к яме.
Возле ямы стояло тоже несколько жандармов, которые в свою очередь ударами палок или прикладов загоняли людей в яму к палачу. Палач по имени Пауль, фамилии не знаю, изрядно выпивший ”шнапсу”, приказывал жертвам ложиться лицом книзу, в противоположной к входу стороне ямы, и выстрелом в затылок, в упор, жертва умерщвлялась. Следующая ”пятерка” ложилась головами на трупы своих собратьев и таким же образом убивалась, получив в голову, как там говорили, ”одно зерно-боб-кафе”. Вверху над ямой стоял ”отметчик”, работник криминальной полиции, и крестиком, это был условный знак, отмечал ”пятерки”.
Должен сказать правду, что были нередки случаи, когда вместо пяти человек семья, состоявшая из 6—8 человек, несмотря ни на какие приказы, до полусмерти избитая на протяжении 15-20 метров, все же в яму шла вместе, крестик же ставился такой же, как и для пяти человек.
Невдалеке от ямы стояли: начальник жандармерии лейтенант Райх, начальник СД, фамилии не знаю, комиссар Райндль и отдавали, в ходе расстрела, те или иные распоряжения. В перерывах между отдачей распоряжений они поощряли подчиненных, иногда смеялись удачным ударам, которые в большом количестве сыпались на головы и спины без того обезумевших евреев, или с каменным выражением на лицах, молча наблюдали картину истребления. Иногда, отвернувшись от ямы, засунув руки в карманы, они тихо о чем-то разговаривали между собой.
Райндль, пробыв у ямы около двух часов, пожав руки руководителям, отсалютовав рукой всем остальным, улыбнулся, еще раз что-то сказал и, сев в автомашину, поехал в Каменец-Подольский.
Расстрел продолжался.
Картина не была бы полной, если бы не рассказать подробнее о том состоянии, в котором находились обреченные на смерть.
После первых выстрелов палача вся масса на несколько секунд притихла и, поняв ужас своего положения, на разные голоса подняла такой крик, от которого переставало биться сердце и стыла в жилах кровь.
Неслись угрозы о возмездии, проклятия. Старые призывали бога и просили его отомстить.
Мужчины под ударами прикладов и палок на пути следования к яме и в самой яме выкрикивали: ”Да здравствует вождь всех народов — Сталин!״, ”Да здравствует Родина всех народов — Советский Союз!”
Были выкрики и против немцев: ”Смерть одноглазому волку — Адольфу”.
Среди стариков и женщин некоторые обезумели. Эти люди с широко открытыми, обезумевшими глазами, не обращая внимания на удары, медленно с опущенными руками шли вперед, спотыкались, падали, снова поднимались и, дойдя к палачу, останавливались, застывали, не произнося ни слова, не делая ни единого движения. Только сильный толчок автомата или удар ноги палача бросал такую жертву на дно ямы.
Маленьких детей, насильно оторванных от матерей, жандармы, находясь сверху, бросали в яму. Ребенок 3-4 лет, скинув с себя всю одежду, подошел к яме сам. Жандарм схватил его за руку и, предупредив палача, бросил ребенка в яму. Палач выстрелил в то время, когда ребенок находился в воздухе. Многие женщины, желая прикрыть свою наготу, не снимали рубашек. С них сорвали рубашки и избили. Особенно досталось некоторым молодым женщинам и девушкам, они заплевали одному из работников СД и нескольким жандармам глаза и лицо. Их били по лицу, груди и носками сапог в половые органы.
Чулки или носки на ногах у женщин и детей срывались при помощи дула винтовки или палки.
Многие женщины молили о сохранении жизни маленьким детям.
Многие разрывали на себе одежду, рвали волосы, кусали руки.
Некоторые мужчины пытались бежать. Мужчина средних лет, совершенно уже голый, пустился бежать к кустарнику, находившемуся северо-западнее от места расстрела, причем бежал зигзагами. Он пробежал метров 70—100 за второе кольцо оцепления и был убит совместной стрельбой из автоматов и винтовок.
Второй мужчина, скинув верхнюю одежду и обувь, пустился бежать примерно в том же направлении, но он не успел проскочить второго кольца оцепления и также был убит.
Во время массового расстрела в Каменец-Подольском в ноябре месяце 1942 года я наблюдал такой же случай, бежавший тоже был убит.
Среди женщин попыток бежать не было. Во время раздевания обреченными на смерть евреями разрезалась на куски хорошая обувь и одежда, в землю прятались ценности, но зорко следившие за этим опытные работники СД пресекали попытки уничтожить ценности. Прикрытые землей или травой ценности передавались специальному ”сборщику” — одному из работников СД.
Семьи, родственники, даже знакомые, прощаясь, жали друг другу руки, целовались. Иногда люди, слившись в прощальном поцелуе, простаивали под градом ударов несколько секунд и, тесно прижавшись друг к другу, вся семья, неся детей на руках, шла в яму.
К концу расстрела, когда дно ямы было уже заполнено, палач, став в проходе, приказывал жертве бежать по трупам и расстреливал ее на ходу. Если выстрел был неудачный и человек был еще жив, то сверху выстрелами из винтовок и из пистолетов жертву добивали.
Были случаи, когда по истечении 10-15 минут расстрелянный еще шевелился под трупами своих собратьев.
Под руководством работника СД шуцманы начинали перетряхивать и просматривать одежду и обувь расстрелянных. Одежда просматривалась особенно тщательно. Это делалось потому, что в складках одежды, под подкладкой, в поясах брюк могли быть ценности.
Все ценности укладывались в мешок, который находился у работника СД. Туда же укладывались зажигалки, перочинные ножи, кожаные портфели, портсигары, бумажники.
Новые вещи: платья, платки, сапоги, ботинки, пальто и еще недошитый материал разбирали участники экзекуции, иногда вырывая друг у друга из рук и бранясь.
Таким образом в этот день было расстреляно около 400 граждан Советского Союза — мужчин и женщин всех возрастов, а также и детей. Это продолжалось примерно около четырех часов (от 7-8 до 11-12 часов дня).
Второй массовый расстрел еврейского населения в г. Каменец-Подольском, о котором я также знаю, так как участвовал и в этом расстреле со своими подчиненными во втором кольце оцепления, был примерно в конце ноября или в декабре 1942 года.
В это время в гетто, в районе улиц Свято-Юрской и Зеленой, находилось около 4800 чел. евреев, в подавляющем большинстве специалисты разных профессий, в том числе и медработники.
Об этом расстреле мне было известно от начальника жандармерии лейтенанта Райха накануне утром. Через командира первой шуцманской роты вахтмайстера Крубазика, Райх приказал мне вызвать к вечеру из участков состав второй шуцманской роты, которой я командовал. Процесс этого массового убийства был такими же, как и в Старой Ушице, и разнился только в некоторых деталях, о которых я расскажу ниже.
Как только было расставлено оцепление (через 5-10 минут после приезда Райха), подъехали три грузовые машины с евреями из гетто. Машины были сверху закрыты брезентом и из них в сопровождении жандармов, работников СД, вышли около 50-60 человек и были направлены к месту казни, где они и раздевались. Так продолжалось все время расстрела, примерно до 17.00-18.00, т.е. около 12 часов. Евреев привозили группами в 40-60 человек.
Как я впоследствии увидел и узнал, по всему городу: в парках, скверах, на стадионе, на базарной площади, в селах, близлежащих к месту расстрела, небольшими группами до взвода проводили занятия солдаты из состава гарнизона Каменец-Подольского.
В этот период состав немецкого гарнизона в Каменец-Подольском был около 2000—3000 солдат молодого возраста. Они проходили подготовку и впоследствии уехали на фронт.
Люди, рывшие ямы, были отведены за казармы.
Здесь ”работали” два палача от СД попеременно: когда один из них уставал, он шел отдыхать, залезал в машину, где были уже заранее приготовлены закуска и водка. Его место занимал другой. Так они менялись на всем протяжении расстрела. Водкой подкрепляли свои силы не только палачи. Время от времени к машине, если это жандарм — к жандармской, работник СД — к гестаповской, подходил тот или иной участник казни, влезал в кузов, съедал бутерброд, пил водку, закуривал сигарету и возвращался снова ”работать”.
Случаев побега, как я говорил выше, был только один. Мужчина средних лет, пробежав за второе кольцо оцепления метров 70-100, был на ходу расстрелян.
Из разговоров я узнал, что ночью накануне дня расстрела убежало из гетто около 500 человек. О готовящемся расстреле евреи знали по-видимому накануне. Впоследствии было выявлено ן постройках свыше 200 человек. Эта часть евреев также через некоторый отрезок времени была расстреляна. Когда, где — мне не известно.
Сколько человек из числа убежавших было поймано вновь, я также не знаю. На протяжении 1943 года в жандармерию было приведено примерно около 6-8 человек евреев. Одного из них — агронома Гартмана я видел. Его привели летом 1943 года из с. Лянцкорунь, Чемеровецкого района, где его прятала на чердаке местная крестьянка. Фамилии не помню. По распоряжению капитана Отто он был передан в СД.
Вещи и ценности, как и в первом случае, были забраны: ценности — в СД, а новые вещи — участникам экзекуции.
В этот раз было уничтожено около 4 тысяч граждан Советского Союза — стариков и старух, больных и инвалидов, мужчин и женщин, специалистов, малолетних детей, даже грудных.
В этом же числе были расстреляны, не ручаюсь за точность, так как я четыре раза выезжал за город, около 20-30 человек русских из тюрьмы; их привозили на грузовой машине и вместе с евреями, партиями в 6-8 человек, расстреляли.
г. Каменец-Подольский, 25.5.44 г.
4. Выдержки из дневника захваченного в плен обер-ефрейтора 513-го резервного батальона полка ”Люблин” дивизии ”ГГ” Карла Иоганнеса Дрекселя
1.4.1942 года — Произведен в старшие ефрейторы.
25.9.1942 года — Направлен во вторую роту 513-го резервного батальона в Холме, и помещен в казармы для военной подготовки
С 15.10 по 30.10.1942 года — Отпуск.
1.11.1942 года. Кампания против евреев. Расстреляно десять тысяч евреев — от глубокого старика до крохотного ребенка. Все свалены на повозки и доставлены к массовым могилам. Вид жуткий.
3.11.1942 года. Облавы на евреев. Ежедневно уничтожают от трех до четырех тысяч евреев. Колоннами их гонят в последний путь. С заплаканными глазами они уходят в тот мир. Отставать — значит укоротить жизнь. Умерщвляют их газом и током высокого напряжения. От сыпного тифа и от кровавого поноса погибли девяносто тысяч русских. Обхватив колючей проволокой, их таскали через болото.
Утро 6.11.1942 года. Три с половиной тысячи евреев. В жилые кварталы бросали связки гранат. Днем и ночью. Пять евреев. Душераздирающее и расслабляющее переживание. Холодная ночь.
8.11.1942 года — Поставлены вне закона мать с ребенком на руках, убиты ударом приклада.
12.11.1942 года. Был в гетто, а потом на массовых могилах. Ограбление живых и мертвых. Четыре дня подряд нечеловеческое обращение с евреями. Давали нюхать уксус.
Женщин, которые только что разрешились от бремени, детей и стариков принуждали становиться на колени, еле живых, похожих на скелеты, вытаскивали и стреляли в них без разбора. В самых жестоких страданиях, каких еще не знало человечество, погибали люди. Дома опустошены. Трупы в течение шести дней лежали в домах. Раздеты как мужчины, так и женщины. Они производят жуткое впечатление. Несмотря на все это, я проникаю, крадучись, в дома. Я ищу тех, которых я бы хотел выстрелом избавить от мучений. Ни один солдат сам не заходит в это гетто. Двери и окна трещат.
20.11.1942 года. Сорок евреев вытащили из укрытий. Девушек не нашли.
4.12.1942 года. Кругом лежат мертвые. Старые дома сносятся. Вспыхнула эпидемия кровавого поноса и сыпного тифа.
10.12.1942 года — Партизан стрелял в нашего командира роты.
12.5.1943 года — Отправляемся на борьбу с партизанами.
4.6.1943 года — Борьба с бандитами в Замошье. Троицу провели в походе.
12.3.1943 года — Направлен в качестве охраны в Люблин.
11.12.1943 года — В опорном пункте Уланов.
16.1.44 года — В опорном пункте Краснихин.
5. Из показаний ефрейтора Христиана Фарбера
В прошлом году, перед тем как я попал в плен (3 ноября 1942 года), я был свидетелем страшного зверства, совершенного в одной большой деревне около Холма.
Одним эсэсовским подразделением жестоко было убито около трехсот человек — мужчин, женщин и детей, в большинстве евреев. Маленькими группками мужчины становились в один ряд перед ямой, которую они сами для себя рыли. Они уничтожались пулеметным огнем. Та же участь постигла и других. Кругом стоял страшный стон и крик, так как не каждый был смертельно задет пулеметной очередью. Эти тяжело раненые также были засыпаны землей, причем из эсэсовцев особенно отличился как убийца фельдфебель Иозеф Шмидт из Фрайбурга. Если кто-нибудь из мужчин или женщин пытался бежать, то за ними гнались и подстреливали их, как зайцев. Маленьких детей хватали за ножки и ударяли головой о стену.
Одна молодая девушка спряталась в сарае за балкой. Когда эсэсовцы ее там нашли, один из них влез туда, а остальные встали в кружок внизу с поднятыми штыками. Девушку кололи штыком наверху до тех пор, пока она не вынуждена была спрыгнуть вниз. Ее буквально пронзили штыками. Когда я спросил ответственного эсэсовского лейтенанта Карла Дер (из Людвигсгафена около Мангейма), почему делаются такие жуткие вещи, он ответил: ”Мы выбросили евреев из Германии, а теперь мы должны уничтожить их и здесь”. Под конец согнали весь скот из деревни и угнали его, а деревню сожгли до единого дома.
Христиан Фарбер, ефрейтор, сапожник, 3-я рота 347-й пех. полк (Швицинген около Мангейма)
Дело № 43, л. 231.
6. Выписка из протокола опроса военнопленного обер-ефрейтора Эриха Гойбаума из 1-й роты 173-го пехотного полка 87-й пехотой дивизии
Зверства над мирным населением
”В апреле 1942 года я прибыл в город Львов и работал там шофером. Моя машина обслуживала железнодорожное управление города Львова.
В мае-июне 1942 года во всех фашистских газетах Львова появились статьи, призывающие истребить оставшихся во Львове шестьдесят тысяч евреев. К тому времени девяносто тысяч евреев уже были увезены и расстреляны.
В июне был получен приказ истребить остатки еврейского населения. Сначала часть города выделили для гетто. Его огородили колючей проволокой и туда согнали всех евреев. Затем в лесочке возле железнодорожной станции был построен лагерь, куда водили из гетто большими партиями по тысяче человек на расстрел. Вначале из гетто в этот лагерь обреченных водили днем. Но так как это вызывало возмущение со стороны остального населения, а также со стороны некоторых солдат и офицеров армии, на расстрел начали водить по ночам. Тех, кто не мог ходить, больных, стариков, детей, сваливали на железнодорожные платформы и отвозили в лагерь. Ночью всех их расстреливали из пулеметов.
Многие из обреченных прятались в расположении гетто и не хотели выходить. Тогда эсэсовцы оцепили гетто и подожгли его. Я видел это. Видел, как люди, выбегали из горящих домов, бросались в окна. Все они расстреливались эсэсовцами из автоматов. Вся улица в триста метров длиной была завалена трупами. Мертвые лежали штабелями, один на другом.
Когда я увидел, как из окна горящего дома выпрыгнула молодая мать с маленьким ребенком на руках и как в нее начали стрелять, я отвернулся: мне стало жутко и я решил уйти домой...
После этого в городе несколько дней чувствовался запах сожженных трупов.
Кроме того, я видел, как истребляли мирных жителей с помощью газов. Я возил телефонистов к одному маленькому полустанку, расположенному в двадцати километрах от города Рава Русская. На этой станции в лесочке был выстроен подземный барак. Однажды, когда я был на полустанке, привезли партию евреев. Вагоны были закрыты и люди, простирая руки в окна, умоляли подать им воды, но к ним никого не допускали. Вечером этих людей погнали в лесок. Всех посторонних загнали в помещение станции. Лес был окружен отрядами СД.
Там этих людей, без различия пола и возраста, мужчин, женщин, стариков и детей, раздевали догола и загоняли в подземный барак. Через три четверти часа туда гнали мужчин другой партии, чтобы они вынесли трупы. Затем загоняли в барак следующую партию... Каждый вечер таким образом истребляли по триста человек.
Эту картину я наблюдал в течение восьми дней. О том, что там душили газами, мне рассказал эсэсовец Карл Горст из Саксонии. Он участвовал в этом. Руководил экзекуциями штурмбанфюрер Гербст из города Бреслау”.
Фонд №1, Д. 37, л. 7.
7. Из письменного показания военнопленного роттенфюрера 54-го саперного батальона танковой гренадерской дивизии СС ”Нидерланд” Михаэля Веннриха о зверствах немецко-фашистских захватчиков на Украине (с 6 декабря 1941 года по 18 марта 1942 года)
”В то время я служил в румынской армии, в жандармерии. Мы были приданы группе, состоявшей из роты полевой полиции и отряда по наведению порядка.
Нас направили в оккупированный район от Рыбницы на Днестре до Голты на Буге. Там до нас находились части, которые отправлялись на отдых, и мы должны были их сменить. Взвод под командованием лейтенанта был размещен в местечке Круты. Район действий взвода распространялся на населенные пункты Семеновка, Мойна, Лабушна, Францюшка, Кодыма, Александровка и другие.
Во всех этих местах еврейское население, включая женщин и детей, было выселено из своих квартир и помещено в бараки без окон и дверей. Все имущество у евреев было отобрано. Их не снабжали продовольствием, они голодали и многие умирали от голода.
От военных властей прибыл приказ отправить евреев пешком в другой район под строжайшей охраной. Стояли сильные морозы, а все теплые вещи и даже обувь у них отняли — большинство шло босиком.
Всего их было триста пятьдесят человек. Командовал конвоем румынский капрал Гаврила. Он хвастался тем, что замучит триста человек, после чего он сможет перейти на другую работу.
Матери шли по дороге, неся на руках детей. Когда они совсем выбивались из сил и не могли идти дальше, Гаврила их расстреливал. То же он делал со стариками и слабыми. На ночь евреев запирали в сараи. Как правило, наутро мы находили тридцать-сорок обмороженных людей. Они тут же расстреливались. Когда эшелон прибыл в Бирзули, в нем находилась едва ли не половина первоначального состава.
Так как на улицах деревень валялось много трупов, начался сыпной тиф. Был получен приказ не оставлять трупы на улицах, а зарывать их. Согнали русское население, которому было приказано рыть ямы, каждую на сто человек. В эти ямы сваливали расстрелянных евреев, причем часто вместе с мертвыми закапывались и живые люди. Одна из таких могил находится на дороге из деревни Круты в Будаи. Другая из известных мне могил находится у Кодыма...
Лично я расстрелял по приказу командира взвода одну женщину пятидесяти-шестидесяти лет. Причины расстрела мне были неизвестны.
Как мне известно, в районе действий нашего отряда из евреев не уцелел никто. Одни были расстреляны по месту жительства, другие в лагерях.
Роттенфюрер СС Михаэль Веннрих”
30 июля 1944 года.
8. Из показаний Вольфганга Янико 1/3-й роты 368-го пехотного полка 122-й пехотной дивизии (графический чертежник, город Лейпциг)
”Кобургерштрассе, 91.
Когда я стоял вместе со штабом 281-й охранной дивизии в июле месяце 1941 года в городе Речекус (Латвия), я был свидетелем расстрела евреев. В городе было приблизительно семь тысяч евреев, их всех арестовали и систематически ”ликвидировали” (ежедневно приблизительно триста человек).
Однажды я был свидетелем такой экзекуции. И то, что я там увидел, было ужасно. Место, где совершали это зверство, было недалеко за городом. Там выкопали большую, очень длинную и глубокую канаву. Латвийские вспомогательные войска под немецкой командой приказали тридцати-тридцати пяти бедным жертвам стать на край канавы (там были все возрасты, от детей и до стариков). Слышен был приказ: ”Огонь!” И первые жертвы упали в канаву (выстрел в затылок).
Следующие укладывали слоями и посыпали хлорной известью трупы несчастных, а потом они сами подходили к краю канавы для расстрела. Один из наших товарищей даже сделал фотоснимок, но это видели другие, и с тех пор войскам было запрещено наблюдать экзекуции.
Это переживание оставило у нас несказанное впечатление, которое до сих пор не изглаживается никакими другими картинами войны. В то время командиром дивизии был генерал-лейтенант Байер. Надо еще напомнить, что у жертв отбирали все ценные вещи и конфисковали их прежде, чем их выводили из тюрьмы к месту казни. Этот расстрел евреев был в Речекус (теперь Рзиттен). Фамилия коменданта экзекуции мне неизвестна.
В. Янико”.
Вольфганг Янико написал и подписал в моем присутствии это сообщение после разговора с ним.
Фабри Э. С.
Инструктор политотделения №27
Перевод Штерн.
14.4.43 года.
9. Выписка из протокола политического опроса военнопленного ефрейтора Альберта Эндерша из 14-й роты 195-го штурмового полка 78-й штурмовой дивизии
”Я знаю, что немецкая армия совершила на русской земле ряд преступлений.
В Кировограде осенью 1941 года все евреи получили приказ взять с собой однодневный паек и явиться к областному комиссару. Когда они собрались, их отвели к противотанковым рвам и расстреляли. Тут были, впрочем, не только евреи, но и русские. Говорят, что число убитых около тридцати пяти тысяч человек. Многих вешали с надписью ”вор”. Таких я видел сам. Иногда вешали шесть, восемь, десять человек сразу, и это было очень часто. Все это делалось руками СС.
Такая же картина наблюдалась нами и в Днепропетровске.
В Умани я жил у одной еврейки. Утром в 4 часа пришли эсэсовцы, забрали ее и сказали мне, что ее ликвидируют. Больше она не вернулась.
В Краснодаре и Тихорецке летом 1942 года я видел плакаты, в которых объявлялось о том, что евреи, не явившиеся к областному комиссару, будут немедленно расстреляны. Гражданское население иногда спрашивало у нас, за что уничтожают евреев. Рядовые солдаты могли только в ответ разводить руками.
2637”.
24 сентября 1944 года
10. Протокол допроса Вильгельма Зудбрака
Показал:
С начала германо-советской войны до мая 1943 года я служил в управлении лагеря для русских военнопленных (Штарлах), находившемся на территории Украины. Через этот лагерь пропускалось от тысячи до пяти тысяч пленных.
Из нашего лагеря, так же как и из других лагерей, например, из Славутского лагеря, пленные политработники и евреи передавались частям ”Полицай СС”. Формально ”Полицай СС” брала комиссаров и евреев под свою охрану, а на самом деле этих людей уничтожали. Об этом знали все наши люди, хотя это делалось под большим секретом и никто не имел права разглашать факты уничтожения пленных. Переводчика нашего лагеря зондерфюрера Фастль, сообщившего мне по телефону об убийстве эсэсовцами семнадцати евреев, немедленно куда-то убрали. Ходил слух о том, что он арестован.
В Ковельском лагере для русских военнопленных зимой 1941-1942 года помещалось двенадцать-тринадцать тысяч русских военнопленных. В результате того, что пленных гнали в лагерь пешком по несколько сот километров, в результате того, что их очень плохо кормили, в результате антисанитарии, пленные, поступавшие в лагерь, массами умирали от истощения и тифа. Начальником лагеря бы тогда майор Отто. Такое же положение было во Владимиро-Волынском (офицерском) и других лагерях. Об этих фактах я узнал, так как сталкивался с продовольственными документами лагерей. Я не знаю ни одного случая, когда бы хоть один виновник массовой гибели военнопленных был привлечен гитлеровским правительством к ответственности.
В сентябре 1941 года в городе Ровно в течение одного дня было уничтожено до восемнадцати тысяч евреев. Об этом я слышал от многих наших офицеров.
1. Фамилия, имя — Вильгельм Зудбрак
2. Год рождения — 1905
3. Место рождения — г. Айкель, округ Ванне-Айкель (Вестфалия)
4. Национальность — немец
5. Образование — высшее
6. Партийность — беспартийный
7. Принадлежность — солдат 15-й роты 195-го штурмового полка 78-й штурмовой дивизии
8. Время и место пленения — добровольно сдался в плен 24.6.44 года в районе Брюховцы
9. Семейное положение — женат
Предупрежден об ответственности за дачу ложных показаний и за отказ от дачи показаний по ст. ст. 92 и 95 УК РСФСР.
(подпись)
В Ковеле с евреями было сделано летом 1942 года то же самое.
Об этом также знали очень многие.
Все эти дела не являются результатом злой воли отдельных лиц — начальников лагерей и так далее. Это планомерное истребление людей проводилось гитлеровским правительством. Вот один факт, подтверждающий это: когда ковельский областной комиссар затянул в 1942 году выполнение приказа об уничтожении евреев, его отозвали в Берлин, судили, и, как нам сказали, казнили.
Фонд №1, Д. 35, л. 38
ФОТОДОКУМЕНТЫ
Факсимиле первой страницы описи фотографий к ”Черной Книге”.
В ГЕТТО
Знаки, пришивавшиеся к одежде евреев.
Запретительные надписи.
В больнице гетто.
Эсэсовец ножом срезает бороду еврею.
Объявление немецко-фашистского командования.
У доски объявлений.
ТРЕБЛИНСКИЙ ЛАГЕРЬ УНИЧТОЖЕНИЯ (ПОЛЬША)
Общий вид лагеря.
Шлак, образовавшийся при сожжении трупов.
Детский ботиночек и соска, обнаруженные среди вещей убитых.
ОСВЕНЦИМ (ПОЛЬША)
Замученные немцами пленники Освенцима.
КАУНАС
Форт смерти.
Стена, у которой производились массовые расстрелы. Расстрелянные.
Подготовка к казни и казнь, заснятые эсэсовскими офицерами.
Обреченные копают могилу.
Тела убитых детей.
Доктор Почтер с женой и дочерью. Их тела найдены в братской могиле.
Братская могила (снимок сделан эсэсовским офицером).
Убитый старик-еврей.
ПИСЬМА
Предсмертные письма 3. Вишнятской и ее дочери.
Записки виленских евреев.
Ужас... месть... Целую вас крепко-крепко... Прощаюсь со всеми перед нашей смертью...3.
Дорогой отец, прощаюсь перед смертью, очень хочется нам жить, но тяжко нам... Не дают. Я так боюсь этой смерти, потому что малых детей бросают живыми в могилу. Прощаюсь навсегда и целую тебя крепко-крепко.
Твоя И. Поцелуй от Г.
”Со всего Виленского гетто, которое вчера ликвидировано, 24/9 едут все мужья без жен и детей в Эстонию”.
”Вслед за нашим поездом должен быть еще один с нашими женами и детьми... На днях...”
”Виленское гетто ликвидировано. Едем в Эстонию, отдельно от жен...”
”25/9 Шавли. Едем из Вильно... отдельно от жен... Едем дальше... в Эстонию...”
29/IX — Шавельские евреи! Виленского гетто больше не существует с 23 сентября. Остатки евреев из Виленского гетто в большей части едут через Шавли в Эстонию на принудительные работы... Сегодня проехали мужчины — приблизительно 1600 человек. Женщины — около 6000 проедут завтра, или послезавтра.
ЗАПИСНАЯ КНИЖКА ИСААКА ДОГИМА
Исаак Догим был пригнан немцами на Понары, где в числе других, закованных в кандалы заключенных должен был сжигать трупы убитых евреев. В одной из могил он нашел тела своих близких и родных. Догим сделал об этом запись в записную книжку, найденную им в братской могиле.
Записная книжка Исаака Догима.
20.XI.1943
Мать
Любка
Рейзе-Шейнеле
Хая-Двейреле
Нехамка
Догим
Положены на костер для сожжения 8.IV.1944.
Сожжены вместе с тысячами евреев 12.IV.1944.
Поля Медвецкая и спасенный ею Шурик Мильнер.
ПАРТИЗАНЫ
Руководитель объединенной партизанской организации Виленского гетто Ицик Витенберг. Замучен в застенках гестапо.
Руководитель организации сопротивления Каунасского гетто Хаим Елин. Пал смертью храбрых.
Руководитель подпольной организации большевиков в Минском гетто Михл Гебелев. Пал смертью храбрых.
Руководитель восстания в Собиборском лагере смерти Александр Печерский.
Борис Шерешиевский секретарь подпольного комитета большевиков в Виленском гетто, позднее политкомиссар партизанского отряда ”Смерть фашизму”.
КЛЯТВА КОВЕНСКИХ ПАРТИЗАН
Я вступаю в борьбу против фашизма, я становлюсь в ряды красных партизан.
Я обещаю неустанно бороться против фашистских оккупантов, угрожать местам их поселения, мешать транспорту, поджигать, взрывать мосты, разрушать железнодорожные пути, организовывать акты саботажа в любых условиях.
Не щадя здоровья, а если потребуется, то жертвуя своей жизнью, я обещаю бороться до решительной победы Красной Армии.
Одновременно обещаю быть добросовестным, дисциплинированным бойцом, точно, храбро и безоговорочно выполнять приказы своих старших товарищей[74], строго хранить доверенные мне тайны и все, что мне передано по работе, заботиться о ненарушении конспирации.
Мне известно, что нарушившие дисциплину и конспирацию объявляются провокаторами и присуждаются к смертной казни.
(подпись)
Клятва евреев-партизан.
Илья Эренбург среди партизан-евреев, которым удалось вырваться из Виленского гетто.[75]
ДОПОЛНЕНИЯ
В книге воспоминаний ”Люди, годы, жизнь” И. Эренбург пишет: ”Черная Книга” была закончена в начале 1944 г. Я поместил в ”Знамени” несколько отрывков” (И. Эренбург. Собрание сочинений в 9 томах, т. 9, Москва, 1967, стр. 418). Под названием ”Народоубийцы” эти материалы появились в №№ 1-2 журнала ”Знамя” за 1944 г. Позже они вошли в ”Черную Книгу”, за исключением вступления И. Эренбурга и письма девушки из Краматорска, которые приводятся ниже.
НАРОДОУБИЙЦЫ. Илья Эренбург.
Вся ”философия” немецкого фашизма основана на слепой, утробной ненависти к другим народам. Гитлеровцы считают славян ”удобрением для германской расы”, французов ”одряхлевшими негроидами”, англичан ”ублюдками”.
Перед тем, как напасть на соседние страны, гитлеровцы начали истреблять евреев, проживавших в Германии; это были учебные занятия народоубийц. Захватив ряд европейских государств и вторгшись в Советский Союз, гитлеровцы уничтожили около четырех миллионов евреев. В местечке Ушачье, Витебской области, немцы зимой гнали евреев — стариков, женщин, детей — к речке и заставляли их купаться в проруби. Через три недели в Ушачьем не осталось ни одного еврея. Тогда немцы начали тем же способом убивать белорусов. Так было и в других городах. Так было во всех странах, захваченных фашистами. Расправившись с евреями, гитлеровцы приступали к истреблению других народов: польского, сербского, греческого, французского. Трагедия чешского поселка Лидице известна всему миру. В греческом городе Калаврита немцы зверски убили всех жителей, включая грудных детей. В захваченных областях Советского Союза гитлеровцы осуществляли преступный план, который был откровенно раскрыт газетой ”Ост-фронт”: ”Необходимо уменьшить народонаселение России на 30-40%”.
Мы знаем десятки русских, белорусских и украинских сел, население которых поголовно истреблено фашистскими карателями: в списках казненных я видел имена Николая Давыдова — одного года и Марии Хроменковой — шести месяцев. Вряд ли даже фашистские изуверы обвинили шестимесячного ребенка в преступлении против Германии, но казни грудных детей входят в программу народоубийства.
Уничтожение евреев представлялось гитлеровцам наиболее осуществимым, так как евреи были распылены среди другого населения. На Украине и в Белоруссии молодые мужчины находились в рядах Красной Армии. Все, кто мог, эвакуировался.
Гитлеровцы расправлялись со стариками, больными и женщинами, обремененными детьми.
Напрасно фашисты пытались посеять рознь между народами Советского Союза. За исключением кучки предателей, советские граждане, попавшие в лапы захватчиков, оставались верны высоким идеалам Сталинской конституции. Рискуя своей жизнью, русские, белорусы, украинцы прятали у себя евреев. Я не могу не упомянуть о героизме Павла Сергеевича Зинченко, бухгалтера колхоза в селе Благодатное, Гуляйпольского сельсовета, Днепропетровской области, который, несмотря на угрозу расстрела, спас от смерти тридцать советских граждан еврейской национальности — стариков и женщин с детьми.
Я предлагаю вниманию читателей два письма, рассказ девушки и собранные мною показания о зверствах гитлеровцев в Ростове и Морозовске. Это не литература, это сухой отчет.
Я слышал много рассказов о массовых казнях. Я прочитал сотни писем, писаных кровью, я могу сказать, как девушка из Мозыря: стон земли, под которой погребли живых стариков, не дает мне спать. В Киеве маленькая девочка, которую немцы бросили в могилу, закричала: ”Зачем вы мне сыплете песок в глаза?” Я слышу по ночам этот крик ребенка. Его слышит весь наш народ. Наша совесть возмущена, и наша совесть не дает нам передышки. Она требует: смерть народоубийцам!
Настали дни, которых давно ждали и Россия и все человечество: дни суда. На Украине, в Белоруссии, у Ленинграда сотни тысяч палачей нашли смерть. Они погибли от руки судей, народа, Красной Армии. Наш народ, оскорбленный в своих самых высоких чувствах — человеколюбия и справедливости, — дал клятву уничтожить фашизм, и эту клятву он сдержит. Тому порукой беспримерное наступление Красной Армии.
Все дети нашей советской Родины — русские и украинцы, белорусы и казахи, грузины и армяне, узбеки и евреи воодушевлены общими идеалами. Немцы отважно убивали старух и детей. Немцы теперь отступают под ударами Красной Армии. Перед нами не солдаты, а палачи, убийцы беззащитных. И кто, дочитав рассказ о тракторном заводе или о Змиевской балке, не воскликнет: ”Народоубийцам — смерть!..”
Илья Эренбург
[ПИСЬМО ИЗ КРАМАТОРСКА]
Милые мои, дорогие тетушки!
Вчера мы получили ваше письмо с фотографиями и были так рады, что не скажешь словами. Ваши фотографии остались дома — они закопаны во дворе вместе с моим аттестатом и с дипломом мамы. Может быть, мы найдем их, когда вернемся в Краматорск.
Мне кажется, что я стала очень злой. Многое пришлось пережить за шестнадцать месяцев, а сердце — молчит. Неужели оно до такой степени огрубело? Только когда я впервые увидела немцев, оно забилось сильно-сильно и еще когда сказали: ”Собирайтесь на высылку в Палестину”. А после этого ничего уже не могло на меня подействовать, ни винтовка румына, который в меня целился, ни допросы полиции, ни внезапные визиты солдат из дивизии ”Мертвая голова”. Может быть, сердце решило, что все это пустяки? Впрочем, хватит философствовать. Я лучше расскажу о том, что мы пережили, начиная с сентября 1941 года.
Дожди, грязь, ужасное настроение. Шапиро уезжает с госпиталем, мама остается как заведующая диспансером. Начинается эвакуация города. Мину укусила собака, оторвала палец. Одна она не могла уехать, а маму не отпускали. Ушел последний эшелон, пути взорваны, из евреев остались мы, Гриша с семьей, Лазарь с семьей и еще 69 семейств — старики, больные, дети.
20 октября появляется немецкая разведка. 21-го входят в город первые итальянские части. Комендант назначает ”бургомистра”, объявляется о регистрации лошадей и евреев. Желтые повязки с ”звездой Давида”.
В первых числах ноября я стояла у окна, и вдруг вижу — Буся. Я выбежала. Он был с товарищем из той же части. Они попали в плен в Поповке, возле Мариуполя. Ночью, когда их гнали в лагерь, они убежали. Им удалось переодеться. Мы им дали помыться, постирали белье. Как раз в эту ночь пришли к нам немцы и ”купили” за 10 рублей три теплых одеяла и патефон. Мы упрашивали Бусю остаться еще, но он не хотел: они шли в Ворошиловград. Он был в прекрасном настроении и говорил, что дойдет до наших. Что с ним случилось потом, я не знаю.
С каждым днем становилось все хуже и хуже. Сначала немцы отнимали постели, диван, стол, потом стали приходить за мелочью — за ведром, за зубной щеткой, забрали мои платья, мамины старые чулки. Когда приходили с парадного, я убегала через черный ход, и наоборот. Считаю, что если немцы меня мало били, это заслуга зодчего, который построил наш дом.
В квартире ничего не осталось, кроме буфета и часов. На стене висел портрет бабушки, мама хотела его снять, но я не дала.
Пусть смотрит, как тащат из дому все, что она приобретала.
[Я сейчас думаю над бедным цензором, который прочитает это письмо, а пусть знает, что ”жизнь — замечательная штука”, как сказал Киров, и в то же время жизнь не стоит и копейки, совсем не страшно знать, что тебя через несколько минут не будет...][76].
И вот настало 20 января. Мороз — тридцать градусов[77]. ”Высылка в Палестину”. По чужим задворкам мы с мамой бежим на окраину. А по улице идут женщины с вещами, их подгоняют полицейские, потом сажают в машины и везут за город к противотанковому рву. Среди них были и Мина, и Гриша с семьей, и семья Шнейдера; среди них были жены братьев Браиловских с детьми, был Рейзен с Полиной [он хоть перед смертью настоял на своем — в могилу она пошла с ним, а не с Кузнецовым.][78] Хватит! Я хочу только знать, не презираете ли вы нас за то, что мы оставили Мину? Оправдываться я не буду. Я ничего не знаю и не могу понять. После того как полицейские ушли, я сказала маме: ”Ты как хочешь, а я бегу”. Я стала надевать пальто. Как я могла сказать такое маме? Ведь никому другому, а бедной старой маме? Очевидно, в такие минуты не рассуждаешь. Она пошла со мной, но потом несколько раз порывалась вернуться и пойти с другими на казнь. Она говорила о своем долге. Я, как сейчас помню, посмотрела кругом — снег, снег и снег, дома закрыты наглухо, никто не впустит обогреться. А пойти назад — смерть, обыкновенная, простая. Нет, мы пойдем вперед, пусть замерзнем или умрем с голоду, пусть поймают и повесят, только не идти самим на смерть. И мы пошли. Судите нас за все. И если вы нас признаете виновными, пусть будет по-вашему. Не считайте меня больше ”любимой племянницей”. Это будет ужасно, но я буду знать, что это правильное суждение обо мне и о моих поступках. И я это перенесу, как вынесла многое [как, наверное, вынесу еще много неожиданного и страшного][79].
Буся
26 июля 1943 г.
ОБ АВТОРАХ
Алигер Маргарита Иосифовна (1916) — поэтесса, переводчик. Получили широкую известность ее произведения: ”Памяти храбрых” (1942), ”Зоя” (1942), ”Лирика” (1943), ”Из записной книжки 1946—1956” (1957). В некоторых своих работах М. Алигер стремилась философски осмыслить еврейскую проблематику ”Твоя победа” (1945) и цикл стихов о Германии.
Антокольский Павел Григорьевич (1896—1978) — поэт и переводчик. В годы войны — военный корреспондент. Наиболее известные произведения: ”Запад” (1926), ”Робеспьер и Горгона” (1928), ”Франсуа Вийон” (1934), ”Пушкинский год” (1938), ”В переулке за Арбатом” (1954), ”Мастерская” (1958). В период Второй мировой войны Антокольским были созданы произведения, посвященные трагедии и героизму еврейского народа: ”Сын” (1943), ”Лагерь уничтожения” (1945), ”Восстание в Собиборе” (в соавторстве с В. Кавериным — 1945), ”Невечная память” (1946).
Апресян Ваграм Захарович — прозаик-очеркист, во время Второй мировой войны был военным корреспондентом.
Герасимова Валерия Анатольевна — прозаик. Во время войны работала в военной печати.
Гехтман Ефим — журналист, публицист. В годы войны — военный корреспондент газеты ”Красная звезда”.
Гольдберг Лейб (1892—1955) — прозаик, переводчик, журналист; писал на идише, переводил произведения Шолом-Алейхема на русский язык. В годы войны участвовал в работе Еврейского антифашистского комитета и печатался в ”Эйникайт” (”Единство”).
Гроссман Василий Семенович (Иосиф Соломонович, 1905 — 1964) — прозаик. В годы войны — военный корреспондент ”Красной звезды”. Основные произведения: ”Глюкауф” (1934), ”Степан Кольчугин” (1937—1940), ”Народ бессмертен” (1942), ”Направление главного удара” (1943), ”Годы войны” (1945), ”За правое дело” (1952), ”Все течет” (1970). Еврейской катастрофе посвящен ряд очерков и рассказов Гроссмана: ”Старый учитель” (1942), ”Украина без евреев” (”Эйникайт”, 25.11; 2.12— 1943), ”Треблинский ад” (1945).
Дерман Абрам Борисович (1880—1952) — литературовед, прозаик. Основные произведения: ”Михаил Семенович Щепкин” (1937), ”Антон Павлович Чехов” (1939), ”Дело об игумене Парфении” (1941), ”Жизнь В. Г. Короленко” (1946), ”О мастерстве Чехова” (1953).
Иванов Всеволод Вячеславович (1895—1963) — прозаик, драматург. Во время войны выступал с публицистическими статьями и рассказами на военные темы. Основные произведения: ”Бронепоезд 14—69” (1922), ”Сопки. Партизанские повести” (1923), ”Хабу” (1925), ”Особняк” (1928), ”Похождения факира” (1935), ”Мы идем в Индию”.
Ильенков Василий Павлович (1897) — прозаик. В годы войны получил известность как очеркист, публицист и журналист. Основные произведения: ”Ведущая ось” (1931), ”Солнечный город” (1935), ”Родной дом” (1942), ”На тот берег” (1945), ”Большая дорога” (1949).
Инбер Вера Михайловна (1890—1972) — поэтесса, прозаик. Все время блокады находилась в осажденном Ленинграде. Основные произведения: ”Печальное вино” (1914), ”Сыну, которого нет” (1927), ”Место под солнцем” (1928), ”Вполголоса” (1932), ”Овидий” (1939), ”Душа Ленинграда” (1942), ”Пулковский меридиан” (1943), ”Почти три года” (1946).
Каверин (Зильбер) Вениамин Александрович (1902) — прозаик, в годы войны — военный корреспондент ТАСС и ”Известий”. Был членом Еврейского антифашистского комитета. Основные произведения: ”Конец хазы” (1926), ”Барон Брамбеус” (1929), ”Два капитана” (1944), ”Открытая книга” (1956), ”Семь пар нечистых” (1962), ”Косой дождь” (1962). Ряд работ писателя посвящен героизму евреев в годы Второй мировой войны — очерк о капитане подводной лодки, Герое Советского Союза Израиле Фисановиче, ”Восстание в Собиборе” (в соавторстве с П.Антокольским).
Квитко Лейб (Лев Моисеевич 1890—1952) — поэт, основоположник детской поэзии на идише в СССР. Во время войны был членом Еврейского антифашистского комитета. Выступал с публицистическими статьями в газете ”Эйникайт”. В начале 1949 г. после ликвидации Еврейского антифашистского комитета был арестован и 12 августа 1952 г. расстрелян вместе с большой группой еврейских писателей и деятелей культуры.
Основные произведения: 1919 ,”טריט”
1922 ״גרין גראז״
1923 ״1919״
1929 ,געראנגל״”
1933 ,”״לידער און פאעמעס 1939 ״נײע לידער״
1947 ,”געזאנג פון מיין געמיט”
1948 ,”״געקליבענע ווערק
Ковнатор Рахиль — журналистка. В годы войны работала в Еврейском антифашистском комитете. Печаталась в газете ”Эйникайт”.
Лидин (Гомберг) Владимир Германович (1894—1979) — прозаик. В годы войны — военный корреспондент ”Известий” и армейских газет. Основные произведения: ”Мышиные будни” (1923), ”Норд” (1925), ”Отступник” (1927), ”Могила неизвестного солдата” (1932), ”Изгнание” (1947).
Марк Бернард (Бер 1908—1966) — польско-еврейский историк, литературный критик, публицист. В годы Второй мировой войны находился в Советском Союзе. Участвовал в деятельности Еврейского антифашистского комитета и Союза польских патриотов; был директором Еврейского исторического института в Варшаве.
В СССР были изданы:
В. Mark, Powstanie w Ghetcie Warszawskiem, Moskwa, 1944.
ב. מארק, דער אויפשטאנד פון װארשעװער געטא. מאסקװע. ”דער עמעס”. 1947.
Мунблит Георгий Николаевич (1904) — прозаик, критик, сценарист. В годы войны — журналист-публицист. Основные произведения: сценарии фильмов ”Музыкальная история” (1940, в соавторстве с Е. Петровым), ”Беспокойный человек” (1940, в соавторстве с Е. Петровым), ”Антон Иванович сердится” (1941, в соавторстве с Е. Петровым), ”Положение обязывает” (в соавторстве с А. Галичем); ”Рассказы о писателях” (1962).
Озеров Лев Адольфович (Гольдберг Лев Айзикович 1914) — поэт, переводчик, критик. Во время войны — корреспондент военной газеты ”Победа за нами”. Основные произведения: ”Приднестровье” (1940), ”Ливень” (1947), ”Светотень” (1961), ”Работа поэта” (1963); ”Лирика” (1966). Катастрофе еврейского народа посвящена его поэма ”Бабий Яр” (1946).
Ошерович Гирш (1908) — поэт, пишет на идише. В годы Второй мировой войны свои произведения на антинацистские темы публиковал в изданиях Еврейского антифашистского комитета. Был корреспондентом ”Эйникайт”. В 1949 г. после ликвидации Еврейского антифашистского комитета был арестован. Освобожден в 1956 г. Репатриировался в Израиль в 1971 г. Основные произведения: 1941 ,(״באגינען״ (לידער-זאמלונג
1947 ,(פון קלעם ארויס״ (פאעמעס און באלאדעס”
1968 ,(די הייליקע טאג-טעגלעכקייט” (לידער און פאעמעס”
1969 ,(זונענגאנג״ (לידער און פאעמעס”
1973 ,צווישן בליץ און דונער״”
1974 ,”מיין פאנעוועזש” - ״פוניבז' שלי”
1975 ,אין דער וועלט פון עקדות״”
1977 ,(געזאנג אין לאבירינט” (לידער און פאעמעס”
1979 ,תנך-פאעמעס״”
1979 ,”״בלויע בומעראנגען
Савич Овадий Герцевич (1896-1967) — прозаик, поэт, публицист, журналист. В годы войны — военный корреспондент. Основные произведения: ”Воображаемый собеседник” (1928), ”Люди интернациональных бригад” (1938), ”Два года в Испании 1937-1938. Очерки и рассказы” (1961).
Сейфуллина Лидия Николаевна (1889—1954) — прозаик, драматург. В годы войны работала в газетах и на радио. Основные произведения: ”Виринея” (1924), ”Каин-кабак” (1926), ”На своей земле” (1946), ”Сын” (1959).
Трайнин Илья Павлович (1887—1949) — юрист, действительный член Академии наук СССР. Во время войны, будучи директором Института права Академии наук СССР, вел большую работу по сбору документов о преступлениях нацистов на оккупированных территориях СССР; сотрудничал с Еврейским антифашистским комитетом, являлся одним из членов Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников. Основные работы: ”СССР и национальная проблема” (1924), ”Государство и коммунизм” (1940), ”Механизм немецко-фашистской диктатуры” (1942), ”Вопросы территории в государственном праве” (1947).
Фраерман Рувим Исаевич (1891—1972) — прозаик, журналист. В 1941 г. вступил в ряды народного ополчения; работал в армейской печати. Основные произведения: ”Буран” (1926), ”Васька — гиляк” (1929), ”Шпион” (1937), ”Дикая собака Динго, или повесть о первой любви” (1938), ”Дальнее плаванье” (1946).
Черный Осип Евсеевич (1899) — писатель, искусствовед, дирижер. Основные произведения: ”Музыканты” (1940), ”Опера Снегина” (1953), ”Пути творчества” (1957), ”Франц Шуберт” (1941), ”Мусоргский” (1956), ”Римский-Корсаков” (1959).
Шкловский Виктор Борисович (1893) — прозаик, литературовед, критик, кинодраматург. Основные произведения: ”Сентиментальное путешествие” (1923), ”Zoo. Письма не о любви” (1923), ”Третья фабрика” (1926), ”Гамбургский счет” (1928), ”Марко Поло” (1936), ”Повесть о художнике Федорове” (1955), ”Жили-были” (1962), ”Лев Толстой” (1963).
Эренбург Илья Григорьевич (1891—1967) — прозаик, поэт, публицист. В годы Второй мировой войны — военный корреспондент. Часть антифашистских статей и памфлетов И. Эренбурга периода Второй мировой войны вошла в трехтомник публицистики ”Война”, Москва, 1942—1944; ”Летопись мужества”, Москва, 1974 — сборник военной публицистики, написанный для зарубежных телеграфных агентств и газет. Был членом Еврейского антифашистского комитета, печатался в ”Эйникайт”. Основные произведения: ”Лик войны” (1920), ”Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников” (1922), ”Шесть повестей о легких концах” (1922), ”Жизнь и гибель Николая Курбова” (1923), ”Трест Д.Е.” (1923), ”Тринадцать трубок” (1923), ”Любовь Жанны Ней” (1924), ”Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца” (1928), ”Виза времени” (1929), ”Испания” (1932), ”День второй” (1934), ”Книга для взрослых” (1936), ”Падение Парижа” (1941), ”Дерево” (1946), ”Буря” (1948), ”Оттепель” (1954), ”Люди, годы, жизнь”, в трех томах (1961—1966).
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
А
Абель 266
Абель Илья 267
Абесгауз Яков 270
Абрамович 42
Абрамсон 43
Адесман Израиль Борисович 81, 82, 83
Адунский 191
Айгер 452
Айзенберг Саша 244
Айзенберг 243, 244
Айзенберг 132
Аксельрод (супруги) 100
Аксельрод 101
Аксенович 203
Александров Г. XVIII
Алигер Маргарита VI, XVIII, XXIV, 190, 513
Альберт 425
Альберштат 428
Альперович 143
Альтман Тося 445, 456
Альтшулер М. 507
Амиэль Шимон XXV, 216
Амстердам 146
Амстибовский Ошер 420
Андрей 395
Анилевич Мордехай 444, 455, 456
Анна Борисовна 314, 315
Анолик 346
Анолик Беньямин 348, 510
Анравс (А.) 287
Антиколь 307
Антоколь 290
Антокольский Павел VI, XXVI, 379, 513, 514
Антонеску 509
Антоний 267
Апресян Ваграм VI, XXVI, 374, 513
Арад Ицхак XIV
Арайс 271
Арон (Арли) 375, 376, 377, 378
Артштайн Захарья 456
Аускер Полина Марковна (Лукинская Ольга Евгеньевна, Храпова Ольга Васильевна) XXVI, 316, 318, 319
Афонский 137
Б
Бабская 322
Багат Илья Львович 21
(Багат) Мальвина 21
(Багат) Полина 21
Базаров Л. XXIII, 508
Байер 480
Бакаляш Вера Самуиловна 190, 191, 192, 195, 196, 197
Балабан Мейер 446
Балабан 243
Балабан 326
Банк Семен XXIV
Барабан 30, 31, 35
Баранчук Кирилл 103, 104
Баранчук Настя 103
Баранчук Нина 103
Барац 160
Барер Яков XXIV, 123, 124, 509
Бас Моисей 51
Басихес Лия 29
Бася 400
Баумгольц 240
Бах 269
Башкатов 35
Баштина Зинаида XXVI, 313
Бебель Август 461
Безволюк Виктор 46
Бейлис 349
Бейлис М. 25, 329
Бек фон 243
Бекер 347
Беккар 173
Беккер 401
Беккер И. XXIII, 40
Беккер Сусанна 401
Беленова Елена 235
Беленький 440, 441
Белец Иосиф 403, 406, 408
Белинский В. 437
Белицкая-Бронштейн Хася 203, 510
Белов 191
Белопольский 75
Белостокский Миша 161
Белоусов Федя 76, 77
Бендер А. 43, 46
Бененсон 239, 240
Беньяш Моисей Григорьевич 21
Беня 391
Берг Эрнст 390, 391
Березлева Валентина 20
Берель Изидор 276
Берестицкий 186
Берестовицкая 204
Берестовицкий Калмен 205
Берещевский 195
Беркенвальд 204
Беркович 284
Беркон Моисей 174
Берлин Л. Б. 439
Берлинерблау 251
Берлинский Герш 444, 452
Берляна 191
Бернсдорф 269
Бернштейн 180
Бетти Марковна 287
Бехлер Бернгард XXVII, 466
Бжецкий 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392
Бик 343
Бинер 197
Биренбаум 252
Бланк 30, 31, 35
Бланк 82
Блат Исаак 174
Блау 99
Блуменау 273, 286
Блюм 284
Блюмензон 422
Блюменфельд Рудольф 273, 274, 276
Блюмин Соломон 161
Бляхер 161
Бляхер 345
Бобровская Голда 181, 182
Бок фон 466
Большова 82
(Бордо) Жоржик 297
Бордо Леля 297
Борис Львович 314
Борисов XXVI, 311, 312
Бородянская-Кныш Елена Ефимовна 23
Бору 75
Борух 126
Борух 386, 387, 388, 389, 390
Бос 197
Ботвиник М. 177
Боярский Ошер 420
Браиловские 506
Брамзон 201, 202
Бранд 447
Браслав Самуил 456
Браун 297
Браун Саля 175
Браток Сергей 46
Браш 269, 274, 276
Брегман 240
Брейтман 43
Брехман М. XXIII, 47
Бриль Лейб 424
Бродский 81
Бройер 441
Брокгауз 238
Бролюкас (см. Готаутас Бронюс)
Броня 118, 119, 121, 122
Браунвассер 101
Брунс 268
Брунс (братья) 271
Бугаевская 240
Буйвидайте-Куторгене Елена XXV
Бунге 156,158,159
Бурцева Анна XXIII, 69
Бурцева Лена 69, 70
Бурый Василий Николаевич 192
Бурык Тамара 123
Буся 505, 506
Бух Марик 204
Быстров 139
Бытенская Этл 205
Быховский 161
В
(Ваг) Моня 286
Ваг Ноэми 286
Вагнер 388
Вайнберг Зельма 379, 392
Вайнгауз 139, 143
Вайнгертнер Бенчик (Бенцион) (Николай Васильевич Клименко) 245, 247, 248
Вайнгартнер Иосиф XXV, 245, 248
Вайнгартнер Яша (Яков) 245, 247
Вайнер 77
Вайнер 100
Вайнтрауб 343
Вайнтрауб 457
Вайнштейн 344
Вайс 405
Вайсман 45
Вайспапир Аркадий 392
Вакс 383, 384
Валерик 227
Валлер Макс 123
Вальдман Илья Вениаминович 247
Вальцер Эня 128
Ванцман 198
Ван-Эйпен 352, 374, 375, 376
Варда 256
Варшавский 81
Варшавский 160
Варя 67
Василенко 409
Вахт 219
Вацник 347
Ващина 457
Велвеле 213
Венгеров С. А. 238
Вениньж Мария 284
Веннрих Михаэль XXVII, 478, 479
Венцке 153, 164
Вера Яковлевна 68
Верн Жюль 207
Вест Б. XIX
Визгардиская 334
Виктория 464
Виленский 240
”Вилли” 99, 101, 102
Вильгельм 187
Вильдт 173
Вильнер Ария 452
Вильхауз 110, 115
Винницкая-Клибански Броня 203, 204, 510
Винц Сарра Вениаминовна 320
Витенберг Ицик XVI, 497
Витлок 271
Вицерман 42, 43
Вишнет (Вишнятский) Мошкеле 220
Вишнятская Злата XXV, 220, 495
Вишнятская Юнита (Ита) 220, 495, 510
Владимир Соня 55
Владимир Яков 50, 55
Водман 345
Волков 321
Волковыский 347
Волковыский Велвл 205
Волкозуб Г. И. 323
Вольский 457
Вольф 276
Воробьева В. 215
Врубель 219
Врублевич Хинка 210, 211
Врублевичи 210
Врублевский 206
Вульф Беня 405, 408
Вурнарг 30, 31, 35
Высоцкая Лида 209
Высоцкий 210
Г
Гаврила 479
Гаген 376
Гаевский 25
Гайнлейт 170, 173
Галатеску 93, 96
Галич А. 515
Галлерман 307
Гамбург Абрам (Франц) 397, 398, 401, 402, 404, 406
Ганзенко Семен Григорьевич 149
Ганштейн 266
Гардесс 198
Гаркави 232
Гарпина 54
Гартман 475
Гаульштих Фридрих 390, 392
Гаус Лина 113, 114
Гахман 173
Гаша 181, 182
Гебауэр 109, 110
Геббель 173
Гебелев Миша (Михл) 139, 143, 146, 147, 149, 497
Геббельс 3
Геберлинг 173
Геди 287
Гейбаум-Эрих XXVII, 477
Гекке 347
Геллер Элиазар 448, 452
Гельборт Шлема 216
Гельперн Д. 507, 508
Гениг 99, 101
Генихович Бомка, 174, 175
Генц Иван Иванович 194
Генц Иван Степанович 194
Геня 401
Герасимова Валерия VI, XXIV, 210, 513
Гербет 478
Герик 198
Геринг 3, 462, 463, 464
Гермайзе Людмила Борисовна 331, 332
Гермайзе Николай Георгиевич 331
Гермайзе Юра 331
Герц И. XXIV, 105
Герц Левка 118
Герц Лиля XXIV, 116, 117
Герц-Коэн Нафтали XXII
Герцберг 243
Герцмарк 291, 296, 300, 302
Гершафт 457
Гершон 67, 68
Гершуни 219
Гесс 7, 464
Гесслер 410, 411, 427, 429
Гетерман Герш 28
Геттенбах 147, 148, 153, 155
Гетцингер 390, 392
Гехман 158, 159
Гехман Люся XXIV
Гехтман 51
Гехтман Ефим VI, XXIII, XXVI, 48, 51, 265, 513
Гехтман Роза 53, 54
Гильберт Соломон 457
Гиммлер Генрих XXVII, 3, 11, 12, 26, 109, 350, 352, 354, 366, 372, 444, 466
Гинтер 157
Гиршберг Роза 290, 522
Гиршгорн Самуил 457
Гита 126
Гительсон 169
Гительсон 304
Гитерман Юзеф 447
Гитлер Адольф XI, XXI, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 15, 36, 42, 153, 165, 186, 199, 255, 280, 410, 411, 438, 445, 448, 461, 462, 463, 464, 473
Гитлиц Гевиш 178
Гитлиц Рафаэл 173
Глаголев Александр Александрович 329
Глаголев Алексей Александрович (отец Алексей) 25, 328, 329, 330, 331, 332, 333
Глаголева Татьяна Павловна 329, 330, 331, 332, 333
Глезер Давид 175
Глейзер Лиля Самойловна XXIV, 131, 150
Глейх Бася 75,76, 77, 78
Глейх Ганя 75,76
Глейх Рая 509
Глейх Сарра 75, 78, 509
Глейх-Роянова Фаня 75, 76, 77, 78, 79, 509
Глобочник 449
Глозман Арон (Арчик) 169, 170
Глозман Зелик 169, 170
Глозманы 169, 170
Глузман 241
Глушкин Алек 229
Глушкин Борис Семенович 228
Глушкина Евгения 229
Глушкина Софья 229
Говин Иван Васильевич 194
Гойбаум Эрих XXVII, 477
Голиков 73, 74
Голодовская Софья 21
Голуб 195
Голуб Аврам 334
Голь Шлема 401, 403, 406, 408
Гольдберг Бен-Цион XV, XVIII
Гольдберг Лейб VI, XXIII, XXVI, 92, 419, 513
Гольдберг Лина 114
Гольденталь Рахиль Иосифовна 81
Гольдин 140
Гольдман 43
Гольдман 51
Гольдман (дети) 44
Гольднев 321
Гольдфайн Ольга XXIV, 181, 188
Гольдшмидт 243
Гольдштейн Натек 204
Гольтер 197
Гомерский 382
Гонтова Ф. М. XXVI, 322, 323
Гончарова 232
Гопштейн Евсей Ефимович XXVI, 324, 326, 327
Горбовский Александр Григорьевич 331, 333
Горбонос Муся 41
Гордон 139
Гордон 440, 441
Гордон 420
Гордон Гирш 175
Гордон Зельда 174
Гордон Самуил 174
Горингот Анна 312
Горингот Мария 312
Горн 185
Городецкий 138, 140
Горст Карл 478
Готаутас Бронюс (Бролюкас) 334, 510
Готбеттер 191
Готт Лейб 452
Готшалк Лина 270, 271
Гофман XXIV, 209
Гофман 197
Гофман 426
Гофман Ошер 168
Гофштейн Эли 182
Грайвер 131
Грановский Абрам XXIII, 73,74
Гржимек 112, 115
Гречаник XXIV, 131, 132, 140
Грибер 197
Грибер 198
Григорий Яковлевич 295
Гринберг 102
Гринберг 232
Гринберг 439
Гринберг Герш Абович 20
Гринберг Мария Абрамовна 232
Гринберг Теля Осиповна 21
Гринвейг Абрам Эммануилович 311, 312
Гринвейг Анна Яковлевна 312
Гринвейг Эммануил 312
Гриша 505, 506
Гришкевич 169
Гродзенский 334
Гродзинский 78, 79
Громп Генах 427, 428
Гросберг E. XXIII, 92
Гроссман Василий VI, VII, IX, XVI, XVII, XX, XXIII, XXIV, 16, 27, 131, 164, 184, 216, 314, 339, 350, 485, 509, 510, 511, 513
Гроссман Хайка XXI, 203, 510
Грунтман 284
Груцкин 51
Грушевский Михаил 206
Гудайский 218
Гудкин Юрий 404
Гурбер 75
Гурвич 150
Гуревич 303
Гуревич Мордух 175
Гуревич Ф. 77
Гури Иосиф 511
Гурин 30, 32
Гурмон 93
Гурьян Анна Семеновна 249
Гутман 428
Гутман И. 508
Гутман Таня Самуиловна 190, 191, 192, 195
Гутманы 288
Гутнер Евгений Михайлович 395
Гюго Виктор 207
Гюртнер 7
Д
Давидзон Муся 202
Давыдов Владимир 25, 26
Давыдов В. 325, 326
Давыдов Николай 503
Дамбер Эльвирс 270
Дауэрлейн 198
Дауп 344
Дворжец 150
Дектор Феликс IX
Деменев Игорь 395
Демидов Владимир 220
Дер 102
Дер Карл 477
Дереш Зяма 126
Дереш Сюня (Сюнька) XXIV, 126
Дерман Абрам VI, XVIII, XXV, 251, 258, 260, 513
Дерюгин И. К. 440
Дзюня 118, 119, 120, 121
Димант 453
Димант Соня 73
Догим Исаак 401, 403, 405, 408, 409, 496
Докторович Нюня 127
Дора 78
Дорошенко С.П. 433, 440
Доха 206
Дравэ 271
Драгалина 97
Дралле 289
Дрейзин Мовша 176
Дрексель Карл Иоганес XXVII, 475, 476
Дрекслер 271
Дрисвяцкий Лейвик 170,171
Дрисвяцкий Овсей 170
Дрисвяцкий Хлавнэ 170
Друскин Л. М. 249
Друц 168
Дубнов Семен Маркович 275, 276, 292, 510
Дубовицкая Любовь Александровна 229
Дудин 229
Дукорский Илья 160, 161
”Душитель” 123
Дыбовский 344
Е
Евгений Осипович 608
Евсеев Б.П. 442
Егорычева Ира (Ирочка) 329, 330, 332
Егорычева М.И. 330
Елин 419
Елин Меер VI, XVII, XXV, 607
Елин Хаим 497
Екельн 274
Еруталми A. XXV, 347
Ефрон 238
Ефруси 243
Ж
Жарков Костя 404
Животинская 243
Животовские 260
Животовский Наум XXV, 260, 261
Жовтая 241
Жук Валя 224
З
Заган 444
Зайдель Мотл (”Интеле”) 401, 408
Зак 275, 276
Закс Б. 290
Залога XXVII, 468
Занадский 198
Зарецкая Мера XXIV
Заур 468, 511
Зауэр 283
Заяц 175
Зегельман 75
Зейс-Инкварт 3
Зейф 173
Зеленая 195
Зеликман 307
Зиберт Йоган 275, 276
Зиверс барон 277
Зиллер 108
Зильберглейт 176
Зильберфарб 195
Зильберштейн 161
Зингер 439
Зингер Абрам 402, 403, 407
Зинин Петя 400, 402, 403, 408
Зирченко Павел Сергеевич XXVI, 322, 323, 504
Зисман Ошер Мойсеевич 190, 191, 192, 196, 197
Змерзлый Онисим 104
Зорин 160
Зоров 153 Зоя 125
Зудбрак Вильгельм XXVII, 481
Зыскина 132
И
Иванов 161
Иванов Всеволод VI, XVIII, XXV, 213, 514
Иванова 195
Ивановский 198
Иза 126
Изак 375
Измайлова Матрена 235
Израилев Гирш 175
Ильенков Василий VI, XXV, 316, 514
Ильиченко Нина Лаврентьевна 252
Ильяшев Михаил 273
Инбер Вера VI, XVIII, XXIII, 80, 514
Ингал 232
Ингер Мендель 74
Ингуарт 115
Индикт (супруги) XXIII, 65
Индикт Михаил Петрович (Индиктенко, Ступка) 65, 66
Индикт Надежда Ивановна 66, 68
Инсул 420
Иосиф 126
Иоффе 146, 147, 153
Иоффе 195
Иохельман 175
Иохельман Рувим 174, 175
Иська 118, 122
Итина Екатерина Леонтьевна 231
Йосаде Яков VI, XXV, 508
К
Кабачников 426 Кабнелло 282
Каверин Вениамин VI, XXVI, 379, 513, 514
Каган Иосиф (Блазар) 403, 406
Каган Сусанна XXV
Казис 252
Калерман 45
Калимали 386, 390, 391
Калинин М. 253
Калиновская 188
Калиновские (братья) 203
Калманович Идл 64
Кальварийский 195
Кальницкий Мирон 402, 408
Кальтенбруннер 3, 464
Каминский 195
Камионски Йоэль 424, 425
Камионский Мойше-Янкель 423
Касморюк Шлойма 64
Канал Израиль 444, 448
Канторович 150
Канторович 168
Канторович Давид 397, 398, 401, 403, 406, 408
Канторович Елена 90
Канторович Ольга 90
Канцевая 158, 159
Капилович Лиля 162
Капит 334
Капитовская Дуся 47
Каплан 138
Каплан 343
Каплан 444
Каплан Блюма 177
Карель 344
Карлис Ной 287
Карпиловская Нюся 77
Кауфер 273, 286
Кауфман Веля 203
Кауфман Клара 282
Кац Соня 86
Кац Сура 100
Кацаф Мария 190, 191, 193, 195
Кацаф Суламифь 190, 191, 193, 195
Кацман 256
Кацман Фридерик 105, 106, 115
Кацман Яков 256
Кацович Сарра 177
Кацовичи 175
Каштелян Иван Павлович 192
Квитко Лейб VI, XVII, XXV, 245, 255
Кеблицкий 195
Кевюрская Аня 188
Кениг 416
Кермиш Иосеф XXI, 508
Керн 170, 173, 175
Килов 266
Кинцингер 462
Кипнис Марк IX, XX
Киркоешто 139
Кирман Юзеф 452, 457
Кирницкая Нина 46
Киров 505
Кирполянский Павел 395
Киселев XXIV, 167
Киселев Залман Иоселевич 207
Киселева Фанюся (Фаня) Моисеевна 208
Кисенисская 334
Кисляра 195
Кит 417
Клейнер 174
Клейнер 440
Клейнман 464
Клеонские 131
Клепфиш Михаил 446, 452
Клименко Василий Карпович 245, 248, 434, 439, 440, 441
Клименко Елена Ивановна 245, 248
Клумов 137
Клячко Абрам 216
Кнелгойз Лева 45
Кобус Марьяна 358
Ковалев 161
Ковалевский 317
Ковальский (”Рышард”) 451, 457
Ковнатор Рахиль VI, XVI, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, 40, 98, 105, 117, 168, 199, 328, 394, 514
Ковнер Абе (Аба) 409, 511
Коган Борис 384
Кожец (братья) 202
Козлинер 174
Козловский 405
Козловский Гйрш-Лейб 64
Козниевич 243
Колдобские Р. и Л. 77
Кон 256
Кон Абрам 355, 359
Кондаков XIX
Копзон Исаак 52
Копенберг 175
Копенвальд 172, 173
Копии 271
”Копфшус” 298
Копылович 440
Корда Никола 92
Король 366
Королюк 31, 34
Котшеба 427
Кох 3, 42, 462
Кохановский 194
Коцюбинский 238
Кочкарев 239, 241
Кошман 185
Кравцов XXIII, 48
Кравцова Маня 48
Кравцова Нюся 48
Кравченко П. И. 70
Крайнес Шлома 175
Крапивин В. 210, 211
Красова Вера Иосифовна 311, 312
Красова Ирина (Иринка) 311, 312
Крастынь 282
Краузе 227
Краузе 281, 282
Краус 268
Краус 271, 273
Краут Н. 107
Крафт 52, 54
Кременчужский Илья XXV, 234
Кремер 273
Кренгель 345
Кринский Мотл 423
Кром Мотель 307
Кроповицкий 176
”Крошка” 99, 100, 101
Крошнер 150
Крубазик 469, 474
Круп 440
Крупп 426
Крюгер 106
Ксендзова Екатерина Ефимовна 320, 321
Ксендзова Нина 320
Кугель Шмузль-Довид XXIV, 164, 167
Кузнецов 506
Кузнецова Этя 228
Кузьминов 161
Кулик Айзик 50
Кулик Бася 55
Кулик Иосеф 53, 55
Кулик Хана 53
Кульман Вера 79
Кунде 469
Куропатенко 441
Курске 466
Кусковская 322
Кутник Иосеф Яковлевич 194
Кухта Юлия XXVI, 314
Л
Л. 287
Л. Лиза 296
Лабковский С. 437
Лазарь 505
Ланге 277, 282
Лангман Любовь Михайловна XXIII, 39
Ландау Липа 170
Ланский Лева XXIV
Ланц 376
Ланцман E. XXIII, 38
Лапидус 148
Лапин Андрей Иванович 90
Лапина Варвара Андреевна 90
Лапчинский Хаим 205
Лаун А. 110
Лахман 181
Лев 159
Лев Абрам 219
Лев Айзик 178
Левартовский 444
Лев-Млынский 159
Леви 344
Левин 143
Левин 343
Левин (Берсарин) 145
Левин Рувим 204
Левит Макс 351, 352, 375, 377, 378
Левитан 334
Левковец Андрей Иванович 194
Левченко XXVI, 311, 312
Легер 100
Легер Тамара 100
Ледеке 352, 376
Леензон И.М. 84
Лейб (Лейба) 351, 374, 376, 377
Лейбл Дина 127, 509
Лейзерович Арон 422
Лейля 122
Лейтиш 203
Лекс 106
Ленард 115
Ленин В.И. 41, 268
Лент Гирш 452
Лент Шанаан 452, 456
Леонард 119
Лерер Ехиель 457
Лернер 51
Лернер (сестры) 43
Лернер Давид 100
Лернер Хана 73
Либерман 31, 35
Либерман В. 20
Либерман Давид 49
Либман Б. А. 21
Либман Янкель 348
Лившиц 243
Лившиц 149
Лида 119, 120, 121
Лидин Владимир VI, IX, XVIII, XXIII, 36, 509, 514
Лина 236
Линдвор Роза 128
Линдер 444
Липенгольц 348
Липец 219
Липке Жан (Янис) 284, 510
Липманович 284
Липштат Павел 452
Лисковская Аня 203
Лисс Нина 144, 146
Литощенко 24
Литощенко Евгения 19
Лифшиц Хая IX, XX
Лихтер 267
Лозовский C. XVIII
Лоренцен 269
Лукинские XXVI, 316, 318
Лукинский Е.П. 318
Лукка 387, 388, 393
Лумер 51
Лупеску 86
Лурье 231
Лурье Л. XXI
Лысая 243
Любецкий Фишель 424
Любка 496
Люся 119
Ляйтман Шлейма 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 392
Ляк 307
Лякс Квета 202
Лярек 203
М
Магарик 295
Магат Регина Лазаревна 21
Магид 304
Мазовская Сима 45
Мазуркевич Семен 392
Май 43
Майзель 150
Майзельс 143
Майндл (”Черный”) 101, 102, 103
Майорова Люба 215
Максон 342
Малкин 46
Малкин 181
Малкина 277
Малмед 205
Маля 416, 417
Малявский 181
Мандель 111
Мандельблат Лейбуш 203, 205
Манзон 195
Манке 284
Манскайт Ганс 269
Манушин К.Я. 438
Марголин 144
Марголина Эсфирь 137, 138
Маргулис Анна 83
Маренес 240
Маринеску 96, 97
Мария Григорьевна 23
Марк 93
Марк Бернард VI, XXVII 443, 508, 511, 515
Маркевич 206
Маркушевич 288
Мартышев Сергей Федорович 396
Масюлис Галина XXV
Махоль 216, 217, 218, 219
Мацкин 401, 406
Мачиз A. XXIV, 131
Маша 304, 305
Маяков XXVI, 314
Медвецкая Поля 101, 103, 496
Меерович 304
Меланья 287
Мельников 436, 509
Менгеле 414, 415, 416
Меншель 148, 155, 160
Мессер Велвел 203
Мечик (адвокат) 195
Мечик (врач) 195
Миге 280
Мизор Арон 28, 29
Миколайчик 124
Мика 505, 506
Милихман 173
Миллер 155,159
Миллер 205
Миллер (художник) 205
Миллер 419
Милькин Рахмиэль 175
Мильмейстер 31
Мильмейстер Лева 34, 35
Мильхман Залман 175
Мими 289
Минкина-Егорычева Изабелла Наумовна XXVI, 328, 329
Минскер Г. 286
Минц М. 273, 286
Мирский 456
Михаил 391
Михайличенко 395
Михасева Тамара 19, 23
Михелевич Лейб 421
Михелевич Фейге-Соре 420
Михель 392
Михельсон 156, 157, 158, 159
Михоэлс C. XVIII
Мичник 243
Миша 126
Миша 376
Молев А.Г. 432
Моня 388, 389
Мордехай (см. Тененбаум)
Морейн Меер 285
Морозов A. XXV, 258
Морозовы 318
Мостовлянский 191
Мостек 345
Мотл (Макс) 397
Мотл ”С вонсами” 401, 405
Мошкович Даниэль 205
Мстышевский Владек 206
Мулер 307
Мунблит Георгий VI, XXIII, XXVI, 65, 323, 515
Мушкин Илья 136, 140, 144, 145
Н
Нагт Муля (Володя) 204
Назаревская Людмила (Люда) 232, 233
Нанкин A. XXV, 236
Натанзон 168
Нахт Нафтали XXIV, 105, 116
Нейбург 93
Нейман 251
Немоловский Николай Васильевич 30, 33, 34
Немоловские 33
Нехамка 496
Нижний Ваня 396
Никитин 149
Никитич Оксана 254
Николай 30
Ницберг-Машенмессер 187
Ничипорович 144
Новик 192
Новогребельская Вера Егоровна 254
Новогребельский Иван Назарович 253, 254
Новис Роман Станиславович 194
Новогрудская Юдит 203
Ной Лина 157
Нося (Ваня) 305, 306
Нудельман Исаак 259
Нужный (инженер) 30, 33
Нужный (фотограф) 31, 33, 34
Нужный Гарик 30, 33
Нухимович 322
Ньютон И. 270
О
Овсейчик Лейзер-Берл 401, 402, 403, 406, 408
Овчинский Арон 452
Оглоблин 329
Огуз Розалия 232
Одицкая Ида 175
Ожинский 168
Озеров Лев VI, IX, XXIII, 19, 509, 515
Окунь 232
Окунь 232
Окунь Зяма 143, 146
Окунь Леня 139
Олейник Анна Львовна 312
Олим 307
Ольмер 168
Онищенко 257
Опенгейм 144
Орел Трофим 46
Орлов Аркадий 384
Орлов Дмитрий 22
Орлова 231
Осовец 77
Остапчук Герасим Прокофьевич 34
Остшега 457
Отто 475
Отто 481
Ошерович Гирш VI, XVII, XXIV, XXVI, 334, 515
П
Павлищенко 252
Пальтин Илья 52
Пасичная-Шевелева Полина Даниловна (Татьяна Давыдовна) 25, 330
Пасичный Дмитрий (Д.Л.) 25, 330, 331
Патурская Рахиль 64
Патурская Таня 64
Патурская Хана 64
Паукштис Бронюс XXVI, 334
Пауль 218
Пауль 472
Пекелис 31
Пекелис Вульф 31, 35, 508
Пекелис Михл 31, 35, 508
Пекер Ревекка 452
Перельштейн Михель 218
Переседский 322
Перец М. 176
Перкель Лиза 54
Перле Шия 457
Перлин Матвей Григорьевич XXIV, 125
Петро 61
Петров Е. 515
Петрушкин 83
Печерский Александр Аронович (Саша, Сашка) 388, 389, 390, 391, 392, 393, 497
Печкурова 318
Пикармер Елизавета 80, 86, 87, 88, 90
Пикман Бася XXIV, 183
Пикэ 193
Пилицкий Ришар 206
Пиля 79
Пинтов 168
Плаевский 343
Плискин 168
Плискин Давид 170
Плотницкая Фрумка 456
Плойко Феня 24, 25
Поврозник Хаим 392
Погорецкий 37
Познанский 345
Пойкер 470
Покерман (братья) 307
Полина 506
Полина Осиповна 314, 315
Полиновский Нухим XXVI, 216
Полис Анна 284
Полищук Яков Иванович 90
Полтавченко Елизавета 249
Полунова Д. 77
Полютек 376
Поляков 81
Понятовский 168
Поповичи Трайан 94, 96
Портнова Рахиль 45
Потанин Костя 397, 398, 406, 408
Потехин Анатолий 221
Почтер 492
Прейфи Фриц (”Старый”) 352, 374, 375
Призингер 197
Приклад 132
Прилуцкий Шнейко 50
Притыкин 132
Прицман Азрил 73
Проскурин С.Д. 441
Пруслин (Брускинд) 143
Пуревич Григорий 255
Пушкин А.С. 85, 294, 437
Пфейн фон 366
Пфейфер 243
Пшеницын А. 438, 439
Р
Рабинович 81
Рабинович 219
Рабинович Я. 80, 81, 82, 90
Рабинович Я.С. 81
Радеску 464
Райман 388
Райндль 471, 472
Райх 469, 470, 472, 474
Райхельсон И. 77
Ракиф 195
Рамсей 464
Рапопорт 131
Ратгайзер 452
Ратушная 37
Раяк 169
Раяк Г. XXIV, 168, 169, 171, 176
Раяк М. XXIV, 168, 169, 171, 172, 176
Ревенская E.A. XXIII, 70
Редер 34, 31
Редченко 256
Редькин 441
Редько Кирилл Арсентьевич 60
Резник Дебора 241
Резник Изя 45
Резниченко Абрам (Резенко Аркадий Ильич) XXVI, 339
Рейзе-Шейнеле 496
Рейзен 56
Рейзинс 77
Рекочинская Таня 87
Рецкий Ури 160, 161
Риббентроп 464
Ривош Аля (Ленушка) 287, 288, 289, 290, 291, 293, 294, 295, 296, 298, 299, 300, 302
Ривош Дима 286, 287, 288, 289, 290, 292, 294, 296, 300, 302
Ривош Лидочка 289, 291, 294
Ривош Элик XXVI, 286, 295
Риндзюнский Александр XXII
Рихтер 145, 147, 148, 153, 155, 160
Роберт 428
Родова Эмма 143
Родэ 197
Рожецкий Анатолий 85
Рожецкий Лев 81, 84, 85, 86, 91
Розанова Надя 47
Розанова Тамара Аркадьевна 47
Розенберг Альфред XII, 3, 211, 464
Розенберг Исаак XXV, 229, 230
Розенберг Наталья Емельяновна 230
Розенберг Рохл 128, 509
Розенберги 117
Розенблат 144
Розенблат (супруги) 19
Розенталь 345
Розенталь Абрам 275
Розенталь Луна 456
Розентретер 170
Розенфельд Михаил 444
Розенфельд-Москаленко Мария Федоровна 36
Розенцвейг Рашель 334
Розенштраух Артур Израилевич 112
Ройтман Хаим 34, 35
Ройтман Боря 34
”Рокита музыкант” 111
Ромм Нехама 175
Ромм Сарра 175
Роммы 289
Ронис Эльвира 284
Ротштейн 345
Роянов Владя 75, 76, 77, 78
Рояновы 76, 78, 79
Рубежин Вилик 147
Рубеник 143
Рубинштейн 35
Рубинштейн 81
Руд Аня 203
Рудая Анна 101
Рудерман 63
Рудерман Залман-Вульф 169
Рудерман Яков 175
Рудик 347
Рудицер 140
Ружевская Соня 202
Ружицкая Мария 203
Рухомовский 181
Рученко 252
Рыббе 156, 157, 158, 159, 160, 162, 163
Рыжик 375, 376, 377, 378
Рэде 153
С
Савицкий Берко 203
Савич 160, 161
Савич Овадий VI, XVIII, XXV, XXVI, 221, 303, 343, 515
Савчик 159
Сагальчик Яков 179
Сайко В.А. 432
Салацас Петрунья 270
Сальман 202
Санду 86
Сапожникова Люся 47
Сарра 23
Сарра 126
Сатановский С.У. 21
Свидерский (”Мастер Молотка”) 352
Сегал Калман XXI
Сейфуллина Лидия VI, XXVI, 324, 516
Сельцовский Р. 313
Сеня 223
Сергеенко 257
Серебрянский 140
Сець Ита 312
Сець Михель 312
Сець Этл 312
Сець Яков 312
Сибиряк Миша 203
Сигаловские 37
Сикорский 192, 194
Сима 63
Симкина Раиса 227
Симкина Фаня 227
Симон 213
Симонович 181
Сиротина 150
Ситерман 138
Сиченко Марко 46
Скаржинский Казимир 353, 358, 378
Скачков 149
Скобло 144
”Славек” 143
Слацник Лейб 424
Слацник Яков 424
Слипченко 82
Слонимский 168
Смоленский 326
Смолар Натан 453
Смоляр Герш (Ефим) (Смоляревич, ”Скромный”) XVII, XXIV, 139, 143, 146, 147, 507, 509
Собстель 441
Сокол Мария Марковна XXII, 58
Сокольский 243
Соловейчик Симон 175
Сонька 161
Соня 223
Соня-Шейндл 401
Софья Осиповна 294
Сохачевский Ежи 204
Спаденко Константин 90
Спиваков 75
Спорберг 197
Сталин И. XIX, XXI, 5, 6, 38, 42, 47, 125, 149, 177, 202, 253, 268, 278, 351, 377, 392, 473
Станке 289, 296
Стасик 376
Стацевич Адольф 178
Стацевич Мария 178
Стеман 447
Стребень 371
Стрелицкий 457
Стругач Симон 224
Стругин М.В. 432
Суворовский Леонид 90
Суконник Иосиф 50, 52
Сулковский 222, 224
Суслов 254
Сухомиль 361
Суцкевер Абрам VI, XV, XVI, XVII, XVIII, XX, XXV, 507
Т
Танненбаум 191
Таня 75, 76, 77
Таня 126
Таран 195
Тарасевич Аркадий Иванович 192
Тартаковская Б.Я. XXIII, 71
Таубер 411
Таубкина Розалия 137
Тафт 334
Теббенс 447
Телейснин Гитя Яковлевна 47
Телейснин Лева 47
Темчин Ефим (Фима) XXV, 221, 222, 223
Темчин Лейзер 222, 223, 224
Темчин Пинхос 221, 222, 223, 224
Темчина Маня 221, 222, 223, 224
Темчина Нехама 221, 223
Темчина Роза 221, 223, 224
Темчина Фрейда 221, 223
Темчины XXV, 221
Тененбаум Исаак 446
Тененбаум Мордехай 205, 510
Терехова Анна Евсеевна XXVI, 320
Тиктин 232
Тимофеева Александра Степановна XXVI, 320
Тимофеева Домна Арсентьевна 320
Тимчук Иван Матвеевич 179
Тиннер 243
Тифензон 218
Тихоненко 439
Ткач Маня 80
Тольнева Екатерина Абрамовна XXVI, 320
Томшинский 75
Топчиков 241
Трайберг 342
Трайнин Илья VI, XX, XXVII, 464, 516
Трейчке 461
Триевский 75
Трускин Алек 314, 315
Трускин Марк (Марик) 314, 315
Трускина Сара Борисовна 314
Тумаркин 345
Тумин 149
Турвель 150
Турецкая Анна Исааковна (Нюта) 162
Турский Петер 457
Тухель 289, 296
У
Укули 90
Ульманис 276, 282
Ульяна 76
Унгер Альберт Израилевич 281
Урих Лихтер 116
Ушкац 75
Ф
Фабри Э.С. 480
Файн 75
Файнберг 240
Фальк Феликс 287
Фальк Феня 287
Фанни 295
Фарбер 204
Фарбер Ю. (Фирсов Юрий Дмитриевич) XXVI, 394, 397, 408
Фарбер Юзеф 457
Фарбер Христиан XXVII, 476
Фастль 481
Фейгель Михаил 175
Фейгель Моисей 175
Фейгель Соня 175
Фейгельман Авнер 174
Фейгельсон Дон 175
Фейгельсон Залман 175
Фейгельсон Иосель 175
Фейгин 305
Фейгин Л. XXV, 260
Фейхтвангер Л. 21
Фел Фрида 202
Фелициан Владиславович 314
Фельдер 219
Фельдман 440
Фельдман Кива 126
Фельдман Наум 139, 143, 144, 146, 147,148, 149
Фельдманы 146
”Фетер” 402
Фефер Ицик XVIII
Фиделев Б.H. XXV, 258, 259
Филипчук 195
Филькин Д.С. 334, 340
Фин 345
Фингерут 241
Фининберг Маня 73
Финкельштайн С. 296
Фисанович Израиль 514
Фихтель 148, 155
Фишгойт XXV, 251
Фишер 444, 448, 450
Фишкинд Розалия Соломоновна 233
Фишман Фейга 313
Флейшер Залман 170, 171
Фокин В.В. 432
Фондаминская Аля 446
Фондаминский Эдвард 446
Фрухтгартен 191
Фрадис Шура (Александр Бакаленко) 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 497, 509
Фрадис-Мильнер Рахиль IX, XXIV, 98, 509
Фраерман Рувим VI, XVIII, XXIV, 106, 117, 616
Фрайберг Бер Моисеевич 380, 381
Франек 452
Франк 8, 108, 444, 464
Франц Курт 361, 362, 366, 370
Фрейдкина Маня 173
Фрейдкин Шимон 173
Фрид-Михельсон Фрида 278, 510
Фридман 291, 292
Фридман Изька 291, 292
Фридман Саня 110, 114
Фридман Феликс 457
Фридман Яков 174
Фрик 6, 7
Фудим 81
Фурман 86
Фуччо Луиджи 444
X
Хаим 293
Хаим-Арн 55, 56
Хаимович 139
Хандрос Борис XXIV, 123
Хантверкер Хая 128, 509
Харнак 51
Хася 174
Хая-Двейреле 496
Хвойник 343
Хейль 193
Хейниш 112
Херсонские 37
Ходос Анна Ефимовна XXVI, 320
Хокес Кетти 392, 393
Храпова О. 318 Хроменкова Мария 503
Ц
Цаннер 173
Цветаев H.М. 442
Цейтлин Гилел 446
Ценципер Шолом 169
Цепелевич Гирш 177, 178
Цибель 198
Цибульский Борис 391, 392
Цигельман Абрам 51, 56, 57
Цигельман Соня 51
Циперович 21
Цирульницкая Галя 419
Цирульницкая Ланя 419, 423
Цирульницкая Сарра 421
Цирульницкий Вигдор 419
Цирульницкий Йоэль 419, 422, 425
Цирульницкий Михль 423
Цирульницкий Мордехай XXVII, 419
Цирульницкий Яков 419, 421
Цирюльников C. XX, XXI, 507
Цисар Иван 46
Цисар Ярина 46
Цукерман Исаак 425
Цукова Люциан 353
Цукурс 271
Цэпф 361
Ч
Чалкик Лиза 203
Чацкин 81
Чацкин 240
Чепик 389, 390, 391
Чепуренко Петр Лаврентьевич XXIII, 63
Черемошный Мотл 204
Черно 137
Черно Анна 137
Черный Осип VI, XXVII, 410, 516
Черняк Б. XXV
Черняков В. XXV, 213
Черняховская Нюра 201
Чесельницкий 56
Ческис Федор 231
Чесноков XXI, 811, 312
Чмир 90
Чубак 186, 187, 188
Чудновский Марк 21
Ш
Шабанов 88, 89
Шабис 322
Шамбадал М.A. XXV, XXVI, 334, 507
Шамес 169
Шапиро 44, 505
Шапиро Боря 174
Шапиро П.М. XXIV, 131
Шапиро Шанхо 50
Шаробайко Витя 175
Шац 243
Шварц 77
Шварц 352, 377
Шварц 421
Шварц Иосиф 53
Шварцы 77
Шварцман 240
Шевелева 241
Шевелева Евгения Абрамовна (Акимовна) 25, 330
Шевелева Т. Д. (см. Пасечная-Шевелева)
Шевчук Емельян 46
Шейнбах 110, 115
Шейнман М. XXVII, 432
Шекспир 207
Шерешневский Борис 498
Шернер 156, 158, 159, 162
”Шестиногий” 334
Шикорский Леонард 210
Шилингер 428
Шилковский Шлоймо-Гирш 423
Шилькрот 439
Шиндер-Войсковская Рива Ефимовна XXIV, 199
Шиф 219
Шифрина Дора 211, 212
Шкапская Мария Михайловна XXIV, 507
Шкловский Виктор VI, XVIII, XXV, 238, 516
Шкуропадская 25
Шлема 126
Шлетер 272
Шлеф 347
Шливняк 457
Шмаевский 79
Шмарьян Оскар 53, 54, 55
Шмерок 77
Шмидт 145, 146
Шмидт 193
Шмидт 361, 365
Шмидт Андрей 444
Шмидт Иозеф 477
Шмоткина 159
Шмуйло 228
Шмуклер 77
Шнайдер 283
Шнайдерман Ш.Л. XXI
Шнейдер 19, 506
Шнитман 139
Шолом-Алейхем 513
Шор И. XXI
Шор Леопольд 116
Шпарбер Исраэль 175
Шпеер Боря 35
Шпеер Дора 35
Шпеер Исаак 35, 508
Шпер 173
Шпунгин Илья 303
Шпунгин Сема (Островский Иван) XXVI, 303, 306, 307
Шпунина Роза 303, 304, 305
Штейн Рахиль 456
Штейнбергер 344
Штейнигер Фриц 282
Штеккер 461
Штерн 480
Штерн Израиль 457
Штерн Уржля 393
Штиглиц 271
Штратман 426
Штраух Артур 116
Штрейхер Юлиус 3, 464
Штропп 450
Штумпфе (”Смеющаяся смерть”) 352, 375, 376, 378
Шутуров Д. В. 432
Шуд Мовша-Лейб 178
Шудрих 114, 115
Шульман Р. 211
Шульц 158
Шульц 173
Шульц 218
Шульц 269
Шульц 429
Шумахер Эмиль 390
Шур 46
Шура 90
Шурек Бира 205
Шурек Хеля 205
Шуссер Надя 143
Щ
Щебенко 169
Щербаков A. XIX
Щетинский Борис Михайлович 194
Э
Эвенсон Моисей Самойлович XXV, 238
Эвенсон Сарра Максимовна (Максимов С.) 21
Эдельман А.Л. 21
Эдельман Залман XXV, 216, 219
Эдельман И.Л. 21
Эдельман Марк 445, 448, 452
Эйнгорн Арон 456
Эльгорт Илюша 23
Эльгорт Неся 23
Эльзон 44
Элькишек 266
Эмден ”Король Земгалии” 271, 272
Энгельс 106, 108, 115
Эндерш Альберт XXVII, 480
Эпельфельд 31
Эпштейн 144, 157, 158, 160
Эпштейн Абрам 267
Эрбер 75
Эренбург Илья VI, VII, IX, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIII, XXIV, XXV, 38, 39, 47, 48, 58, 63, 64, 73, 75, 98, 123, 125, 126, 127, 180, 207, 209, 215, 227, 231, 234, 236, 243, 249, 311, 312, 313, 320, 322, 485, 500, 503, 504, 507, 508, 509, 511, 516
Эсфирь 148
Эттингер Ш. 507
Ю
Юлин 36
Я
Якобсон Вениамин Юльевич 402
Якубовский Тадеуш 201
Янек 389
Янико Вольфганг XXVII, 479, 480
Ярницкий 55
Яхот О. XXIII, 47, 508
Яцек 452
Яцкевич Григорий Григорьевич 194
Яша 375, 377, 378
УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ
А
Августдорф 435
Августово 216, 217, 218
Австралия 355
Австрия 8, 272, 353, 365
Азовское море 260
Айкель 481
Акмечетка 80
Александровка 478
Алексис 436
Америка (США) XVIII, XIX, XX, 5, 9, 48, 49, 52, 142, 220, 294, 339, 340, 355, 463
Амстердам 379, 380
Англия (Великобритания) 9, 355, 463, 464
Антонеску (см. Одесса)
Армянск 256
Аушвиц (см. Освенцим)
Африка 187
Б
Бабий Яр XII, XXIII, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 329, 331, 332, 508
Бабий Яр (поселок) 24
Бабиновичи 207, 213
Бабинцы 320
Багила 128
Баку 238
Барановичи 185, 355, 401
Барановичская область 220
Барановичский штрафной лагерь (”Остлагерь”) 439, 440
Батайск 232
Баюканы 92
Безверховичи 222
Белашки 36
Белжец (Белжецкий лагерь) XIII, 107, 111, 112, 123, 363, 379, 456
Беловажа 185
Беловеж 188
Беловежская Пуща (Пуща) 160, 188
Белоруссия (БССР) XII, XIV, XX, 1, 13, 129, 138, 139, 144, 160, 167, 193, 303, 306, 353, 433, 503, 504, 509
Белоруссия Западная XII, 144, 146, 199
Белосток XXIV, XXV, 13, 185, 188, 189, 199, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 211, 216, 217, 219, 350, 353, 355, 356, 367, 374, 381, 410, 426, 443, 445
Белостокское воеводство (область) 610
Белостокский район 206
Белостокское гетто XIV, 14, 203, 205, 206, 364, 427
Бельгия 8, 355, 412, 428, 463
Бельск 188, 416
Бендин 445
Бервечу 174
Бергомет 127
Бердичев XXIII, 27, 28, 30, 31, 36, 508
Глинище 28
Загребальный район 29
Лысая Гора 30, 35
Лагерь на Лысой горе 35
Старый Город 28, 31
Ятки 29, 31, 32
Береза (Береза-Картусская, Картус-Береза) 185, 193, 197
Береза-Картусская (концлагерь) 401
Березовка 80, 83, 85, 101, 102
Березовский район (Одесской области) 84
Березовский район (Брестской области) 192, 194, 197
Березовский район (Сталинградской области) 43в
Берлин 15, 26, 26, 142, 261, 281, 282, 349, 363, 393, 444, 450, 482
Бессарабия 95, 128, 326, 363, 355, 367, 469
Бжезинка (см. Биркенау) Билефельд 435
Бильдичи 172
Бирзули 479
Биркенау — Бжезинка 417, 418, 421, 422, 423, 425, 426, 427, 428
Благодатное 322, 323, 504
Блудень 185
Бобруйск 213, 433
Богдановка 80, 81, 85, 86
Богунья 438
Болгария 68, 353, 367
Большой Лог 509
Борисов 165, 311, 316, 317, 318, 383, 463
Борисовское гетто 318
Борки 171, 174, 175
Бороучина 178
Ботошаны XXIV, 127, 128, 509
Браилов XXIII, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57
Бреславль 172, 178
Бреслау (Вроцлав) 478
Брест — Брест Литовский — Брест-Литовск 190, 191, 193, 194, 195, 196, 197,199, 374
Брест-Литовский лагерь 438
Брестская область 190, 192, 194,197
Брестское гетто 193
Бржезяны 111, 115
Бричаны 128
Бродский район 125
Броды 114, 115
Бронная Гора 192, 193, 194, 196, 197
Бруховицы-Жулкень 111
Брюховицы 481
Брянск 306
Брянские леса 13
БССР (см. Белоруссия)
Буг 49, 80, 85, 86, 87, 88, 94, 98, 103, 104, 189, 478, 509
Буг Западный 350
Бугаков 101, 102
Будаи 479
Будславе 176
Буковина 92, 93, 94, 97, 101
Буковина Северная 92, 127, 469
Буковина Южная 94
Буш (лагерь) 416
Бучач 238, 422, 426
Бухарест IX, 94, 96, 102, 509
Быдгощ 113
Бытень XXV, 220
В
Вайвари 344, 346
Вальдзее 427
Ванне-Айкель, округ 481
Варовичи 26
Варшава 113, 189, 194, 199, 202, 203, 350, 353, 354, 356, 372, 374, 375, 378, 393, 425, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 515
Жолибож 449
Налевки 448, 451, 454
Повонзки 451
Старэ място (Старый город) 451
Цитадель 449
Варшавское гетто XXVII, 1, 8, 9,14, 354, 362, 367, 428, 443, 454, 457, 508
”Везуве” (лагерь) 432, 436
Великие Луки 50
Великобритания (см. Англия) Вена 238, 282, 287, 372, 427
Венгрия 415, 463
Вестербург 379, 380, 393
Вестфалия 481
Вешенковический район 314
Виленская область 165
Виленское (Вильнюсское) гетто XIV, XVI, 14, 343, 495, 497, 498, 500
Вилефельд 432
Вильнюс (Вильно) XII, XIII, XVI, 11, 13, 374, 394, 397, 398, 401, 404, 405, 495, 510, 511
Субоч 343
Винница 49, 48, 438
Винницкая область XXIII, 40, 47, 49, 127
Винницкий лагерь 438
Витебск 213
Витебская область 207, 213, 314, 603
Витмаршен 438
Владимировка 251
Владимиро-Волынский лагерь 439, 481
Влодава 380, 382, 393
Влосенюща 419
Волга 15, 50
Волковыск 355, 356
Волока 92
Вороновицы 100
Воропаево 172, 173
Ворошиловград 505
Восточная Польша (см. Польша Восточная) Вулька (Вулька-Окронтик) 353, 362, 369, 372, 378
Высокий Мазовецк 210
Вяземский лагерь 431, 438
Вязьма 10, 431, 432, 433, 434, 437, 438, 441
Г
Гайдучишки 172, 174
Гамбург 142
Гах 393
Гейдельберг 275
Германия XI, XV, XIX, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 62, 89, 97, 109, 163, 173, 185, 195, 241, 254, 269, 280, 281, 282, 284, 294, 318, 330, 331, 339, 353, 354, 357, 359, 363, 365, 366, 368, 369, 372, 379, 380, 381, 384, 387, 393, 416, 422, 424, 425, 432, 442, 461, 462, 463, 477
Германия (ФРГ) 185
Германия Восточная XIX
Германовичи 172
Германская империя 270
Гзудак 92
Глубокое XXIV, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 178, 179
Глыбочек 37
Гнилопять 28, 29, 35
Голландия (Нидерланды) 379, 380, 387, 412, 463
Голаши 211
Голнино 218
Жукевича 206
Жукин 232
Голта 478
Голубичи 172
Гомель 463
Гомельская область XXV, 215
Гомельский лагерь 432
Города 193
Городок 165
Горы XXIV, 507
Грабовка 219
Градовка 88
Греция 424, 425, 463
Гродненская область 419
Гродненский лагерь 433, 439
Гродненский район 206, 420
Гродненское гетто 354
Гродно 199, 204, 206, 218, 353, 367, 374, 410, 420, 421, 424
Грушка 470
Гуляевка 85
Гута 125
Гута Верхобужеская 125
Д
Дальники 80
Далюм (лагерь) 432, 436
Данциг (Гданьск) 410
Дахау 109
Двина Западная (Двина) 265, 283, 288, 297, 303
Двинск (Даугавпилс) XXVI, 303, 306, 307
Демблин 432
Димидувка 311
Димидувский район 312
Десна 10
Джанкой XXV, 248, 255, 256, 257, 260, 261, 510
Дзембров 420
Дзержинск 145
Диново 185
Дионы 172
Дисна 174
Днепр XII, 10, 19, 25, 50, 318, 332, 339, 385
Днепровские Новоселки 332
Днепропетровск XXIII, 12, 65, 66, 69, 70, 71, 124, 325, 432, 480
Днепропетровская область 322, 504
Днестр 94, 97, 478, 509
Доманевка 80, 81, 84, 85, 86, 87
”Горки” 86, 86
Доманевское гетто 85
Домбровицы XXVI, 313
Домброво 187
Дон 231, 232, 234
Донбасс 239
Донецкие степи 49
Драгичино 193
Дрозды (лагерь) 131, 132, 136
Друн 172, 178
Друйск 172
Дубно 311
Дуниловичи 174
Дюссельдорф 282
Е
Еви 347
Евье (Вевис) 401
Евпатория XXV, 251, 252, 254, 325, 510
Европа XI, XX, 3, 4, 5, 8, 16, 89, 282, 353, 356, 371, 374, 379, 382, 393, 415, 462, 463, 464
Европа Западная 268
Египет XXI, 186
Едвабны 218
Единцы 100,128
Екатеринополь XXIII, 73, 74
Елгавский (Митавский) уезд 271
Енакиево 323
Ессентуки XXV, 241, 242, 243, 244
Ж
Железноводск 244
Жигарины 409
Жирятинский район 230
Житомир 21, 30, 36, 42, 238,438
Житомирский лагерь 432, 438,439
Жмеринка 46, 66
Жмеринское гетто 56
Жолкев (Жолква) 115
3
Замбров 210, 211
Замбровские казармы (лагерь) 210
Замостье (Замощье), 433, 434, 476
Западная Белоруссия (см. Белоруссия Западная)
Западная Европа (см. Европа Западная)
Западная Польша (см. Польша Западная)
Западная Украина (см. Украина Западная)
Западный Буг (см. Буг Западный)
Запорожская область 254
Запорожье 426
Заруденцы 101, 102
Заруденцский лагерь 102
Зассенгоф 296
Зачатье 172
Звенигородка 73
Звенигородский лагерь 73
Зеленополе XXIII, 64
Зеленые Куриловицы 470
Зембин 164, 165
Земгалия 283
Злодиевка (Украинка) 329, 330
Змиевская балка 504
Зологовские леса 116
Золотоноши 341
Золочевский район 125
Зрит 346
Зябки 172
И
Иванцевичи 185
Израиль XVII, XIX, XX, XXI, 507, 509, 610, 511, 516
Изяславль XXIV, 126
Иерусалим IV, V, VI, XVI, 508, 509, 510
Иманша 253
Италия 463
К
Кавказ 186
Кавказ Северный XII, XXI, 239
Казань 397
Казатин 333
Кайзервальд 283
Калаврита 503
Калиновка 127
Калуга 437, 440
Кальвария 436, 440, 441
Кальварийский лагерь 432, 435
Каменец-Подольский (Каменец) XXVII, 25, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475
Каменское 66
Канада 355
Карпаты 50
Картакаево 87
Касили 320
Касплянский район 320
Каунас (Ковно) XII, XIII, XXV, 11, 13, 221, 238, 334, 401, 405, 489
Келбасино 420
Келбасинский лагерь XXVII, 420, 421
Кельн 282
Керчь XXV, 245, 247, 256, 436
Кивиоли 345, 346, 347
Кидл 218
Киев XII, XXIII, 11, 12, 19, 20, 21, 25, 26, 53, 56, 101, 121, 238, 328, 329, 330, 332, 333, 384, 463, 504, 508, 510
Бабий Яр (см. Бабий Яр)
Бессарабка 19
Демеевка (Сталинка) 25
Лукьяновка 21, 22, 330, 333
Печерск 25
Подол 19, 23, 26, 333
Слободка 19
Сырец 20
Киевская область 36
Кизляр 442
Кировоград 48, 480
Кисловодск XXV, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 249
Кольцо-Гора 241
Минутка 288
Кишинев XXIII, 608
Клоога XXVI, 343, 344, 346, 347
Кобрин 190, 466, 467
Ковали 438
Ковель 482
Ковельский лагерь 481
Ковно (см. Каунас) Ковенское (Каунасское) гетто XIV, XXV, 14, 497, 507
Кодыма 478, 479
Козенки 182
Коломыя 111
Колосовка 88
Конных 206
Копайгород (лагерь) 128
Кори 253
Коротич 60
Коянки 213
Краков 113, 418, 419, 429, 464
Краковский лагерь 375
Краматорск XXVII, 503, 505
Краснихин 476
Краснодар 480
Красное (лагерь) 127
Краснополе 70
Краснополье (Могилевская область) XXIV, 209
Красный XXV, 228, 229
Красный пахарь 253
Кремениц 14
Кременое 206
Кременчуг 50, 341, 342, 383
Кременчугский лагерь 439
Креслав 305
Кривичи 176, 177, 178
Кривое Село 314
Крулевщина 168, 173, 175
Круты 478, 479
Крыловка 45
Крым XII, XXI, 67, 239, 249, 251, 252, 254, 259, 260, 261, 324, 326, 610
Крынки 199
Куриловка 46
Курская дуга 208
Кустанайская область 339
Л
Лабушна 476
Ланы 189
Лапы 203
Лариндорфский район 325, 326
Латвия XII, XX, XXVI, 1, 263, 265, 267, 268, 269, 271, 272, 280, 283, 479
Лахавот Хабаша 510
Лаэдн 346
Левинка 431
Лейпциг 479
Ленинград (Петербург) 55, 238, 402, 441, 504, 514
Лесничевка 206
Лидице 503
Лимбажи 287
Линово 184, 187
Лиозно XXV, 207, 208, 213, 214
Липканы 100, 128
Литва XII, XIV, XX, XXV, 1, 13, 221, 265, 269, 335, 346, 440, 507, 510
Литвичи 179
Литин 45
Лович 189
Логойск 165
Лодзь 199, 423, 445
Лодзинское гетто 8, 427, 508
Лопавши XXVI, 311, 312
Лохамей Агетаот 510
Лохвица 341
Лубны 59
Лужки 172, 178
Луцк 14
Лучая 174
Львов XIII, XXIV, 105, 106, 108, 109, 111, 113, 114, 115, 116, 121, 123, 124, 463, 477
Кленаров 107
Пяскова Гора 107, 108, 112, 115
Яновский лагерь 108, 109, 111, 115
Львовская область XXIV, 125
Львовский округ 108
Львовское гетто 114
Люблин 189, 294, 447, 449, 476
Люблинская область (воеводство) 115
Люблинский лагерь (см. Майданек)
Люблинское гетто 8, 354
Люботино 60
Людвигсгафен 477
Люксембург 463
Лянцкорунь 475
М
Магарач 249
Мадрид 446
Маза-Югла 267
Майданек (Люблинский лагерь) XIII, 216, 343, 347, 351, 352, 363, 379, 382, 426, 463
Малич 184, 185
Малкинья 350, 353
Мангейм 477
Мариуполь XXIII, 12, 75, 505, 509
Массандра 249
Маутхаузен 109
Межуров 56
Мемель (Клайпеда) 425
Мендзыжец 353
Меппен 432
Мерчик 61
Мехорты 223
Мешкуйчай 347
Минеральные воды 239, 240, 243
Минск XII, XIII, XXIV, 10, 11, 13, 131, 132, 138, 139, 140, 142, 143, 146, 147, 158, 161,180, 213, 228, 314, 316, 317, 318, 383, 385, 433, 463
Лагерь на Широкой (Минский лагерь) 138, 140, 142, 149, 163, 383, 384
Тучинка 141, 143, 155
Минская область 164
Минский лесной лагерь (Минский лагерь) 433, 440
Минское гетто XIV, XXIV, 14, 131, 140, 142, 162, 163, 182, 318, 383, 497, 507
Миоры 172, 178
Миргород 50
Митава 271, 439
Митавский лагерь военнопленных 439
Михайлики 39
Могилев Подольский (Могилев) 104, 127
Могилевский лагерь 432, 433
Могилевская область XXIV, 209
Мозырь XXIV, 180, 181, 182, 504
Мойна 478
Мокины 189
Молдавия XXIII, 508
Молодечно 433, 434, 437, 439, 440
Молодечненский лагерь 432, 435, 438, 440
Монастырщина 229, 230
Мордовская АССР (Мордовия) 400, 402
Морозовск 234, 235, 504
Москва IX, XV, XVII, XVIII, XIX, 48, 194, 314, 375, 377, 385, 394, 395, 398, 400, 404, 440, 441, 503, 507, 508, 509, 510, 511, 515, 516
Мстиславль 227
Мунус 253
Мюнхен (колония Одесской области) 88
Мядель 179
Мядельский район 175
Н
Наленчов 189
Нальчик 239, 254
Нарофоминск 285
Немиров 98, 102, 103
Нейсе 430
Нидерланды (см. Голландия)
Нижняя Дубечня 332
Николаев 71, 253
Новая Висань 332
Ново-Вилейка 394
Новоселица 332
Новошиловки 218
Новый Двор 420
Новый Погост 178
Норвегия 8, 463
Нью-Йорк XV, XX, 49, 510
Нюрнберг 6, 16, 462
О
”Обер-Майдан” (см. Треблинка)
Одесса XXIII, 66, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 89, 90, 91, 352, 402
Аркадия 81, 82
Пересыпь 85
Слободка 81, 83, 85
Одесская область 88
Оксфорд 109
Олайн 271
Ораны 178
Оранж 220
Орджоникидзе (Сталинская область) 322
Орел 183
Орловская область 10, 230
Орша 182, 213
Освенцим-Аушвиц (Освенцимский лагерь) XXVI, XXVII, 1, 202, 379, 410, 411, 414, 415, 416, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 429, 443, 456, 463, 488
Освенцим (город) 415, 418
Остланд 274, 281, 283
Острино XXVII, 419, 420, 430
Острог 38
Ошитки 332
Ошмяны 401
П
Падеборн 432, 435
Палестина (см. Эрец-Исраэль)
Париж 181
Парфиново 172
Пеняцкие леса XXIV, 125
Пеняцкий район 125
Первомайск 124
Перекоп 254, 258, 260, 261, 324
Перемышль 115
Перепелицы 104
Петербург (см. Ленинград) Печера (лагерь) 127
Пинск 181, 223, 224, 466, 467, 468, 511
Пироги 341
Пироговская левада 63
Пирятин 63, 339, 438, 509
Писки 332
Пификони 346
Плешеницы XXIV, 164
Плиссы 172, 174, 178
Поволжье 339, 392, 438
Подбродзи 172
Познань 112, 113
Покут 178
Полтава 50
Полтавская область 63
Польша VII, XV, 1, 8, 9, 59, 96, 97, 100, 123, 165, 166, 306, 353, 354, 355, 379, 380, 393, 401, 412, 425, 432, 444, 445, 446, 447, 448, 453, 463, 464, 485,488, 510
Польша Восточная 351
Польша Западная 118, 379
Понары XII, XXVI, 345, 394, 397, 398, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 409, 496, 510
Понятув 447
Поповка 505
Порплище 172
Починка 182, 183
Прага 282, 393
Пржемыспяны 115
Прибалтика XIII, 265, 283
Привороття 470
Приднестровье 123
Припять 182
Прозорки 172
Проскурово 38
Пружаны 184, 185, 189, 426
Прут 92
Пуща (см. Беловежская Пуща)
Пятигорск 239, 241, 242, 244
Машук гора 242
Р
Рава Русская 111, 478
Радзивилов XXIV
Радом 353
Радомское гетто 8, 354
Разуваевка 317
Радштадт (колония Одесской области) 88, 89, 269, 272, 306, 326, 374, 386, 443, 462, 463, 466, 469, 473, 474, 476, 466, 503, 507, 510, 514, 515, 516
Речекус (Рзиттен) 479, 480
Ржев 50
Рига XII, XXVI, 265, 266, 267, 269, 271, 272, 273, 274, 275, 280, 463, 510
Бикерниеки 292
Бикерниекский лес 267, 268, 272, 275, 277, 278, 280, 282
Московский Форштадт 268, 272, 273, 275, 280, 282, 286, 287
Румбула 510
Румбульский лес 510
Рижское гетто 274, 275, 276, 280, 281, 284, 510
Рим XXI
Ров 56
Ровенская область XXVI, 312, 313
Ровно 481
Рогачево 435
Романовка 30, 33
Ромны 59
Рославльский лагерь 437
Рославльский район 227
Россия (РСФСР) XX, XXV, 1, 8, 127, 225, 238, 481, 503, 510
Россоши XXVII, 466
Ростов-на-Дону (Ростов) XXV, 231, 232, 233, 239, 383, 504
Змиевская балка 233
Олимпиадовский хутор 233
Ростовская область 323
РСФСР (см. Россия)
Рубановка 254
Рудки 115
Рудницкая Пуща 407, 409
Румбула XII
Румыния XIX, XX, 68, 89, 127, 463, 464, 509
Рыбница 478
С
Саки 251
Саксония 478
Сакулино 35
Салоники 425
Саласпилсский концентрационный лагерь XXVI, 275, 283
Салтов 60
Самарканд 27
Самбор 111, 116
Саракташ 208
Свенцяны 172, 401
Свислочь 133, 180
Севастополь 261, 326
Северная Буковина (см. Буковина Северная)
Северный Кавказ (см. Кавказ Северный)
Седлец 350, 353, 356, 433
Семеновка 478
Серебрянка 318
Серет 127, 128
Сибирь 462
Сиваш 261
Симферополь 251, 252, 257, 324, 325, 327, 438, 510
Субри 325
Сиротское 85
Скунчики 172
Скураты 180
Славутский лагерь 438, 481
Слободка 178
Слоним 185
Слуцк 156, 222, 223, 224
Монаховский сад 222, 224
Слуцкое гетто 156
Смилевичи 165
Смоленск 182
Садки 318
Смоленские леса 13
Смоленское гетто 318
Смоленская область (Смоленщина) XXV, 10, 227, 229, 318, 320, 321, 431, 437
Смоловичи 177
Смолярка 194, 197
Сморгонь 176
Смородино 61, 62
Собибор (Собибур) (Собиборский лагерь) XIII, XXVI, 1, 14, 363, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 392, 393, 497
Собибор (станция) 384
Советский Союз (СССР) VII, IX, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XX, XXI, 4, 6, 9, 11, 27, 81, 111, 196, 214,
Соколы 189
Сомосьерра 444
Соло 422
Сорочицы XXIII, 39
Сортировочная 80, 83, 84, 85
Сосновец 446
Средиземное море 268
Средняя Азия 27
СССР (см. Советский Союз)
Ставки 86
Ставрополь XXV, 236
Сталинград (Волгоград) 50, 114, 186, 205, 241, 385, 395, 396
Сталинградская область 435
Сталинская область 322
Станислав 106
Станиславский округ 108
Старая Крепость 218
Старая Ушица 468, 469, 470, 471, 474
Старо-Ушицкий район 470
Старосельцы 203
Старые Журавли XXV, 215
Столбцы 185
Сторожинец 92
Студеница 469, 470, 471
Сувалкский лагерь 432
Сумы 72
Сухарки (лагерь) 128
Сухие Балки 80, 89
Сухожеброво 433
США (см. Америка)
Сырецкий лагерь 25
Т
Тальное XXIII, 36
Кульбида лес 36
Тарасевичи 332
Тарнополь 106, 111, 115
Тарнопольский округ 108
Ташкент 27
Тель-Авив 507
Тельшай XXV
Темнинский район 431
Терезиенштадт (Терезиенштадский лагерь) 425, 426
Тирасполь 88
Тихорецк 480
Травники 447
Транснистрия XIII, 49, 56, 87, 91, 94, 95, 96, 98, 508
Треблинка (Треблинский лагерь) IX, XIII, XXVI, 1, 12,14, 202, 216, 350, 353, 353, 356, 357, 358, 361, 362, 363, 364, 366, 368, 369, 370, 371, 372, 374, 377, 378, 379, 382, 443, 445, 443, 456, 488, 510
Треблинка (станция) ”Обер-Майдан” 353, 354, 354, 365, 366
Три Столба 206
Тростинец (лагерь) 148,155
Тула 384
Тульчинский уезд (район) 98, 127
Тунис 187
Турция 68
У
Украина XII, XIV, XX, XXIII, 1, 12, 13, 17, 27, 40, 48, 127, 128, 238, 240, 254, 353, 380, 462, 478, 481, 503, 504, 508, 509, 510
Украина Западная XIII, 105, 106, 108, 109, 111, 469
Упанов 476
Умань 36, 480
Универ 175
Урал (Уральский хребет) 339, 462
Утрехт 379
Ушачье 503
Ф
Фалькенберг 431
Феодосия 268, 259, 510
Филипоки 345
Фихте 380, 393
Фрайбург 477
Фрайдорф 252, 253
Фрайдорфский район 252, 325, 326
Франкония 464
Франкфурт 142
Франция 8, 123, 355, 379, 397, 412, 422, 424, 426, 428
Францюшка 478 ФРГ (см. Германия)
X
Хайфа 509
Ханжин 30
Харьков XII, XXIII, 58, 61, 62, 463, 509
Травницкая долина XII Херсон 325
Херсонесский мыс 261
Хмельник 40, 41, 42, 45, 46
Слободка 44
Холм 10, 392, 475, 476
Хорол 339, 438
Хорольский лагерь XXVI, 340, 341, 389
Ц
Цыбулево XXIII, 47
Ч
Чайновка 188
Чвартаков 111
Чемеровецкий район 475
Ченстохов 113, 353, 354, 432, 434
Ченстоховский лагерь 432, 438, 439
Ченстоховское гетто 8, 354
Чернигов 221
Чернин 332
Черновнцы XXIII, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 127, 509
Черное море 85, 258, 260
Четвертиновка 98
Чехословакия 8, 9, 353, 398, 423, 425, 463, 469
Чили 97
Чкалов 314
Чкаловская область 208
Чуков 100, 102
Ш
Шавли (см. Шауляй)
Шавельское (Шауляйское) гетто 347
Шамово XXV, 227
Шарковщина 172, 178
Шауляй (Шавли) XXV, 347, 495
Шаховская 433
Шахты 440
Швейцария 97
Швицинген 477
Шевченко (хутор) 79
Шерешево 185
Шипы 172
Широков 184
Шкиротава 280
Шполы 73
Штарлах 481
Штутгоф 410
Щ
Щучино 419
Щучинский район 419
Э
Эбельсбах 434
Эбра 444
Эволле 379
Эврон 510
Эйн Хахореш 510
Электросталь 404
Эльба 15
Эме 432
Эреди 345
Эрец-Исраэль (Палестина) XVIII, XIX, XX, 605, 606
Эстония XXVI, 1, 265, 269, 343, 346, 347, 495
Ю
Югославия 427, 428, 463
Южная Буковина (см. Буковина Южная)
Я
Явожно 426
Яворов 115
Якушинцы 48
Ялта XXV, 249, 261, 510
Никитский сад 249
Красная будка 249
Ялтушково XXIII, 48
Ямполь (лагерь) 128
Янина — Грубей 426, 427, 428
Яново 193 Япония 339
Ярмолицы XXIII, 38
Военный городок 38
Ярычув 115
Ярышево XXIII, 47
Яффа 258
Выходные данные книги
ЧЕРНАЯ КНИГА
Составлена под редакцией
Василия ГРОССМАНА
Ильи ЭРЕНБУРГА
Иерусалим, 1980
הספר השחור
(בשפה הרוסית)
ליקטו וערכו:
וסילי גרוסמן, איליה ארנבורג
יד ושם רשות הזיכרון לשואה ולגבורה
המכון הישראלי לחקר החברה בת-זמננו
״תרבות״ ירושלים, תש״מ
Институт Памяти жертв нацизма и героев сопротивления ”Яд Вашем”
Израильский институт исследования современного общества
Издатели благодарят следующие организации, оказавшие помощь при издании ”Черной Книги”:
Мемориальный фонд еврейской культуры;
Центр по интеграции ученых при Министерстве абсорбции Израиля;
Фонд им. Пинхаса Сапира.
Институт Памяти жертв нацизма и героев Сопротивления ”Яд Вашем”
©
Израильский институт исследования современного общества
Издательство ”Тарбут” Иерусалим, 1980
Yad Vashem Martyrs’ and Heroes’ Remembrance Authority, Jerusalem
Israel Research Institute of Contemporary Society, Jerusalem
The publishers wish to express their gratitude to the following institutions for their help in publishing the Black Book:
Memorial Foundation for Jewish Culture;
The Israel Ministry of Absorption, Center for the Integration of Scientists;
Pinhas Sapir Special Projects Fund in Israel.
The Black Book
Ilya Ehrenburg, Vasily Grossman
Printed in Israel
Yad Vashem Martyrs’ and Heroes’ Remembrance Authority, Jerusalem
©
Israel Research Institute of Contemporary Society, Jerusalem
הספר השחור
איליה ארנבורג, וסילי גרוסמן
מודפס בישראל
Tarbut Publishers Jerusalem, 1980
Printed by Hamakor Press. Ltd., Jerusalem, Israel
Маргарита Алигер
Павел Антокольский
Ваграм Апресян
Валерия Герасимова
Ефим Гехтман
Лейб Гольдберг
Василий Гроссман
Абрам Дерман
Меер Елин
Всеволод Иванов
Василий Ильенков
Вера Инбер
Яков Йосаде
Вениамин Каверин
Лев Квитко
Рахиль Ковнатор
Владимир Лидин
Бернард Марк
Георгий Мунблит
Лев Озеров
Гирш Ошерович
Овадий Савич
Лидия Сейфуллина
Абрам Суцкевер
Илья Трайнин
Рувим Фраерман
Осип Черный
Виктор Шкловский
Илья Эренбург
ЧЕРНАЯ КНИГА
О ЗЛОДЕЙСКОМ ПОВСЕМЕСТНОМ УБИЙСТВЕ ЕВРЕЕВ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ ВО ВРЕМЕННО-ОККУПИРОВАННЫХ РАЙОНАХ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И В ЛАГЕРЯХ УНИЧТОЖЕНИЯ ПОЛЬШИ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ 1941-1945 гг.
Составлена под редакцией
Василия ГРОССМАНА
Ильи ЭРЕНБУРГА
Иерусалим, 1980
Примечания
1
Среди оккупированных советских территорий в публикуемой рукописи не названа Молдавия. Имевшийся в первоначальном варианте материал о Молдавии (Л. Базаров, ”Немецко-румынские зверства в Кишиневе”) в окончательной редакции рукописи ”Черной Книги” отсутствует. Из опубликованных в 1945 г. на идише И. Эренбургом ”Писем сирот” (”Народоубийцы”, т. II, Москва, 1945) в ”Черную Книгу” были включены лишь письма детей с Украины, и не вошли письма бессарабских детей.
(обратно)2
Истинные причины восстания в Варшавском гетто раскрываются в позднейших работах Б. Марка, И. Кермиша, И. Гутмана и других историков.
(обратно)3
См. примечание к стр. X.
(обратно)4
См. примечание к стр. X.
(обратно)5
В Лодзинском гетто было 164000 евреев. (См.
(стр. 26 ,פנקס הקהילות פולין, פרק ראשון, לודז והגליל, יד ושם, ירושלים, 1976
(обратно)6
В Бабьем Яру в период немецкой оккупации было убито более 100000 человек, преимущественно евреев (См. Краткая еврейская энциклопедия, т. I, Иерусалим, 1976, стр. 75).
(обратно)7
Подробности о спасении братьев Пекелис находим в сборнике ”Народоубийцы”, т. II, стр. 129.
”В Бердичеве было убито около 30 тысяч евреев, спаслись лишь братья Пекелис, Михл и Вульф. Их семью знали в городе — они были известные печники: отец и пять сыновей. Строили дома в Бердичеве, заводы в Киеве, работали на строительстве Московского метро. Михлу и Вульфу удалось убежать из гетто. Они клали окрестным крестьянам добротные красивые печи, за которыми и укрывались. Как-то братьям удалось выкопать яму под одним из немецких учреждений по улице Свердлова. Там они просидели 145 дней. Кормил их русский инженер Евгений Осипович. Позднее братья ушли в леса, нашли партизан и участвовали в освобождении Бердичева”.
(обратно)8
Сведения о героической гибели И. Шпеера имеются в сборнике ”Народоубийцы”, т. II, стр. 140.
(обратно)9
В сборнике ”Народоубийцы”, т. II, стр. 128-129 материал озаглавлен ”Сопротивление”. В рукописи ”Черной Книги” не указано имя человека, сообщившего материал, и опущено начало текста.
(обратно)10
Яхот Иеошуа (Овший), доктор философских наук, ныне профессор Еврейского университета в Иерусалиме.
(обратно)11
Губернаторство Транснистрия (Заднестровье) было создано в период Второй мировой войны румынским правительством Антонеску на территории Украины между Бугом и Днестром.
(обратно)12
С некоторыми изменениями данный материал опубликовал под заглавием ”Земля Пирятина” — Илья Эренбург, Война (апрель 1943—март 1944), Москва, 1944, стр. 117-118.
(обратно)13
Этот материал в имеющемся в Израиле экземпляре текста ”Черной Книги” — утерян. Восстановлен в обратном переводе с румынского издания Ilуа Ehrenburg, Vasilii Grosman, Lew Ozerow, Wladimir Lidin... Cartea Neagra, Bucureşti [1946], стр. 76-77.
(обратно)14
В своих воспоминаниях ”Люди, годы, жизнь” И. Эренбург пишет об этом дневнике и его авторе: ”Розовая школьная тетрадь; это дневник студентки Сарры Глейх. Изумительно, что она бегло, порой бессвязно, изо дня в день записывала все. По первым записям видно, что она 17 сентября, через месяц после того, как эвакуировалась из Харькова в Мариуполь, где жили ее родители, поступила на работу в контору связи. 1 сентября сестры Фаня и Рая, жены военнослужащих, ходили в военкомат, просили эвакуировать их; им ответили, что ”эвакуация не предвидится раньше весны”. 8 октября она пишет: ”Начальник конторы Мельников утром сказал мне, что завтра эвакуируются, нужно подготовить документы, можно взять семью, значит отъезд обеспечен...” В этот же вечер она продолжает: ”В 12 часов дня в город вошли немцы, город отдан без боя...” (И. Эренбург, Собрание сочинений в 9 томах, т. 9, Москва, 1967, стр. 413—414).
(обратно)15
О дальнейшей судьбе С. Глейх узнаем из мемуаров И. Эренбурга: ”Сарра Глейх 27 ноября, после месяца блужданий в степи, узнала, что наши войска в пяти километрах от Большого Лога, куда она пришла, ей удалось добраться до отряда красноармейцев” (там же, стр. 414).
(обратно)16
Плутонер — сержантское звание в румынской армии.
(обратно)17
Материал под этим названием в рукописи отсутствует, а само название тщательно вычеркнуто из перечня содержания (восстановлено в инфракрасных лучах).
(обратно)18
В Черновцах перед войной проживало 42932 еврея.
См. Black book of Localities whose Jewish Population was Exterminated by the Nazis, Yad Vashem, Jerusalem, 1965, стр. 307. Во время войны в Черновцах было создано гетто. И в город переселили евреев из окрестных местечек и деревень, что значительно увеличило его еврейское население.
(обратно)19
Рахиль Фрадис-Мильнер с семьей с 1960 г. в Израиле. Александр (Шура) Фрадис закончил Технион в Хайфе и работает инженером.
(обратно)20
См. примечание [18]
(обратно)21
Этот абзац восстановлен Р. Фрадис-Мильнер в Израиле.
(обратно)22
Текст восстановлен в обратном переводе с румынского (см. Cartea Neagra, стр. 138).
(обратно)23
Яков Барер проживает в Израиле, подполковник запаса Армии Обороны Израиля.
(обратно)24
По свидетельству Я. Барера, он убил двух немцев.
(обратно)25
См. примечание [17]. Шкапская-Андреевская Мария Михайловна (1891—1952), поэтесса, очеркист; в 1942 г. опубликовала книгу ”Это было на самом деле”, где рассказывается о зверствах фашистов на оккупированных территориях СССР.
(обратно)26
Название города в тексте зачеркнуто. В сборнике ”Народоубийцы”, т. II, стр. 88 этот материал озаглавлен ”Письма сирот, проживающих в городе Ботошаны (Румыния). Письма Дины Лейбл, Рохл Розенберг и Хаи Хантверкер отсутствуют в рукописи ”Черной Книги”, попавшей в Израиль, и приводятся по упомянутому изданию.
(обратно)27
Г. Смоляр до июня 1941 года работал в Белостокском отделении Союза писателей БССР. Ныне проживает в Израиле, занимается научно-исследовательской и литературной деятельностью (см. также примечание к стр. VIII).
(обратно)28
См. примечание [17]. Смоляр Герш — еврейский журналист, писатель, написал книгу воспоминаний о борьбе и сопротивлении в Минском гетто: ”Мстители гетто” (перевод с идиша М. Шамбадала), ”Дер Эмес”, Москва, 1947 (см. также примечание к стр. 247).
(обратно)29
См. примечание [17].
(обратно)30
См. примечание [17].
(обратно)31
См. примечание [17]. Об уничтожении евреев местечка Горы говорится в книге И. Эренбурга מערדער פון פעלקער (”Народоубийцы”), т. II, изд. ”Дер Эмес”, М., 1945, стр. 136—137.
(обратно)32
Белостокское воеводство (область) было включено в СССР в сентябре 1939 г., после войны возвращено Польше.
(обратно)33
Гроссман Хайка проживает в Израиле, депутат Израильского парламента (Кнесета), входит в руководство партии ”Мапам”, член кибуца ”Эврон”.
(обратно)34
Белицкая-Бронштейн Хася проживает в Израиле, член кибуца ”Лахавот Хабаша”.
(обратно)35
Винницкая-Клибански Броня проживает в Израиле, заведует отделом Мемориального Института памяти жертв нацизма и героев сопротивления ”Яд-Вашем” в Иерусалиме.
(обратно)36
Тененбаум Мордехай.
(обратно)37
И. — Ита — уменьшительное от ”Юнита” (см. факсимиле на стр. 495).
(обратно)38
Ялта, Евпатория, Джанкой, Феодосия, Симферополь до войны входили в Крымскую АССР, которая являлась частью РСФСР. После войны Крымская АССР была ликвидирована, и в качестве области в 1954 г. вошла в Украинскую ССР.
(обратно)39
Раздел ”Литва” (280 страниц машинописного текста) до сих пор не найден и фигурирует лишь в ”Содержании”, хотя С. Цирюльников, проф. Ш. Эттингер, д-р М. Альтшулер и др. подтверждают, что видели материалы этого раздела, когда знакомились с рукописью ”Черной Книги”, в свое время доставленной в Тель-Авив.
(обратно)40
Суцкевер Авраам (Абрам Герцевич, 1913) — поэт, пишет на идише. В годы Второй мировой войны участвовал в движении сопротивления в Виленском гетто и в еврейском партизанском отряде. С 1944 года член Еврейского антифашистского комитета, сотрудничал в газете ”Эйникайт”; выступал свидетелем на Нюрнбергском процессе. С 1947 года проживает в Израиле. В настоящее время редактирует журнал ”די גאלדענע קייט” (”Золотая цепь”), Тель-Авив.
Основные произведения:
"לידער", 1937.
"װאלדיקס" (לידער), 1940.
"די פעסטונג" (פאעמעס), 1945.
"לידער פון געטא", 1946.
"ײדישע גאס", 1948.
"געהײמשטאט", 1948.
"פאעזיע און פראזע" (קורצע באשרײבונגען), 1953-1954.
"גרינער אקװאריום", 1963.
(обратно)41
Елин Меер (1910) — прозаик, пишущий на идише и литовском. В годы войны, находясь в Каунасском гетто, участвовал в движении сопротивления. Вел хронику гетто. В 1973 репатриировался в Израиль.
Основные произведения:
"פארטיזאנער פון קאונאסער געטא", "דער עמעס", 1948 (в соавторстве с Д. Гельперном).
"דער פרײז פון יענעם ברויט", 1977.
"בלוט און װאפן", 1978.
В течение одной ночи, 1963.
Mirties fortuose, 1966.
Penkios minutes po vidurnakčio, 1966.
Kauno getas ir jo kovotojai, 1969 (в соавторстве с Д. Гельперном).
(обратно)42
Йосаде Яков (1911) — прозаик, драматург, пишет в основном на литовском. В годы Второй мировой войны сражался в рядах 16-й Литовской дивизии; печатался в армейских изданиях.
(обратно)43
В основном, массовые расстрелы евреев происходили в предместье Риги Румбуле.
(обратно)44
МОПР — Международная Организация Помощи Революционерам.
(обратно)45
Известный историк, автор многотомной истории еврейского народа.
(обратно)46
Дубнов Семен (Шимон) Маркович (1860—1941) — еврейский историк, публицист и общественный деятель. Третий том его ”Книги жизни” был опубликован в Риге в конце 1940 г. Весь тираж был уничтожен нацистами. С единственного уцелевшего экземпляра было воспроизведено издание — С. Дубнов, Книга жизни. Воспоминания, размышления, т. 3, Нью-Йорк, 1957. В Рижском гетто Дубнов начал писать статью под названием ”Гетто” и вел дневник.
(обратно)47
Фрида Фрид—Михельсон ныне проживает в Израиле, где издала книгу ”Я пережила Румбулу”, издательство ”Гакибуц Гамеухад”, 1973 г. Согласно ее воспоминаниям, расстрел, во время которого она уцелела, происходил в Румбульском лесу.
(обратно)48
Жан (Янис) Липке в 1977 г. был награжден Институтом ”Яд-Вашем” медалью ”Праведника народов мира” и посадил дерево в ”Аллее праведников” в Иерусалиме.
(обратно)49
”Все евреи города Киева обязаны зарегистрироваться 29 сентября, начиная с 8 утра на Дегтяревской улице возле еврейского кладбища”. См. другой вариант объявления: [линк].
(обратно)50
См. примечание [6]
(обратно)51
”Бролюкас” — кличка, по-литовски ”братик”. Настоящее имя Бронюс Готаутас. Б. Готаутас умер в доме престарелых в ФРГ в 1973 г. S. Binkiene, Ir be ginklo kariai, ”Mintis”, Vilnius, 1967, стр. 163 (”И без оружия бойцы”).
(обратно)52
На этом месте в имеющемся варианте рукописи текст обрывается.
(обратно)53
Понары (Понар) — предместье Вильнюса (Литва).
(обратно)54
Анолик Беньямин проживает в Израиле, член кибуца ”Лохамей агетаот” (”Борцы гетто”); является сотрудником кибуцного музея Катастрофы и сопротивления.
(обратно)55
Полный вариант этого очерка вышел отдельным изданием: В. Гроссман, Треблинский ад, Москва, 1945.
(обратно)56
В несколько иной версии этот эпизод излагается в материале В. Апресяна ”Дети с черной дороги” [линк].
(обратно)57
Недостающий текст восстановлен по книге В. Гроссмана ”Треблинский ад”.
(обратно)58
См. примечание [57]
(обратно)59
”Для нас осталась только Треблинка, Это наша судьба...”. (обратно)60
”Я сорвал цветочек И подарил его любимой красотке...” (обратно)61
Внимание! Шапки снять!
(обратно)62
Выходите все!
(обратно)63
Данный очерк был опубликован в журнале ”Знамя”, №4, 1944.
(обратно)64
Ковнер Аба (1918) — поэт, пишет на иврите. Проживает в Израиле, член кибуца ”Эйн хахореш”.
(обратно)65
См. примечание [17]. Полное название этой комиссии было: ”Чрезвычайная Государственная Комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников”.
(обратно)66
Песнь надежды. Стихотворение Гатиква (”Надежда”) — гимн сионистской организации, с 1948 г. — государственный гимн Израиля.
(обратно)67
Сокращенный перевод работы В. Mark, Powstanie w Ghetcie Warszawskiem, Moskwa, 1944 (”Восстание в Варшавском гетто”). Позже в своих исследованиях об еврейском сопротивлении в Польше Б. Марк существенно расширил и уточнил материал о причинах и движущих силах восстания в Варшавском гетто.
(обратно)68
Антифашистский блок — боевая организация сопротивления, подпольно созданная в Варшавском гетто.
(обратно)69
Старая польская полиция, служившая немцам. Так называли полицию из-за цвета мундира (по-польски granatowa).
(обратно)70
Еврейский статут был принят в Англии в 1290 году и отменен в царствование королевы Виктории в 1846 году.
(обратно)71
Газета ”Свободная Германия”, №23, за 19.IX.43 г.
(обратно)72
Текст сверен с изданием ”Документы обвиняют. Сборник документов о чудовищных преступлениях немецко-фашистских захватчиков на советской территории”, выпуск II, [Москва,] 1945, где он опубликован под названием ”Доклад капитана Заура о массовом истреблении еврейского населения в г. Пинске”, стр. 34—36.
(обратно)73
В сборнике ”Документы обвиняют” данный пункт опущен.
(обратно)74
В еврейском подлиннике это слово отсутствует.
(обратно)75
Этот снимок не входил в число фотодокументов, приложенных к рукописи ”Черной Книги”. И. Эренбург прислал эту фотографию сотруднику ”Яд Вашем” Иосифу Гури в сопровождении следующего письма:
”Москва. 6 сентября 1963 г.
Уважаемый господин Гури!
По Вашей просьбе посыпаю Вам фотографию, о которой я упоминаю в своих воспоминаниях. Это — советский партизанский отряд, состоявший из евреев, которым удалось выбраться из гетто Вильнюса. Отряд принимал участие в боях во время освобождения этого города.
Перевод на иврит первой и второй части моей книги у меня имеется, благодарю Вас за внимание.
С уважением И. Эренбург”. (обратно)76
Воспроизводится по изданию И. Эренбурга, Собрание сочинений в 9 томах, т. 9, Москва, 1967, стр. 415.
(обратно)77
Там же.
(обратно)78
Там же.
(обратно)79
Там же.
(обратно)

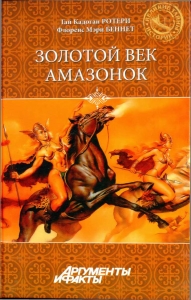
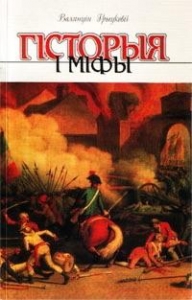
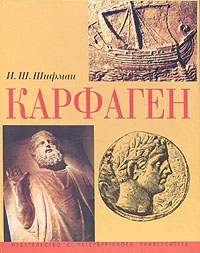
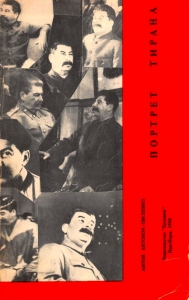
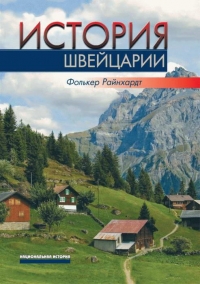
Комментарии к книге «Черная книга», Вениамин Александрович Каверин
Всего 0 комментариев