Андрей Балабуха Когда врут учебники истории. Прошлое, которого не было
Пролог. Жемчуга Клио
Я думаю, – и это никому не мешает.
Поль ВалериНачнем с генеалогии.
Некогда, во времена глубоко довременные, от брака (о любви мифы умалчивают) бога небес Урана и богини земли Геи пошел обильный род титанов, циклопов и гекатонхейров; существами они все были прелюбопытными, отношения меж ними, как водится у родичей, складывались весьма разнообразные, но сейчас не о них речь. Нам с вами важно лишь, что оказалась среди всего этого семейства некая титанида Мнемозина, ставшая вскорости богиней памяти. Впрочем, отличалась она не только памятливостью, но и красотой, – последнего обстоятельства любвеобильный бог Зевес обойти вниманием никак не мог, благодаря чему в положенный срок появились на свет девять сестричек-муз, с которыми за семь столетий до Рождества Христова познакомил человечество в первой своей поэме «Теогония» Гесиод из беотийской деревушки Аскры – второй после Гомера великий эпический поэт архаического периода и первая достоверно известная личность в древнегреческой литературе.
Вышним изволением получив на откуп обширную сферу наук и изящных искусств, девять красавиц стали их покровительницами и вдохновительницами деяний ученых и прочей творческой интеллигенции. Старшая из сестер, Каллиопа, с неразлучными вощеными дощечками и стилом, взяла под крыло эпическую поэзию. Эвтерпа с флейтою в руке споспешествовала развитию поэзии лирической, навевала вдохновение творцам любовных и эротических стихов. Театральные жанры сестрицы также поделили без споров (во всяком случае, до нас не дошло никаких слухов о столкновениях при дележе сфер влияния). Талия, с комической маской в левой руке, пастушеским посохом или бубном в правой и венком из плюща на голове, взялась покровительствовать комедии. Рослая Мельпомена с повязкой-строфой на голове, в венке из виноградных листьев, облаченная в театральную мантию, на котурнах и с трагической маской в деснице, стала дамой-патронессой трагедии. Юная Терпсихора погрузилась в заботы оперы и балета. Скромница Полигимния с головой, сокрытой покрывалом, посвятила себя пантомиме. Мудрая Урания со звездным глобусом в руках озаботилась развитием астрономии, а впоследствии – и вообще всех точных наук. И наконец, Клио, чья красота равнялась разуму, сжимая в точеной паросской руке свиток пергамента, взвалила на свои танагрски изящные плечи бремя покровительницы истории. О них-то – истории и музе – и пойдет речь. Тем более что в русском языке само это слово на диво многозначно: вы можете изучать историю, вляпаться в историю или с равным успехом поведать презабавную, скажем, историю. Хитроумные англичане, к примеру, разделяют историю как науку, как прошлое или жизнеописание – history, а также рассказанную – роман, повесть, предание, сказание – story. Слова хоть и схожие, да разные. А вам по мере чтения этой книги (как и мне – по мере ее написания) придется иметь дело со всеми этими смыслами.
Но прежде всего еще несколько слов о музе.
Подобно всем красивым женщинам, ей пришлось немало претерпеть от мужчин (так уж повелось, что в былые времена к сильному полу принадлежали все историки, да и теперь еще, по-моему, большинство). И не большинство из них, разумеется, но некоторые, пусть даже весьма и весьма немногочисленные, всеми силами пытались не служить музе, вдохновляясь ею, а либо заставлять ее служить собственным интересам, либо просто посмеяться над мудрой красавицей. Не думайте, будто всяческие А. Фоменко с г. Носовским, С. Валянский с Д. Калюжным или даже Александр Бушков – исключительно порождения нашего смутного времени с его массовым легковерием интеллектуального отчаяния и (есть спрос – найдется и предложение!) затопившими прилавки псевдонаучными сочинениями: таковые не переводились от века.
Спорить ни с кем из них я здесь не намерен. Во-первых, в последнее время нашлись наконец и журналисты, и даже серьезные ученые, занявшиеся этим благородным делом, и не мне, писателю, пусть даже всерьез интересующемуся историей, с ними тягаться. Во-вторых, гораздо интереснее, по-моему, бросить взгляд на исторический контекст и типологию этого явления.
Начнем с контекста.
В VII веке до Р.Х., точнее – около 640 года, не то в Матавре, не то в Химере, но в любом случае на Сицилии родился мальчик которого назвали Тейсием, хотя нам он знаком под прозвищем Стесихор[1], обретенным заметно позже, когда он стал известным лирическим поэтом, чьи творения были собраны впоследствии в двадцати шести книгах, хранившихся в Александрийской библиотеке. Хоть и жил Стесихор всего-то веком позже Гомера, однако тот уже стал признанным классиком, что всегда вызывает желание поспорить с авторитетом, а заодно, пристегнув таким образом его имя к собственному, и рекламу себе сделать. Так вот, в своей поэме «Палиподия» Стесихор переписал историю Троянской войны, утверждая, будто Парис увез в Трою не саму Елену Прекрасную, но лишь ее тень, тогда как Елена, вернейшая из жен, преспокойно осталась при законном супруге в Спарте. Не совсем понятно, правда, из-за чего в таком случае было десять лет воевать, но это уже, как говорится, совсем другая история… Скончался Стесихор в 555 году до Р.Х., даже не догадываясь, что стал отцом (или одним из отцов) метода произвольного пересотворения истории.
Несколькими веками позже греческий же оратор и философ по имени Дион Хризостом[2] пошел еще дальше. В своей одиннадцатой (так называемой «Троянской») речи он доказывал, что никакой Трои вообще никогда не существовало – все это, мол, Гомеровы выдумки. Впрочем, желающим он предложил впоследствии другую версию (противоречие самому себе никогда особенно не смущало этого завзятого парадоксалиста): Троя-то была, и война тоже была, вот только победили в ней вовсе не ахейцы, а как раз наоборот, троянцы, греческие же герои вернулись домой несолоно хлебавши. Но не признаваться же в подобном афронте? Вот и трубили всюду о своей великой победе. А позже Гомер превратил их хвастливые россказни в гениальную «Илиаду». «Я еще могу понять, почему мне не верят афиняне, – возмущался Дион, обращаясь к жителям Троады, – но отчего же не верите вы, потомки троянцев?» Что же, некоторые, наверное, верили…
Новое время мало чем отличалось в этом смысле от античности.
В конце XVIII века француз Шарль дю Пюи (1742–1809) разработал астрально-мифологическую теорию, согласно которой ключом к любым мифам, а также вообще истории всех религий является астрономия. Основываясь на оном тезисе, дю Пюи уверял, будто Иисус Христос – символическое изображение Солнца, а Его смерть и воскресение представляют собой метафорический рассказ о затмении дневного светила. Библейский же миф об изгнании из рая – суть описание осеннего равноденствия, когда на восточном небосклоне появляется созвездие Змееносца. Последователей у дю Пюи, надо сказать, появилось немало, функционируют они и по сей день.
Правда, и посмеяться над подобными штудиями охотники издавна находятся. Так, в начале XIX столетия во Франции увидела свет брошюрка, скромно озаглавленная «Почему Наполеона никогда не существовало, или Великая ошибка – источник бесконечного числа ошибок, которые следует отметить в истории XIX века». Еще при жизни Наполеона анонимный автор[3] доказывал, что великий император являет собой чистейший солярный миф. Имя Наполеон – не более чем анаграмма от Аполлон (тем более что матерью Аполлона была титанида Лето, а мать Наполеона звали Летицией), тогда как фамилия Бонапарт – просто bona parte[4], то есть лучшая часть суток, день. Во всем этом без труда просматривается связь с Ормуздом-Ариманом и принадлежность героя к царству света, добра и солнечного начала. Четверо братьев императора олицетворяют времена года, а двенадцать его маршалов являют собой аллегорию знаков Зодиака… Остроумный памфлет, высмеивающий радения дю Пюи, немало позабавил читающую публику и даже, говорят, самого императора – во всяком случае, автора не разыскивали и репрессиям не подвергали, хотя по части оскорбления величества законы тогда были более чем строгие.
Несколько позже немецкий религиовед Древе (1865–1935) добавил к астрально-мифологической теории собственную методу творческого отношения к этимологии, также приобретшую с тех пор широкое распространение. Например, имя апостола Андрея он произвел от индийского Индры (чье имя якобы может звучать и как Андра). Следовательно, ученик Христов – лишь возрождение представлений древнеиндийской религии. Далее, в сказании о походе царицы Семирамиды на Индию Индра назван Старобатесом (от зендского «стаора пати» – владыка быков). Но по-гречески «стауро патес» – «страдающий на кресте»; апостола же, как известно, именно на косом кресте и распяли (откуда, в частности, и Андреевский флаг). Имя брата Андрея, Петра, будто бы имеет связь с названием города Патры, а тот, как известно, лежит близ Эгия – города, названного в честь Эгея, который почитался в древности как морской бог, вследствие чего отождествляется с Андреем, ибо последний, будучи сыном рыбака, имел прямое отношение к водной стихии…
Не могло не затронуть поветрие и наших соотечественников. Первым, насколько я понимаю, был Николай Морозов[5]. С ним, правда, случай особый. Без малого четверть века по тюрьмам – свихнуться впору! Вот как раз чтобы не свихнуться, он в камере и занимался, чем мог. Перетолмачивал, например, на язык родных осин Шекспира, причем, отдавая себе отчет, что особого литературного дарования не имеет, производил переводы подстрочные, хотя и достаточно адекватные. Не оставил он без внимания также историю – и пришел к выводу, что Апокалипсис представляет собой запись небесных явлений, имевших место 30 сентября 395 года, а все персонажи Откровения – олицетворения планет, звезд и созвездий. В семитомном труде «Христос» Морозов и вовсе переписал всю хронологию человечества, размашисто вычеркивая целые эпохи и объединяя личности. Что ж, понять можно – сиделец развлекался, убивая время (ведь кабы не революция 1905 года – томиться бы ему в узилищах не двадцать три, а все шестьдесят четыре года; тут чем только не займешься, чего не выдумаешь!). Так что – пусть его. Он, по крайней мере, на своих спекуляциях не зарабатывал. И никоим образом не виноват, что сегодня у него оказалось множество продолжателей, отнюдь не отличающихся бескорыстием почетного академика…
Наконец, непосредственным предшественником нынешних фоменок с калюжными был (кстати, куда более известный во всем мире за пределами российских палестин) Иммануил Великовский, автор многих книг, из которых наибольший интерес в контексте нашего разговора представляют две – «Столкновение миров» (1950) и «Времена в хаосе» (1952). В частности, он утверждает, что упоминаемые в Библии амаликитяне, разбитые при Рефидиме евреями, под водительством Моисея шедшими в Землю обетованную, – это гиксосы, кочевые азиатские племена, те самые, что около 1700 года до Р.Х. захватили Египет, поселившись в Дельте, основали собственную столицу Аварис и властвовали над страной до начала XVI века до Р.X., пока не были изгнаны в ходе длительной и кровопролитной войны. И у египтологов, и у тех, кто занимается библейской историей, от такого утверждения волосы встают дыбом. Великовский же ничтоже сумняшеся перемещает правление могущественной XVIII династии на пятьсот лет позже, чтобы объяснить загадки, связанные с царствованием Соломона. Объясняет, точно – да вот беда: вся достоверная египетская хронология рушится при этом бесповоротно… Великовский же тем временем, ничуть не смущаясь, соединяет в одно лицо правившую во второй половине X века до Р.Х. царицу Савскую, чей бурный роман с царем Соломоном описан в Библии, и египетскую женщину-фараона Хатшепсут (1525–1503 гг. до Р.Х.). Именно вдохновляясь этим примером Великовского, Фоменко в наши дни доказывает, будто Жанна д’Арк (о ней мы будем подробно говорить в четвертой главе) и библейская судья-пророчица Дебора, возглавившая завоевание древнееврейскими племенами Палестины, чья «Победная песнь» является одним из древнейших памятников еврейского эпоса, – одно и то же лицо: мол, и та, и другая пророчествовали и обе принимали участие в военных действиях… И что с того, если между ними чуть ли не три тысячелетия – зато красиво!
Как видите, псевдоисторики с достойным лучшего употребления постоянством измывались над своей покровительницей Клио всегда.
А вот мотивы у них были разными, хотя все-таки и немногочисленными.
Мотив первый – личные цели. Придумывая в своей «Палиподии» историю с тенью Елены Прекрасной, Стесихор обеспечивал себе благосклонный прием в Спарте, где намеревался прожить некоторое время: ведь там Елена почиталась уже не как венценосная супруга царя Менелая, но как богиня.
Мотив второй – привлечение внимания. Проще всего сделать это с помощью элементарного приема, вывернув события наизнанку, объявив бывшее небывшим и наоборот. Все знают, что в Троянской войне победили ахейцы, а я примусь утверждать, будто троянцы; так оно или не так, а Диона Хризостома запомнят… Прибегая к помощи именно этого инструмента, в наши дни Александр Бушков доказывал, например, будто Великую Китайскую стену принялись возводить не велением императора Цинь Ши-хуанди[6], а по приказу великого кормчего – председателя Мао.
Третий мотив представляет собой модификацию второго, однако за неимением возможности совершить историческое открытие для достижения цели из истории что-нибудь вычеркивается. Можно по-морозовски доказывать, будто никогда не существовало Древнего Рима, например. Или по-фоменковски вычеркнуть из истории тысячелетие-другое.
Четвертый мотив – политический (или идеологический). Чаще всего к нему прибегают, желая отыскать великое прошлое своего народа. Именно с такой целью наш соотечественник Василий Модестов[7] доказывал, будто древние этруски, эти духовные отцы великого Рима, – на самом деле восточные славяне, русские (этруски – эт’ русские)… Весьма, кстати, популярная сегодня среди отечественных псевдоисториков точка зрения. Что ж, гордые сыны Альбиона тоже возводят свое происхождение к троянскому герою[8]. Почему бы и нет?
Или вот сравнительно недавно британская газета «Дейли телеграф» опубликовала новый взгляд на историю основания Рима. В противовес канонической версии, согласно которой основателями Рима были Ромул и Рем, братья-близнецы, дети весталки Реи Сильвии и бога войны Марса, вскормленные Капитолийской волчицей и воспитанные пастухом Фаустулом и его женой Аккой Ларенцией, газета пишет об открытии античных стихов, рассказывающих о некоей женщине по имени Рома, которая на закате дня привела к устью Тибра троянский флот. Место настолько очаровало ее, что Рома велела сжечь корабли и строить город, который потом по всеобщему решению нарекли ее именем. Гипотезу подкрепляет и биография автора означенных стихов: поэт, мол, родился всего через 115 лет после основания Вечного Города, а потому вполне мог узнать об этих обстоятельствах из семейных преданий, поскольку уже его прадед являлся современником Ромы. Догадались, кто автор гипотезы? И правильно – женщина. Кстати, одна из ее единомышленниц недавно опубликовала труд, утверждающий, будто Иисус Христос также был – вы уже догадались? – конечно, женщиной: какому же, мол, мужчине придет в голову идея всеохватной христианской любви? Так сказать, феминизм на марше.
Но не стану утомлять вас перечислением. Мотивов можно насчитать еще несколько, однако картины это принципиально не изменит, а с подобной задачей всякий легко может справиться и сам, не слишком напрягая воображение.
Тем более что речь обо всем вышеперечисленном я вел исключительно ради одного: предупредить, что в моей книге ничего подобного вы не найдете.
Меня интересовали не построения псевдоисториков, а мифы, которыми история обрастает неизбежно и неизменно, – вследствие умысла исторических деятелей, непонимания или своеобычного понимания хода событий хронистами и современниками и так далее.
Причем мифы эти, надо сказать, отнюдь не издевательство над Клио, скорее – ее украшение. Этакое ожерелье из переливчатых многооттеночных жемчужин, которое древние греки забыли поместить на ее будто Фидием, Лисиппом или Праксителем изваянную шею. В мифах все проступает в самом чистом, совершенном и завершенном виде, будь то благородство или злодейство, подвиг или преступление, любовь или ненависть… Именно поэтому мифы и бессмертны, подобно античным богам. На них можно сколько угодно покушаться, можно доказывать их несостоятельность, однако, подчиняясь собственной внутренней логике и законам психологии, они упорно будут продолжать когда торжественное шествие, когда еле приметное существование – до тех пор, пока не умрут своей смертью. Опять же, как боги-олимпийцы. Классическое: «Великий Пан умер!» Бессмертный бог – и умер? Так что ж? Мифу ли бояться противоречий?
И в то же время каждый миф – это вызов естественному человеческому стремлению докопаться до правды. Мифу-то ведь все равно – ради своей художественной задачи он может кого угодно оболгать, сделав без вины окаянным; или, наоборот, возвеличить облыжно (очень люблю я это старое, многозначное слово, замены которому нет[9]). И всякий раз нестерпимо хочется понять: а что же было на самом деле? Отнюдь не затем, чтобы «разоблачить» миф и «восстановить правду истории»: это делалось бессчетное число раз, однако наши основанные на документальных источниках знания о прошлом никоим образом не способны уничтожить исторический миф как феномен. Они сосуществуют, – иногда борясь друг с другом, иногда не замечая друг друга, а порою даже взаимно обогащаясь… Просто история стремится (в идеале, на деле так никогда не получается, конечно) возможно полнее описать реальную действительность, тогда как миф отбирает из нее лишь то, что ему нужно, интерпретируя отобранное так, как ему необходимо. Слишком разные у них задачи.
История – наука, помогающая ориентироваться во времени и в обществе, «наделяющая юность разумом стариков», как писал еще Диодор Сицилийский[10], научающая работать с прошлым и, следовательно, понимать настоящее.
Иное дело миф, возникший раньше любых наук (исторической в том числе) и объяснявший, как устроен мир, где в нем место человека, к какому племени этот последний принадлежит и как ему взаимодействовать с духами, с природой, со своими соплеменниками, а также и с иноплеменниками. Из мифа человек получал сведения о мироустройстве и модель собственного поведения – то, что в терминах психологии именуется паттерном[11]. Каков паттерн – так и надлежит себя вести; каждый паттерн – готовая программа поведения в предполагаемых обстоятельствах.
История – в обыденном ее восприятии – неизбежно несет на себе отпечаток мифа: у каждого народа имеется образ, каким он видит себя и собственных предков. Это не имеет никакого отношения ни к правде, ни ко лжи – всего лишь миф, в который мы верим. Но любые события прошлого мы неизбежно трактуем и оцениваем, отталкиваясь именно от этих паттернов. Потому и в учебники истории, и в исторические романы чаще всего попадает лишь то, что работает на миф, а все, идущее с ним вразрез, остается за пределами описываемого, хотя исторической науке чаще всего прекрасно известно. Однако это известное неизменно воспринимается общественным сознанием (или, скорее, подсознанием) как покушение на миф.
«Почему же, понимая все это, мы искренне… полагаем, что историю нужно защищать, как будто кто-то способен повлиять на факты, давно случившиеся? – задается вопросом современный философ Кирилл Решетников и отвечает: – Потому, что примитивное государство всегда нуждается в героях. Оно, как Прекрасная Дама, распространяет свой мифологический портрет среди рыцарей, и его не волнует, что нарисованное на этом портрете может нисколько с реальностью не совпадать. В России взращен человек эмоционально невзрослый – инфант. То есть не привыкший строить свои поступки сам и отвечать за них. Если модель поведения, заложенная мифами о предках, ломается, не выдержав столкновения с реальной жизнью и реальными человеческими поступками, человек теряется, он не привык думать и действовать сам, вне паттернов! Подсознательно такой невзрослый человек нуждается в защитнике. В насквозь мифической “истории из учебника” всегда есть былинные богатыри, которые его защитят. Они непогрешимы. На них проецируется образ отца. Человек осознает их как своих личных защитников. И если кто-то достает на свет о героях неприятную правду, это воспринимается как “наезд на отцов”».
Хочу подчеркнуть: эта книга – именно об известном (тут, впрочем, стоит напомнить известное же высказывание Аристотеля: «Многое известное известно немногим»). Как уже говорилось, я не историк, а писатель, и потому неизменно опирался на первоисточники и труды тех, кто занимается изучением прошлого профессионально, – всем им, историкам, археологам, архивистам, хронистам, летописцам, жившим за пять веков до Рождества Христова и ныне здравствующим, мой низкий поклон: без их великого труда я не написал бы и строчки. Как говорил Бернар Шартрский, французский философ-схоласт, скончавшийся между 1124 и 1130 годами, «…мы подобны карликам, усевшимся на плечах великанов; мы видим больше и дальше, чем они, не потому, что обладаем лучшим зрением, и не потому, что выше их, но потому, что они нас подняли и увеличили наш рост собственным величием»[12].
Вот только беда – разрушать в процессе исследования прекрасную жемчужину, чтобы выяснить, вокруг какой невзрачной песчинки она образовалась, все-таки нестерпимо жаль. К счастью, в наш век технического прогресса сделать это можно при помощи щадящих технологий – рентгена, ультразвука и многих иных ухищрений.
Надеюсь, исследуя происхождение жемчужин Клио, мне удалось использовать лишь такие методы.
Часть I. Без вины окаянные
Глава 1. Злодей, но жертва клеветы
Стирать чернильное пятно
С пятнистой шкуры леопарда…
В. ЕритасовВенценосное чудовище
Признаюсь, я не сразу решился включить эту главу – да еще первой – в часть, озаглавленную «Без вины окаянные». Уж кто-кто, а Нерон – и без вины?
Разве не он сперва сожительствовал с родной матерью, а потом приказал ее убить? Разве не он отравил своего сводного брата Британика? Разве не он приказал вскрыть вены своей жене Октавии, чтобы выдать убийство за самоубийство? Разве не он приказал покончить с собой своему воспитателю Сенеке[13]? Разве он не принудил к самоубийству Гая Петрония?[14] Разве не постигла та же судьба самого талантливого из полководцев – Корбулона и двух других – братьев Скрибониев, которым пришлось заколоться на глазах у императора? Разве не он ударом ноги убил свою вторую жену, Поппею Сабину, после чего лицемерно устроил ей пышные похороны – тело не сожгли, а забальзамировали по восточному обычаю? Разве не по распоряжению Нерона рабы утопили его пасынка Руфия Криспина? Разве не он потехи ради учинил в Риме страшный пожар? Разве не он обвинил в поджоге ни в чем не повинных христиан и обрек их на жесточайшие муки?
И ведь перечисленное – далеко не полный список злодеяний венценосного чудовища. И ведь все это (или почти все, но об этом-то и пойдет речь ниже) – сущая правда. Разве не Нерона предавали посрамлению и современник Виндекс, и младший современник Тацит[15], и родившийся через год после его бесславной смерти Светоний[16], и живший веком позже Кассий Дион[17], и многие другие? И разве не поддержали их, подлив немало масла в огонь, средневековые сочинители? Разве не его, Нерона, имя зашифровано в Библии апокалипсическим «числом зверя?»[18] Окончательно же закрепил в массовом сознании образ Нерона как самодурствующего тирана и вообще личности в высшей степени презренной блистательный «Quo Vadis»[19], переведенный чуть ли не на все европейские языки и (что в наше время весьма немаловажно) неоднократно экранизированный.
Из всего сказанного выше вырисовывается фигура прямо-таки ужасающая – клейма ставить некуда. Какой уж тут без вины окаянный?!
И все-таки…
Но прежде чем продолжить рассказ, позволю себе коротенькую биографическую справку, поскольку не могу быть уверен, что каждый из читателей помнит в основных чертах жизнеописание Нерона. Знатоки истории, спокойно пропустите следующую главку, поскольку это всего-навсего краткая
Биографическая справка
Агриппина Младшая, мать Нерона (мрамор, начало I в., Новая Карлсбергская глиптотека в Копенгагене)
Итак, Клавдий Друз Цезарь Август Германик Нерон (37–68), римский император с 54 года. Он был сыном Гнея Домиция Агенобарба, отпрыска процветающего, но известного крайней жестокостью патрицианского рода, и Агриппины Младшей, дочери полководца Юлия Цезаря Германика, племянника и приемного сына императора Тиберия[20]. Поначалу мальчик звался Луцием Домицием Агенобарбом; многочисленные же имена, под которыми вошел в историю, он получил при усыновлении императором Тиберием Клавдием Нероном Германиком, женившимся на его матери.
Нерон унаследовал властолюбие от матери, наклонность к жестокости – от отца, который как-то раз собственноручно убил вольноотпущенника за отказ напиться допьяна, нарочно задавил ребенка на улице и выколол глаз представителю почтенного сословия всадников, следующего непосредственно за сенаторским, дерзнувшему всего лишь не согласиться в чем-то с единственно правильным, разумеется, мнением Агенобарба. Правда, наследственные пороки Нерона смягчались любовью к поэзии и искусству, а первое время обуздывались ближайшим окружением: властолюбивая мать в собственных интересах сдерживала его властолюбие, а воспитатель, ловкий царедворец Сенека, красноречивыми беседами о добродетели сумел произвести впечатление на склонного к театральности Нерона и вместе с префектом[21] преторианцев[22], вольноотпущенником Афранием Бурром, долго руководил его политикой.
Нерон (мрамор, 50-е гг. I в., Национальный римский музей)
В это время Нерон твердо придерживался традиций Августа[23], стараясь возродить моральный дух и укрепить материальное положение сената. С этой целью были пересмотрены и стали заметно строже законы – с одной стороны, против вольноотпущенников, стремящихся проникнуть в знать, а с другой – против рабов, дабы оградить их владельцев от покушений. Квесторы[24] были освобождены от разорительной обязанности устраивать за свой счет игры. Небогатые сенаторы получали из казны обильную поддержку. У трибунов была отнята интерцессия[25]. Суд за оскорбление величества бездействовал. Награда за донос была снижена до четверти прежней суммы.
Сенека – воспитатель Нерона (мрамор, I в.)
Экономическая и финансовая политика Нерона в этот период преследовала исключительно государственное благо, хотя и оказалась неудачна: отмена пошлины на привозной хлеб окончательно подорвала среднее и мелкое землевладение; попытки колонизовать опустелые земли ветеранами провалилась; план заменить все налоги только двумя – поземельным и налогом на наследство – разбился о противодействие сената, хотя бережливость и улучшения во взимании налогов обогатили фиск. По отношению к провинциям Нерон также следовал по стопам Августа: их правители были подчинены строгому контролю, а население – избавлено от некоторых наиболее непопулярных повинностей.
Внешняя политика Нерона оказалась удачнее. Наместник в Британии Светоний Паулин усмирил восстание Боудикки[26]; Гней Домиций Корбулон удачно выступил против германцев, а затем восстановил утраченное при Клавдии римское влияние в Армении и Парфии. (Пользуясь огромным влиянием в армии, Корбулон мог легко свергнуть Нерона, однако не сделал этого. Нерон же в 67 году, будучи в Греции, призвал полководца к себе и сразу же по высадке на берег казнил.) Тем не менее римский историк IV века Секст Аврелий Виктор писал в своих «Цезарях»: «В первое пятилетие [Нерон. – А.Б.] был таким правителем, особенно в отношении расширения границ Империи, что Траян[27] с полным основанием часто повторял: управление всех принцепсов[28] намного уступает этому пятилетию Нерона». В этом отношении на оценку такого императора, как Траян, вполне можно положиться.
Вскоре, однако, стоицизм оказался бессилен противодействовать развращающему влиянию среды, в которой жил Нерон. Чтобы устранить при дворе опасных конкурентов, Сенека и Бурр начали потакать порокам императора. Они содействовали его охлаждению к жене, Октавии, не имевшей на супруга влияния, и привлекли на свою сторону фаворитку Нерона, наложницу Актею, что вызвало раздражение Агриппины Младшей и окончательно испортило отношения Нерона с матерью. Воспользовавшись этим, наставники Нерона добились удаления Палласа, главной опоры Агриппины, а когда она пригрозила противопоставить Нерону сына Клавдия, юного Британика, то принцепс прибег к помощи известной римской ворожеи галльского происхождения – Локусты – и отравил сводного брата. Когда же Актею сменила честолюбивая красавица Поппея Сабина, жена Отона (впоследствии императора), то под ее влиянием Нерон решился на убийство матери. После неудачных попыток отравить и утопить Агриппину к ней подослали убийцу, а потом за ее смерть казнили невинного человека. Убийство матери, произошедшее в 59 году, окончательно убило и совесть Нерона.
Поппея Сабина – вторая жена Нерона.
Современный рисунок с римского бюста I в.
Начались безумные и свирепые оргии. Несясь по жизни без руля и без ветрил, Нерон, казалось, совершенно не заботился об управлении государством и вел себя так, будто весь мир существует исключительно для его удовольствия. Жизнь его до краев наполнилась разгулом, развратом, расточительством и разнузданной жестокостью. Любовь Нерона к искусству извратилась в скандальное увлечение актерством; император сначала наездничал в цирке, потом построил особый театр, где актерами являлись сенаторы, самые бесстыдные роли исполняли наиболее знатные матроны, а сам принцепс выступал певцом и музыкантом. Затем в подражание греческим Олимпиадам были учреждены проводящиеся раз в пять лет Неронии, причем сам император являлся непременным участником этих игр.
Когда в 62 году умер Бурр, Сенека утратил влияние на Нерона (и впоследствии был вынужден по приказу императора покончить жизнь самоубийством). С этих пор оргии сменились жестокостями. Сначала погибла Октавия, потом и сама Поппея Сабина. Правительственная деятельность Нерона с 62 года и до самой смерти сводится к казням и вымогательству денег у граждан, провинций, городов и сословий. Казалось, принцепс поставил перед собою цель полностью истощить великий Рим – богатейшее государство своего времени. «Денежные поборы опустошили Италию, разорили провинции, союзные народы и государства, именуемые свободными, – писал в своих “Анналах” Тацит. – Добыча была взята и с богов, ибо храмы в Риме были ограблены, и у них отобрали золото». Светоний же приводит такое высказывание Нерона: «Будем действовать так, чтобы ни у кого ничего не осталось!».
Страшный пожар, случившийся в Риме в 64 году – причем поджигателем многие источники считают самого же Нерона – повлек за собой не только казни невинных людей, но и чудовищные затеи императора: он построил себе Золотой дворец, хотел продолжить римские стены до Остии или довести море до Рима и т.п. Чтобы добыть денег, Нерон делал принудительные займы, портил монету[29], грабил храмовые сокровища, похищал золотые статуи, задерживал солдатское жалованье, поощрял взяточничество и даже грабеж магистратов, делясь с ними добычей или отнимая награбленное, и производил конфискации в самых широких размерах. Удобным поводом для конфискаций послужило раскрытие заговора Пизона; для этой же цели выдумывали мнимые заговоры, причем Нерон старался истреблять особенно популярных начальников в армии и в провинции.
Постыдное артистическое путешествие по Греции, совершенное в 66–67 годах, довело всеобщее негодование до предела. В 68 году в Лугудунской Галлии[30] восстал пропретор[31] Гай Юлий Виндекс, затем Гальба[32] возмутил испанские легионы, наконец, императору изменили преторианцы. Покинутый всеми, последний представитель династии Юлиев-Клавдиев бежал из Рима и после долгих колебаний покончил жизнь самоубийством. Его последними словами были: «Какой великий артист погибает!» – и: «Вот она, верность!»
В основу этой справки я совершенно сознательно положил «Римскую империю времен Нерона» – труд немецкого историка Г. Шиллера, самого, пожалуй, объективного и непредвзятого по отношению к нашему герою (чуть было не написал «доброжелательного», но таких вообще не сыскать). Следовательно, именно таким (и это в лучшем случае!) предстает он перед судом истории.
Однако всякий суд на то и суд, чтобы быть объективным, тем более что каждый из нас выступает здесь присяжным заседателем и должен быть совершенно уверен, что подсудимый виновен по каждому эпизоду дела. Мы вольны вынести любой, сколь угодно суровый приговор, но – лишь за подлинно содеянное. Оговорю сразу же: у меня и в мыслях нет оправдывать Нерона в целом. Может быть, краски на его портрете и сгущены недоброжелателями (а таковых хватало – от сводившего с покойным императором личные счеты Виндекса до средневековых переписчиков трудов античных авторов, речь о каковых переписчиках еще впереди). По всей видимости, Нерон был просто человеком, оказавшимся не на своем месте. Не знаю, был ли он великим артистом, но хорошим – несомненно (жаль, не сохранилась его поэма «Троика» – любопытно было бы почитать). Он был поэтом, композитором, исполнителем-кифаредом и актером, причем в этом последнем качестве – к вящему восторгу нынешних психоаналитиков – с наибольшим успехом выступал не в роли безумного Геракла, что тоже имело место, а в ролях жившего с собственной матерью Эдипа и матереубийцы Ореста… Слава о Нероне как покровителе искусств пережила века. Однако слабоволие, простительное артисту, губительно для императора. Смелости Нерону недоставало точно так же, как и воли. Как отмечает современный французский историк Жильбер-Шарль Пикар, он дрожал по всякому поводу – сначала перед матерью, потом перед своими воспитателями, наконец, перед сенатом, народом, армией, зрителями в театре, судьями на состязаниях, рабами и женщинами. Легенда утверждает, будто Нерон убивал удовольствия ради. Нет! Исключительно из страха. Он хотел отменить смертную казнь в армии, задумал изменить правила гладиаторских боев, чтобы гладиаторы бились не насмерть. Но, когда его охватывал страх, он убивал, точно загнанный зверь.
Даже при самом доброжелательном подходе усмотреть в Нероне нечто положительное, прямо скажем, весьма затруднительно, а скорее – так вовсе невозможно. И все-таки, повторяю, мы – присяжные на суде истории. А как минимум по трем эпизодам Нерон, судя по всему, невиновен, и потому изъятие этих эпизодов из дела требуется если не для обеления подсудимого, то для очистки нашей собственной совести.
Вот давайте их и рассмотрим. Но сперва – кое-что о делах семейных.
Дела семейные
Мессалина, третья жена императора Клавдия, родила ему сына, которого счастливый отец нарек Британиком, – в честь победы над Британией. Распутство Мессалины было – и осталось по сей день – притчей во языцех. Судите сами: она умудрилась, презрев всякую видимость приличий, при живом муже и даже не будучи разведенной с ним выйти замуж за своего любовника Силия, рассчитывая провозгласить его императором. Это переполнило чашу терпения даже у многотерпеливого Клавдия – пятидесятивосьмилетний император казнил жену и объявил войскам: «Увы, я всегда был несчастлив в браке, а посему даю обет безбрачия на всю оставшуюся жизнь. И ежели нарушу обет сей, вы будете вправе низвергнуть меня». Однако в скором времени он не выдержал и обручился со своей племянницей Агриппиной Младшей, матерью Нерона.
Внучатая племянница императора Тиберия, она была изнасилована родным братом, будущим императором Калигулой[33] – как, впрочем, и две ее сестры. Прознав об этом, Тиберий разлучил сестер с братом и поспешил выдать их замуж. Так Агриппина стала женой уже упоминавшегося Домиция Агенобарба, который был старше ее на двадцать пять лет и, между прочим, делил ложе с собственной сестрой. Когда Агенобарб скончался от водянки, вдова поспешила выйти замуж за патриция Пассиена Криспа. Но тут распростилась с жизнью Мессалина, а за нею как-то уж слишком своевременно и Крисп – молва утверждала, будто и здесь не обошлось без вмешательства пресловутой Локусты. Итог вам уже известен. Брак Агриппины с Клавдием «явился причиною решительных перемен, – пишет Тацит, – всеми делами Империи стала заправлять женщина, держащая узду крепко натянутой, как если бы ее сжимала мужская рука».
Теперь Агриппине оставалось добиться, чтобы право на трон перешло к Нерону, а не к прямому наследнику Клавдия – Британику. В качестве первого шага она попросила для сына руки Октавии, дочери Клавдия. Правда, Октавия уже была помолвлена, однако Агриппина обвинила ее жениха Юния Силана в преступной кровосмесительной связи; представ перед сенатом, тот вынужден был покончить с собой, после чего помолвка была пышно отпразднована, хотя свадьба, принимая во внимание нежный возраст жениха и невесты, состоялась лишь четырьмя годами позже – в 53 году. Так Нерон стал пасынком и одновременно зятем императора. А поскольку по материнской линии он был прямым потомком Августа, то вполне мог претендовать на императорский престол.
Если бы не очевидный наследник – Британик…
Агриппина не решилась умертвить родного сына Клавдия, но зато уговорила Клавдия усыновить Нерона. Бесчисленными интригами она сделала все, чтобы превознести сына, снискав ему любовь римского народа. Сказано – сделано: вскоре Рим начисто забыл про еще недавно популярного Британика; у всех на устах был только Нерон.
Клавдий, казалось, не замечал происков супруги. Но только казалось: неожиданно от людей ближайшего окружения императора Агриппина узнала, что тот собирается развестись с нею, облачить Британика в одноцветную тогу[34] и официально провозгласить наследником. Что ж, для решения подобных проблем и существует Локуста, а вкус отравы не чувствуется в белых грибах – излюбленном лакомстве Клавдия. Пообедав, император потерял сознание, и его унесли в личные покои. Однако то ли яду оказалось мало, то ли организма Клавдия крепок – так или иначе, император пришел в себя и у него началась обильная рвота. «К тому же, – пишет Тацит, – приступ поноса доставил ему видимое облегчение». О дальнейшем источники рассказывают по-разному. Большинство сообщает, что тотчас по отравлении у Клавдия отнялся язык, и он, промучившись ночь, умер на рассвете. Некоторые же утверждают, что отраву пришлось дать вновь – то ли примешав в кашу, которой больному следовало подкрепиться после рвоты, то ли введя с промыванием, чтобы этим якобы облегчить его от тяжести в желудке.
Уговорить преторианскую гвардию оказалось не слишком сложно, хотя ощутимо дорого. Однако игра стоила свеч. Получив все причитающееся, преторианцы приветствовали Нерона кличем:
– Да здравствует император Нерон!
Столь же сговорчивым оказался и сенат: Нерона не только провозгласили принцепсом, но и нарекли «отцом отечества». Впрочем, по совету Сенеки Нерон отклонил высокий титул, который не пристало носить в семнадцать лет, и такая скромность произвела самое благоприятное впечатление.
Так осуществилась мечта Агриппины – она взошла на вершину власти, чтобы осуществлять ее через сына-принцепса, безвольного и мягкого воспитанника философа-стоика.
Надо сказать, родительская власть в Риме была непререкаемой. Однако Нерон неожиданно восстал. Он – принцепс, он глава государства, он будет вершить дела сам, и его правление будет отмечено печатью мира и справедливости. Причем его слова были вполне чистосердечны. Когда однажды Сенека дал ему на подпись указ о казни двух разбойников, Нерон в сильнейшем волнении воскликнул: «О, если бы я не умел писать!» Между сыном и матерью разгорелась настоящая война. И в какой-то момент Агриппина, решив припугнуть сына, пригрозила, что поддержит притязания Британика на престол. Нерон прекрасно знал, как хорошо осуществляются материнские планы…
Дело Британика
Описывают его следующим образом.
В один из ближайших дней Нерон собрал самых близких друзей, чтобы в их кругу отметить праздник Сатурналий. Был среди приглашенных и Британик. Каждому из гостей надлежало показать себя в каком-то жанре – поэзии, пении, танце… И когда настал черед Британика, «тот, – рассказывает Тацит, – твердым голосом завел песнь, полную иносказательных жалоб на то, что его лишили родительского наследия и верховной власти». Это был отрывок из Цицерона:
С рожденья обречен я на злосчастье. Известно ль вам, что я на трон был наречен? А ныне я всего – богатства, власти, Как видите, Фортуною лишен…Нетрудно догадаться, какое впечатление это произвело на собравшихся – и в первую очередь на Нерона. Большинство историков – будь то древних, будь то современных – единодушны: именно тогда Нерон возненавидел сводного брата и решил свести с ним счеты.
Однако следующие две недели юноши были неразлучны. Нерон всячески обласкивал Британика, хотя и достаточно своеобразно: «в течение нескольких дней перед убийством брата, – пишет Тацит, – Нерон неоднократно подвергал надругательствам его отроческое тело». Спешу заметить моралистам: в античном мире, не знавшем идей политкорректности и борьбы за равноправие сексуальных меньшинств, к гомосексуализму относились достаточно терпимо и особым грехом мужеложство отнюдь не считали.
А потом опять настал черед Локусты, только на этот раз к ее услугам прибег сам Нерон. На обеде, проходившем в присутствии Нерона, Агриппины и множества приглашенных, Британику подали отравленное питье. «Поскольку все его кушанья и напитки, – пишет Тацит, – отведывал выделенный для этого раб, то, чтобы не был нарушен установленный порядок или смерть обоих не разоблачила злодейского умысла, была придумана следующая уловка. Еще безвредное и уже надлежащим образом проверенное, но недостаточно остуженное питье было передано Британику. Тот отверг напиток, как чрезмерно горячий. Питье разбавили холодной водой с разведенным в ней ядом, который мгновенно проник во все внутренности юноши, так что у него разом пресеклись голос и дыхание».
Все знали: Британик страдал эпилепсией, что было не в диковинку для рода Юлиев-Клавдиев; ею был отмечен и сам Гай Юлий Цезарь. И Нерон, когда сводного брата уносили, успокоил гостей, говоря, что волноваться нечего, – просто очередной припадок. Но вскоре было объявлено, что Британик умер. Так Нерон совершил свое первое преступление.
А теперь давайте разбираться.
Факт этого отравления вызвал большие сомнения у современного французского историка Жоржа Ру. По его словам, «есть все основания полагать, что история убийства Британика – чистая выдумка». Вкратце доводы его сводятся к следующему.
Историю эту первыми поведали urbi et orbi[35] Светоний и Тацит, однако оба писали чуть ли не полвека спустя после случившегося, когда поносить Нерона было признаком хорошего тона. Современники же – Сенека, Петроний (в своем предсмертном письме), даже не слишком доброжелательный к принцепсу Виндекс и младший современник Плутарх[36] – не упоминают об этом вовсе. Они дружно обвиняют Нерона в матереубийстве, однако об убийстве Британика столь же дружно хранят молчание.
Если бы Нерон и впрямь хотел избавиться от Британика, зачем делать это у всех на глазах? Неугодного сводного брата куда проще было сослать в отдаленную провинцию и поручить верным людям убить его там (именно так произошло впоследствии с Октавией). А если уж непременно делать ставку на отравление, то почему бы не прибегнуть к медленнодействующему яду, чтобы постепенное угасание брата больше походило на естественную смерть? Ведь даже отравленный тою же Локустой Клавдий (а убрать его Агриппине нужно было спешно: объявление о разводе и присвоении Британику статуса официального наследника могло произойти в любой момент!) умирал больше двенадцати часов. А тут «едва Британик пригубил кубок, как у него разом пресеклись голос и дыхание», – пишет Тацит. Следовательно, Британик упал замертво. Иными словами, был использован быстродействующий яд. А был ли такой известен в Древнем Риме?
Этот вопрос заинтересовал Жоржа Ру. Опросив многих химиков и токсикологов, он получил однозначный отрицательный ответ. Более того, яды такого рода не были известны даже в Средние века, когда активно использовали мышьяк, например, или загадочную aqua Tofana – все эти яды убивали верно, однако в течение многих часов или даже дней. Так считают, в частности, доктор Раймон Мартен и профессор Кон-Абрэ. А по мнению доктора Мартена, «мгновенная смерть Британика очень напоминает аневризму сердца, часто наблюдаемую во время эпилептических припадков». Трудно сказать, сколь достоверен этот диагноз, поставленный через две тысячи лет после смерти. Но вот мнение экспертов-токсикологов более чем убедительно. И вкупе с молчанием современников, обвинявших, повторяю, Нерона во всех мыслимых и даже вовсе уж немыслимых грехах, но только не в убийстве Британика, приводит к совершенно определенному выводу: смерть несчастного юноши, воистину обделенного судьбой, была естественной. Легенду же об отравлении подхватили в первую очередь потому, что в роду Юлиев-Клавдиев родственники и впрямь отправляли друг друга на тот свет с легкостью необычайной.
К тому же эта версия не выдерживает элементарной проверки логикой. Кто посмел бы оспаривать право Нерона на престол? Ни у кого и в мыслях этого не было – тем более что римляне в то время боготворили принцепса. И некоторые древние (тот же Секст Аврелий Виктор), и современные историки единогласны во мнении: в первую треть правления Нерона Рим процветал как никогда. Нерон всерьез задумывался о благосостоянии народа, для чего упразднил или сократил часть обременительных податей. Он роздал жителям Рима огромные деньги – по четыреста сестерциев на человека. Обедневшим сенаторам и знати назначил пожизненное пособие. По наущению Сенеки и Бурра, внес значительные поправки в законодательство и систему управления. Нет, Британик был ему не страшен – а ведь Нерон убивал только из страха…
Дело о пожаре
Из-за большой скученности, узости улиц и высоты многоквартирных домов Рим был городом чрезвычайно пожароопасным. И – горел, причем неоднократно, невзирая на все усилия специальной противопожарной стражи. Но наиболее грандиозный, девятидневный пожар, в результате которого полностью выгорела значительная часть города, вспыхнул в правление Нерона – в 64 году. Самое странное заключалось в том, что нашлись люди, которые мешали тушить пожар, а были и такие, которые, как пишет Тацит, «открыто кидали в еще не тронутые огнем дома горящие факелы, крича, что они выполняют приказ, либо для того, чтобы беспрепятственно грабить, либо и в самом деле послушные чужой воле». Скорее всего, это и в самом деле были мародеры, каковых в Вечном городе всегда хватало. Но общественное мнение к этому моменту уже разочаровалось в еще недавно обожаемом принцепсе, и вскоре поползли слухи, обвиняющие Нерона в поджоге, – якобы затем, чтобы на месте старого города построить новый и назвать его собственным именем.
Постепенно легенда обрастала подробностями.
Рассказывали, будто один из приближенных Нерона бросил при нем фразу, вошедшую у римлян в поговорку:
– Когда умру, пусть земля хоть огнем горит!
– Нет, пока живу! – тотчас возразил принцепс.
Античные авторы (и прежде всего, конечно, Тацит) пишут, будто однажды после грандиозной попойки Нерон велел поджечь Рим с четырех сторон, а сам наслаждался «великим пламенем, напоминавшим гибель Трои». Потомки тоже были совершенно уверены: пожар в Риме устроил сам император – то ли затем, чтобы возвеселить душу и сердце зрелищем эпического бедствия (как считали романтики), то ли (по мнению прагматиков) чтобы избавить Вечный город от трущоб.
Рассказывали, будто сам принцепс, стоя на высоком акведуке и любуясь содеянным, пел под кифару ту часть своей поэмы «Троика», где описывалось пламя, охватившее разграбленный ахейцами Илион. Правда, об акведуке затем пришлось забыть – оттуда пожара не было видно. Но тогда его заменили глухим упоминанием «возвышенного места».
И вновь давайте разбираться.
Во-первых, достоверно известно, что во время, когда разразился пожар, Нерона в Риме не было, – он находился на побережье, в Антии, что в пятидесяти километрах от Вечного города. Выходит, речь идет не о мгновенной прихоти, а о тщательно продуманном плане: ведь в таком случае приказ о поджоге пришлось бы отдать заблаговременно. Неужели принцепсу-поэту не хотелось воочию наблюдать, как пламя постепенно охватывает город? Особенно если таким образом Нерон хотел доставить себе высокое эстетическое наслаждение? Кстати, и время для поджога было выбрано – с декоративной точки зрения – не слишком удачное: в ночь поджога светила полная луна, а зрелище представлялось бы куда более феерическим темной безлунной ночью.
Во-вторых, трудно допустить, чтобы Нерон, страстный собиратель бесценных сокровищ, поджег город, лежавший у подножия его дворца, рискуя тем самым, что загорится и его собственный дом, битком набитый всякими ценностями, – как оно, кстати, и случилось.
В-третьих, все предположения на этот счет основаны на сообщении Плиния Старшего[37], писавшего, что в Риме были вековые деревья, которые «простояли до пожара, случившегося при принцепсе Нероне». Только и всего. И лишь Светоний первым из числа обвинителей уточняет: «Виновником бедствия был Нерон». Однако о самом Светонии профессор Вильгельм Голлаб говорит: «Он равно соглашается и с фактами, и со слухами. <…> Ему совершенно несвойствен аналитический подход, которым должен обладать настоящий историк. <…> К его свидетельствам следует относиться с крайней осторожностью». И надо сказать, мнение Голлаба разделяют очень многие.
В-четвертых, после пожара римляне восторженно приветствовали вернувшегося в город Нерона. Будь население убеждено в виновности принцепса, неужели оно стало бы его восхвалять?
Впрочем, хвалить было за что. Прибыв в Рим, Нерон первым делом распорядился оказать помощь пострадавшим, а также открыть для народа Марсово поле, крупные здания и императорские сады. «Из Остии и других городов было доставлено продовольствие, – пишет Тацит. – и цена на зерно снижена до трех сестерциев». Хвалили, однако, недолго, и в этом повинен сам Нерон.
После обрушившегося на город бедствия Рим пришлось чуть ли не полностью отстраивать заново, и это возрождение Вечного города является примером величайших достижений в области градостроительства. Работы по восстановлению Рима способствовали процветанию всей Империи: поднялась цена на землю, появилось множество новых ремесел, едва ли не каждый желающий был обеспечен работой. Все так. Но…
Но слишком уж поражал воображение возведенный на пепелище дом Нерона – Золотой дворец. «От Палатина[38] до самого Эсквилина[39] он выстроил дворец, назвав его <…> Золотым, – пишет Светоний. – Вестибюль в нем был такой высоты, что там стояла колоссальная статуя Нерона высотой в 120 футов[40]; площадь его была такова, что тройной портик по сторонам был длиной в милю[41]; внутри был пруд, подобный морю, окруженный строениями, подобными городам, а затем – поля, пестреющие пашнями, пастбищами, лесами и виноградниками, и на них – множество домашнего скота и диких зверей. В покоях же все было покрыто золотом, украшено драгоценными камнями и перламутровыми раковинами; в обеденных залах потолки были штучные, с поворотными плитами, чтобы рассыпать цветы, с отверстиями, чтобы рассеивать ароматы; главный зал был круглый и днем и ночью вращался вслед небосводу; в банях текли соленые и серные воды. И когда такой дворец был закончен и освящен, Нерон только и сказал ему в похвалу, что теперь, наконец, он будет жить по-человечески». Как отмечает Марианна Алферова[42], «известным политическим деятелям, а затем императорам положено было строить в Риме общественные здания, возведение собственных покоев не добавляло им популярности. Нерон же, затеяв грандиозное строительство личной резиденции, а не общественного здания, вызвал, несомненно, ненависть». От ненависти же остается всего один шаг до обвинения в поджоге… И хотя трудно не согласиться с Алферовой: «Забава с поджогом Города больше подошла бы Калигуле с его страстью к неожиданным выходкам и садистским шуточкам», – однако ненависть, как известно, не разбирает. Замечу попутно, что пожары больших городов всякий раз наводили на мысль о сознательном поджоге и приводили к поиску виновников. Как мы еще будем говорить в шестой главе, Бориса Годунова молва обвиняла в поджоге Москвы, активно искали (и находили – причем самых разных) своих геростратов после Великого лондонского пожара, Великого пожара в Або (Турку), Чикагского пожара и других.
Но вернемся к Нерону. После долгого расследования известный современный французский историк Леон Гомо пришел к заключению: «Виновность Нерона представляется невероятной». Его поддержали Жерар Вальтер, Жорж Ру и некоторые другие.
И не согласиться с ними нельзя.
Дело о христианах
Прямым доказательством того, что обвинения принцепса в поджоге Рима родились по горячим следам, является тот факт, что Нерону пришлось оправдываться, то есть самому искать виноватых. И вскорости они были найдены. По словам Тацита, принцепс объявил виновниками пожара сектантов, приверженцев одного из восточных культов; Тацит называет их христианами. «И вот Нерон, чтобы побороть слухи, – пишет он, – приискал виноватых и предал изощреннейшим казням тех, кто своими мерзостями навлек на себя всеобщую ненависть и кого толпа называла христианами. Христа, от имени которого происходит это название, казнил при Тиберии прокуратор Понтий Пилат; подавленное на время, это зловредное суеверие стало вновь прорываться наружу, и не только в Иудее, откуда пошла эта пагуба, но и в Риме, куда отовсюду стекается все наиболее гнусное и постыдное и где оно находит приверженцев. Итак, сначала были схвачены те, кто открыто признавал себя принадлежащими к этой секте, а затем по их указаниям и великое множество прочих, изобличенных не столько в злодейском поджоге, сколько в ненависти к роду людскому»[43]. Далее Тацит рассказывает, что «их распинали на крестах или, обреченных на смерть в огне [а как же еще казнить поджигателей? – А.Б.], поджигали с наступлением темноты ради ночного освещения».
Но тут в спор с обвинителями Нерона вступают уже не историки, а химики. Дело в том, что распятые на крестах и подожженные человеческие тела не могли гореть, словно факелы. Они должны были медленно обугливаться, да и то лишь будучи обмазаны каким-нибудь горючим материалом наподобие смолы. Вспомните описания сожжения еретиков в Средние века: складывали огромные костры, но и при этом тела несчастных не сгорали дотла, а лишь обугливались, и потом их почернелые останки по нескольку дней стояли, в назидание другим, привязанными к столбам и лишь постепенно распадались. Вспомните, как в срубах сжигали раскольников на Руси. Всякий пожарный, всякий работник крематория знает, как плохо горит (хотя очень быстро обгорает) человеческое тело.
Существует и еще одно немаловажное соображение: сгорая, человеческая (как и любая животная) плоть издает такое зловоние, что римляне вряд ли были бы благодарны Нерону за такое освещение, не говоря уже о том, что сам эстет-принцепс не нашел бы в подобной затее ни малейшего удовольствия. О том, сколь серьезной была эта проблема для Древнего мира, свидетельствует следующая история.
С начала первого тысячелетия до Р.Х. и вплоть до начала IV века уже нашей эры всю территорию Южной Аравии почти непрерывно подчиняло себе Сабейское царство (одна из первых его властительниц – та самая библейская царица Савская, что заключила союз с мудрейшим царем Соломоном). Главным предметом экспорта, на котором это государство богатело, были драгоценные благовония – в частности ладан. Древний мир потреблял эти пахучие вещества десятками тонн в год. Причем далеко не в первую очередь для нужд парфюмерии, косметики или богослужений. Нет! Прежде всего они в огромных количествах расходовались при отправлении погребальных обрядов, поскольку почти везде практиковалось тогда трупосожжение и требовалось чем-то заглушать невыносимый смрад горящей плоти. С приходом христианства и введением в практику погребений нужда в таком количестве благовоний отпала. В результате экономика Сабейского царства пришла в упадок, и оно было завоевано соседним Химьяритским царством. Как видите, проблема была серьезная.
Учитывая сказанное, утверждения Тацита можно с полной уверенностью отнести к цветам бумажного красноречия. К тому же, скорее всего, мы имеем здесь дело с позднейшей припиской.
История раннего христианства известна не слишком хорошо, и вышеприведенные слова Тацита разные исследователи в разное время трактовали по-разному, причем многие признавали их вставкой, сделанной несколькими столетиями позже. В современной науке принято считать, что распространение христианских общин в Риме начинается с последней трети I века. Раннехристианские общины состояли главным образом из низов населения (рабов и свободных бедняков), ибо они больше всех нуждались в том утешении, которое давала христианская религия и которое полностью отсутствовало в религии римской. Поскольку христиане держались обособленно, отказывались участвовать в общегосударственном культе императоров, сходки их были окружены таинственностью и не принадлежащие к общине туда не допускались, все это и послужило основанием для возникновения кривотолков и подозрений в неблаговидных действиях. Главными преступлениями христиан молва считала то, что они якобы приносят в жертву новорожденных римских младенцев, вкушают их плоти и крови и предаются массовому разврату. Так что, если гонения и впрямь имели место, жертва была выбрана точно.
Но весьма вероятно, что гонений попросту не было – они зафиксированы в более позднее время. Отнюдь не исключено, – и в последнее время это убедительно доказал профессор Ошар из Бордоского университета, – что в XI веке монахи-переписчики (а рукописи Тацита дошли до нас исключительно в виде копий этого и даже более позднего времени) добавили к рассказу латинского историка о тех трагических событиях свою, захватывающую воображение версию. Психологически это вполне оправдано – тем самым история гонений на христиан заметно продлялась в прошлое, а ведь именно «в крови мучеников суть спасение»…
Любопытное соображение: если бы не эта приписка, не появился бы на свет «Quo vadis» Генрика Сенкевича и мировая художественная литература понесла бы ощутимую потерю.
Вместо эпилога
Вот и подошло к концу наше судебное разбирательство. Разумеется, оно никого не заставит радикально пересмотреть представления о Нероне – тиран и убийца останется тираном и убийцей вне зависимости от числа жертв. Человек жалкий (а таким и был Нерон, так он и принял смерть) останется жалким – вне зависимости от того, что в чем-то был оклеветан.
Не об оправдании речь.
О справедливости, и в этом смысле историческая справедливость ничем не отличается от любой другой, и проявлять ее надлежит в равной мере ко всем, будь то праведник или преступник.
И от того, что стараниями историков эта справедливость оказана ныне и человеку, само имя которого стало синонимом кровавого деспота, выиграл, сдается, не тот, чьи останки почти два тысячелетия назад собрали и похоронили в родовой усыпальнице Домициев, что на Садовом холме, три женщины – престарелые кормилицы Эклога и Александрия и наложница Актея. Он-то уже не изменится, как не дано барсу сменить пятен своих.
Нет! От того, что со шкуры этого барса убраны не присущие ей пятна, выиграл род людской – в том числе, и мы с вами. Ибо теперь по отношению к нему чиста наша совесть.
Глава 2. Гамлет, князь киевский
Не брани враля и демагога,
не кляни державный беспредел:
несть урода, аще не от Бога
нами бы со славой володел.
Евгений ЛукинДела семейные
Великий князь киевский Святополк I – одна из самых загадочных фигур русской истории. Причем – самое странное – таинственна не только жизнь, но в еще большей степени посмертная судьба этого человека, на тысячелетие приклеившая к его имени прозвание Окаянного[44]. Чем же заслужил он этот десятивековой позор?
Увы, чтобы разобраться в этом, придется совершить экскурс в историю более раннюю – минимум на три великих княжения. Обойтись без такого вступления невозможно, я могу лишь постараться сделать его по возможности кратким.
Великий князь Святослав I Игоревич.
Летописная миниатюра
Ранняя держава Рюриковичей была, так сказать, предприятием семейным. Чуть ли не все ее проблемы так или иначе упирались в степени родства и свойства, родственные взаимоотношения и родственные же разборки. А если учесть обилие жен и наложниц, несчетность законных, полузаконных и незаконнорожденных княжих отпрысков, то все это нередко запутывалось в такой узел, что по сравнению с ним Гордиев – простенький «плоский штык». И частенько разрешались означенные проблемы тем же методом, каким Александр Великий разобрался с Гордиевым узлом – то есть при помощи меча. Выражение «брат мой – враг мой» было тогда не метафорой, но констатацией факта; конфликты же чаще всего разрешались в полном соответствии с пресловутым сталинским тезисом: «нет человека – нет проблемы».
Но хватит рассуждений. Лучше перейдем к первому из важных для нашего рассказа персонажей.
Итак, великий князь киевский Святослав I Игоревич (?–972). Этот, по выражению некоторых историков, «князь-дружинник» занимает в отечественной истории примерно такое же место, какое в английской – только двумя столетиями позже – рыцарственный король Ричард I Львиное Сердце из династии Плантагенетов. Может, по той причине, что к моменту гибели отца Святослав еще пребывал во младенчестве и всеми делами княжества на правах регентши при малолетнем княжиче управляла его мать, великая княгиня Ольга, причем управляла, надо сказать, весьма успешно, сам Святослав, подрастая, делами внутренними, экономическими, административными интересовался меньше всего. Этому, замечу, немало способствовали также дядька-пестун Асмуд и воевода Свенельд – двое воспитателей, приближенных и сподвижников Святослава Игоревича; как и все порядочные варяги, оба считали наиболее достойным делом не управление государством, а войну. В результате чего и вырастили князя-воителя, который, заняв киевский стол, чуть ли не все время проводил в дальних походах, снискав лавры витязя, но в устроении русской земли заметного следа не оставившего. Во всяком случае от его походов на Волжскую или Дунайскую Болгарию проку отечеству было не больше, чем Англии – от битв крестоносного воинства в Святой Земле. Впрочем, для нашей истории важно одно: когда Святослав пал у днепровских порогов от рук печенегов, ему наследовали трое сыновей: Ярополк, Олег, а также их младший сводный брат Владимир – «робичич», «холопич», рожденный от рабыни-ключницы Малуши. Тем не менее последний был отцом признан и получил как соответствующее княжичу воспитание, так и свою долю в наследстве. Покуда отец геройствовал в походах, эти трое сидели наместниками: Ярополк – в Киеве, Олег – в Древлянской земле, а Владимир – в Новгороде. По смерти родителя они стали полновластными князьями, и тут же каждому показалось мало собственной власти.
Тут-то и завязывается интрига.
По старшинству на великое княжение мог претендовать только Ярополк – и на киевском столе отец его не зря оставил, и воевода Свенельд, в роковой битве чудом уцелевший, теперь при нем состоял. Но почитание старших жажде власти не указ. До Ярополка дошел слух, будто средний брат – Олег II Древлянский – потихоньку готовится к походу на Киев. Трудно сказать, так оно было в действительности или, как утверждают иные, Свенельд оговорил Олега, имея на то две причины: во-первых, чтобы отомстить за гибель своего сына Люта, то ли по случайности, то ли намеренно убитого на охоте Олегом, а во-вторых, чтобы сделать своего патрона единодержавным владыкой земли русской[45]. Несомненно одно: Ярополк выступил против Олега, чтобы нанести упреждающий удар. Под Овручем, где находилась тогда резиденция Олега, войска столкнулись. Сражения как такового, похоже, и не произошло – едва соприкоснувшись с грозной дружиной великого князя, Олеговы воины ударились в бегство с таким энтузиазмом, что в толчее сбросили собственного князя с моста, вследствие чего тот сломал себе шею и, как говорится, приобщился к большинству. Ярополк похоронил брата со всеми подобающими почестями и возвратился восвояси, заодно присоединив ко своим владениям и Древлянскую землю.
Великий князь киевский Владимир I Красное Солнышко.
Икона «Святой Владимир» из Князь-Владимирского собора в Санкт-Петербурге
Но гибель Олега II – пусть даже случайная – прекрасный casus belli[46] для третьего из братьев, сидящего в Новгороде «робичича». Правда, не унаследовав отцовой воинственности[47], этот последний для начала бежал из Новгорода, куда незамедлительно явились Ярополковы посадники, а сам Ярополк обрел наконец единодержавие. Однако зря Владимир времени не терял: отправившись в Швецию, к родственникам жены, он больше двух лет интриговал там, пока наконец не заручился помощью и в 980 году не вернулся на Русь с отрядом наемников-варягов. Теперь, располагая достаточной силой, он занял сперва Новгород, потом Полоцк, где убил князя-варяга Рогволода с сыновьями и насильственно женился на его дочери Рогнеде, уже просватанной за Ярополка (с этого момента летописи, сочувствуя печальной судьбе варяжской княжны, на славянский лад называют ее Гореславою), а затем и Киев, где его варяги так же вероломно, как в Полоцке, во время переговоров с помощью подкупленного воеводы Блуда (вот уж Бог шельму метит – воистину достойное имечко!) убили самого великого князя Ярополка. Теперь ненависть бастарда к законным наследникам была полностью удовлетворена, а сын ключницы стал отныне именоваться великим князем Владимиром I, вошедшим в былины под именем Владимира Красно Солнышко, а в летописи – как Владимир Креститель и Владимир Святой (и то, и другое – за обращение языческой Руси в христианство). Но оставим в стороне его деяния – нам важен не столько он, сколько история его вокняжения и его потомки.
Великий князь киевский Владимир I Святой.
Рисунок XIX в.
Потомками же (как и женолюбием) Бог его, прямо скажем, не обидел.
Старшими были Вышеслав (от скандинавской жены Оловы) и Изяслав (от Рогнеды-Гореславы). Затем наш главный герой – Святополк, сын Ярополковой жены-гречанки, которую Владимир в качестве трофея сразу же по свершении братоубийства забрал в свой гарем, причем она в то время была уже беременна, так что по крови Святополк приходился сыном не Владимиру, а Ярополку. Далее следовали Ярослав и Всеволод – тоже дети Рогнеды; Святослав и Мстислав (от «чехини» Малфриды); Станислав (от Адели); Судислав и Позвизд, чьи матери никому, кажется, неизвестны; и, наконец, Борис и Глеб – судя по всему, дети византийской принцессы Анны (хотя на сей счет и высказывались другие, в разной степени обоснованные предположения, за их недоказанностью лучше следовать общепринятой версии). Это не говоря уже о столь же многочисленных дочерях и сонме формально не признанных детей от не то восьмисот, не то девятисот наложниц.
В свете вышеизложенного совсем не удивительно, что после 15 июля 1015 года, когда великий князь киевский Владимир I скоропостижно скончался, события сразу же стали разворачиваться по сценарию, уже апробированному по смерти Святослава, – с тою лишь поправкой, что участников предстоящей кровопролитной междоусобицы оказалось на этот раз куда больше.
Историография летописная
Если излагать события со всем возможным лаконизмом, выглядят они следующим образом.
Умер Владимир I, готовя поход против мятежного сына Ярослава, княжившего тогда в Новгороде и отказавшегося платить отцу обычную дань – две трети от ежегодно собираемых там в качестве податей трех тысяч гривен[48]. И, как всегда бывает, если право наследования еще по-настоящему не оформилось, правосознание ни во властителях, ни в их подданных не укоренилось, а покойный государь отличался повышенной плодовитостью, встал вопрос: кому занять опустевший киевский стол.
Учитывая, что двое старших сыновей Владимира – Вышеслав и Изяслав – к тому времени уже скончались, основных претендентов оказалось двое: Святополк, князь туровский, женатый на дочери польского великого князя Болеслава I Храброго[49], и Ярослав Хромой, князь новгородский, женатый на Ингигерде, дочери шведского короля Олафа I Скотконунга[50]. Остальные на великое княжение, похоже, не притязали, хотя роль их в дальнейших событиях велика, особенно двоих младших – Бориса, князя ростовского, и Глеба, князя муромского.
Конное войско.
Миниатюра из Сильвестровского списка «Сказания о Борисе и Глебе» (XIV в.)
В последние годы Владимир заметно выделял этих последних, считая, по-видимому, наиболее законными по рождению, поскольку лишь с их матерью, византийской принцессой Анной, был связан узами церковного брака; к тому же в их жилах текла кровь константинопольских базилевсов. Судя по всему, Владимир держал Бориса при себе, намереваясь именно ему передать великое княжение. Однако в момент смерти родителя тот возглавлял поход на печенегов, а Глеб спокойно сидел в своем Муроме.
Тут-то и разворачиваются события. В надежде, что Борис успеет возвратиться, его сторонники трое суток скрывали факт кончины великого князя. Но в конце концов правда все-таки всплыла, и Святополк, на чьей стороне было несомненное право первородства, не встретив никакого сопротивления, занял отчий (не по дядюшке-братоубийце, а по настоящему родителю, Ярополку) трон. Однако, согласно летописному сказанию, на том не успокоился, решив на всякий случай избавиться ото всех потенциальных конкурентов. Подосланные им убийцы умертвили Бориса в лагере на берегах реки Альты, близ Переяславля, а направлявшегося в стольный град на отцовы похороны Глеба – на Днепре, близ Смоленска. Та же участь постигла и третьего брата, Святослава II Древлянского, который, почуя опасность, вознамерился бежать не то в Чехию, землю своей матери, не то в Венгрию, откуда по некоторым сведениям была родом его жена, но был настигнут в дороге и убит где-то в Карпатах. «Двое первых, – писал историк Николай Иванович Костомаров[51], – впоследствии причислены к лику святых и долго считались покровителями княжеского рода и охранителями русской земли, так что многие победы русских над иноплеменниками приписывались непосредственному вмешательству святых сыновей Владимира. Святослав такой чести не удостоился – оттого, вероятно, что первых возвысило в глазах церкви рождение от матери, принесшей на Русь христианство».
Ярослав Мудрый.
Фреска церкви Спаса на Нередице в Новгороде (ок. 1246 г.).
Тем временем Ярослав собрал в Новгороде силы, достигавшие – по летописи – 40 000 местного ополчения и 1000 варяжских наемников под началом ярла[52] Эймунда (пожалуйста, запомните это имя!), сына норвежского конунга Ринга и побратима конунга Олафа II Святого[53]. С этим войском он и двинулся на Киев. В 1016 году в битве при Любече он одержал победу над киевской дружиной Святополка и союзными ему печенегами. После этого поражения Святополк бежал в Польшу – к тестю, Болеславу I Храброму; Ярослав же занял киевский стол. Впрочем, ненадолго: полтора года спустя приведенные Болеславом на подмогу зятю поляки наголову разгромили его воинство – Ярослав бежал в Новгород в окружении лишь четверых телохранителей (умудрившись, правда, умыкнуть с собой Святополкову жену, Болеславну).
Ярослав Мудрый.
Рисунок Ивана Билибина (1876–1942), датированный 1926 г.
Ярослав Мудрый.
Медаль, отчеканенная в 1880 г. к девятисотлетию со дня рождения князя
Ярослав Мудрый. Рисунок XIX в.
Ярослав Мудрый.
Реконструкция доктора исторических наук Михаила Михайловича Герасимова (1907–1970) – антрополога, археолога и скульптора
Ярослав Мудрый.
Книжная миниатюра XIX в.
Ярослав Мудрый.
«Титулярник» 1672 г., акварель
Овладев Киевом, Болеслав I не возвратил власть Святополку, а засел там и приказал расквартировать по городам свое войско – ситуация, равно нетерпимая как для великого князя, так и для киевлян. Неудивительно, что вскоре русичи подняли восстание, – разрозненные польские отряды вынуждены были с большими потерями убраться восвояси. Болеслав оставил Киев, прихватив, правда, в качестве гонорара за родственную помощь весьма солидные трофеи.
Тем временем Ярослав с помощью новгородского посадника Константина Добрынича[54] вновь собрал ополчение, вторично двинулся на Киев и «стал на берегу Альты, на том месте, где был убит брат его Борис». Здесь в 1019 году произошла кровавая сеча. Лишенный польской поддержки, имея в союзниках лишь немногочисленный отряд печенегов, Святополк был разбит и бежал. Где именно окончил он свой путь, «Повесть временных лет» умалчивает, ограничиваясь туманным указанием на «пустыню между чехов и ляхов»[55]. «Могила его в этом месте и до сего дня, – говорит летописец, – и из нее исходит смрад».
А на Киевском престоле окончательно укрепился Ярослав – отныне уже не Хромой, но Мудрый.
Такова – в общих чертах, без подробностей – историческая канва. Но чем пристальнее в нее вглядываешься, тем больше озадачивают разнообразные несостыковки и недоумения, во множестве просвечивающие сквозь ее разреженную ткань.
Несостыковки и недоумения
Борис и Глеб.
Икона начала XIV в.
Петербургский Русский музей
Прежде всего, в описанном выше борении сил никоим образом не проступает в делах Святополковых никакого очевидного окаянства.
Предположим, легенда справедлива и он действительно повинен в братоубийствах. Преступление? – разумеется. Грех? – несомненно. Однако было это в обычае того времени. Разве дед Святополка, Святослав I Игоревич в борьбе за власть не убил родного брата Удеба? Разве дядя и приемный отец Святополка, Владимир I Святой не сгубил из тех же соображений собственного брата Ярополка – законного сына и наследника Святослава I Игоревича и великого князя киевского? Разве Святополков тесть, Болеслав I Храбрый, стремясь установить единовластие, не изгнал младших братьев, а заодно не ослепил двоих других родственников? Разве чешский государь Болеслав III Рыжий не начал правления приказом оскопить одного брата, а другого удушить в бане? И никого из них окаянными не нарекли… Примеры можно множить и множить, но сказанного довольно; Святополк жил в мире, где династическое братоубийство являлось, к счастью, не узаконенной, но, увы, общепринятой нормой. А можно ли предать человека вечному проклятию за следование норме, пусть даже столь жестокой и отвратительной?
Князья Борис и Глеб.
Икона начала XIV в.
Киев XI в.
Реконструкция
Теперь о самих братоубийствах. Здесь против устоявшегося мнения летописца и опиравшихся на его труд историков восстает сама логика (к счастью, в наши дни некоторые историки уже осознали это). Для укрепившегося на престоле Святополка ни Борис, ни Глеб – самые младшие братья – реальными конкурентами не являлись. Согласно той же летописи, Борис возразил склонявшим его к борьбе со Святополком боярам: «Могу ли поднять руку на брата старейшего? Он должен быть мне вторым отцом». Дружине, кстати, такой ответ пришелся сильно не по нраву, и она покинула молодого князя и поспешила присягнуть Святополку. Глеб также о киевском княжении не помышлял. Как, между прочим, и Святослав Древлянский.
Борис и Глеб направлялись в Киев для принесения старшему брату вассальной присяги; Святослав выказывал то же намерение. Спору нет, убийство – радикальный способ решения династических и вообще политических споров, однако лишь патологические личности склонны к неоправданному душегубству. А тройное братоубийство, хотя и не противоречило, как уже было сказано, духу времени, однако популярности Святополку не прибавило бы. Ведь сколь бесспорны ни были его основанные на первородстве права на княжение, их следовало еще, как справедливо замечает Костомаров, «утвердить народным согласием, особенно в такое время, когда существовали другие соискатели». Правда, на деле соискатель существовал один-единственный – Ярослав Хромой…
В чем еще упрекают Святополка? Немецкий хронист, мерзебургский епископ Дитмар (или Титмар), утверждает, будто по наущению тестя он якобы хотел отложиться от Руси, и великий князь Владимир, прознав о том, заключил в темницу самого Святополка, а заодно его жену и ее духовника, колобжегского епископа Рейнберна. Однако сообщение это – скорее отражение польских амбиций и чаяний, а не исторических фактов. Болеслав-то и впрямь был не прочь округлить владения за счет богатого пограничного Туровского княжества, однако Святополк на это вряд ли бы согласился, о чем свидетельствует дальнейший ход событий: ведь впоследствии кто как не он, великий князь, по сути дела лишенный власти собственным тестем, вдохновил антипольское восстание, изгнавшее ляхов из киевских земель?
Он приводил на Русь кочевников-печенегов? Так не он первый. С печенегами ведь не только воевали, но и торговали, и союзы заключали, и роднились – взаимоотношения двух народов отнюдь не исчерпывались примитивно понимаемым «противостоянием Руси и Великой Степи».
Главное из подозрений впрямую не высказывается нигде, однако проступает в подтексте. Хотя формальное разделение церквей на греко-кафолическую (православную) и римско-католическую – отдаленное последствие распада в IV веке единой Римской империи на Западную и Восточную – произошло в 1054 году, когда папа римский Лев IX и патриарх константинопольский Керуларий предали друг друга анафеме, то есть через тридцать лет после описываемых событий, однако все предпосылки к тому существовали уже давно. «Не подобает вере латинской прилучаться, обычаям их следовать… а надлежит норова их гнушаться и блюстись, своих дочерей не отдавать за них, не брать у них, не брататься с ними, не кланяться им, не целовать их», – писал в начале XII века игумен Киево-Печерского монастыря Феодосий князю Изяславу Мстиславовичу в «Слове о латинах». «Слово» Феодосия иногда называют «О вере христианской и латинской» – католическую, как видите, он даже христианской не считал (что, впрочем, нередко встречается у нас и сегодня). Так вот, киевский клир истово боялся, что со Святополковой женою, польской принцессой, с тестем ее, государем могущественным и амбициозным, придет на Русь и «латинска вера», как с византийской царевной Анной совсем недавно пришло православие. Напрочь необоснованное, опасение это тем не менее определило отношение к Святополку церкви, а как следствие – и монастырских летописцев.
На самом деле вопросов куда больше, и некоторых мы впоследствии еще коснемся, поскольку впереди у нас беспристрастное разбирательство.
Беспристрастное разбирательство
Итак, вернемся к событиям, непосредственно предшествовавшим смерти великого князя Владимира I Святославича.
Расстановка фигур такова.
Святополк, князь туровский, только что выпущен из узилища, где пребывал, будучи (трудно сказать, за дело или по навету) обвинен в заговоре с целью отложиться от Киева[56]. Простить-то его Владимир простил, от вин очистил, однако на всякий случай в граничащий с польскими землями Туров вернуться не разрешил, а держал при себе, под надзором, в загородной великокняжеской резиденции – Вышгороде.
Любимец и вероятный – вопреки старшинству – наследник Владимира, Борис, отправлен в поход против печенегов, однако супостатов нигде не нашел и теперь возвращается в Киев без славы и добычи, которыми любящий отец явно намеревался укрепить авторитет двадцатипятилетнего ростовского князя.
Глеб относительно спокойно правит в своем Муроме, хотя местные жители и подчиняются ему без особой охоты – из «Повести временных лет» известно, что еще при жизни Владимира Святого они пару раз не впускали Глеба в город.
Мятежный Ярослав с трепетом душевным ожидает отцовской карательной экспедиции, – не зря же, узнав о сыновнем неповиновении, Владимир Красно Солнышко первым делом приказал: «Исправляйте дороги и мостите мосты!» От греха подальше Ярослав даже перебирается из Новгорода в Швецию, под крыло тестя, Олафа I Скотконунга, и набирает там варяжских наемников. Для него кончина отцова – нежданное и счастливое избавление[57].
Мстислав в своей Тмутаракани ведет какую-то хитрую политику, хотя в братские разборки вмешиваться не спешит, укрепляя силы и сохраняя по отношению ко всем сторонам будущего конфликта вооруженный нейтралитет.
Остальные Владимировичи для нас существенного значения не имеют.
Здесь следует заметить, что, опираясь на одни и те же источники, страдающие, надо признать, существенной неполнотой, разные историки разыгрывают этими фигурами весьма несхожие партии.
Русские дружинники XI в.
Возникла, например, чрезвычайно любопытная версия, выведенная из анализа летописи Дитмара и «Саги об Эймунде»[58] (помните, я просил обратить внимание на это имя?). Согласно этой гипотезе, Святополк в первом по смерти Владимира дележе наследия участия вообще не принимал, а, не располагая должной силой, сразу же бежал в Польшу к Болеславу и явился оттуда лишь в 1018 году. Аргументируется это следующим образом. Объясняя решение отправиться вместе со своим другом Рагнаром на службу ко князю Ярославу, Эймунд говорит: «Я слышал о смерти Вальдемара, конунга с востока, из Гардарики, и эти владения держат теперь трое сыновей его, славнейшие мужи. Он наделил их не совсем поровну – одному теперь досталось больше, чем тем двум. И зовется Бурислейв тот, который получил большую долю отцовского наследства, и он – старший из них, другого зовут Ярислейв, а третьего – Вартилав. Бурислейв держит Кенугард, а это – лучшее княжество во всем Гардарики. Ярислейв держит Хольмгард, а третий – Пальтескью и всю область, что сюда принадлежит. Теперь у них разлад из-за владений, и всех более недоволен тот, чья доля по разделу больше и лучше…»[59]
Король Болеслав I Храбрый
Понятно, что Ярислейв – это Ярослав, а Хольмгард – Новгород; Вартилав – Всеслав, а Пальтескью – Полоцк. Но кто такой Бурислейв, сидящий в Кенугарде – Киеве? Первый переводчик «Саги об Эймунде», Сенковский[60], высказал догадку, что мы имеем дело с контаминацией двух исторических персонажей – Святополка Окаянного и Болеслава Храброго; некоторые историки разделяют эту точку зрения по сей день.
Однако в 1969 году академик В. Янин[61] выдвинул иное предположение: Бурислейв – это Борис, недаром же кое-где встречается и полная форма этого имени – Борислав. Получается, что любимый сын Владимира занял-таки киевский стол, после чего воевал с Ярославом и пал от руки Эймунда. Это снимает многие недоумения, вызванные противоречиями летописной историографии. Однако принять тезис Янина все-таки трудно – и отнюдь не из-за еретичности и непривычности.
Дело в другом. Хотя на грани X–XI веков регулярная чеканка монеты на Руси не практиковалась, всякого рода значительные события (например, каждое восшествие великого князя на престол, а при Владимире I – также принятие христианства, женитьба на внучке Оттона Великого[62] и конфликт 1014 года с Ярославом) непременно сопровождались и появлением соответствующих сребреников или златников. На сегодняшний день таких памятных монет в различных коллекциях насчитывается 338. Из них 255 – Владимира I Святого, 68 – Святополка Окаянного (некоторые под его христианским именем Петра) и 14 – Ярослава Мудрого. Причем, что весьма существенно, «чекан с именем Святополка <…> позволяет вполне определенно датировать монеты с его именем 1015 г. Малочисленность монет Святополка с именем Петра объясняется, по-видимому, кратковременностью его владения киевским столом в 1018 г.»[63]. Вот оно, главное: едва овладев Киевом, Святополк поспешил ознаменовать сей факт чеканкой монеты, которая, кстати, ставит точку в споре, чьим же сыном в действительности он являлся (или, по крайней, мере, себя считал) – Ярополка или Владимира. На сребренике рядом с именем Петра отчеканен родовой знак Ярополка – двузубец; тогда как знаком Владимира являлся трезубец, поныне украшающий украинский герб.
А вот Бурислейв-Борис об этом почему-то не позаботился. Ни единой его монеты нумизматам не известно. Невероятно – уж кто-кто, а потомок византийских базилевсов упустить из виду подобного протокольного утверждения собственного статуса никак не мог. Следовательно, пока из земли не будет извлечен очередной клад и взорам потрясенных археологов не предстанет хотя бы единственная Борисова монета[64], с красивой гипотезой о его великом княжении приходится распроститься.
Так что остается вернуться к традиционной трактовке событий, следуя в этом за Осипом Сенковским. В конце концов, если уж исторические ошибки и несоответствия встречаются в летописях, то саге они тем более простительны… Вспомним: Святополк имел, так сказать, двойные права на киевский стол: во-первых, по отцу, великому князю Ярополку; во-вторых, как старший (пусть и не родной) из сыновей Владимира. И, похоже, киевляне его права охотно признали. Даже вернувшаяся из неудачного похода на печенегов дружина, едва поняв, что вождь ее оспаривать прав старшего брата не намерен, оставила своего князя и присягнула Святополку.
Так кому же мешали Борис, Глеб и Святослав II?
Портрет антигероя
А теперь перейдем к торжествующему победителю – Ярославу. Притязания его всегда были непомерны. Уже в Новгороде он – в отличие от Святополка – вознамерился действительно отложиться от Киевской державы, в знак чего и прекратил выплату дани. Узнав, что отец готовит против него поход, он бежал в Швецию – набирать наемников. Их отряд возглавили уже упоминавшиеся ярл Эймунд со своим другом-приятелем Рагнаром. Смерть Владимира избавила Ярослава от опасности, но зато подогрела аппетиты: зачем откладываться от державы, если можно овладеть ею?
Прежде всего надлежало не допустить принесения братьями вассальной присяги Святополку, поскольку это значительно укрепило бы позиции последнего, а его самого объявить узурпатором. И скандинавские источники (в частности, та же «Сага об Эймунде») безо всяких умолчаний описывают, как по велению своего патрона Эймунд убил Бориса, а его голову принес в мешке «конунгу Ярислейву». (Кстати, согласно тем же скандинавским источникам, Святополк отнюдь не пропал без вести «меж чехов и ляхов», а погиб в приграничном польском Бресте от руки ярла Эймунда, но об этом ниже).
Оставалось лишь для сформирования общественного мнения взвалить вину за содеянное на Святополка, – что и было выполнено.
Если в характер Святополка тайное убийство никак не вписывается, то про Ярослава этого не скажешь. По натуре он был трусоват[65], в искусствах воинских не отличался – этими делами заправляли при нем трое: воевода (в прошлом – пестун при малолетнем княжиче) Будый, новгородский посадник Константин Добрынич и ярл Эймунд. А ведь издревле считается, что тайное убийство – излюбленное орудие не героев, но трусов. Так же, как опора не на стратегию с тактикой, а на подкуп и предательство – как отмечает Карамзин[66], в битве при Любече, где Святополк первый раз потерпел поражение от Ярославовых войск, «один из вельмож Святополковых был в согласии с Ярославом и ручался ему за успех ночного быстрого нападения». Так же, как и неоправданная жестокость. Ворвавшись после одержанной под Любечем победы в «мать городов русских», новгородско-варяжская Ярославова рать повела себя не лучше, чем крестоносцы в Константинополе, – как отмечает летопись, даже «погоре церкви». И такое не могло твориться вне попустительства князя, слишком ненавидевшего город, присягнувший не ему…
Зато в интригах князь понаторел изрядно – подлинно Макиавелли. И перевалить собственные грехи на ненавистного сводного старшего брата сумел с блеском.
После гибели Святополка из двенадцати сыновей Владимира в живых оставались только сам Ярослав, Мстислав и Судислав. Мстислав, князь тмутараканский, являлся наиболее грозным соперником. Их вооруженное столкновение в 1024 году под Лиственом окончилось для Ярослава позорным поражением, после коего он привычно сбежал в Новгород. И, как выяснилось, зря: рыцарственный Мстислав на великое княжение не претендовал, желая сохранить лишь независимость собственных земель, что и было годом позже оформлено надлежащим договором. И что же? В 1032 году при невыясненных обстоятельствах умирает единственный сын Мстислава, Евстафий (говорят, от болезни, но как считают иные – от яда); а еще через три года и сам князь странным образом погибает на охоте. «Нет человека – нет проблемы».
В тот же год по велению Ярослава заключен в тюрьму и последний из братьев – княживший во Пскове Судислав; летописи прибавляют, что его «оклеветали пред старшим братом». Как бы то ни было, в заточении он и скончался, у Ярослава же конкурентов таким образом не осталось вовсе.
Но оставались те, кто привел его ко власти и неоднократно бывал свидетелем его слабости. По счастью, престарелый воевода Будый скончался во благовремении, тем самым избавив великого князя от лишних хлопот. Варяг Эймунд, осознав, к чему идет дело, спешно возвратился в Швецию, где при новом уже короле – Анунде[67], не связанном родственными отношениями с Ярославом, – судьба его сложилась вполне благополучно. Оставался новгородский посадник Константин Добрынич. Ярослав, говорится в летописи, рассердился на него, заточил в ростовскую тюрьму, оттуда перевел в Муром, а там приказал убить.
Правда, этих деяний на Святополка было уже не списать, но к тому времени Ярослав как-никак был не Хромым, не удельным князем новгородским, а Мудрым и великим князем киевским, так что ни в каких оправданиях не нуждался. Более того, саму хромоту (каковой ничуть не стеснялся, например, Железный Хромец – Тимур) потомки пытались исключить из образа великого правителя. Упоминавшийся уже Костомаров, не желая и малой некрасивой чертою портить великокняжеского обличья, именует его, добавив всего одну букву, Хоромцем, то бишь любителем во множестве строить хоромы, воздвигать дома и города…
В пользу антигероя я могу привести, пожалуй, лишь один аргумент: свалив на покойного Святополка Ярополчича убийство братьев, Ярослав все-таки сделал из него просто человека, не брезгающего никаким преступлением в борьбе за власть (то есть, собственно говоря, свою копию), но не пугало, не «второго Каина» летописи. И в 1050 году Ярославова внука преспокойно нарекли Святополком – именем, которым с тех пор в княжих родах больше не называли никого и никогда. Но эта традиция родилась лет через двадцать после рождения упомянутого младенца, уже после канонизации страстотерпцев Бориса и Глеба.
Реконструкция героя
А теперь, проследив дальнейшую судьбу Ярослава, вернемся к нашему герою.
Его судьба достойна авантюрного исторического романа – в толк не могу взять, почему таковой до сих пор не написан. Не потому ли, что мастерам отечественной изящной словесности не с руки было делать главным героем не какого-нибудь Святого или на худой конец Удалого, а проклятого на века Окаянного? Но это так, a propos[68]…
К моменту смерти Владимира I Святополку исполнилось уже тридцать пять лет – по тем временам возраст мужа куда как зрелого. Летописные (да и в иноземных источниках – тоже) упоминания о нем за все предыдущие годы можно, как говорится, по пальцам перечесть. Известно лишь, что родился он приблизительно в 980 году, восемь лет спустя Владимир посадил нелюбимого[69] сына-пасынка на княжение в Туров, а где-то между 1008-м и 1011 годами женил на младшей из дочерей Болеслава I Храброго, скрепив этим браком мирный договор с Польшей. Годом позже, в 1012-м, обвиненный в измене Святополк, как уже говорилось, был заточен Владимиром в поруб, что неизбежно повлекло разрыв между странами. Вот, собственно, и все.
А за этим – чисто гамлетовская коллизия: отчим-братоубийца; мать, вынужденная с ним сожительствовать; жажда мести и восстановления попранной справедливости, годами копящаяся ненависть к приемному отцу-узурпатору… Да, Святополк не только был нелюбимым сыном, он был еще и сыном-племянником ненавидящим, иначе сложиться просто не могло. Так что, если он и впрямь злоумышлял против Владимира, а не был оболган, – ничего в том удивительного; странным явилось бы скорее противоположное: кровную месть почитала юридическим и нравственным долгом даже «Русская правда» Ярослава Мудрого. К тому же Святополку было на кого положиться – и не только на польского своего тестя.
Во-первых, к югу и востоку наличествовала грозная сила – печенеги, с которыми заключил в свое время мир Ярополк Святославич. По договору с ним печенежский хан Илдея даже переселился со всем своим родом на Русь. А после гибели Ярополка печенеги, вдохновляемые бежавшим в их кочевья ближним Ярополковым воеводой Варяжко, другом и советником князя, тщетно предостерегавшим его перед самым убийством, не раз совершали набеги за земли Владимира I, мстя за предательское убийство их союзника. Так удивительно ли, что на их дружбу вполне мог опереться и Ярополков сын?
Клеймо «Гибель Святополка» иконы начала XVI в.
«Борис, Владимир и Глеб с житием Бориса и Глеба».
(Третьяковская галерея)
Во-вторых, как отмечает в своей монографии «Древняя Русь и Великая степь» Лев Гумилев[70], «режим князя Владимира потерял популярность среди киевлян». Именно поэтому, хотя Владимир, казалось бы, «обеспечил любимому сыну Борису командование ратью и тем самым золотой стол киевский, а нелюбимому пасынку Святополку – тюрьму и, возможно, казнь. Но все пошло наоборот: Святополка немедленно освободили и посадили на престол, а войско Бориса разбежалось, покинув своего вождя».
Вот два показательных факта, свидетельствующих об отношении киевлян к великой княгине Анне и ее отпрыскам.
«Повесть временных лет» опустила важную деталь, сохраненную Тверской летописью: когда ладья с телом Бориса прибыла в Киев, киевляне оттолкнули судно от берега и не позволили похоронить убитого в стольном граде. Так где же оно было предано земле? Представьте себе – в Вышгороде, где последнее время пребывал Святополк, «у црькве святаго Василия». Надо полагать, по Святополкову же велению.
И второе. Мать Бориса и Глеба, «цесарица» Анна, как именует ее летопись, «дщерь Священной империи», как назвал ее будущий папа Сильвестр II[71], сестра византийских императоров Василия II и Константина VIII, скончалась в 1011 году и была с почестями погребена в Десятинной церкви, где впоследствии упокоился и ее супруг. Но уже к середине XI века саркофаг Анны с центрального места под куполом был сдвинут под спуд, тогда как княжеский остался на прежнем месте. Нет, не жаловали на Руси родню гордых ромейских базилевсов!
Так что, занимая киевский стол, Святополк тем самым лишь восстанавливал попранную справедливость, и так полагали многие – потому-то вокняжение его и не встретило никакого сопротивления.
Зато сам он, будучи окончательно изгнан из Киева, сопротивлялся отчаянно. Вынужденный в 1019 году после разгрома на Альте бежать в Берестье (Брест), он еще долго удерживался там, на окраине своего Турово-Пинского княжества, так что уже в 1022 году Ярославу Мудрому пришлось отправиться туда походом, чтобы добить наконец упорного соперника. До сражения, правда, не дошло: исполнительные варяги Эймунд с Рагнаром втихую разобрались, наконец, и с этим искателем верховной власти – так же, как ранее с Борисом, Глебом[72] и Святославом II…
Что ж, Гамлет на то и Гамлет, чтобы неизбежно погибнуть в финале. Вы уже знаете, как это произошло, – может, не столь театрально, как у Шекспира, но зато вполне достойно рыцаря и государя. В этом смысле я вполне могу уподобить Святополка Макбету и Ричарду III, речь о которых еще впереди.
Правда, как и любой исторический деятель, он был не только движущей силой разворачивающихся событий, но и фигурой, которой манипулировали иные силы. Ведь за всеми его злосчастьями стоял не только отчим-братоубийца, не только неистово жаждущий власти Ярослав Хромой, не только киевский клир. Святополк оказался в точке противоборства нескольких сил, и все они волей случая были направлены против него.
Болеслав I Храбрый жаждал не столько помочь зятю, сколько вернуть отвоеванные в свое время у Польши Владимиром Святым города Галицкой земли – Перемышль, Требовль, Галич. И, кстати, вернул, хотя и ненадолго, – в 1031 году они все-таки отошли к Ярославу. Болеславу было безразлично, ведут себя поляки на Руси как союзники или оккупанты, всякое же учиненное ими зло в глазах современников и особенно летописца прибавляло дурной славы косвенному виновнику нашествия – Святополку.
Поддерживавшие Ярослава варяги также имели свой интерес, хотя и не столь острый, как Болеслав I Храбрый: покуда в русских землях продолжались нестроения, в большом спросе были варяжские наемники.
Наконец, новгородцы помогали Ярославу и даже, как явствует из летописи, изрядно подогревали его амбиции также не из любви да верности. Их тяготила зависимость от Киева, которая при Святополке, явно намеревавшемся продолжать политику Ярополка и Владимира Святого, должна была бы сделаться еще тягостнее; оскорбляло их и высокомерное поведение киевлян, считавших себя господами. Они поднялись не только за Ярослава, но и за себя – и не ошиблись в расчете: обязанный новгородцам своим успехом, Ярослав дал им льготную грамоту, освобождавшую от непосредственной власти Киева и в значительной мере возвращавшую Новгородской земле древнюю самостоятельность. На льготную грамоту Ярослава новгородцы не раз ссылались при разногласиях и столкновениях с князьями – вплоть до времен великого князя московского Ивана III, покончившего с независимостью Господина Великого Новгорода.
И кто бы смог противостоять такому соединенному напору?
Но судьба всякого героя тем и отличается от судеб простых смертных, что за жизнью, зачастую чрезвычайно короткой, хотя и яркой, неизбежно приходит долгое посмертие.
Посмертие
Так все-таки – когда же и как стал Святополк Окаянным?
Произошло это спустя немногим более полувека после его гибели, около 1072 года, когда современников событий в живых уже почти не осталось, а потому историю можно было выворачивать хоть наизнанку.
Святополк Окаянный.
Гравюра Б. Чорикова (XIX в.)
Бог весть, кому первому пришло в голову канонизировать Бориса и Глеба – просто-напросто двух братьев, павших то ли в собственной, то ли в чужой борьбе за великое княжение. Если разобраться, они не слишком-то подходили для этой цели. Как отмечает академик Голубинский[73], выбор пал именно на них «по причинам политическим, не имеющим отношения к вере». Что ж, они оказались первыми, но не последними – достаточно вспомнить Александра Невского (речь о нем у нас впереди), которого Юрий Побединский назвал недавно «политически важным святым», или последнего российского самодержца… Но так или иначе, канонизировав братьев-князей, русская церковь обрела наконец собственных святых, «предстоятелей перед Богом» – обстоятельство чрезвычайно важное в борьбе с Византийской империей за церковную самостоятельность, что являлось существенным элементом государственного суверенитета.
Естественно, необходимо было составить соответствующее житие. Дело для киевских книжников новое, а потому проще всего было подыскать подходящий аналог и творчески его переработать. Таким аналогом послужило чешское предание X века о мученической кончине внуков крестителя Великоморавской державы Буривоя – братьев-князей Людмила и Вячеслава, павших в 935 году от руки брата своего Болеслава I Грозного (только не надо путать его с польским Болеславом I Храбрым!). В житии Бориса и Глеба содержатся многочисленные, часто буквальные совпадения с чешским агиографическим памятником. Даже именование Святополка «вторым Каином» представляет собой буквальный перевод латинского «alter Kain», каковым эпитетом наградили чехи Болеслава I Грозного.
Там, где наличествуют невинные жертвы, должен иметься и убийца, – причем не какой-нибудь, а такой, чтобы клейма негде ставить, воистину «alter Kain». На эту-то малопочтенную роль и определили Ярославовы потомки Святополка (похоже, по инициативе игумена Киево-Печерского монастыря Никона).
На этот раз литературным первоисточником послужило Священное Писание, отдельные эпизоды которого были кое-как объединены и перенесены на русскую почву.
«Повесть временных лет» рассказывает, что в последние дни жизни, во время панического бегства с поля битвы на Альте, ко всем бедам Святополка добавились «расслабленность», вследствие которой его пришлось нести на носилках, а также помрачение рассудка. Князя преследовал необъяснимый, безумный страх: «Бежим, бежим, за нами гонятся!» – кричал он в беспамятстве, хотя в действительности никакой погони не было.
Посланники Святополка убивают князя Глеба.
Миниатюра из Сильвестровского списка «Сказания о Борисе и Глебе» (XIV в.)
Убиение князя Бориса и слуги его Георгия.
Летописная миниатюра
Но, как отмечает прекрасный современный историк Игорь Данилевский, все это – «не что иное, как „осуществление“ притчей Соломоновых („Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним“[74], «Человек, виновный в пролитии человеческой крови, будет бегать до могилы, чтобы кто не схватил его»[75] и другие), «переложение» рассказа из Второй книги Маккавейской о бегстве Антиоха из Персии (его несли на носилках из-за внезапной болезни, а «из тела нечестивца во множестве выползали черви и еще у живого выпадали части тела от болезней и страданий; смрад же зловония от него невыносим был в целом войске»[76] и т.п.)». Но это цитаты скрытые. Однако наряду с ними имеется и прямое уподобление: «Это новый Авимелех». Кто же такой Авимелех? Библейская Книга Судей повествует, как этот сын израильского судьи Гедеона убедил сихемских жителей избрать его царем. Взойдя же на престол, он первым делом предал смерти семьдесят собственных братьев, обитавших в отчем доме в Офре, по непонятным соображениям сохранив жизнь лишь самому младшему – Иофаму. Предпринятые Авимелехом военные походы обернулись несколькими поражениями подряд, и в конце концов он был убит камнем, сброшенным ему на голову с городской стены некоей женщиной во время осады Тевеца.
Кого уж назвать Окаянным, как не нового Авимелеха! Тем более что в этой никак не соотносящейся с действительностью истории содержался зато высокий нравственный смысл. Описание кончины Святополка «в пустыне между чехов и ляхов» Нестор завершает словами: «Все это Бог явил в поучение князьям русским, чтобы если еще раз совершат такое же, уже слышав обо всем этом, то такую же казнь примут и даже еще большую той, потому что совершат такое злое убийство, уже зная обо всем этом». Приходится признать, что урок оказался не впрок: братоубийства среди русских князей не только не прекратились, но со временем приняли еще больший размах.
И все-таки некая толика справедливости в Святополковом прозвище есть: ведь помимо тех основных и в первую очередь подразумеваемых значений, которые я перечислил вам в начале рассказа, есть и другие, более редкие, однако существующие: несчастный, достойный жалости, многострадальный.
И последнее. Как хорошо, что в отличие от Макбета, о котором пойдет речь в следующей главе, на Святополка не нашлось отечественного Шекспира! Возможно, художественная литература наша и лишилась вследствие того великой трагедии, но, честное слово, напиши Пушкин в pendant[77] «Борису Годунову» (о них обоих речь также еще зайдет в шестой главе) своего «Святополка Окаянного», – и докапываться до правды о несчастном киевском Гамлете, принимать эту правду оказалось бы еще труднее.
Глава 3. Последний из великих шотландских королей
Написано так – и навек сохранится:
Преступный Макбет, благороднейший Банко…
Но слышу сквозь шелест пожухлых страниц я
Горестный стон оскверненных останков.
Эндрю Балдуин[78]Престол и подмостки
Через полтысячелетия после смерти Макбета его доброе имя было принесено в жертву сиюминутной политической выгоде. И вот уже пять веков вокруг личности и судьбы этого шотландского короля кипят страсти и не стихает борьба, в которой историческая правда тщетно пытается возобладать над литературным гением Шекспира.
С этого последнего и начнем.
В 1603 году с кончиной Елизаветы I пресеклась династия Тюдоров[79], правившая Англией чуть больше века. На опустевший престол взошел Иаков VI Шотландский, сын королевы Марии Стюарт, казненной шестнадцать лет назад по приказу той же Елизаветы. Объединив под своей властью три страны[80], отныне этот монарх, которого венценосный собрат, французский король Генрих IV Бурбон (более известный у нас по литературе как Генрих Наваррский), назвал «мудрейшим дураком христианского мира»[81], стал именоваться Иаковом I. Сменилась не только династия – пришла новая эпоха, по контрасту с блистательной елизаветинской казавшаяся современникам довольно-таки мрачной.
Непреложный закон: всякая власть, стремящаяся стать абсолютной, прежде всего жаждет прибрать к рукам то, что сегодня мы называем средствами массовой информации. Ни газет, ни телевидения в XVII веке, естественно, не существовало. Однако свято место пусто не бывает: и газетную полосу, и телеэкран с успехом заменяли тогда книги и театральные подмостки. А потому совершенно логично, что первым делом новый суверен ввел цензуру и взял под неусыпный контроль театры. Он переименовал все труппы и запретил кому бы то ни было оказывать им покровительство – отныне это стало исключительной прерогативой членов царствующего дома. Высшей чести – именоваться «слугами его величества» – удостоилось актерское товарищество, к которому принадлежал Уильям Шекспир, прежде называвшееся «слугами лорда-камергера»
В то время в театральной жизни Лондона видное место заняли два театра, где в качестве актеров выступали мальчики-хористы певческих капелл – они составляли весьма опасную конкуренцию взрослым актерам. И вот в 1605 году одна из таких трупп поставила на сцене театра «Блекфрайерс» пьесу популярных драматургов Джорджа Чапмена, Бена Джонсона и Джона Морстона «Эй, на восток!»; при дворе в спектакле усмотрели непозволительные насмешки над шотландцами, о чем и было незамедлительно и верноподданнейше донесено его величеству. Отличавшийся – как и положено всем деспотам – повышенной мнительностью Иаков I узрел в этом выпад не только против северных своих соотечественников, но и против собственной персоны, а посему без малейших угрызений совести упек авторов за решетку (вскоре, добавлю, следующий промах привел к роспуску труппы).
Быстро сориентировавшись, «слуги его величества» сочли, что настал самый что ни на есть подходящий момент поставить собственную пьесу на шотландскую тему. Написать ее взялся Уильям Шекспир.
Задачу, надо сказать, предстояло решить не простую – куда там пресловутым волку с козой и капустой! Во-первых, надлежит показать, что шотландцы – отнюдь не предлог для шуточек, а великий и гордый народ. Во-вторых, необходимо ненавязчиво подчеркнуть историческую неизбежность объединения Англии с Шотландией. В-третьих, польстить Иакову I, подтвердив древность дома Стюартов, которые возводили свой род к Банко – шотландскому военачальнику XI века, тану[82] Лохаберскому. Наконец, в-четвертых, продемонстрировать королю-католику, автору богословских трактатов о необходимости борьбы с ведьмами и вообще со всяческим колдовством, что его призывы не пропали втуне.
Вот так и родилась в 1606 году одна из популярнейших в мире пьес – трагедия «Макбет». В поисках сюжета Шекспир обратился к источнику, из которого черпал уже не раз[83] и будет черпать впредь, – ко второму, 1587 года, изданию двухтомных «Хроник Англии, Шотландии и Ирландии» Рафаэля Холиншеда[84]. Шотландцы у Шекспира – сплошь люди благородные и отважные (за исключением, разумеется, главных злодеев – Макбета и его жены). Есть в пьесе и предсказание, что потомкам Банко предстоит царствовать, а одному из них – даже объединить под своей властью Англию и Шотландию. Спасение страны от Макбетова деспотизма приходит из Англии, куда бежали Малькольм с Макдуфом и откуда они при поддержке графа Сиварда Нортумберлендского идут походом на узурпатора-убийцу. Злодеяния же Макбета теснейшим образом связаны с разлагающим влиянием трех являющихся в прологе ведьм.
Сегодня для нас с вами все это не имеет ни малейшего значения, однако для современников Шекспира его трагедия была до предела насыщена всяческими аллюзиями, намеками и ассоциациями, отчего звучала политически актуально. (Не в этом ли кроется, кстати, неукротимая тяга некоторых нынешних деятелей искусства искусственно осовременивать творения Барда?[85])
Макбет.
Единственный дошедший до нас средневековый портрет, находящийся в галерее замка Гламис
Так или иначе, но Шекспир со свойственным ему блеском решил многосложную творческую задачу: Иаков I от души рукоплескал. И ни короля, ни драматурга, ни актеров, ни тем более зрителей – словом, никого, ни тогда, ни в последующие века! – не волновало, что во время каждого представления далеко на севере, в Гебридском архипелаге, на островке Айона, лежащем в холодных водах Атлантики близ западной оконечности острова Малл, в древней усыпальнице шотландских монархов ворочаются кости законного короля, коего современники нарекли Макбетом Благословенным[86].
Макбет шекспировский
Король Иаков I Стюарт, которому старался потрафить своим «Макбетом» Шекспир
Не стану даже пытаться пересказывать шекспировскую трагедию: во-первых, затея была бы попросту бессмысленной – художественные произведения пересказу вообще не поддаются; а во-вторых, совершенно излишней – немного сыщется людей, не читавших «Макбета», не видевших одной из его бесчисленных театральных постановок или экранизаций. Ограничусь лишь несколькими замечаниями, оставив пока в стороне подлинную историческую канву событий и сосредоточившись исключительно на авторском подходе к материалу и личностях героев.
Хотя в целом Шекспир и следовал изложенному Холиншедом жизнеописанию Макбета, однако не чуждался и всяческих контаминаций: так, например, сцена убийства короля Дункана позаимствована из иного эпизода хроники, где повествуется об умерщвлении короля Дуффа его вассалом Дональдом. Порою же драматург и вовсе переиначивал ход изложенных хронистом событий так, как требовал того идейно выдержанный художественный замысел. Макдональд исторических хроник покончил жизнь самоубийством – у Шекспира его убивает Макбет; у Холиншеда убийство короля Дуффа совершают подосланные слуги – у драматурга опять-таки сам Макбет. В первоисточнике убийство Банко совершается уже после пира у Макбета – шекспировский Банко погибает на пути туда… Все это способствовало сгущению драматизма, напряжению сюжета, проявляло характеры (что театральному действу жизненно необходимо), но и уводило от исторической правды (даже в той доле, какая сохранилась в изложении Холиншеда).
Впрочем, и характеры (или, вернее, оценки характеров) своих героев Шекспир сотворял, не следуя первоисточнику, а по собственному разумению. Описанный в хронике Банко – соучастник убийства короля Дункана? Но ведь он – предок нашего доброго покровителя короля Иакова! Так пусть же станет воплощением благородства и средоточием всяческих достоинств. Холиншедовский Макбет мудр и справедлив – сделаем его законченным воплощением политического деспотизма…
Вот и получается, что Макбет – законченный злодей, хотя поначалу и предстает героем. Правда, героем, чью душу усердно точит червь честолюбия – чем больше он получает, тем большего хочет. Ему уже мало титулов тана Морийского, тана Росского и тана Кавдорского[87], неоспоримо ставящих его на второе место в королевстве, – Макбета непреодолимо влечет напророченный ведьмами трон. Но к престолу не прийти тем прямым и честным путем, каким он следовал до сих пор, – противоречие, неминуемо ведущее к преступлению.
Замок Гламис, где, согласно Шекспиру, был убит король Дункан
(современный вид)
Нарушив разом два священных долга, – вассальный и гостеприимства, – Макбет соучаствует в убийстве своего сюзерена и своего гостя, мудрого и благородного короля Дункана I. И в соответствии с канонами жанра злодеяние это становится первым звеном неизбежно потянувшейся цепи. Сперва вместе с Дунканом погибают и охранявшие его слуги, а потом начинается вакханалия все более подлых и жестоких убийств: жертвами Макбета становятся и ближайший друг Банко, тан Лохаберский; и семья Макдуфа, тана Файфского… Макбет виновен не только в том, что несет гибель другим, но и в том, что погубил себя самого. К финалу изо всех достоинств у него остается лишь мужество, с которым он принимает в единоборстве смерть от руки Макдуфа. Едва ли не все шекспироведы сходятся на том, что «Макбет» – самая мрачная из трагедий великого драматурга, ибо демонстрирует полную моральную деградацию человека.
Уильям Шекспир
(1564–1616)
В «Хрониках» Холиншеда леди Макбет посвящена единственная фраза: «…но особенно растравляла его жена, добивавшаяся, чтобы он совершил это, ибо она была весьма честолюбива и в ней пылало неугасимое желание приобрести сан королевы». Из этого горчичного семени Шекспир взрастил могучее древо – его леди Макбет стала символом, именем нарицательным, приведшим к появлению на свет и лесковской «Леди Макбет Мценского уезда», и великого множества иных… Шаря по интернету в поисках материалов о Макбете, я то и дело наталкивался на газетные статьи о «казанской леди Макбет», «томской леди Макбет» – и так далее, и так далее. И не от неизбывной тяги ко всякого рода клише и штампам это, не от бедности журналистского воображения, как я, признаться, поначалу подумал было, но от непреодолимо властного тяготения шекспировского образа.
Леди Макбет у Шекспира во многом подобна супругу. Ее чувства также целиком подчинены честолюбию – даже в муже она любит лишь высокий сан, широко распростершуюся власть, явное превосходство над окружающими. Леди Макбет дорог не столько он сам, сколько его способность возвыситься еще больше – и тем самым вознести к сияющим высотам ее. Это непомерное, до вселенских масштабов доведенное честолюбие – страсть, слепая, нетерпеливая и неукротимая. Ни одной человеческой душе не вынести подобного бремени, отчего леди Макбет в конце концов сходит с ума и умирает. Она – наиболее концентрированное воплощение зла во всем шекспировском творчестве. Леди Макбет отравляет мужнину душу – и в миг, когда могла бы спасти его, подталкивает к бездне, куда рушится вместе с ним.
Макбету и его жене, поправшим человечность, противостоят не одиночки, но вся страна. Причем враги Макбета сознают, что борются не только за династические интересы принца Малькольма, но и за человечность как таковую. И у Малькольма, и у Макдуфа есть личные причины ненавидеть короля-узурпатора: у первого он убил отца и отнял трон, у второго убил жену, сына и отобрал владения. Однако оба движимы жаждой не столько мести, сколько справедливости.
Именно такой нужна была Шекспиру чета Макбетов, чтобы на непроницаемо черном фоне чистым золотом засверкал Банко – рыцарь без страха и упрека, каким только и мог быть предок ныне царствующего Иакова I. И ради ублажения монаршего самолюбия стоило поступиться исторической правдой. А ее хватало даже в холиншедовских «Хрониках Англии, Шотландии и Ирландии» или в «Истории и хрониках Шотландии» Гектора Боэция.
К правде и перейдем.
Макбет исторический. Путь к трону
В XI веке Шотландия была молодым государством, лишь недавно образовавшимся в результате слияния под властью Кеннета I Мак-Альпина двух королевств: населенного преимущественно скоттами Альбана и Дальриады, где обитали пикты. Увы, объединение это не принесло желанного покоя: изнутри страну раздирали феодальные междоусобицы, с севера и востока ей постоянно угрожали викинги оркнейского ярла[88] Торфинна, а с юга – англичане.
Такова была историческая сцена. А теперь поговорим о героях.
Право наследования было в Шотландии чрезвычайно запутанным, и потому проблемы эти частенько решались при помощи насилия. Теоретически, согласно провозглашенному Кеннетом I Мак-Альпином закону о престолонаследии, короли скоттов должны были жениться на пиктских принцессах, причем первородная принцесса наследовала состояние отца[89]. Однако король шотландский Боэда[90], отец леди Макбет – собственно, леди Груох, как нарекли ее при рождении, – нарушил закон (что всегда бывает чревато самыми непредсказуемыми последствиями) и назначил своей наследницей молодую вторую жену (мачеху и, для вящей путаницы, тезку нашей героини; для простоты изложения назовем мачеху леди Груох-старшей, а падчерицу – леди Груох-младшей). Оскорбленный попранием своих прав и ожиданий, муж леди Груох-младшей, тан Морийский Гилкомгайн, отправился на тестя походом и убил его, удовлетворив в результате жажду мести, но не приблизившись к желанному наследству. Тем временем овдовевшая королева, леди Груох-старшая, собрала войско и, обрушившись на владения тана Гилкомгайна, прикончила убийцу своего венценосного супруга. Беременной леди Груох-младшей пришлось искать убежища у мужнина двоюродного брата – Макбета, тана Росского, который вскоре стал ее вторым супругом (причем, судя по всему, по любви, тогда как первый ее брак являлся типичной династической сделкой, заключенной, когда леди Груох-младшей было десять лет от роду).
Вся эта запутанная история приведена здесь с единственной целью – показать, что через жену – принцессу, незаконно лишенную наследства, – Макбет имел обоснованные права на шотландский престол. Впрочем, он и сам обладал не меньшими по праву рождения. Ведь его матерью была Доада (или Дональда – источники именуют ее по-разному) – дочь короля Шотландии Малькольма II Мак-Кеннета (которому наш герой соответственно доводился внуком) и Бланайды (дочери грозного верховного короля Ирландии Брайана Боройме[91] от его первой жены, Дейдры).
Тем временем в 1034 году другой двоюродный брат Макбета – молодой Дункан, rex Cumbrorum[92], или король валлийцев Стратклайда – захватил престол, в сражении при Хантерс-Хилле смертельно ранив собственного деда, короля Малькольма II.
Он не только пришел ко власти сомнительным даже по тем временам путем – его права на трон также представлялись весьма спорными[93]. Настолько, что едва он водрузил на себя корону, как в стране вспыхнула целая серия мятежей. Остается добавить, что, вопреки шекспировскому панегирику, «старый добрый король Дункан» в действительности был недалеким, порывистым и весьма испорченным молодым человеком, чье шестилетнее царствование не принесло славы ни ему, ни Шотландии. Презрев советы опытных военачальников, Дункан I вторгся в Англию и захватил город Дарем. Плохо спланированная кампания оказалась для шотландцев роковой, и Дункан I, понеся значительные потери, с позором отступил, вызвав новое недовольство собственной знати.
Однако основная борьба развернулась между Дунканом I и его могущественным родичем, оркнейским ярлом Торфинном, который в этой борьбе оказался столь успешен, что расширил свои завоевания до реки Тей. «Его люди растеклись по всей побежденной стране, – повествует оркнейская сага, – и сожжены каждая деревня и ферма, чтобы ни хижины не осталось. Всех, кого находили, они убивали; а старики и женщины, укрывшиеся в лесах, заполняли страну горестным плачем. Некоторых норвежцы уводили в рабство. Затем ярл Торфинн возвратился на корабли, порабощая страну всюду по пути».
Последнее сражение (на этот раз морское), в котором Дункан I понес очередное поражение, произошло в проливе Пентленд-Ферт. Вернувшись и высадившись в окрестностях Бергхеда, близ залива Мори-Ферт, Дункан I столкнулся здесь еще с одним, причем довольно малочисленным отрядом викингов, и вновь был разбит. На этот раз терпение приближенных лопнуло, и недовольство переросло в открытый вооруженный мятеж, который возглавили первые таны королевства – Макбет, которому в ту пору как раз исполнилось тридцать пять лет, и Банко. 14 августа 1040 года Дункан I «пал в бою близ Ботгованана, что по-гэльски, как считают, означает “Хижина кузнеца”» и, невзирая на всю спорность своих прав на престол, был со всеми положенными почестями погребен в королевской усыпальнице на острове Айона. Двое его сыновей – старший, Малькольм, и младший, Дональд – бежали; первый нашел убежище в Англии, второй – на Гебридских островах.
Как видите, роли Макбета и Банко в этих событиях совершенно равнозначны, а ни о каком коварном ночном убийстве спящего гостя речи не идет вовсе. Так что вся история леди Макбет, вечно смывающей с рук несуществующую кровь, полностью рождена поэтическим вдохновением Шекспира.
Макбет исторический. Царствование
В том же 1040 году при активной поддержке морийских, росских и кавдорских кланов новым королем Шотландии был провозглашен Макбет, чьи права на престол были если и не бесспорными, то, как мы уже знаем, весьма основательными. Он был коронован в Сконе[94] – старинном замке, где эта церемония происходила всегда, начиная со времен Кеннета I Мак-Альпина, который, уже будучи королем скоттов, был увенчан здесь и короной пиктов.
И началось семнадцатилетнее царствование, о котором в хронике сказано: «Все эти годы страна процветала».
Почувствовав, что власть в стране держит теперь твердая рука, оба главных противника – английский граф Сивард Нортумберлендский и оркнейский ярл Торфинн – если даже не присмирели, то во всяком случае поумерили притязания и начали проявлять разумную осторожность. В результате на границах стало спокойнее, а население получило долгожданную передышку от разорительных набегов, что с течением времени не могло не привести к экономическому подъему. Последнему немало способствовало и снижение налогов, которое новый король смог себе позволить, поскольку не откупался от противника, не платил отступного после поражений, как его предшественник Дункан I, а неизменно одерживал победы, причем малыми силами своего хорошо обученного и высокопрофессионального войска. Макбет был не только мужественным солдатом, о чем и Шекспир говорит без обиняков (нельзя же ведь обходиться одной черной краской!), но и талантливым полководцем.
В стратегически важных пунктах по королевскому указу были возведены каменные твердыни (увы, ни одна из них не дошла до нас в первозданном виде, и потому историки спорят, какие из уцелевших замков высятся на тех же местах и, может быть, частично сложены из тех же самых камней).
Кроме того, Макбет окончательно объединил север и юг страны, завершив наконец политический процесс, начатый Кеннетом I Мак-Альпином и длившийся без малого два столетия. Отныне существование устойчивого Шотландского королевства представлялось вполне вероятным.
Для патрулирования границ и поддержания порядка были организованы летучие кавалерийские отряды. Им же вменялись и функции разъездных судов, отправляющих на местах правосудие именем короля. Кстати о правосудии. До Макбета на территории Шотландии действовали и старое пиктское право, и законы скоттов; независимые скандинавские поселения подчинялись собственным правилам; то же можно сказать о живших там англах и бриттах. За первые два года царствования Макбет (не сам, разумеется, но люди, им подобранные, и по его воле) на основе всего этого создал единый и достаточно непротиворечивый свод, отчего подавляющее большинство подданных вздохнуло с облегчением, поняв, что можно, а чего нельзя. Была проведена и законодательная реформа в области прав наследования, дабы впредь избегать кровавых распрей, подобных тем, о которых говорилось выше. Надо сказать, начинание оказалось успешным: так, например, когда умер Торфинн Оркнейский[95], обширные владения, захваченные им в Шотландии, вернулись к первоначальным обладателям почти бескровно; впервые право явно возобладало над силой.
Макбет был первым шотландским королем, которого церковные документы называют «благотворителем церкви», – согласно отчетам аббатства Святого Андрея, он поднес щедрый дар монастырю в Лох-Ливене и не только раздавал милостыню нуждающимся соотечественникам, но даже послал деньги беднякам Рима. Кроме того, он оказался первым из шотландских монархов, кто предложил свою службу папе римскому – это произошло во время предпринятого им в 1050 году паломничества в Вечный Город. Кстати, сам факт этого паломничества красноречиво свидетельствует, сколь устойчивым было положение в государстве, – не всякий монарх тех времен мог позволить себе на многие месяцы покинуть страну, а вернувшись, найти ее тихой и спокойной.
В отличие от шекспировской, историческая пиктская принцесса Груох, во втором замужестве – леди Макбет, была не только вошедшей в легенды красавицей, но и любящей женой, к счастью, не дожившей до гибели венценосного супруга, – она скончалась тремя годами раньше.
Реальный, а не шекспировский Банко, тан Лохаберский, пал в одной из схваток с викингами. Трудно сказать, действительно ли он являлся прародителем дома Стюартов, однако и военачальником, и воином был первостатейным. И еще – до последнего дня оставался верным другом и соратником своего сюзерена.
Однако приверженцы Малькольма, сына Дункана I, неустанно предпринимали попытки низложить Макбета. За участие в одном из таких заговоров был лишен титула и владений Макдуф, тан Файфский, – и это, пожалуй, единственный эпизод, где Шекспир близок к фактам. Сын Макдуфа был казнен, а сам тан бежал в Англию, где при дворе короля Эдуарда Исповедника все эти годы интриговал, добиваясь вооруженной поддержки, принц Малькольм.
Наконец в 1054 году, снисходя к просьбам Малькольма и с молчаливого согласия короля Эдуарда, могущественный граф Сивард Нортумберлендский предпринял вторжение в Шотландию. Его войска продвинулись на север до самого Дунсинана, где были встречены лично возглавившим армию Макбетом. В яростной битве полегло три тысячи шотландцев[96] и полторы тысячи англичан, включая Осберта, сына Сиварда. Трудно сказать, кто все-таки одержал победу, – обе стороны оказались вконец обескровлены. Макбет отступил к своим северным крепостям[97], а Сивард, осознав бесперспективность продолжения кампании, вернулся в Нортумберленд. Однако Малькольм с Макдуфом, располагая лишь незначительными отрядами своих приверженцев (или просто обиженных королем – без таковых, увы, никогда и нигде не обходилось ни одно царствование) продолжали действовать на свой страх и риск и три года спустя добились наконец успеха: в незначительной схватке при Лумпанане[98] близ Абердина удача изменила Макбету. Так погиб[99] тот, кого современные историки называют «последним из великих шотландских королей».
Осиротевший скипетр подхватил двадцатипятилетний Лулах, сын леди Груох от первого ее брака с Гилкомгайном, таном Морийским, – бездетный Макбет еще при жизни провозгласил его своим наследником и преемником, а по одной из версий – даже соправителем. Однако его царствование оказалось коротким – полугодом позже он пал в сражении при Эсси близ Страбоги, пытаясь защитить трон от притязаний Малькольма. Но вот что показательно: и Макбет, и Лулах были с почестями погребены на острове Айона, в усыпальнице, многими столетиями служившей шотландским королям, – в отличие от Шекспира, даже непримиримые противники не пытались обвинить их в узурпации власти.
25 апреля 1058 года в Сконе был коронован сын Дункана I, вошедший в историю под именем Малькольма III Большеголового. В результате долгой, упорной и кровавой борьбы он сумел вернуть своему дому власть, но под его властью Шотландия перестала быть самостоятельным королевством. Единственное его достижение – введение взамен привычных танских титулов новых для Шотландии графских, которыми он незамедлительно принялся награждать сподвижников, помогавших ему в борьбе за престол.
Макбет сегодняшний
Но почему все-таки эта древняя история многим не дает покоя и ныне? А в том, что дело обстоит именно так, нетрудно убедиться, просто подсчитав число регулярно выходящих книг, посвященных царствованию Макбета, или заглянув на один из интернетовских сайтов, посвященных истории Шотландии, – там постоянно появляются все новые и новые материалы и ведутся горячие дебаты. Неужели причиной всему лишь желание оспорить Шекспира, упрекнуть великого драматурга в отступлении от исторической правды?
Разумеется, нет.
В XX веке с легкой руки английского историка Арнольда Дж. Тойнби родилась новая если и не научная дисциплина, то по крайней мере, скажем так, область профессиональной деятельности, получившая название альтернативной истории. В ней, в частности, сформулировано понятие точки бифуркации – исторической развилки, от которой события с равной вероятностью могут начать развиваться по разным направлениям. И царствование Макбета, по мнению многих историков, является одной из таких точек.
Альтернативная история исследует не реальный, а возможный ход событий; не то, что было, но то, что могло бы быть. Причем это вовсе не праздная игра ума – изучение несбывшегося помогает глубже понять причины подлинного хода событий.
Хотя правление Малькольма III Большеголового и продолжалось целых тридцать пять лет, к великим королям его никто не причисляет.
Ко власти он пришел с помощью англичан. Два года спустя, в 1059 году, когда власть его более или менее упрочилась, Малькольм III нанес визит королю Эдуарду Исповеднику и до самого конца его царствования жил с англичанами в мире. Однако стоило его благодетелю скончаться, как Малькольм III, унаследовавший все худшие отцовские черты, незамедлительно предпринял набег, понимая, что унаследовавший английский престол король Гарольд Саксонец (более известный как Гарольд Несчастный) слишком занят сейчас упрочением власти и отражением викингов норвежского короля Харальда III Хардрада[100], чтобы отважиться еще на карательную акцию. Малькольм опустошил страну, – тот самый, заметьте, Нортумберленд, чей граф Сивард столько помогал ему в борьбе против Макбета; он настолько разошелся, что не побоялся даже святотатственно нарушить покой мощей св. Катберта[101] на Святом Острове.
Вскоре, одержав 14 октября 1066 года в битве при Гастингсе победу над войсками короля Гарольда, измотанными предшествовавшей битвой с норвежцами[102], Вильгельм, герцог Нормандский взошел на английский трон под именем Вильгельма I Завоевателя. Сын Гарольда Несчастного, Эдгар Этелинг, не питая ни малейших надежд на венец, вместе с матерью и сестрами оставил Англию в расчете обрести убежище в Шотландии. Малькольм предоставил беглецам королевский дворец в Данфермлине, и Маргарет, одна из сестер Эдгара, настолько покорила сердце шотландского короля, что вскорости тот предложил ей руку и сердце[103]. Предложение, разумеется, было принято, и некоторое время спустя состоялось торжественное и пышное бракосочетание. Эта королева явилась, надо сказать, благословением королю и народу и вполне заслуженно была причислена впоследствии к лику святых – немного сыщется в истории женщин, способных сравниться с королевой Маргарет.
Но если в семейной жизни Малькольм III преуспел, то во всем остальном – никоим образом. Его противостояние с Вильгельмом I выливалось в непрерывные стычки, которые шотландец неизменно проигрывал. В конце концов Вильгельму это надоело – в 1072 году он решительно вторгся в пределы Шотландии и заставил Малькольма III признать свой сюзеренитет, – отныне Шотландия становилась вассалом английской короны. Вооруженные столкновения, правда, с этим не прекратились, хотя и велись по-прежнему неудачно для шотландцев. Однако их монарх не уставал грезить английским троном. И продолжалось это до тех пор, пока в очередной раз вторгшись в Англию, Малькольм III не погиб в битве при Олнуике[104].
Так представляла себе костюм Макбета в 2001 г. английская художница Таня Маккаллин, готовя эскизы к постановке одноименной оперы Джузеппе Верди в петербургском Мариинском театре
Нельзя не признать, что все тридцать шесть лет своего правления он оставался королем слабым.
Макбет же был правителем и мудрым, и могущественным. Так что не погибни он тогда, при Лумпанане, – Шотландия могла бы как минимум сохранить независимость. А иные историки даже утверждают, что он мог бы занять английский трон с неменьшим успехом, чем Вильгельм Завоеватель. И тогда история пошла бы совсем иным путем…
Невзирая на всю сослагательность, предположение это не может не греть душу шотландцам. Но нам, остальным, важнее другое – извлечь из густой шекспировской тени подлинное лицо человека, которого по праву называли не узурпатором-убийцей, а Макбетом Благословенным. Ей-богу, хотя бы такую малость он заслужил.
Совсем недавно в связи с предстоящим в 2005 году тысячелетием со дня рождения Макбета группа из двадцати депутатов шотландского парламента выступила с настоятельным требованием очистить память великого короля, оболганного Шекспиром (и, как мы с вами знаем, не только Бардом, но и Рафаэлем Холиншедом, и Гектором Боэцием, и многими поколениями их последователей).
Начинание, конечно, благое. Но как вы думаете, сможет оно сколько-нибудь преуспеть?
Лично я уверен в обратном – увы, против сложившегося мифа бессилен даже парламентский билль…
Глава 4. Единственная любовь Синей Бороды
О пресловутой личности, в просторечии именуемой Синей Бородой, высказывались мнения самые различные, самые странные и самые ошибочные. <…>
Я знаю, эта попытка реабилитации будет встречена молчанием и предана забвению. Разве может бесстрастная голая правда восторжествовать над обманчивым очарованием лжи?
Анатоль ФрансЧернокнижник и душегуб
Сказку о Синей Бороде в детстве читали все. А позже, в школьные годы, все узнавали о Жанне д’Арк и ее патриотических деяниях. Но мало кому приходило в голову, что эти двое – соотечественники и современники. А уж о том, что их связывало друг с другом, не задумывался, наверное, почти никто…
Но – по порядку.
Вынесенные в подзаголовок слова – едва ли не самые мягкие из характеристик Жиля де Лаваля, члена одного из знатнейших родов страны – семейства Монморанси, барона[105] де Рэ, сеньора де Блезона, Шемийе, Ла Мот-Ашара и проч.[106], первого барона и предводителя дворянства герцогства Бретань, а также маршала Франции, благодаря женитьбе ставшего вдобавок свойственником короля Карла VII. По крайней мере, так обстоит дело на страницах хроник, созданных позже второй половины XV века. И даже в середине прошлого столетия Хейзинга[107], уж на что великий знаток эпохи, а все равно в своей «Осени Средневековья» не называет Жиля де Рэ иначе как «чудовищем». А с тех пор как около 1660 года Шарль Перро сделал его прототипом своего персонажа – Синей Бороды[108], этим именем вот уже более трех столетий пугают детей, современные же феминистки усматривают в нем чуть ли не основоположника мужского шовинизма и сексплуатации.
Кстати, именно Перро, дабы ввести в сюжет романтическое начало, представил Синюю Бороду женоубийцей. В действительности же 26 октября 1440 года исторического Жиля де Рэ сожгли на мосту в Нанте за убиение в ритуальных целях 140 христианских детей, а также за сношения со врагом рода человеческого, коему маршал якобы продал душу в обмен на секрет философского камня, обладающего способностью обращать в золото ртуть и свинец (всего обвинительное заключение включало сорок девять пунктов!). Да и пресловутая синяя борода также целиком и полностью на совести сказочника – факт, лишний раз доказывающий, сколь важна литератору филологическая точность: в XIV–XV веках синебородыми называли тех, о ком сегодня говорят: «выбрит до синевы» или «итальянская синева на щеках» (замечу кстати, что итальянцы среди предков барона имелись).
До 1439 года Жиль де Рэ числился в героях отечества – стремительно возвышающийся военачальник из числа друзей дофина[109]. Те же хронисты, что потом не жалели для него черной краски, поначалу рисовали куда как привлекательный портрет… Неужели же облик этот являлся лишь обманчивой личиной? Многие уверовали, будто так оно и было. Многие разделяют эту веру поныне. И мало кому приходит в голову заинтересоваться, каким же образом произошла в одночасье столь разительная перемена.
Разумеется, Жиль де Рэ вовсе не был святым[110]. Хладнокровный и расчетливый в бою, умелый солдат и талантливый стратег (уж не сказались ли гены предка, Бертрана дю Геклена[111]?), в жизни барон бывал и вспыльчив, и скор на расправу. Мягкий с друзьями, он мог оказаться равнодушен и даже жесток[112]. В то же время он никогда не опускался до обмана; кодекс рыцарской чести действительно являлся для него законом; и, наконец, он умел любить – любить преданно, беззаветно и безоглядно. А предметом его высокой страсти была Орлеанская Дева.
К ней и перейдем – сперва к личности легендарной, а затем и к подлинной.
Легенда о пастушке из Домреми
Очевидно, для начала следует ее напомнить – хотя бы в самых общих чертах.
Жанна д’Арк, какой предстает она со страниц учебников (причем не суть важно, французских, русских или бразильских – они, увы, повсюду одинаковы), родилась между 1831 и 1843 годами под пером Жюля Мишле[113], занимавшего тогда пост директора Национального архива. На страницах своей шеститомной «Истории Франции» он нарисовал образ, представлявшийся ему, демократу, романтику и патриоту, идеальным, – именно этот черно-белый идеал (а вовсе не реальная Дева Франции!) решением Римской курии был причислен к лику святых. Выглядел он – с некоторыми более поздними добавлениями – примерно так.
Жанна д’Арк во время осады Орлеана.
Гравюра XIX века
Шла Столетняя война. Когда поражение казалось уже неизбежным, явилась Жанна: вознамерившись изгнать англичан, Дочь народа увлекла французов за собой.
Родилась она в деревушке Домреми, неподалеку от границы Лотарингии и Шампани – в местах, жители которых традиционно поддерживали арманьяков[114]. Пользуясь смутой, на эти края постоянно совершали грабительские набеги не только бургиньоны, но и немцы, отчего впечатлительной девушке нередко приходилось видеть окровавленными своих братьев и односельчан. Дочь пахаря Жака д’Арка и супруги его, Изабеллы д’Арк (в девичестве де Вутон, за оливковый цвет лица получившей прозвище Роме, то есть Римлянка), Жанна была рослой, сильной и выносливой девушкой, отличавшейся набожностью, трудолюбием и простодушием. С детских лет она видела вокруг бедствия народные и, как признавалась потом, ее «змеею жалила в сердце скорбь о несчастьях милой Франции». В тринадцать лет она впервые услыхала «голоса», повелевшие ей спасти отечество. Поначалу эти видения испугали девушку, ибо подобное назначение, казалось, намного превосходило ее силы. Однако постепенно она сжилась с этой мыслью.
Жанне не исполнилось и восемнадцати, когда она покинула родные места, чтобы принять участие в борьбе за освобождение родины. С превеликим трудом добралась она до города Шинон, где пребывал в то время наследник престола – дофин Карл. Как раз перед тем в войсках распространился слух о пророчестве, согласно которому Бог пошлет Франции деву-спасительницу. И потому придворные посчитали, что глубокая вера девушки в победу способна поднять боевой дух войск. Когда специальная дамская комиссия в составе двух почтенных матрон – Жанны де Прейли, дамы де Гокур, и Жанны де Мортемар, дамы де Трев – засвидетельствовала непорочность Жанны, ее командованию был вверен отряд рыцарей, влившийся в семитысячную армию, собранную для помощи осажденному Орлеану. Опытнейшие военачальники признали ее главенство. На всем пути простой люд восторженно встречал свою Деву. Ремесленники выковали Жанне доспехи и сшили походную форму.
Воодушевленные Девой орлеанцы вышли из стен города и штурмом взяли английские укрепления – в результате всего через девять дней по ее прибытии в город осада была снята. Ознаменованный этим событием 1429 год оказался переломным в ходе войны, Жанну же с тех пор начали называть Орлеанской Девой. Однако пока дофин не был коронован, он не мог считаться законным сувереном. Жанна убедила его предпринять поход на Реймс, где издавна короновались французские монархи[115]. Трехсоткилометровый марш армия победоносно проделала за две недели, и наследник престола был торжественно венчан на царство в Реймсском соборе Богоматери, став отныне Карлом VII. Кстати, священный сосуд, содержащий неисчерпаемый елей для помазания, нес из церкви святого Реми[116] – одна из почетнейший ролей в тысячелетнем ритуале! – наш знакомец Жиль де Рэ.
Пленение Жанны д’Арк под Компьеном.
Барельеф на стене собора
Война тем временем продолжалась. Однажды под Компьеном отряд Жанны был окружен бургундцами. Они захватили Орлеанскую Деву в плен и за 10 000 ливров передали своим союзникам – англичанам. Те, дабы оправдать собственные поражения, обвинили Жанну в связях с дьяволом. Трибунал из ученых-богословов обманом выманил у нее подпись под ложным признанием, вследствие чего героиню объявили ведьмой, и 31 мая 1431 года[117] она была сожжена на костре в Руане.
Такое изложение фактов, вполне достойное романтического повествования в стиле Вальтера Скотта, Александра Дюма-отца или Теофиля Готье, прекрасно объясняет, почему Ипполит Тэн[118] считал Мишле не столько ученым, сколько одним из величайших поэтов современности, а его труд называл «лирической эпопей Франции».
Но как бы то ни было, на этом кончаются легенда и параграф в учебнике и начинаются
Бесчисленные вопросы
Приведу лишь несколько примеров, хотя практически все вышеизложенное, увы, не в ладу ни со многими историческими фактами, ни даже просто со здравым смыслом.
Начнем с происхождения. Уже сами имена так называемых «родителей» Орлеанской Девы свидетельствуют о принадлежности их ко дворянскому, а вовсе не крестьянскому сословию[119]. Так что с «дочерью пахаря» следует категорически распроститься. К тому же никто из современников вообще не называл ее Жанной д’Арк. Сама она на судебном процессе заявила, что фамилии своей не знает: «Зовут меня Жанна Девственница, а в детстве звали Жаннетой». Во всех документах той эпохи она именуется исключительно Дамой Жанной, Жанной Девственницей, Девой Франции или Орлеанской Девой, причем это последнее имя, заметьте, появляется задолго до освобождения Орлеана. На оправдательном процессе 1451 года рыцарь Жан де Новелонпон, нередко бывавший в доме д’Арков, на вопрос, был ли он знаком с матерью Жанны, ответил отрицательно (а ведь с Изабеллой Римлянкой он встречался там всякий раз!). Наконец, дарованный Жанне дофином герб не имеет ни малейшего сходства с фамильным гербом д’Арков, указывая на совсем иное, куда более высокое происхождение…
Памятник Жанне д’Арк в Орлеане
На этом стоит остановиться. Вот описание герба д’Арков: «На лазоревом поле золотой лук и три скрещенные стрелы с наконечниками, две из которых окованы золотом и снабжены серебряным опереньем, а третья – из серебра и с золотым опереньем, с серебряной главой, увенчанной червленым львом». С одной стороны, согласитесь, это герб отнюдь не землепашца. С другой же… Вот текст королевской грамоты, наделившей Жанну гербом: «Во второй день июня 1429 года названный господин король, прознав про подвиги Жанны Девственницы и победы, одержанные во славу Господа, наделил, находясь в городе Шиноне, гербом названную Жанну, во украшение ее штандарта и ее самой, по нижеследующему образцу, вверив герцогу Алансонскому и названной Жанне осаду Жаржо…». Как видите, д’Арки и их герб тут не поминаются вовсе – речь идет исключительно о самой Жанне. Теперь описание герба: «Щит с лазурным полем, в котором две золотые лилии и серебряный меч с золотым эфесом острием вверх, увенчанный золотой короной». Причем изображение короны соответствует тем, что исстари украшали гербы принцев крови[120].
Что касается россказней о «грабителях-немцах», то достаточно взглянуть на историко-географическую карту, чтобы убедиться: деревня Домреми располагалась на землях герцогства Барруа, там где сходятся границы современных департаментов Вогезы, Мёз, Мёрт-э-Мозель и Верхняя Марна. Таким образом, от немцев эти места были отделены территорией Лотарингии, а тамошние герцоги во время Столетней войны были союзниками Франции…
Теперь о внешности. До наших дней не сохранилось ни одного подлинного изображения Жанны. Единственный известный прижизненный портрет – рисунок пером, сделанный секретарем парижского парламента на полях своего регистра 10 мая 1429 года, когда в Париже узнали о снятии с Орлеана осады. Однако и этот набросок не имеет ничего общего с оригиналом: там изображена женщина с длинными локонами, облаченная в платье со сборчатой юбкой; она держит знамя и вооружена мечом. Меч и знамя у Жанны действительно были. Однако она неизменно носила мужской костюм, а волосы коротко стригла «под горшок» ввиду необходимости носить шлем.
Многие современники называли Жанну красавицей и были в нее безнадежно влюблены. Но давайте разберемся. Конечно, женщина, участвовавшая в сражениях и рыцарских турнирах, действительно должна была отличаться силой и выносливостью. Однако «рослой» Дева не была никогда – в одном из французских музеев хранятся ее доспехи, свидетельствующие, что обладательница их ростом достигала… ровно 158 см. И с этим фактом, увы, не поспоришь.
Теперь поговорим о «простодушии и трудолюбии». Как явствует из протоколов, в ходе процесса, подвергшего ее осуждению, Дочь народа с высокомерным презрением отвергла оскорбительное утверждение, будто она пасла скот или работала по хозяйству. А позже, на оправдательном процессе, Ален Шартье, секретарь двух королей – Карла VI и Карла VII, заявил: «Создавалось впечатление, будто эта девушка воспитана не в полях, а в школах, в тесном общении с науками». Добавлю, что в Шиноне она изумила дофина и его кузена, юного герцога Алансонского, непревзойденным мастерством верховой езды, совершенным владением оружием и блестящим знанием игр, распространенных тогда среди знати (кентен, игра в кольца и т.д.).
Кстати, о пути в Шинон. Начнем с того, что в январе 1429 года, незадолго до отъезда туда Жанны, в селение Домреми, где она жила в семье д’Арков, в сопровождении шотландского лучника Ричарда прибыл королевский гонец Жан Колле де Вьенн. По его распоряжению был сформирован эскорт в составе двоих местных рыцарей – упоминавшегося уже Жана де Новелонпона и Бертрана де Пуланжи, – их оруженосцев и нескольких слуг.
По дороге отряд заехал в Нанси, где Жанна долго совещалась о чем-то с герцогами Карлом Лотарингским и Рене Анжуйским (с чего бы это двум владетельным сеньорам совещаться с дочерью пахаря?), а также «в присутствии знати и народа Лотарингии» приняла участие в рыцарском турнире. Если учесть, что турниры всегда были исключительной привилегией знати, что вокруг ристалища выставлялись щиты с гербами участников, то представляется совершенно невероятным, будто Карл Лотарингский и прочие сеньоры примирились бы с тем, что на чистокровного боевого коня взгромоздилась крестьянка, причем вооруженная благородным копьем, пользоваться которым имели право исключительно посвященные опоясанные рыцари. И еще вопрос – откуда у нее взялись доспехи? Подобрать на ее рост чужие было бы весьма и весьма затруднительно… Наконец, под каким гербом она выступала – ведь до присвоения ей собственного оставалось еще полгода? Лишенных (пусть даже временно) дворянских прав д’Арков? Вот уж кому, как говорится, не по чину!
Наконец, по прибытии в Шинон Жанну незамедлительно приняли обе королевы – Иоланда Анжуйская, теща дофина, и ее дочь, Мария Анжуйская, его жена. Как видите, Деву доставили в Шинон с почетом, и ни о каком преодолении препон говорить не приходится. А ведь по логике вещей Жанна, будучи ясновидящей смиренной крестьянкой, не должна была бы проникнуть дальше привратницкой. Конечно, о ее появлении доложили бы дежурному офицеру, тот – коменданту, последний, может быть, дофину… Но чем бы все это кончилось? Ясновидящие в те времена бродили по французским дорогам в превеликом множестве…
И последнее. Да, «ремесленники выковали Жанне доспехи» (а кто же еще мог это сделать?), но заплатил-то за них король, причем целых сто турских ливров[121] – сумму по тем временам огромную: доспехи герцога Алансонского, например, стоили только восемьдесят. И вообще, в средствах Дева не стеснялась: «Когда моя шкатулка пустеет, король пополняет ее» – легкомысленно говаривала она. И самый поразительный факт: Жанна потребовала хранящийся за алтарем церкви святой Екатерины во Фьербуа меч, некогда принадлежавший не кому-нибудь, а самому коннетаблю Бертрану дю Геклену (тому самому, предку Жиля де Рэ); потребовала его – и получила. И еще одна деталь: перстнем дю Геклена она уже обладала, когда явилась в Шинон. Как попала эта фамильная драгоценность в руки крестьянки?
Вопросы эти можно множить бесконечно – все новые и новые возникают буквально на каждом шагу. И так будет до тех пор, пока место легенды не займет
Историческая правда
С перерывами тянувшаяся с 1337 по 1453 год Столетняя война была делом исключительно семейным – право на французский престол оспаривали ближайшие родственники (недаром в истории Англии этот период именуется «временем Французских королей»). Для нашей героини это имеет решающее значение: в любой иной ситуации ее история оказалась бы или совсем другой, или невозможна вообще.
Августейшая супруга французского венценосца Карла VI Безумного, Изабелла Баварская (более известная как королева Изабо), отличалась темпераментом столь пылким, что из двенадцати ее детей лишь первые четверо, судя по всему, появлением на свет были обязаны мужу. Отцами других являлись младший брат короля, герцог Людовик Орлеанский[122], а также некий шевалье Луи де Буа-Бурдон. Последним ее ребенком и стала появившаяся на свет 10 ноября 1407 года Жанна – внебрачная дочь, отданная на воспитание в семью обедневших дворян д’Арков. Родившаяся в прелюбодеянии, она оставалась тем не менее принцессой крови – дочерью королевы и брата короля; это обстоятельство объясняет все странности ее дальнейшей истории. И даже прозвище Орлеанская Дева свидетельствует не о героическом командовании войсками под Орлеаном (кстати, военачальниками-то были другие, подлинно выдающиеся – упоминавшийся граф Дюнуа, сводный брат Жанны, а также наш герой – Жиль де Рэ), а о принадлежности к Орлеанскому дому династии Валуа.
Уже на следующий день после официального представления при шинонском дворе Жанна беседовала с дофином Карлом, причем – и это отмечают все свидетели – сидела рядом с ним, что могла себе позволить лишь принцесса крови. При появлении герцога Алансонского она бесцеремонно поинтересовалась:
– А это кто такой?
– Мой кузен Алансон.
– Добро пожаловать! – благожелательно проговорила Жанна. – Чем больше будет нас, в ком течет кровь Франции, тем лучше…
Признание, согласитесь, совершенно прямое.
Кстати, в сражениях Жанна пользовалась не только мечом великого коннетабля, но и специально для нее выкованным боевым топором, на котором была выгравирована первая буква ее имени – J, увенчанная короной. Свидетельство, прямо скажем, красноречивое. Присвоить себе не принадлежащий по праву геральдический атрибут, да еще такого ранга, было в XV веке попросту немыслимо. Через несколько дней после того, как 8 сентября 1429 года Жанна была ранена в окрестностях Парижа, она передала это свое оружие в дар аббатству Сен-Дени в качестве приношения по обету. По сей день там сохранилась напоминающая надгробие каменная плита, на которой изображена Жанна в доспехах – в левой руке она сжимает боевой топор с четко различимой «J» под короной. В том, что изображена именно Орлеанская Дева, сомневаться не приходится, ибо надпись на плите гласит: «Таково было снаряжение Жанны, переданное ею в дар св. Дени».
«Голоса», призвавшие Жанну к исполнению высокой миссии, также делаются более объяснимыми, если вспомнить не о семействе д’Арков, а о действительных ее предках и родичах: дед ее, Карл V Мудрый, был женат на Жанне Бургундской, вошедшей в историю как Жанна Безумная; отец, Людовик Орлеанский, страдал галлюцинациями; сводная сестра Екатерина Валуа, жена английского короля Генриха V Плантагенета, – тоже; их сын Генрих VI опять-таки известен под именем Безумного…
Историкам все это давным-давно известно. В том числе – и что Жанна вовсе не была сожжена на костре: ведь королевская кровь священна (счет казненным августейшим особам открыли впоследствии несчастные английские королевы – сперва жены Генриха VIII, потом – Мария Стюарт); монарха или принца крови можно низложить, пленить, заточить, убить, наконец, – но никоим образом не казнить.
В рукописи №11542, хранящейся в Британском музее, сказано глухо: «в конце концов велели ее сжечь при всем народе. Или какую-нибудь другую женщину, на нее похожую. О чем многие люди имели и все еще имеют разные мнения». Так называемая же «Летопись настоятеля собора св. Тибо в Меце» куда категоричнее: «В городе Руане в Нормандии она была возведена на костер и сожжена. Так говорят, но с тех пор было доказано обратное!» Уже сами обстоятельства, связанные с казнью, наводят на размышления. Во-первых, перед казнью Жанну не соборовали, а ведь этот обряд в XIV–XV веках был обязателен для всех, кроме детей и праведников. Дева же, обвиненная в сношениях с дьяволом, кем-кем, но уж праведницей никак не была! Из этого обстоятельства историк Робер Амбелен делает вывод: «…ей было отказано в этом высшем таинстве, поскольку было известно, что ей отнюдь не предстояло умереть». Во-вторых, восемь сотен английских солдат буквально вытеснили народ с площади Старого рынка, где был сложен костер. Затем под конвоем из 120 человек туда была приведена некая женщина, чье лицо скрывал низко надвинутый капюшон. А ведь обычно приговоренные к сожжению шли с головой, покрытой лишь бумажным колпаком или короной.
Кого же в действительности сожгли тогда в Руане? Одни историки считают, будто некую колдунью (то ли Жанну ла Тюркенн, то ли Жанну Ваннериль, то ли Жанну ла Гийоре). Другие – будто на костре погибла некая монахиня, осужденная за лесбийскую любовь или же скотоложество, которая добровольно предпочла быструю смерть долгому угасанию в темнице. Боюсь, этого нам не узнать никогда.
Зато доказано, что до февраля 1432 года Орлеанская Дева пребывала в почетном плену в замке Буврёй в Руане, потом была освобождена, 7 ноября 1436 года вышла замуж за некоего овдовевшего рыцаря Робера дез Армуаза, сеньора Тишемона (прекрасный способ легально сменить имя!), и в 1436 году вновь возникла из небытия в Париже, где была и узнана былыми сподвижниками, и обласкана Карлом VII (нежно обняв ее, король воскликнул: «Девственница, душенька, добро пожаловать вновь, во имя Господа…»)[123]. Скончалась Жанна д’Арк (теперь уже – дама дез Армуаз) летом 1449 года.
Знают об этом все – кроме тех, кто не желает знать. Жаль только, что имя этим нежелающим – легион. Впрочем, оно и не удивительно: ведь жить в привычной парадигме мифа куда спокойнее и удобнее, в профессиональной же среде любые покушения на миф чаще всего воспринимаются как ересь. На костер, конечно, не возведут (времена не те!), но коситься будут непременно, на академической же карьере можно недрогнувшей рукою ставить большой жирный крест.
Но почему?
Чтобы разобраться в этом, необходимо понять историческую роль Орлеанской Девы. Она никоим образом не была военачальницей – да этого и не требовалось, ибо ее задачей являлось утверждение прав дофина на французский престол.
Коронация Карла VII в Реймсе.
Гравюра Гюстава Доре
За два года до кончины, в 1420 году, Карл VI Безумный, зная, что дофин Карл не доводится ему сыном, назвал преемником двоюродного внука – юного английского короля Генриха VI. Несогласные с его решением французы полагали, что по закону право на трон должно отойти к племяннику короля, Карлу Орлеанскому (сыну неоднократно упоминавшегося Людовика), однако тот томился в английском плену, где ему суждено было провести еще восемнадцать лет[124]. Следовательно, мало-мальски подходящим кандидатом на престол оставался дофин Карл; но чьим он был сыном – Людовика Орлеанского или безродного дворянчика де Буа-Бурдона? В первом случае его легитимность еще можно было признать, во втором – никоим образом. Вот тут-то и должна была, по замыслу авторов тщательно разработанной интриги, выступить на сцену Жанна – несомненная принцесса крови; явиться и подтвердить, что дофин является ее родным, а не сводным братом, а затем добиться его коронации.
Карл VII.
Портрет кисти неизвестного художника парижский школы, XV в.
С ролью своей она справилась блистательно, при первой же встрече во всеуслышание заявив дофину:
– Я говорю тебе от имени Господа, что ты истинный наследник короны Франции и сын короля, и Он послал меня к тебе, чтобы отвести тебя в Реймс, где ты получишь венчание и помазание, если хочешь.
Заметьте, речь идет вовсе не о предложении меча и грядущих воинских свершениях (они само собой разумеются), главная цель обозначена совершенно точно.
Англичанам оставалось одно – опорочить Жанну, сделав недействительным ее свидетельство, что и было осуществлено на Руанском процессе. Естественным ответным ходом явилось оправдание Жанны на контрпроцессе, проведенном в 1451 году: при жизни дамы дез Армуаз сделать это было невозможно, поскольку над спасенной Девой все-таки тяготел приговор инквизиции, да и оглашать подробности фальсификации казни было ни в коем случае нельзя. Поскольку близкий финал войны был уже очевиден, отказавшиеся от претензий на французский престол англичане согласились с оправданием Жанны. Следующим шагом явилось состоявшееся четыре с лишним века спустя причисление Орлеанской Девы к лику святых – французской монархии уже не существовало, но общественному сознанию требовалось, чтобы легитимность более чем сомнительного Карла VII была засвидетельствована высшим из авторитетов… И в этом смысле Жанна д’Арк воистину выиграла Столетнюю войну и спасла Францию.
Совсем недавно, в 1999 году, канадский режиссер Кристиан Дюгэй поставил фильм «Жанна д’Арк», где заглавную роль исполняла Лили Собески и снимались Жаклин Биссет, Мори Чайкин, Пауэрс Бут, Максимилиан Шелл, Питер О’Тул, Ширли Мак-Лейн, Роберт Лодок, Джонатан Хайд, Олимпия Дукакис, Нил Патрик Хэррис, Чэд Уиллетт, Питер Страусс и другие. Вслед за ним вышел еще один – под тем же названием, но поставленный знаменитым Люком Бессоном, где Орлеанскую Деву потрясающе сыграла Мила Йовович, а в других ролях блистали Джон Малкович, Фэй Дануэй, Дастин Хоффман, Тимоти Уэст, Паскаль Грегор, Винсент Кассель, Ричард Райдинг, Десмонд Харрингтон. И что же? – В обоих случаях по экранам мира в очередной раз прокатились несхожие, но тем не менее версии все того же мифа…
Так почему же он торжествует по сей день?
Очень просто: ведь природа мифа в том и состоит, что он черпает силы в себе самом, не нуждаясь в обосновании и не страшась никаких доказательств, никаких фактов, сколь бы ни были они весомы.
Слишком многим невыгодно его развенчание. Католической церкви – ибо она замешана в обоих процессах, обвинительном и оправдательном, а также в канонизации принцессы сомнительного происхождения. Демократам – ибо на место «дочери пахаря», плоти от плоти народной, встает в свете истины принцесса крови, зачатая во грехе. Наконец, среднему французу – за многие поколения он уже так сжился с легендой, что разрушение ее становится процессом весьма болезненным. К тому же едва ли не каждому французу на протяжении пяти с лишним веков приятно сознавать, что он – не «тварь дрожащая» перед сильными мира сего, а сила, творящая историю. Ведь есть неоспоримый прецедент – Орлеанская Дева, Дочь народа.
Зато использование мифа в целях сегодняшних – чрезвычайно удобно. Помните, например, малоприметную деталь о немцах, грабивших окрестности Домреми? Она делается совершенно понятной, если вспомнить, что впервые зафиксирована уже не у Мишле, а позже – в «Полном курсе истории Франции» Дезире Бланше и Жюля Пинара, написанном вскоре после поражения страны во Франко-прусской войне. И как активно использовался этот мотив участниками Сопротивления во время Второй мировой…
Еще многие поколения будут, как захватывающими детективами, зачитываться посвященными жизни Жанны д’Арк блистательными историческими книгами Робера Амбелена, Этьена Вейлль-Рейналя, Жана Гримо, Жерара Песма и тех, ныне неведомых, кто продолжит их изыскания. И тем не менее по страницам учебников по-прежнему будет торжественно шествовать непобедимый миф.
Но вернемся к нашему барону.
Служение Деве
Они встретились сразу по прибытии Жанны в Шинон. Когда дофин предложил Деве выбрать среди военачальников того, кто стал бы ее «телохранителем и ментором», Жанна без колебаний указала на Жиля де Рэ. И с этого момента неизменно была дружески расположена к маршалу, никогда, впрочем, не забывая (и не позволяя забыть), что она – хоть и рожденная вне брака, но принцесса крови, тогда как он – хоть и дальний ее родственник и первый барон Бретани, но всего лишь барон… А вот для Жиля де Рэ Орлеанская Дева стала любовью с первого взгляда. Отныне он целиком посвятил себя Жанне, отвечая на ее дружбу любовью, – безнадежной, но с каждым годом все более пылкой.
Встреча в Шиноне.
Книжная миниатюра конца XV века
Безнадежность эта порождалась вовсе не разницей в положении: едва ли не у всякой королевы (что уж тут о принцессах говорить) бывали и вовсе не венценосные любовники… За примерами далеко ходить не надо – вспомните хоть любвеобильную матушку Жанны д’Арк, Изабеллу Баварскую. Причина была свойства физиологического: Орлеанская Дева являлась интерсексуалом[125] или гермафродитом (как изящно сформулировала высочайшая гинекологическая комиссия в Шиноне, «…не способна к нормальным сношениям»[126]). И это делало ее недоступнее в большей мере, чем королевская кровь.
Правда, и в любви Жиля де Рэ разные историки видят прямо противоположные проявления натуры. Склонные следовать общепринятой точке зрения, как Робер Амбелен, делают такой, например, вывод: «В его глазах Жанна была пажом, одним из тех мальчиков, подростковую двуполость которых он обожал»[127]. Однако гомосексуальность Жиля де Рэ ничем не доказана и вытекает скорее из подсознательного убеждения человека XX века, будто Синяя Борода, если уж и не специализировался на последовательном убиении жен, то лишь потому, что предпочитал им мальчиков… К счастью, другие умеют различить в образе, встающем из мемуаров современников и анализа деяний барона де Рэ, черты совершенно иные: способность испытывать всепоглощающую страсть и этой страстью жить.
При Жанне он играл не только роль телохранителя и ментора, но и входил в ее военный совет, который составляли также Жан Дюнуа, великий Бастард Орлеанский, сводный брат Жанны и Карла VII; Этьен де Виньоль по прозвищу Ла Ир; Жан Потон де Ксентрай; Жак де Шабанн ла Палис и его младший брат, Антуан де Шабанн-Даммартен (эти последние являлись, кстати, прямыми потомками Карла Великого, правда, по женской линии). И надо сказать, в совете этом Жиль де Рэ, младший по возрасту, являлся фактическим лидером. Как справедливо отмечают военные историки Эрнест и Тревор Дюпюи, «Жанна д’Арк военачальницей, по сути, не была и – не считая осознания важности морального фактора – в военном деле совершенно не разбиралась». Да ей и не надо было – в военном деле за нее превосходно разбирались Бастард Орлеанский и Жиль де Рэ.
Синяя Борода, персонаж сказки Шарля Перро.
Гравюра Гюстава Доре
Когда под Компьеном Жанна попала в плен, он предпринял ряд попыток ее освобождения, вербуя и оплачивая для этой цели наемников. Во славу Жанны он приказал написать «Орлеанскую мистерию» и оплатил связанные с ее постановкой расходы, вследствие чего окончательно пришли в расстройство его финансы: за серию представлений «Мистерии» он выплачивал по 80 000 золотых экю[128]. Попросту говоря, Жиль де Рэ разорился вконец – настолько, что пришлось закладывать, а частично и продавать земли (к этому обстоятельству мы еще вернемся). Причин тому было две: с одной стороны, непомерно расточительные траты (блистательный воитель ни в коей мере не был рачительным хозяином), с другой – злоупотребления управляющих имениями, без зазрения совести обкрадывавших своего патрона (в отличие от маршала, все они ощутимо обогатились). Впоследствии, когда в 1437 году Жанна после своей мнимой казни и плена явилась в его замок Тиффож[129] (теперь уже как дама дез Армуаз), Жиль де Рэ набрал и оплатил армию, которую поставил под знамена обожаемой Девы, и во славу ее имени вновь одну за другой одерживал победы над англичанами – вплоть до июня 1439 года, когда был арестован и предан суду инквизиции.
Жиль де Рэ.
Современный рисунок с миниатюры XV века
Великий грех
Под пыткой признаешься в чем угодно – хоть в сговоре с дьяволом, хоть в растлении и последующем убийстве ста сорока мальчиков. И Жиль де Рэ признался во всем, чего требовали, хотя до самого конца не понимал, за что обрушились на него эти кары земные. («Я уже возвел на себя столько, что можно было бы казнить десять тысяч человек», – приводит его слова протокол допроса от 21 октября 1440 года.) Зато нам сегодня это совершенно очевидно.
Подобно многим, Жиль де Рэ отличался легковерием. И, окончательно растратив огромное наследство, доставшееся от деда по материнской линии, решил поправить дела с помощью алхимии. Двумя веками позже таким же образом пытался пополнить опустевшую казну Великобритании Карл II Стюарт. В намерении своем он нимало не преуспел, наполнявшие лабораторию пары ртути преждевременно свели венценосца в могилу, однако обвинять его в сношениях с дьяволом никому и в голову не пришло. Конечно, XV век был на этот счет построже XVII столетия, но и тогда людей, занимавших столь высокое положение, как Жиль де Рэ, предпочитали не трогать, низвергая громы и молнии на тех, кто непосредственно работал по их поручению. Почему же для барона де Рэ было сделано исключение? Почему преследование не ограничилось теми, кто ему рьяно помогал, – его дальними родичами Жилем де Сийе и Роже де Бриквиллем; Эсташем Бланше, священником из епархии Сен-Ло; Анри Гриари и Этьеном Корийо; наконец, главным алхимиком – двадцатичетырехлетним итальянским монахом-миноритом[130] из Ареццо по имени Франческо Прелати? Более того, их вообще освободили от судебного преследования. Почему понадобилось осудить и сжечь на костре предводителя бретонского дворянства и маршала Франции?
Ответ прост – процесс был затеян, чтобы конфисковать имущество Жиля де Рэ.
Проблем у Карла VII хватало, и не последней были расстроенные финансы. А тут разнесся слух, пущенный казначеем Бретани, чьего брата-священника Жиль де Рэ под горячую руку приказал бросить в темницу своего замка Шантосе (поступок, героя отнюдь не красящий, но из песни слова не выкинешь), – слух, будто маршал не просто занялся алхимией, но и получил-таки философский камень, благодаря чему теперь не знает нужды в золоте. И словно в подтверждение Жиль де Рэ вооружил очередной отряд, порученный командованию его вассала Жана де Сиканвилля, и отправил его под знамена дамы дез Армуаз. Кому могло прийти в голову, что ради этого барон по уши залез в долги?
Что такое благодарность, Карл VII понимал плохо. Зато хорошо помнил, что ради конфискации имущества сто лет назад его предок, Филипп IV Красивый, разогнал орден тамплиеров и сжег на костре великого магистра Ангеррана де Мариньи и весь капитул. Конечно, воинские дарования Жиля де Рэ великолепно послужили суверену и отечеству, но война ведь скоро кончится. А деньги – деньги нужны сейчас…
Участь маршала Франции была решена – тем более что ни алчущая все новых подвигов Орлеанская Дева, ни былые друзья и сподвижники за него не заступились… В отличие от боготворимой им Жанны д’Арк его в самом деле сожгли на костре.
Как извиняются короли
Трудно сказать, что именно сгубило во цвете лет короля Филиппа IV Красивого[131] – легендарное проклятие тамплиеров или же горькое разочарование из-за того, что вожделенное их богатство то ли загадочным образом ускользнуло, то ли вовсе оказалось мифическим. Увы, Карл VII об этом прецеденте не то забыл, не то попросту не знал. И потому, поступив по примеру предка, пришел к такому же итогу: золота не оказалось, философского камня тоже, а недвижимость – земли и замки – по тем временам мало чего стоила.
Замок Шинон, где впервые встретились Жанна д’Арк и дофин Карл (современный вид)
Но сделанного не воротишь. И тогда родилось решение: в отличие от Жанны д’Арк, которую судили англичане, Жиля де Рэ оправдать, конечно, нельзя. Да и грехи, в коих он как ни крути, а признался, слишком уж тяжки… Но можно извиниться за содеянное косвенно – сохранив честь рода.
Памятник Жанне д’Арк в Париже
Еще в сентябре 1429 года, вверяя маршалу Франции Жилю де Рэ безопасность Орлеанской Девы, Карл VII пожаловал ему почетное дополнение к фамильному гербу. Прежде там изображался «на золотом фоне черный крест»; король же добавил к нему «кайму, усыпанную лилиями». Так вот, после позорной казни Жиля де Рэ это пожалование не отменили, а Прежану де Коэтиви, мужу его дочери Мари, было вменено в обязанность «принять имя, герб с черным крестом на золотом фоне и каймой, усыпанной лилиями, и все титулы баронии и сеньории де Рэ» – как и наследникам, рожденным от этого брака.
Трудно сказать, стало ли легче на том свете барону Жилю де Рэ при известии, что честь его рода не пострадала. Но, надо сказать, потомки его с честью носили этот герб и в те времена, когда матери пугали дочерей сказкой о Синей Бороде – и пугают по сей день.
Кое-что, правда, все-таки изменилось.
«Процесс Жиля де Рэ» Жоржа Батая[132], автора скандального, однако же в фактографии точного, поставил вину казненного маршала под сомнение. Во Франции даже возникло Общество друзей Жиля де Рэ, убежденных, что на блистательного полководца была возведена напраслина. В 1992 году по инициативе писателя Жильбера Пруто был даже проведен судебный процесс, который на основе изучения документов инквизиционного суда, проходившего в 1440 году в Нанте, вынес вердикт о невиновности Жиля де Рэ в преступлениях, которые ему приписывали.
Но не надейтесь, что все это хоть на йоту изменит сложившееся за века отношение к Синей Бороде…
Глава 5. «Черная легенда Англии»
И смертная тебя не скроет тень –
Ты будешь вечно жить в строках поэта[133]
Уильям ШекспирДля этого короля, последнего представителя дома Йорков династии Плантагенетов, причисленный к лику святых правдолюбец Томас Мор не пожалел самых черных красок. Великий Шекспир изобразил его чудовищем, способным внушать лишь ужас и отвращение[134]. Современный британский историк Десмонд Сьюард озаглавил свою книгу о нем «Ричард III, черная легенда Англии». Само его имя стало символом вероломства и убийства. И как всегда, лишь немногих интересует правда о человеке, оболганном историей…
Вот историей и займемся – вернее, учебниками, которые сызмальства закладывают и формируют наши о ней представления. В силу неизбежной необходимости промчаться «галопом по векам и Европам» любые учебники уделяют Войне Алой и Белой розы в лучшем случае два-три скупых абзаца – трудно даже понять, из-за чего она, собственно, началась и уж тем более – как протекала. Судите сами: «Война длилась тридцать лет и отличалась большим ожесточением[135]. Родственники погибших мстили семьям своих врагов, убивая даже детей. Банды феодалов дикими расправами наводили ужас на жителей городов и деревень. Война прекратилась, когда почти все знатные феодалы истребили друг друга. В последнем сражении с обеих сторон участвовали лишь жалкие кучки людей…» Все ясно? Позволю себе сильно в этом усомниться. А ведь перед вами не просто «История Средних веков», но учебник, «удостоенный первой премии на открытом конкурсе»…
Поэтому, дабы разобраться в судьбе нашего героя, позволю себе бегло напомнить основные факты. Заранее приношу извинения за то, что поначалу вам придется поплутать в дебрях совпадающих имен и путанице дат: в сущности, Война роз была грандиозной семейной сварой; все главные ее участники пребывали в родстве или свойстве друг с другом, и не запутаться в бесчисленных этих хитросплетениях сегодня попросту невозможно[136]. К тому же в России английской истории повезло не в пример меньше, чем французской, воспетой в романах Александра Дюма или, скажем, «Проклятых королях» Мориса Дрюона. Война Алой и Белой розы встречается, пожалуй, лишь на страницах стивенсоновской «Черной стрелы», да и там из исторических персонажей появляется (и то мельком) только наш герой – герцог Глостер, будущий Ричард III. И конечно, как не вспомнить прекрасную повесть Джозефины Тэй «Дочь времени», где местом преступления является английская история, а главным героем и жертвой – Ричард III.
Но вернемся к нашим розам.
Захватив в 1066 году власть над Англией, герцог Вильгельм, ставший с того момента королем Вильгельмом I Завоевателем, основал Норманнскую династию, правившую почти век – до 1154 года. Затем, по смерти последнего из сыновей Вильгельма, бездетного короля Стефана, на трон под именем Генриха II взошел дальний свойственник последнего – Готфрид Красивый, граф Анжуйский[137], за обыкновение украшать шлем веткой дрока (по-латыни – planta genista) прозванный Плантагенетом и передавший это имя наследникам в качестве династического. Восьмеро венценосцев первого, Анжуйского дома этой династии совокупно правили больше двух столетий. Однако последний из них, Ричард II, слишком ретиво принялся устанавливать абсолютизм, что, естественно, не могло не вызвать противодействия феодалов, на чьи права, закрепленные подписанной 15 июня 1215 года Великой хартией вольностей, он таким образом дерзнул покуситься. В конце концов многочисленные мятежи привели в 1399 году к низложению государя. На троне утвердился Генрих IV из дома Ланкастеров – боковой ветви Плантагенетов, восходящей к принцу Джону, третьему сыну Эдуарда III, предпоследнего суверена из Анжуйского дома. Однако его права на престол представлялись весьма сомнительными, причем наиболее яростно оспаривали их представители дома Йорков, восходящего к четвертому сыну того же Эдуарда III, принцу Эдмунду. В итоге всех этих событий и обозначились две стороны будущей Войны роз (в гербе Ланкастеров этот цветок был алым, в гербе Йорков – белым).
Ричард III и королева Анна.
Миниатюра XVI века
Пороховая бочка взорвалась в 1455 году, в царствование душевнобольного Генриха VI; фитиль подожгла супруга последнего, королева Маргарет, добившаяся удаления Ричарда, герцога Йорка, из состава Королевского совета. Ричард и его сторонники (в число каковых входил богатый и влиятельный Ричард Невилл, граф Уорвик, прозванный Делателем королей) подняли мятеж. Пять лет ожесточенные бои перемежались политическим маневрированием; удача улыбалась то одной, то другой стороне. В декабре 1460 года Ричард Йорк и его старший сын Эдмунд пали в битве при Уэйкфилде[138], но его второй сын провозгласил себя королем Эдуардом IV и 29 марта 1461 года наголову разбил армию Ланкастеров в кровопролитном сражении при Тоутоне[139]. Затем, после десяти лет спокойствия (весьма, впрочем, относительного, ибо разрозненные мятежи ланкастерцев практически не прекращались), Эдуард IV поссорился с графом Уорвиком, поскольку тот норовил стать фактическим диктатором, и переиграл его – как в военной сфере, так и в политической. Тогда Уорвик объединил силы с королевой Маргарет и в 1470 году привел из Франции армию вторжения, ненадолго восстановив на троне Генриха VI Ланкастера. Эдуард IV, оказавшийся под угрозой удара с двух фронтов (север страны находился под властью ланкастерцев, а на юге собирал армию граф Уорвик), бежал во Фландрию, чтобы искать поддержки у своего шурина, бургундского герцога Карла Смелого. Впрочем, изгнание это продолжалось менее шести месяцев – уже в марте 1471 года Эдуард IV с полуторатысячным отрядом (в основном немецкими и фламандскими наемниками) высадился в устье реки Хамбер и, на ходу пополняя войско отрядами сохранивших лояльность приверженцев-йоркистов, в ходе недолгой кампании вернул себе скипетр. Граф Уорвик погиб в решающей битве при Барнете[140], еще через два месяца его союзники были наголову разгромлены в сражении при Тьюксбери[141], после чего Эдуард IV «в мире и процветании» царствовал еще двенадцать лет; наследовал ему двенадцатилетний сын, Эдуард V.
Тут-то и настает черед нашего героя.
Венценосный злодей
Вернемся к учебнику. «После смерти Эдуарда IV за малолетством его двух сыновей жестокий брат его Ричард сделался опекуном их и правителем государства. Но он, не довольствуясь неполною властью, при помощи целого ряда убийств добился престола и стал английским королем Ричардом III. Велев задушить несчастных сыновей Эдуарда IV, он своими бессмысленными и постоянными жестокостями всех вооружил против себя»[142].
Ричард III.
Портрет 1515–1520 гг., единственный, на котором правое плечо не приподнято предполагаемым горбом; он считается наиболее похожим, основанным на утраченных прижизненных портретах
(принадлежит Обществу древностей)
Впрочем, даже если обратиться к источникам более солидным, то выяснится, что «небольшого роста, уродливого телосложения, горбатый, со злобным, изможденным лицом, он на всех наводил ужас». Именно он, герцог Глостер, в сражении при Тьюксбери убил Эдуарда, принца Уэльского, сына и наследника последнего короля из дома Ланкастеров. И это он, не удовлетворившись ликвидацией сына, собственноручно заколол в Тауэре отца – злосчастного Генриха VI. Впоследствии именно благодаря его интриге Эдуард IV заточил в Тауэр и приказал тайно умертвить, утопив в бочке с мальвазией, их среднего брата – Георга, герцога Кларенса.
После того как он узурпировал власть, заключив в Тауэр двенадцатилетнего короля Эдуарда V и его младшего брата Ричарда, герцога Йоркского, злодей Ричард III не жалел не только врагов, но и ближайших сподвижников, приведших его к трону. Один из них, лорд Гастингс, был казнен за то, что вместе со вдовствующей королевой Елизаветой (вдовой Эдуарда IV) и леди Джейн Шор (бывшей его же любовницей) якобы хотел погубить суверена, наведя порчу на его левую руку, – и это притом, что рука Ричарда высохла давным-давно, он не владел ею в течение всей жизни! Затем настал черед другого бывшего друга – герцога Бэкингема. А потом вся Англия содрогнулась, узнав, что сыновей доброго короля Эдуарда IV задушили в Тауэре. Когда в 1485 году скоропостижно скончалась супруга Ричарда III, королева Анна, молва обвинила монарха в убийстве жены ради брака с племянницей – Елизаветой, старшей дочерью Эдуарда IV. Скандал, вспыхнувший из-за этого, объединил Англию вокруг пребывавшего в изгнании во Франции Генриха, графа Ричмонда, главы ланкастерской партии. Получив помощь от Франции, тот 1 августа 1485 года высадился в Уэльсе; к нему поспешили примкнуть и многие былые приверженцы Ричарда III. Король собрал почти двадцатитысячное войско и 22 августа встретил Генриха близ городка Босуорта. Ричард III сражался отчаянно, но был разгромлен и пал на поле боя. С его смертью завершилась страшная междоусобная война.
Граф Ричмонд, венчавшийся на царство под именем Генриха VII Тюдора[143], не только положил начало новой династии, но также «восстановил в стране мир и заложил основы пятивекового английского величия».
Все вышеописанные ужасы так и остались бы мелким эпизодом исторических хроник, когда бы не гений Уильяма Шекспира, под чьим пером «черная легенда» превратилась в одну из самых известных трагедий, когда-либо ставившихся на театральных подмостках. А если учесть популярность шекспировских пьес, если учесть их общий тираж, лишь немного уступающий Библии и романам Жюля Верна, то совсем не удивительно, что в массовом сознании образ Ричарда III закрепился именно таким, каким изобразил его Великий Бард. Даже люди, вовсе не сведущие в истории, о Ричарде III знают – и знают, естественно, по Шекспиру.
Ричард шекспировский
Впервые четвертая из шекспировских исторических трагедий вышла из печати в 1597 году и в течение трех десятилетий переиздавалась восемь раз[144] – рекорд по тем временам непревзойденный. Собственно, Шекспир не был первооткрывателем темы. К тому времени, когда он взялся за перо, уже существовало несколько посвященных Ричарду III пьес. В 1579 году доктор Томас Легг сочинил на латыни трагедию «Richardus Tertius»[145], исполнявшуюся студентами Кембриджского университета. В 1594 году была издана анонимная «Правдивая трагедия о Ричарде III», также исполнявшаяся на сцене. Затем в 1602 году некий антрепренер Ханслоу заказал знаменитому драматургу Бену Джонсону пьесу «Ричард Горбун», которую тот начал, но закончить не успел. Стоит упомянуть в этом ряду и поэму Уильяма Болдуина «Георг, герцог Кларенс». Впрочем, нет ни малейшей уверенности, что все эти произведения (или даже какое-нибудь из них) были известны Шекспиру. Как и в других случаях до и после, главным источником информации и вдохновения служили для него «Хроники Англии, Шотландии и Ирландии» Рафаэля Холиншеда[146].
Принцы в Тауэре.
Картина художника-прерафаэлита сэра Джона Эверетта Милле (1878 г.)
Однако уже из развернутого заглавия первого издания ясно, что – как и в случае с Макбетом – Великий Бард рассматривал исторический материал под строго определенным углом. Оно гласит: «Трагедия о короле Ричарде III, содержащая его предательские козни против брата его Кларенса, жалостное убиение его невинных племянников, злодейский захват им престола, со всеми прочими подробностями его мерзостной жизни и вполне заслуженной смерти». Более того, чтобы сделать все эти характеристики возможно более убедительными, Шекспир пошел даже на прямую подтасовку фактов, изобразив герцога Глостера активным участником первого большого сражения Войны роз – битвы при Сент-Олбенсе[147], хотя историческому Ричарду едва исполнилось в то время три года. А вот и еще пример. В знаменитой сцене обольщения леди Анны, младшей дочери графа Уорвика, у гроба короля Генриха VI, Шекспир делает ее женой убиенного принца Эдуарда, тогда как в действительности она была еще только его невестой, причем предстоящий брак зиждился отнюдь не на любви, а на классической династической сделке (прошу не усматривать в этих словах осуждения – такова уж была практика времени и среды). И наоборот, из сохранившейся переписки явствует, что союз леди Анны и Ричарда был порожден именно пылкой и преданной взаимной любовью (кстати, как и брак родителей Ричарда). Впрочем, сама по себе сцена у Шекспира воистину потрясающа – настолько, что два с лишним века спустя пленила воображение другого гения – Пушкина (в чем вы можете без труда убедиться, сравнив ее с аналогичной сценой обольщения Дон Гуаном Доны Анны подле гроба ее супруга в «Каменном госте»).
В результате шекспировский Ричард являет со сцены самую демоническую личность во всей английской истории, хотя и наделенную многими талантами: он красноречивый оратор и дипломат, ловкий политик и тонкий психолог, одинаково легко проникающий в строй мыслей мужчин и женщин, простолюдинов и лордов; он умен; с одинаковым совершенством владеет мечом и искусством интриги…
Но – урод; даже сам он (а кто из нас откажется себя приукрасить?) при первом же появлении на сцене признается:
Я, слепленный так грубо, что уж где мне Пленять распутных и жеманных нимф; Я, у кого ни роста, ни осанки, Кому взамен мошенница-природа Всучила хромоту и кривобокость; Я, сделанный небрежно, кое-как, И в мир живых отправленный до срока Таким уродливым, таким увечным, Что лают псы, когда я прохожу…[148]Каков автопортретец? Но физическому уродству – в полном соответствии с литературным каноном тех времен – сопутствует и уродство нравственное (и пойми здесь, что первично, а что вторично). Его лозунг: «Кулак – нам совесть, и закон нам – меч!»[149] Он начисто лишен совести – глумится над стонами своих жертв, заглушает барабанным боем укоры матери. И чтобы оттенить эту полнейшую неподвластность его голосу совести, драматург показывает душевное смятение и раскаяние убийцы маленьких принцев – чувства, Ричарду от природы не свойственные. Шекспировский Ричард – само властолюбие, начисто лишенное ограничений, предписываемых моралью простым смертным. Он – олицетворение жестокости, хладнокровия, изворотливости, полного пренебрежения всеми законами человеческими и Божескими.
Но раз иной мне радости нет в мире, Как притеснять, повелевать, царить – Пусть о венце мечта мне будет небом. Всю жизнь мне будет мир казаться адом, Пока над этим туловищем гадким Не увенчает голову корона…[150]– признается он в другой трагедии, «Генрих VI», хронологически предшествующей «Ричарду III».
И ради обретения заветной короны Ричард намерен «в жестокости сирену превзойти, в коварстве ж – самого Макиавелли», причем с успехом претворяет свои намерения в жизнь, для чего из человека, пусть даже уродливого и злобного, мало-помалу превращается в зримый символ чистейшего, рафинированного Зла. Зла с большой буквы. Зла извечного. Такого, какое можно встретить лишь на сцене, но никак не в жизни.
И потому не стоит удивляться, что реальный Ричард III был совсем иным.
Ричард реальный
Прежде всего, он не был уродом. Невысокий, хрупкий, – не то что красавец Эдуард, его старший брат, прозванный «шесть футов мужской красоты», – он отличался, однако, большой физической силой, был прирожденным наездником и искусным бойцом. Ни горба, ни сухой руки[151] – изо всех описанных выше черт правдива лишь одна: изможденное лицо. Или, точнее, бесконечно усталое, каким он кажется на прижизненном, судя по всему, портрете кисти неизвестного художника, что висит сейчас в Виндзорском замке. Лицо человека, много трудившегося и много страдавшего. В гербе Ричарда рядом с геральдическим изображением белого вепря был начертан девиз: «Loyate me lic»[152], и это вполне соответствовало его натуре.
Он рьяно и успешно всегда и во всем поддерживал старшего брата – Эдуарда IV. Помните? – именно возглавленный им удар двух сотен тяжелых конников обеспечил победу при Тьюксбери. Однако, замечу, прямым виновником смерти Эдуарда Ланкастера, принца Уэльского, якобы заколотого им «в сердцах» уже после битвы, Ричарда сделали много позже самого события, уже при Тюдорах[153]. Да и убийство Генриха VI также не обременяет совести Ричарда – приказ совершить это черное дело был отдан его братом-королем, а исполнители монаршей воли тоже известны. Так что в обоих случаях наш герой как перед Ланкастерами, так и перед историей, совершенно чист.
В царствование Эдуарда IV правлению Ричарда была вверена Северная Англия – традиционный оплот Ланкастеров, и двадцатилетний герцог проявил себя столь тонким дипломатом и мудрым политиком, что вскоре обитатели этих краев в массе своей стали поддерживать Йорков. Не менее успешно он вел здесь и военные действия против шотландцев, в ходе которых, как отмечает достаточно скупой на оценки «Энциклопедический словарь» Брокгауза и Ефрона, «выказал… большое мужество и стратегические способности».
Теперь гибель их среднего брата – Георга, герцога Кларенса. С самого начала в этой дружной семье он был уродом – интриговал, примыкал к мятежам, но всякий раз бывал в конце концов прощаем. Первое его отступничество произошло, когда в 1470 году он, польстившись на предложение стать законным наследником восстановленного на престоле Генриха VI, примкнул к стану своего мятежного тестя, графа Уорвика, – того самого Делателя королей. Затея не задалась, и Георг, не дожидаясь военного поражения ланкастерцев, вернулся в лоно родной семьи (кстати, подвиг его на сей весьма разумный шаг младший брат – Ричард). Но это оказалось лишь началом. Овдовев, Георг вознамерился снова жениться – и не на ком-нибудь, а на самой богатой невесте Европы, Марии Бургундской, дочери герцога Карла Смелого, вторым браком женатого на Маргарет, сестре Эдуарда, Георга и Ричарда. Однако амбициозная эта затея с треском провалилась – Эдуард IV посчитал гораздо более выгодным в политическом отношении брак своей племянницы с Максимилианом Австрийским. Что ж, Георгу было не привыкать терпеть крах. Нимало не огорчившись, он надумал жениться на другой Маргарет – теперь уже сестре короля Иакова III Шотландского. (Грезилось ему, похоже, объединение двух стран под одной короной, да вот беда – рано; исторически неизбежное событие это произойдет, лишь когда пресечется династия Тюдоров…) А чтобы оказаться в глазах короля Иакова III заманчивым женихом, Георг завел тайные переговоры с иностранными дворами, добиваясь подтверждения парламентского акта, принятого в свое время по настоянию покойного уже графа Уорвика и объявлявшего Георга наследником Генриха VI, то есть de jure[154] королем Англии. Такого Эдуард IV стерпеть уже не мог и предал брата суду парламента, каковой и приговорил Георга к смерти за измену. Правда, казни незадачливый авантюрист не дождался и при невыясненных обстоятельствах умер в Тауэре. Легенда же об утоплении в бочке с мальвазией обязана происхождением общеизвестному пристрастию герцога к винопитию… Но вот, что Ричард стремился сохранить брату жизнь, – факт непреложный, его даже тюдоровские хронисты не отрицают, лишь добавляя всякий раз ядовитое словечко «якобы». Мол, на словах стремился спасти, тогда как на самом деле жаждал уничтожить, расчищая себе путь к трону. Да вот беда: первому свидетельства есть, второе же – целиком на совести хронистов, а кто они такие – о том речь впереди.
Узурпация власти также предстает в совершено ином свете. Умирая, Эдуард IV назначил брата протектором государства и опекуном малолетнего Эдуарда V. Узнав о случившемся, Ричард, который находился тогда на границе с Шотландией, первым делом заказал заупокойную мессу по почившему государю и там, в присутствии всей знати Севера, присягнул на верность наследнику. Без труда и кровопролития, арестовав лишь четверых зачинщиков, Ричард подавил мятеж Вудвиллов – родственников вдовствующей королевы, не желавших лишаться власти[155], – после чего деятельно принялся готовить назначенную на 22 июня коронацию племянника. О том, насколько серьезными были его намерения, свидетельствуют хотя бы те факты, что он приказал начать чеканку монеты с профилем юного Эдуарда V, утвердил детали предстоящей церемонии и заказал для мальчика надлежащие парадные одеяния.
Однако за три дня до этого события случилось непредвиденное: некий доктор Шоу выступил с публичной проповедью, в которой объявил, что дети королевы от Эдуарда IV не обладают правами на престол. В обоснование своих утверждений Шоу сослался на почтенного священнослужителя – Стиллингтона, епископа Батского[156]. Будучи вызван в парламент, этот последний сообщил, что Эдуард V действительно не может быть коронован, поскольку является незаконнорожденным. Его отец, Эдуард IV, был не только красавцем, но и великим охотником до женского полу – таким же, как впоследствии Генрих VIII Тюдор или наш «многих жен супруг» Иван IV Грозный. Но если Генрих VIII избавлялся от надоевших жен, отправляя их на плаху, добряк Эдуард попросту женился на следующей, не озаботясь разводом с предыдущей[157], вследствие чего последний его брак со вдовствовавшей тогда королевой Елизаветой Вудвилл не мог считаться законным. Известие повергло всех в шок. В конце концов парламент принял акт, лишавший Эдуарда V права на трон и возводивший на престол Ричарда III. О какой же узурпации может идти речь? Кстати, Генрих VII, придя ко власти, первым делом озаботился уничтожением оригинала этого документа и всех его копий – чудом уцелела одна-единственная. Уже сам факт достаточно красноречиво свидетельствует о законности возведения Ричарда на престол.
Правда, согласились с этим не все, и дело, разумеется, не в законности, а в интересах. Мгновенно, еще до коронации Ричарда III, созрел заговор, который возглавили лорд Стенли (отчим будущего Генриха VII), лорд Гастингс (ближайший друг и Эдуарда IV и Ричарда III), а также Джон Мортон, епископ Илийский (а вот это имя стоит запомнить!). Ричард в сопровождении лишь небольшой свиты явился прямо в Тауэр, где заговорщики собрались, и всех арестовал – причем, заметьте, ни один не рискнул оказать сопротивления. Хронисты, опираясь на свидетельство Томаса Мора, дружно утверждают, что лорд Гастингс был казнен тут же – его де выволокли на двор и отрубили голову на первой под руку подвернувшейся колоде, едва разрешив исповедаться проходившему мимо монаху[158]. Следует легенде и Шекспир. Но документы утверждают иное: Гастингс был предан суду парламента и казнен по его приговору шесть дней спустя. Остальные же заговорщики были прощены, только епископа сослали… в его же епархию, в Или, откуда он вскоре благополучно перебрался во Францию – под крылышко к Генриху, графу Ричмонду.
Ну и, наконец, главное обвинение – принцы.
Ричарда III можно упрекнуть в чем угодно, кроме глупости. Убийство же этих мальчиков иначе как глупостью не назовешь: после парламентского акта они не являлись серьезными претендентами на престол. Зато было добрых полтора десятка других[159], причем все процветали при Ричарде и благополучно пережили его (хотя, замечу, были затем под корень изведены Тюдорами). После смерти собственного сына Ричард даже провозгласил одного из них – племянника, юного графа Уорвика, – своим преемником.
А теперь самое любопытное. При жизни никто и не обвинял Ричарда III в убийстве племянников. Только в одной-единственной латинской хронике, написанной, замечу, в Кройленде, то есть в епархии Джона Мортона, епископа Илийского, содержится намек на возможное исчезновение принцев. Родились эти слухи во Франции, в окружении Генриха, графа Ричмонда. И лишь оттуда со временем – причем весьма и весьма немалым! – проникли а Англию. Существует лишь одно свидетельство, прямо обвиняющее Ричарда III в преступлении – так называемая «Исповедь» самого убийцы, сэра Джеймса Тиррела из Гиппинга. Причем все хронисты дружно ссылаются на его признание, хотя самого текста пока нигде обнаружить не удалось… Итак, по словам Тиррела, сказанным, подчеркиваю, двадцать лет спустя после предполагаемого убийства, в 1502 году, тайную миссию избавить его от принцев Ричард III первоначально намеревался возложить на констебля Тауэра сэра Роберта Брэкенбери, но тот сделал вид, будто не понял, о чем речь. Затем, совершая после коронации поездку по стране, Ричард III послал из Уорвика в Лондон Тиррела. Тот по монаршему поручению взял у Брэкенбери ключи от Тауэра и поручил двоим головорезам – конюху Дайтону и тюремщику Форресту – задушить мальчиков. Их тела спрятали под лестницей и завалили камнями. Впоследствии же некий священник каким-то образом нашел тела невинно убиенных принцев и перезахоронил в неизвестном месте. Очень удобная версия: сэр Роберт Брэкенбери пал в битве при Босуорте, сохранив верность законному государю; таинственного священника – ищи-свищи; Тиррел казнен еще до того, как «исповедь его предали огласке»; Дайтон и Форрест мертвы… Особенно интересны сведения о перезахоронении – значит, и искать в Тауэре нечего. И при Тюдорах не искали. А потом – забыли.
Однако перейдем ко следующему пункту. Приписываемое Ричарду III отравление жены ради брака с племянницей – также целиком и полностью на совести молвы. Королева Анна скончалась в марте 1485 году от туберкулеза, оборвавшего одиннадцатью месяцами раньше и жизнь их единственного сына, наследного принца Эдуарда. Пресловутого же сватовства к Елизавете не было вовсе – был только слух, распускаемый злопыхателями[160]. Оставим без внимания, что браки между столь близкими родственниками запрещены церковью, а в исключительных случаях совершаются только с разрешения папы римского, за каковым Ричард III не обращался, – следы этого не могли бы не сохраниться в архивах Ватикана. Но возмущенный Ричард даже обратился к английской знати, клиру, а также олдерменам и нотаблям города Лондона с категорическим опровержением – так больно задели эти слухи вдовца, еще не переставшего оплакивать жену и сына.
Царствование Ричарда было коротким – всего два года. Но и за это время он успел сделать столько, сколько иным не дано и за самые долгие правления. Он реформировал парламент, сделав его образцовым. Ввел суд присяжных, по сей день остающийся наиболее совершенной формой судопроизводства, причем особый закон оговаривал наказание за любую попытку повлиять на присяжных. Он достиг мира с Шотландией, выдав племянницу замуж за тамошнего короля Иакова III Стюарта. Только мира с Францией ему добиться не удалось, ибо в Париже плел интриги Генрих Тюдор, граф Ричмонд. Ричард расширил торговлю, реорганизовал войска, был покровителем искусств, особенно музыки и архитектуры.
Сгубили Ричарда III терпимость к чужим слабостям, благородство и вера в порядочность и благоразумие других людей. Да, при нем были казнены (но – по решению суда!) повинные в мятеже герцоги Гастингс и Бэкингем. Однако остальных он прощал. Он простил Илийского епископа Джона Мортона, уличенного во мздоимстве и нарушении английских интересов при заключении мира с Францией, ограничившись ссылкой его в свою епархию, а тот в благодарность первым пустил слушок об убийстве принцев по приказу Ричарда III… Он простил мятежных братьев Стенли; больше того, вверил им командование полками в битве при Босуорте[161] – и прямо на поле боя те переметнулись к тюдоровской армии. Он простил графа Нортумберленда – и там же, под Босуортом, тот не ввел свой полк в бой, спокойно наблюдая, как погибает окруженный горсткой верных ему людей законный государь.
Но в стране короля любили. И совершенно искренне звучат слова хрониста, с риском для себя уже при Тюдорах писавшего: «В сей злосчастный день наш добрый король Ричард был побежден в бою и убит, отчего наступило в городах великое горевание».
Творцы мифа
Откуда же такое расхождение межу правдой фактов и красками «черной легенды»?
Известно, что история побежденных пишется победителями, – непреложный закон, который я всегда имел в виду, работая над этой книгой, и о котором не устаю напоминать. Права Генриха VII на английский престол были более чем сомнительными – всего-навсего праправнук незаконного сына младшего сына короля Эдуарда III. Законным государем являлся в тот момент официальный преемник Ричарда III – юный граф Уорвик. А уничтожив парламентский акт, возведший Ричарда на престол, Генрих тем самым восстановил в правах и Эдуарда V – старшего из пребывавших в Тауэре принцев. Вот для него они и впрямь являлись угрозой…[162] Так что сэр Джемс Тиррел из Гиппинга лишь отчасти погрешил в своей «Исповеди» против правды (а может, и не он сам погрешил – за него сделали? Или – пообещали за лжесвидетельство сохранить жизнь и, как водится у всех тиранов, не сдержали слова?). Убийство принцев действительно произошло именно так, как он описал[163], но – уже по восшествии на престол Генриха VII.
Обратите внимание: поначалу Генрих обвинил предшественника во всех мыслимых грехах – кроме убийства принцев. А ведь какой был бы козырь! Однако этот мотив всплыл только через двадцать лет, когда не осталось уже ни единой души, знавшей, что во время сражения при Босуорте принцы были живы-здоровы.
Томас Мор.
Портрет кисти Ганса Гольбейна Младшего (1527 г.)
Искоренение не только возможных претендентов на престол (не важно, сколь дальних, он и сам-то был не из ближних!), но и всякой оппозиции вообще Генрих VII повел, выкорчевывая целые роды[164]. Зато предатели были вознаграждены: Джон Мортон, например, стал кардиналом, архиепископом Кентерберийским и канцлером, то есть первым министром. Ему-то мы и обязаны первыми записками о Ричарде, которые легли потом в основу «Истории Ричарда III», написанной его воспитанником Томасом Мором, канцлером уже Генриха VIII. Впрочем, написанной ли? Ведь жизнеописание Ричарда III приписали авторству самого Мора лишь потому, что рукопись была найдена среди оставшихся после казненного лорда-канцлера бумаг. Существует версия, согласно которой Мор лишь переписал для собственного пользования (такое случалось сплошь и рядом – книгопечатание в те времена еще не было распространено) труд своего воспитателя – памятного нам Джона Мортона, теперь уже не епископа Илийского, но архиепископа Кентерберийского. Трудно сказать, так оно или не так. В любом случае Томас Мор – плохой свидетель, ибо в год гибели Ричарда III ему исполнилось всего семь лет, а потому, даже если автором сочинения является именно он, то за строками все равно звучит мортоновский голос… Верно служа Тюдорам, Мор на черные краски не скупился, что усугублялось литературным дарованием автора бессмертной «Утопии». Правда, и он угодил на плаху, поскольку верность вере и папе ставил выше преданности монарху, но и это лишь прибавило ореола его фигуре и доверия его историческим трудам. А на них основывались все последующие историки, начиная с официального историографа Генриха VII, итальянца Полидора Вергилия, а также Холиншеда и других. Именно Томас Мор в «Истории Ричарда III» наградил последнего короля из дома Йорков и горбом, и сухой рукой, и непременной дьявольской хромотой.
А потом, уже при Елизавете I, последней из династии Тюдоров, начатое довершил Уильям Шекспир. Как всякий большой художник, он тонко ощущал социальный заказ и, с молоком матери впитав тюдорианское представление об истории, придал сложившейся за столетие картине законченный облик. Отныне «черная легенда» зажила самостоятельно, нуждаясь не в творцах, а лишь в тех, кто слепо в нее верует. Посвященную нашему герою статью энциклопедия Брокгауза и Ефрона завершает словами: «Шекспир обессмертил его в своей хронике “Король Ричард III”». Прямо скажем, такого бессмертия и врагу не пожелаешь! Избави Боже от подобной «вечной жизни» в строках поэта!
Правда, с окончанием эпохи Тюдоров начали раздаваться и голоса взыскующих истины. В XVII столетии написал свой трактат доктор Бак; в XVIII веке его примеру последовал основоположник готического романа сэр Гораций Уолпол[165]. В XIX веке восстановлению честного имени Ричарда III посвятил немало времени и сил Маркхэм, а в XX столетии счет авторов и книг пошел уже на десятки – упомяну лишь вышедшую в Англии в 1983 году работу Дж. Поттера «Добрый король Ричард?».
Великий английский актер Дэвид Гаррик (1717–1779) в роли Ричарда III.
Картина кисти художника Уильяма Хогарта (1697–1764)
Только не думайте, будто эти усилия хоть в малой мере пошатнули миф о «величайшем злодее английской истории», освященный именем Томаса Мора и доведенный до совершенства шекспировским пером. Цитированный в начале школьный учебник – не исключение. Возьмите любой другой, изданный в любой стране (и в первую очередь – в самой Англии), откройте на нужной странице – и вы неизбежно прочтете про череду бессмысленных жестокостей, убийство несчастных принцев в Тауэре и так далее. Показательный факт: не так давно канал «Культура» показал поставленный в 1995 году фильм режиссера Ричарда Лонкрейна – оригинальный парафраз на тему шекспировской трагедии Шекспира, где действие перенесено в нацистскую Германию тридцатых годов, а Ричард Глостер откровенно напоминает Адольфа Гитлера…
Тем и силен исторический миф, что опровергнуть его невозможно: он опирается на веру и традицию, а вовсе не на точное знание. Потому-то всякий такой миф практически бессмертен – на него можно сколько угодно покушаться, но убить никак нельзя. Он способен лишь постепенно истаять, однако на это нужны многие века: «черной легенде Англии» уже за полтысячелетия перевалило, но попробуйте-ка переспорить сотни миллионов школьных учебников… Британцы – те еще могут утешиться ехидной сентенцией Оскара Уайлда: «К счастью, в Англии образование не оставляет никаких следов».
А у нас?
Глава 6. Неприродный государь
Пепел мертвых не имеет заступника, кроме нашей совести… Что, если мы клевещем, если несправедливо терзаем память человека, веря ложным мнениям, принятым в летопись безмыслием или враждой?
Н.М. КарамзинРасстановка сил
Со смертью в ночь с 6 на 7 января 1598 года царя Федора Иоанновича[166], второго сына Ивана IV Грозного от первой жены[167], Анастасии Захарьиной-Юрьевой, пресекся дом Даниловичей династии Рюриковичей – тех прямых потомков великого князя владимирского Александра Невского, что правили Московской Русью с 1325 года. В стране, пользуясь современным языком, воцарился политический вакуум.
В отличие от предыдущей главы, где речь шла о Войне Алой и Белой роз, не стану утомлять вас подробностями хроники тех лет – в конце концов отечественное прошлое все мы знаем заметно лучше истории дальних стран. Однако о природе этого вакуума поговорить все-таки стоит.
Основателем дома Даниловичей был Даниил Московский, младший из сыновей Александра Невского, которому при разделе отчего наследства достался в удел городок Москва. Даниил так и умер удельным князем[168], не побывав на владимирском столе, – а первым среди русских феодальных владетелей почитался в те времена великий князь владимирский. По тогдашнему закону, так называемому лествичному праву[169], потомки князя, великого стола занять в свой черед почему-либо не успевшего, впредь навсегда исключались из числа претендентов на этот титул. Однако сыновья Данииловы, Юрий Московский и Иван I Калита, с подобным положением не смирились и, добывая в Орде интригами и щедро рассыпаемыми взятками ханские ярлыки на княжение, поочередно провозгласили себя великими князьями владимирскими.
Князь Даниил Московский, основатель дома Даниловичей.
Миниатюра XVII в.
Впоследствии этот титул канул в Лету: великими князьями стали уже государи московские. Однако – с точки зрения как закона, так и общественного сознания – Даниловичи являлись узурпаторами, пусть даже узурпация и легитимировалась дорогой ценой купленным ханским ярлыком. Впрочем, с течением времени народ-то об этом мало-помалу забыл – примечательное обстоятельство, и к нему нам впоследствии еще придется вернуться. Зато сами Даниловичи помнили – и даже слишком хорошо. А потому любой ценой заботились об упрочении власти – главным образом, за счет изведения под корень всех претендентов, обладавших мало-мальски реальными или даже чисто номинальными правами на престол (система всемирно распространенная – вспомните Генриха VII Тюдора!). Более чем двухвековой процесс был успешно завершен великим любителем радикальных мер – Иваном IV Грозным. В результате, когда со смертью Федора Иоанновича род Даниловичей пресекся, по праву (да и по какому? – лествичное давно и прочно забыто, новое еще окончательно не сложилось, Орда утратила власть и канула в Лету…) занять трон оказалось просто некому.
Так кому же быть царем на Московской Руси? Логичнее всего – наиболее родовитому, однако как такого определить? Ретивее прочих рвались к престолу князья Шуйские, чей род – все эти многочисленные просто Шуйские, Скопины-Шуйские, Глазатые-Шуйские, Барбашины-Шуйские, Горбатые-Шуйские и иже с ними – был даже старше Даниловичей и не раз давал стране выдающихся военачальников, а также, пользуясь современным языком, гражданских администраторов. Впрочем, нельзя было сбрасывать со счетов и других – Гедиминовичей, Мстиславских, Голицыных, издавна занимавших первые места в рядах московского боярства. Однако были в Москве два рода происхождения не княжеского; оба стремительно возвысились при последних царях и по влиянию не уступали теперь Рюриковичам и Гедиминовичам – Романовы[170] и Годуновы.
Они-то – Шуйские, Романовы да Годуновы – и являются главными героями нашего повествования.
Правитель державы
Царь Федор Иоаннович.
«Титулярник» 1672 г., акварель
А теперь вернемся в тот день 17 марта 1584 года, когда скоропостижная кончина Ивана IV Грозного и последовавшее за нею восшествие на престол царя Федора Иоанновича выдвинули Бориса Годунова на одно из первых мест в государстве.
Впрочем, и до того Борис ухитрился уже изрядно возвыситься, невзирая на всю свою неродовитость. Это уже потом, в пору его царствования, появится «Сказание о Чете», сочиненное иноками Ипатьевского монастыря и возводящее род Годуновых (вкупе с Вельяминовыми-Зерновыми и Сабуровыми) к некоему татарскому мурзе Чету, который якобы в 1329 году выехал из Орды к Ивану Калите. Согласно «Сказанию», старшая линия потомков Чета – Сабуровы – в конце XV века уже прочно заняла место среди знатнейших родов московского боярства, тогда как младшая – Годуновы – выдвинулась только при Грозном, во времена опричнины. Увы, как отмечает современный историк Руслан Григорьевич Скрынников, «Сказание о Чете» не заслуживает доверия: сочиняя эту родословную, монахи преследовали корыстные цели – доказать княжеское происхождение Годуновых, а заодно и утвердить их связь со своим монастырем, будто бы заложенным тем самым мурзой Четом. В действительности же предки Годунова были костромичами и с давних пор служили боярами при московском дворе. Со временем, правда, род обеднел и оказался низведен до положения заурядных вяземских помещиков.
В традиционном представлении карьера нашего героя выглядит примерно так.
Впервые имя Бориса всплывает во время Серпуховского похода, в 1570 году, когда он «состоит при царском саадоке», то есть является одним из оруженосцев Грозного. На следующий год Годунов уже выступает дружкой на свадьбе царя с Марфой Васильевной Собакиной; тогда же он упрочивает положение при дворе женитьбой на дочери известного опричника, царского любимца и великого заплечных дел мастера Малюты Скуратова-Бельского. С 1576 по 1579 годы он занимал должность кравчего. В 1580 году Грозный выбрал сестру Бориса, Ирину, в супруги царевичу Федору, в связи с чем Годунов был пожалован в бояре. А годом позже самодержец всероссийский в порыве гнева убил своего старшего сына Ивана (наиболее прозорливые современники сразу же разглядели в том следствие годуновского наушничества и науськивания, возбудивших праведный отчий гнев), в результате чего бесперспективный ранее Борисов шурин, царевич Федор, в одночасье сделался наследником престола.
Хитростью, лестью, интригами Борис совершил почти невозможное – завоевал доверие Грозного, который, умирая, назначил его одним из пяти опекунов[171] к Федору, поскольку тот, хотя и вступал на престол двадцатисемилетним, однако по умственному развитию оставался «сущим младенцем». Остальными опекунами стали Никита Романович Юрьев, дядя Федора по матери; князь Иван Федорович Мстиславский; князь Иван Петрович Шуйский, прославившийся обороной Пскова от войск польского короля Стефана Батория; наконец, Богдан Яковлевич Бельский, которому Иван IV особо поручил заботу о младшем из своих сыновей – царевиче Дмитрии, рожденном от пятой венчанной жены, Марии Нагой[172].
Царь Федор Иоаннович.
Гравюра Франко Форма, 1580-е гг.
Царствование Федора Иоанновича началось смутой в пользу царевича Дмитрия – последствием этого явилась ссылка малолетнего царевича с матерью и родичами под надзор в свое удельное княжество – Углич, а сочтенный зачинщиком всей затеи князь Бельский был сослан в Нижний Новгород.
При венчании Федора Иоанновича на царство 31 мая 1584 года славо– и корыстолюбивый Годунов был осыпан новыми – и весьма щедрыми! – милостями: получил чин конюшего, звания ближнего великого боярина и наместника царств Казанского и Астраханского, ему также были пожалованы обширные земли по реке Ваге, луга на берегах Москвы-реки и разные казенные сборы[173]. Правда, поначалу значение Бориса среди царевых советников еще ослаблялось влиянием царского дяди – боярина Никиты Романовича Юрьева, но в августе того разбил паралич, а на следующий год он скончался, что дало Борису возможность безоговорочно выдвинуться на первый план.
Царь Федор Иоаннович.
Реконструкция доктора исторических наук М.М. Герасимова (1907–1970) – антрополога, археолога и скульптора
Недовольные столь стремительным его возвышением бояре[174] попытались сформировать антигодуновскую коалицию, куда вошел также церковный первоиерарх – митрополит Дионисий, считавший своим долгом «печаловаться пред царем за гонимых людей». Они намеревались добиться развода царя с бездетной Ириной (нужно же и о наследнике престола думать!), что неизбежно повлекло бы и крушение ненавистного Годунова. Но Борис вновь переиграл всех: дело кончилось насильственным пострижением князя Мстиславского, ссылкой Шуйских, свержением митрополита Дионисия и опалой остальных. В митрополиты был поставлен преданный Борису ростовский архиепископ Иов.
Теперь у Бориса не осталось соперников. Он занял при дворе столь высокое положение, что иностранные посольства искали аудиенции не у государя, но у Годунова, чье слово было законом[175]. Федор царствовал, временщик Борис управлял; это знали все – и на Руси, и за границей.
Царь Федор Иоаннович.
Миниатюра XVII в.
Незадолго до смерти на вопрос патриарха и бояр: «Кому приказываешь царство?» – умирающий Федор отвечал: «Во всем царстве и в вас волен Бог: как Ему угодно, так и будет». Чего именно хочет Всевышний, не замедлил растолковать митрополит Иов – разумеется, присяги царице Ирине. Однако та отреклась от престола и, отправившись на девятый день по смерти венценосного супруга в Новодевичий монастырь, постриглась там в монахини под именем инокини Александры. За Ириной последовал в монастырь и брат – разумеется, отнюдь не намереваясь принять там постриг. Управление государством перешло в руки патриарха и боярской думы, но правительственные грамоты по-прежнему издавались от имени и по указу царицы Ирины. Во главе правительства стал патриарх Иов, действиями которого руководила, правда, не только преданность Борису, но также и глубокое убеждение, что Годунов – человек, наиболее достойный занять трон; тот, чье коронование обеспечит порядок и спокойствие в государстве. Для избрания нового государя был созван Земский собор – ловко манипулируя им, Годунов добился венчания на царство[176].
Этому не смогла помешать даже дурная слава, тянущаяся за ним еще со времен пресловутого Угличского дела.
Кровавый мальчик
Поскольку в череде выдвигаемых против Бориса Годунова обвинений это является, несомненно, самым тяжким, остановимся на нем особо.
Царевич Дмитрий Иоаннович.
Икона XVII в.
Лист следственного дела о смерти царевича Дмитрия Ивановича
Однако прежде, чем заводить речь о подробностях угличской драмы, стоит хотя бы вкратце остановиться на самой персоне младшего отпрыска Ивана IV. Приходится признать, что пылкой любовью современников он стал пользоваться исключительно посмертно. Оно, впрочем, и неудивительно, ибо в Дмитрии сызмальства проявились все худшие черты отцова нрава. Конрад Буссов, опричник, наемник из немцев, оставивший любопытные мемуары, озаглавленные «Московская хроника», пишет: «…в царевиче с ранней юности стал сказываться отцовский жестокий нрав. Так, он однажды приказал своим товарищам по играм, молодым дворянским сынам, записать имена нескольких князей и вельмож и вылепить их фигуры из снега, после чего стал говорить: „Вот это пусть будет князь такой-то, это – боярин такой-то“ и так далее: „с этим я поступлю так-то, когда буду царем, а с этим эдак“ – и с этими словами стал отрубать у одной снежной куклы голову, у другой руку, у третьей ногу, а четвертую даже проткнул насквозь. Это вызывало <…> страх и опасения, что жестокостью он пойдет в отца и поэтому <…> хотелось, чтобы он уже лежал бы подле отца в могиле. Особенно же этого хотел правитель [т.е. Годунов. – А.Б.] (а его снеговую фигуру царевич поставил первой в ряду и отсек ей голову), который подобно Ироду считал, что лучше предупредить события, чем быть предупрежденным ими…» Что касается чувств и намерений Годунова – оставим это на совести герра Буссова: по оценке подавляющего большинства историков, он к числу сторонников и доброжелателей царя Бориса ни в малой мере не относился. Но факты – опять же по всеобщей оценке – приводил безусловно достоверные.
И вот однажды, на пятом году царствования Федора Иоанновича, вышеописанный злопамятный, мнительный, мстительный и до садизма жестокий[177] мальчишка при невыясненных обстоятельствах погиб в Угличе, куда, как вы помните, были сосланы под бдительный надзор Нагие[178].
Дело было так. В полдень 15 мая 1591 года вдовствующая царица Мария села обедать, отпустив сына поиграть в компании четверых сверстников в небольшом заднем дворе – там, где сходились углом дворцовая стена и крепостная стена угличского кремля. Бдительный пригляд за детьми осуществляли мамка Василиса Волохова (племянница дьяка Битяговского, им же к делу приставленная), кормилица Жданова и еще одна нянька. Едва царица вкусила супу, как со двора донеслись вопли, да столь отчаянные, что все опрометью кинулись туда, и глазам их предстала жуткая картина: на земле лежал мертвый, истекший кровью царевич. Материнское горе Мария Нагая проявила весьма активно: схватив полено, безутешная царица принялась что было сил колотить им Волохову по голове, беспрестанно крича, что царевича зарезал сын мамки, Осип.
Обвинение, рожденное жгучей ненавистью к государевым да правителевым надзирателям, на деле означало смертный приговор Битяговским и всей их родне.
Как водится, ударили в набат. Угличане традиционно – безо всякого суда и следствия – тут же растерзали всех, кого Нагие обвинили в злокозненном умерщвлении царевича. Впоследствии историки нарекут эти зверства народным восстанием… Затем, после этой краткой, но кровавой вакханалии хорошо науськанного[179] стихийного насилия (как всегда, бессмысленного и беспощадного, по исчерпывающему определению классика) город замер в ожидании грядущих событий. И события последовали.
Через два дня из Москвы прибыла назначенная Боярской думой следственная комиссия во главе с князем Василием Шуйским – в состав ее также входили окольничий Андрей Петрович Луп-Клешнин, дьяк Вылузгин и Крутицкий митрополит Геласий. Было проведено дознание – тщательное, по всем правилам тогдашней криминалистики. Нагие не уставали твердить об убийстве, настаивая, что царевича зарезали родичи главного угличского дьяка Битяговского – сын Данила, племянник Никита Качалов и муж племянницы Осип Волохов. Однако обвинения обвинениями, а дело делом. Скрупулезно протоколируя, члены следственной опросили всех, кто мог сообщить хоть что-нибудь по существу – и даже не слишком по существу – дела. В результате было выяснено, что царевич в припадке падучей[180] упал и напоролся горлом на нож, которым перед тем играл со сверстниками в тычку (во времена моего детства эту игру называли «в ножички»)[181].
Царь Василий Шуйский.
«Титулярник» 1672 г., акварель
Впрочем, хотя этот вывод подтверждался показаниями восьми свидетелей, верить комиссии упорно не хотели – и не только потому что опальные Нагие даже в ссылке продолжали гнуть свое. Дело в ином: слишком сильна в людях привычка усматривать за любой случайностью проявление некоей разумной силы – либо руку Провидения, либо (и несравненно чаще) руку злокозненного заговора, таинственной и могущественной закулисы, которую смерть как хочется назвать и сделать явной. В нашем отечестве привычка эта укоренена особенно прочно – недаром же ни одна другая страна не знала такого обилия самозванцев, причем отнюдь не только во времена Смуты, сгубившей злосчастную династию Годуновых.
Царь Борис Годунов.
«Титулярник» 1672 г., акварель
О том, сколь укоренены были сомнения в ненасильственной смерти царевича свидетельствует любопытный факт. Вторым по значению членом следственной комиссии был упоминавшийся выше окольничий Луп-Клешнин. Человек, которого Иван Грозный отличал особым доверием, «дядька» царевича Федора, впоследствии он стал активным сторонником и сподвижником Годунова и неоднократно выполнял ответственные поручения правителя. Вскоре после окончания работы комиссии этот влиятельный сановник принял постриг в отдаленном Пафнутиев-Боровском монастыре под именем Левкия, причем не просто инока, но принесшего суровые обеты и надевшего вериги схимонаха[182]. Не будем судить, что побудило Луп-Клешнина поступить таким образом – в монастырь уходили многие и по разным причинам, особенно под старость, Андрей Петрович же был далеко не молод. Но вот что интересно. В 1605 году царь Борис тайно навестил его в обители. Если легенда справедлива, Годунова мучил вопрос, так сформулированный Алексеем Константиновичем Толстым в трагедии «Царь Борис»:
Борис: Дай мне ответ по правде: в Углич ты На розыск тот посылан с Шуйским был; Дай мне ответ – и царствием небесным Мне поклянись: убит иль нет Димитрий?То есть и сам Годунов сомневался в выводах комиссии, хотя уж он-то доподлинно знал, что убийц к царевичу не подсылал. Но это – он сам. А если кто-то? И, не дай Бог, его именем?..
Словом, «кровавый мальчик» и впрямь стал и прижизненным, и посмертным проклятием Годунова.
И все же.
Как писал С.Ф. Платонов[183], «если внимательно разобрать отзывы [современников. – А.Б.] о Борисе, то окажется, что хорошие мнения о нем <…> положительно преобладали. Более раннее потомство ценило Бориса, пожалуй, более, чем мы. Оно опиралось на свежую еще память о счастливом управлении Бориса, о его привлекательной личности.
Современники же Бориса, конечно, живее его потомков чувствовали обаяние этого человека, и собор 1598 года выбирал его вполне сознательно и лучше нас, разумеется, знал, за что выбирает».
Злосчастью вопреки
И впрямь, если кто-то и был достоин избрания на царство, так Борис Годунов. Хоть он и начинал свою карьеру в опричниках, однако в их деяниях ухитрился не замараться – как отмечает тот же С.Ф. Платонов, «…и в Александровской слободе держал он себя с большим тактом; народная память никогда не связывала имени Бориса с подвигами опричнины. – И продолжает: – Историческая роль Бориса чрезвычайно симпатична: судьбы страны очутились в его руках тотчас же по смерти Грозного, при котором Русь пришла ко нравственному и экономическому упадку. Особенностям царствования Грозного в этом много помогли и общественные неурядицы XVI века, и разного рода случайные обстоятельства. (Так, например, внешняя торговля при нем чрезвычайно упала благодаря потере Нарвской гавани, через которую успешно вывозились наши товары, а также вследствие того, что в долгих Польско-Литовских войнах оставались закрытыми пути за границу). После Грозного Московское государство, утомленное бесконечными войнами и страшной неурядицей, нуждалось в умиротворении. Желанным умиротворителем явился именно Борис, и в этом его громадная заслуга».
Всходя на престол, Годунов пообещал, что при нем кровопролития в стране не будет (случай, среди отечественных государей едва ли не уникальный). И – что еще уникальнее – сдержал слово. Да, опалы были. Были ссылки. Было насильственное пострижение. Особенно досталось Романовым и Шуйским – надо признать, не по облыжным доносам, не из одного только опасения возможных конкурентов или просто ради устранения оппонентов; нет – и те и другие активно рвались к трону и реально злоумышляли против Бориса. Но Борис и прощал (порою, может быть, зря!), и возвращал из ссылок… Но не казнил – ни разу. Никого.
А вот некоторые итоги, достигнутые за двадцать один год – для наглядности объединим в этом случае время его фактического правления и срок собственно царствования.
При Годунове были возвращены отданные шведам при Грозном Копорье, Ивангород, Ям (современный Кингисепп) и Корела.
Небывала по размаху и деятельность Бориса по строительству городов. При нем были заложены Цивильск, Уржум, Санчурск, Царев-Борисов, Самара, Саратов и Царицын (современный Волгоград), а также построены каменная крепость в Астрахани и город на Яике (современная река Урал). Для защиты от набегов крымских татар воздвигнуты крепости на южной степной окраине – Ливны, Кромы, Воронеж, Белгород, Оскол, Валуйки, под прикрытием которых только могла идти на юг русская колонизация. В Сибири – заложены Тюмень, Тобольск, Пелым, Березов, Сургут, Тара, Нарым, Верхотурье, Мангазея, Туринск, Томск и Кетский острог… Постройкой Белого города в правление Бориса были усилены укрепления Москвы и воздвигнуты каменные стены Смоленска, так пригодившиеся в Смутное время. А на Волге, под Плесом, были построены уникальные подводные оборонительные сооружения.
Дворец Бориса Годунова в Кремле
При Годунове на Руси было учреждено патриаршество, что сравняло первосвятителя русской церкви с восточными вселенскими патриархами.
Юрьев день был отменен еще при Грозном; Борис же в 1601 году снова разрешил переход крестьян – повсюду, кроме Московского уезда (правда, лишь от мелких владельцев к мелким – с одной стороны, явная уступка крупным землевладельцам, но с другой – воспрепятствование последним в намерении переманивать к себе крестьян от помещиков победнее). Годунов заботился даже об урегулировании отношений крестьян и помещиков, стремясь ограничить работу на землевладельца двумя днями в неделю.
Годуновскую внешнюю политику трудно назвать сплошной чередой успехов, однако и здесь ему удалось хоть в какой-то мере дать передышку уставшей от войн стране.
Борис хотел организовать в Москве высшую школу по образцу европейских университетов, но встретил непреодолимое сопротивление духовенства. Он первым решился отправить дворянских недорослей учиться в Англию, Францию, Австрию и ганзейский город Любек. Правда, первым же и столкнулся с явлением, в XX веке получившим название невозвращенчества: все до единого предпочли остаться за границей, а один из них даже перешел в англиканство и защитил докторскую диссертацию на тему «О заблуждениях православия»…
Годунов охотно приглашал на царскую службу иностранных врачей, рудознатцев, суконщиков и вообще мастеровой люд – всех их принимал ласково, назначал хорошее жалованье и наделял поместьями. Пользовались покровительством Бориса также иноземные купцы, особенно английские. Немцам разрешено было построить в Москве лютеранскую церковь, а некоторые наши соотечественники, подражая иностранцам, даже стали брить бороды (как видите, окно в Европу открывалось задолго до Петра I, сведшего знакомство с немцами на Кукуе, разросшемся как раз в царствование Бориса!).
И все это – вопреки феноменальному злосчастью. Против Годунова ополчались не только люди – его корона одинаково грезилась и Шуйским, и Лжедмитрию I, и Романовым (причем впоследствии все они получили возможность на собственном опыте проверить, сколь тяжела шапка Мономаха, и только последние оказались в состоянии носить ее триста лет кряду). Но с людьми – и даже с Романовыми, даже с Самозванцем! – Годунов, скорее всего, совладал бы. Однако на него ополчился еще и противник поистине необоримый – сама стихия.
Лжедмитрий I.
Художник Л. Килиан, гравюра 1606 г.
Приблизительно в 1430 году на планете началось общее похолодание, получившее название малого ледникового периода – по мнению климатологов, окончательно завершился он лишь к 1850 году. Началось это изменение климата даже раньше – в частности, еще не развившись по-настоящему, в середине XIV века оно уже успело погубить колонию викингов в Гренландии. Впрочем, страны Западной и Центральной Европы пострадали в меньшей степени – все-таки атлантическая печка Гольфстрима продолжала греть исправно (благодаря этому обогреву, кстати, в Европе передвижение на один градус на запад климатически соответствует перемещению на один градус к югу). Увы, до Московской Руси, лежавшей восточнее всех прочих европейских государств, это благодатное тепло не доходило. А ведь значительная часть ее земельных угодий располагалась вдобавок в зоне рискованного земледелия. В итоге для Руси и стран северовосточной Европы малый ледниковый обернулся подлинной аграрной катастрофой. А теперь добавим, что самый пик малого ледникового периода пришелся как раз на царствование Бориса Годунова.
Лето 1601 года выпало холодным и дождливым – на всем пространстве от Пскова до Нижнего Новгорода дожди беспрестанно лили целых два месяца, в результате чего хлеба «замокли» на полях и не вызрели. Окончательно погубили урожай ранние морозы, грянувшие уже в конце августа. Весна следующего года начиналась вроде бы нормально, но потом вернулись морозы, побившие рожь «на цвету». Лишившись семенного фонда, в 1603 году крестьяне засеяли поля «зяблым» зерном, но это не спасло положения – недород оказался ужасающим. А трехлетних неурожаев не могло в те времена выдержать сельское хозяйство никакой страны. Цены на хлеб взвинтились фантастически: оптимисты среди историков считают – в 10–15; пессимисты – в 80–120 раз; с наибольшей достоверностью можно считать, что в 25 раз. Массовый голод начался уже в 1602 году. Ели все – собак, кошек, коренья, кору, траву… Дошло даже до людоедства.
При венчании у Годунова вырвались слова, поразившие современников и ни одним из государей ни до, ни после не произносившиеся: «Бог свидетель, никто не будет в моем царстве нищ или беден! – И, тряся ворот сорочки, он прибавил: – И сию последнюю разделю со всеми!» Так вот, чтобы облегчить участь голодающих, Борис за казенный (и за свой личный!) счет начал широкомасштабное строительство в Москве – это давало рабочие места и, соответственно, заработки. Он просто раздавал хлеб и деньги – только в Москве казна расходовала на помощь голодающим 300–400 рублей в день, сумму совершенно невероятную, означавшую помощь примерно шестидесяти-восьмидесяти тысячам голодающих. Но не меньшие суммы уходили и в другие города. У крупных землевладельцев и монастырей, придерживавших зерно в расчете на дальнейший рост цен, изымались излишки и продавались голодающим по твердой цене, примерно вдвое ниже рыночной. Словом, делалось все, что можно. Делалось грамотно. Но переломить таким образом ситуацию было невозможно – ложкой моря не вычерпаешь. Неизвестный житель города Почепа писал в ту пору: «Лета 7110 [от Сотворения мира. – А.Б.]… глад бысть по всей земли и по всему царству Московскому при благоверном царе Борисе Федоровиче всея Руси и при святейшем патриярхи Иеве и вымерла треть царства Московского голодной смертью[184]». В одной только столице за время голода на трех кладбищах было погребено 127 000 человек – при том, что постоянное население города составлял в те времена около 50 000. И это не удивительно – в призрачной надежде на спасение государевыми милостями народ массово устремился в столицу, где бессчетно умирал от голода и моровых поветрий, самым страшным из которых стала эпидемия чумы.
Царь Борис Годунов.
Портрет XVII в. Частная коллекция
Голоду и мору, естественно, сопутствовали разбои – всюду, на дорогах и в городах, на окраинах царства и в самой первопрестольной. Сколачивались шайки, ядром которых, как правило, становились привычные к оружию «боевые холопы», грабили не только одиноких путников, но следующие под охраной купеческие и государевы обозы. Однако и с этой напастью – человеческой, не стихийной, пусть и стихийным бедствием порожденной, – Годунов, быть может, справился бы, потому что изводили разбойный люд в целом довольно успешно. Но тут появился Самозванец, и вскоре бесчисленные шайки влились в армию вторгшегося в пределы Руси Лжедмитрия I.
Впрочем, и тогда замершая в неустойчивом равновесии история еще могла повернуться иначе, если бы не скоропостижная кончина Бориса 13 апреля 1605 года. Москва присягнула его сыну – Федору Борисовичу, которому отец постарался дать возможно лучшее воспитание и которого превозносили все современники. Но после мимолетного царствования тот вместе с матерью был убит, а с ним пресеклась и коротенькая династия Годуновых. Дочь Бориса, красавица Ксения, была пощажена «для потехи Самозванца» – впоследствии она постриглась в монахини и умерла в 1622 году.
Но тут уже начинается совсем иная, хотя и чрезвычайно интересная история – по сей день остающийся загадочным Лжедмитрий I, вакханалия самозванцев после его гибели, Смута, воцарение Романовых… Однако все это лежит уже за пределами нашей темы.
А судьи кто?
Так почему же при упоминании имени Бориса Годунова в памяти каждого из нас первым делом всплывают не страницы ученых томов, не образ одного из достойнейших государей в отечественной истории, а знаменитые пушкинские строки:
И всё тошнит, и голова кружится, И мальчики кровавые в глазах… И рад бежать, да некуда… ужасно! Да, жалок тот, в ком совесть нечиста.Или его же убийственная характеристика:
Вчерашний раб, татарин[185], зять Малюты, Зять палача и сам в душе палач… И всё.Впрочем, о гении российской словесности чуть позже, поскольку образы свои он черпал отнюдь не из неких нематериальных эмпиреев, а из исторических трудов. В частности, из «Истории государства Российского» того самого Карамзина, чьи слова я предпослал этой главе в качестве эпиграфа.
Царь Борис Годунов.
«Титулярник» 1672 г., акварель
А пока вернемся ненадолго к современникам Годунова. И к Угличскому делу.
Обвинение Бориса как инициатора убийства малолетнего Дмитрия Ивановича основывается на соображении, будто бы смерть царевича расчищала ему дорогу к трону. При этом почему-то забывают, что Дмитрий вообще не имел никаких прав на престол – сын пятой (если даже, как вы помните, не седьмой) венчанной жены Грозного, тогда как церковь признавала законными не более трех браков и, следовательно, потомков от них.
Впрочем, что за дело Даниловичам до закона? Впервой, что ли? Да и народу куда ближе природного государя незаконный отпрыск, нежели законный, но неприродный, не по праву рождения самодержец – потому и присягали потом с готовностью всем Лжедмитриям, тогда как избранного Земским собором царя Бориса так до самого конца и не приняли… Последнее обстоятельство сыграло в судьбе Годунова – как прижизненной, так и посмертной, – чрезвычайно важную роль.
Так или иначе, если подходить к делу прагматически, угличский бастард угрозы для Годунова не представлял. А уж если решаться на преступление – так более продуманное и организованное. Как тут не вспомнить злосчастного Ричарда III и принцев в Тауэре, о которых мы говорили в предыдущей главе? Параллель прямо-таки напрашивается…
Угличское дело раскрыло шлюзы, откуда хлынул поток злословия и клеветы.
Впрочем, первый злой слух распространился еще задолго до «убиения Дмитрия» – о яде, будто бы данном царевичу сторонниками Годунова, но чудесным образом не подействовавшем.
В июне того же года в Москве вспыхнул сильный пожар, истребивший весь Белый город. Борис старался оказать всевозможную помощь погорельцам – и вот пронесся слух, будто он нарочно велел поджечь столицу, чтобы потом милостями привлечь ее жителей. Как тут не вспомнить Нерона и пожар Рима?
Летнее нашествие войск крымского хана Казы-Гирея также приписывалось Борису, который якобы желал тем самым отвлечь внимание народа от убийства Дмитрия.
Даже смерть царя Федора и его дочери Феодосии приписывали яду, подсыпанному Годуновым.
Ну и, конечно же, отмена Юрьева дня – права ежегодного свободного перехода крестьян от одного владельца к другому – также годуновское черное дело. Разве же был способен на такое злодеяние добрый батюшка-государь Иван Грозный?
О том, насколько ничто не прощалось неприродному государю, красноречиво свидетельствует любопытная история. К числу архитектурных свершений годуновской поры относится возведенная в 1600 году в Кремле знаменитым зодчим Федором Конем[186] колокольня Ивана Великого, названием своим обязанная неслыханной по тем временам высоте – 81 м. Такая высота была связана с ростом города – чтобы постройка могла царить над ним, возникая в глазах (по свидетельству современников) больше, чем за 10 верст до Москвы. Кроме того, Борис задумал воздвигнуть грандиозный храм, подобный церкви Вознесения в Иерусалиме, и высота колокольни должна была соответствовать размерам этого будущего собора, так и оставшегося лишь мечтой и прожектом. Под куполом Ивана Великого по сей день можно прочитать выведенную золотом на медных листах надпись: «Изволением Святыя Троицы, повелением Великого Господаря Царя и Великого Князя Бориса Федоровича Всея Русии самодержца и сына его благоверного Великого Господаря царевича князя Федора Борисовича Всея Русии сей храм совершен и позлащен во второе лето господарства их».
Так вот, даже в этом усмотрели не стремление украсить столицу, а непомерную гордыню. Современник писал: «На самой верхней голове церковной, которая была выше всех других церквей, <…> равняясь с нею гордостью, <…> на вызолоченных досках золотыми буквами он обозначил свое имя, положив его как некое чудо на подставке, чтобы всякий мог, смотря, прочитать крупные буквы, как будто имея их у себя в руках». До чего же все-таки интересно: никому не приходило в голову порицать Ивана Грозного за решение построить храм Василия Блаженного; никто не дерзнул осудить Романовых за грандиозные Исаакиевский и Казанский соборы, возведенные в Петербурге… А вот Годунова – осудили. Даже за это.
Впрочем, вздорность подавляющего большинства обвинений столь очевидна, что всерьез их не принимали ни современники, ни потомки.
И даже обвинения в угличском убийстве опирались не на факты, выявленные следственной комиссией (их, сколько ни старались, не смогли опровергнуть по сей день, хотя некоторые попытки и выглядели на первый взгляд достаточно основательными и убедительными), а на примитивно толкуемую логику «кому выгодно?». Но повернем вопрос: а кому был выгоден миф о Годунове – злодее?
Царь Василий Шуйский.
Портрет маслом работы неизвестного художника XVII в.
И вот здесь ответы очевидны. Сперва – Лжедмитрию I, нуждавшемуся в моральном оправдании своей авантюры: ведь одно дело – низложить законного царя, и совсем другое – свергнуть сына тирана и убийцы, чудом не преуспевшего в своем кровавом деле. Затем, когда пал Лжедмитрий, это понадобилось взошедшему наконец на вожделенный трон Василию Шуйскому. И тоже для оправдания. Ведь сперва, еще при Годунове, в качестве главы следственной комиссии он утверждал, что царевич стал жертвой несчастного случая. Но затем ему показалось выгодным признать в Самозванце подлинного Дмитрия и присягнуть ему на верность. А затем, инициировав свержение Лжедмитрия I, он вновь стал доказывать, что Дмитрий-де доподлинно погиб в Угличе, злодейски зарезанный присными царя Бориса. В доказательство народу даже были явлены мощи убиенного царевича, спешно причисленного к лику святых (поскольку даже невольный самоубийца святости обрести не может, это должно было послужить непререкаемым доказательством Борисова преступления). По замыслу все это должно было представить воцарение Шуйского не очередной узурпацией, но актом высшей справедливости…
Пришедшим на смену Шуйскому Романовым (более всего, кстати, пострадавшим в борьбе за власть с Борисом) очернение Годунова уже не было нужно: он был не предшественником, а полузабытой в быстротечности Смутного времени фигурой. Основатель дома Романовых, Михаил Федорович, даже приказал перевезти прах Бориса, удаленный при Лжедмитрии I из Архангельского собора, в Троице-Сергиеву лавру.
Но к тому времени миф об угличском убийце уже обрел собственную жизнь, которой продолжает жить и по сей день – и в романах, и на страницах учебников, и даже в серьезных исторических трудах. Человека, убийством расчистившего себе дорогу к трону, усматривали в Борисе и автор «Истории государства Российского» Карамзин, и такие историки, как Костомаров и даже Соловьев[187]. Костомаров вообще не усматривал в Годунове ни единой светлой черты, даже лучшие его поступки объясняя дурными мотивами. И пожалуй, только объективнейший С.Ф. Платонов в своем «Полном курсе лекций по русской истории» заметил: «Если Борис – убийца, то он злодей, каким рисует его Карамзин; если нет, то он один из симпатичнейших московских царей», – после чего именно симпатичнейший образ и нарисовал, убедительно такой портрет обосновывая.
Как бы там ни было, в памяти народной образ Бориса Годунова, скорее всего, просто изгладился бы – как изгладился, например, не менее привлекательный образ царя Федора II Алексеевича, старшего сводного брата и предшественника Петра I. Суждения же историков, вероятнее всего, остались бы известными лишь сравнительно узкому кругу, не вмешайся гений Пушкина.
Разумеется, историком Пушкин не был. Подобно тому, как Шекспир пользовался «Хрониками» Холиншеда, он опирался на «Историю государства Российского» Карамзина, который, в свою очередь, усматривал свою цель не в воссоздании подлинной истории, но в красочном и полезном для морализаторских целей ее изложении[188]. Вот и вышло, что скорее писатель, нежели историк заложил фундамент здания, возведенного литературным гением. А Гению подлинный царь Борис был не слишком интересен. Уходя от байронического романтизма к шекспировскому трагизму, он интересовался исключительно вечными проблемами добра и зла, гения и злодейства, целей и средств. А в конечном счете Годунов (и не он один – ведь и Сальери не отравлял Моцарта, но уж больно хорошо ложился на сомнительную сплетню блистательный сюжет!) для всех нас стал именно таким, каким изобразил его Пушкин…
Часть II. Возвеличенные облыжно
Глава 7. Цезарь до Цезаря
Они кричат: «За нами право!»
Они клянут: «Ты бунтовщик!
Ты поднял стяг войны кровавой,
На брата брата ты воздвиг!»
Но вы – что сделали вы с Римом?..
Валерий БрюсовИсториография каноническая
Всякий окончивший школу вынес из уроков истории твердое знание о том, что время от времени Древний мир – и в том числе Древний Рим – потрясали восстания рабов. И еще, что самым грозным и славным из них было возглавленное Спартаком – рабом-фракийцем, воспетым в одноименном романе итальянца Рафаэлло Джованьоли, блистательно сыгранным Керком Дугласом в одноименном же фильме Стенли Кубрика[189], а для балетоманов еще и блистательно исполненным Юрием Григоровичем в опять-таки одноименном балете Арама Хачатуряна. И пусть описание этой трехлетней эпопеи можно без труда почерпнуть хоть в учебнике, хоть в энциклопедии, осмелюсь в самых общих чертах напомнить течение событий в их традиционном изложении.
Спартак («он раньше воевал с римлянами, попал в плен и был продан в гладиаторы», – пишет Аппиан[190]) был определен в школу гладиаторов ланисты[191] Гнея Лентула Батиата, находившуюся в главном городе Кампании – Капуе. Здесь в 74 году до Р.Х. он с целью освобождения и побега – по всей вероятности, на родину – организовал заговор, в который было вовлечено около двухсот человек. Заговор был своевременно раскрыт, однако Спартаку и еще семидесяти семи его сотоварищам (в основном – фракийцам, галлам и германцам) удалось скрыться и, кое-как вооружившись вертелами и всякими иными подручными средствами, организовать базу на склоне Везувия, откуда они и начали совершать регулярные набеги на окрестности, разживаясь продовольствием и оружием (однажды им даже удалось выследить и захватить обоз с оружием, которое везли в гладиаторскую школу). Отряд беспрестанно пополнялся беглыми и освобождаемыми рабами, а двумя наиболее заметными после Спартака руководителями мятежа стали Крикс и Эномай.
Бой гладиаторов.
Напольная мозаика римской виллы близ Неннига-на-Мозеле, ок. 250 г.
Поначалу властям Вечного Города было не до этой кучки беглых рабов – на востоке продолжалась Третья война с понтийским царем Митридатом VI Евпатором; на западе, на Иберийском полуострове, вел по поручению сената гражданскую войну с марианской оппозицией Гней Помпей, прозванный Великим; на севере, в Этрурии, взялись за оружие местные жители, за чей счет были наделены землей ветераны легионов Суллы Счастливого… В итоге Спартаку и его людям невероятно повезло: всю осень и зиму 74–73 годов до Р.Х. они спокойно использовали для накопления сил и организации боеспособного войска.
Наконец против мятежников были посланы отряды под командованием пропретора Гая Клавдия Глабра (три тысячи человек) и претора Публия Вариния[192], которые, обладая значительным превосходством – как численным, так и в качестве оружия, – блокировали их горную базу. Однако Спартак, готовый, по словам Саллюстия[193], «скорее погибнуть от железа, нежели от голода», принял смелое и неожиданное решение: по его приказу из виноградных лоз были сплетены самодельные лестницы, с помощью которых мятежники совершили головокружительный спуск по считавшемуся непреодолимым и потому неохраняемому почти вертикальному скальному обрыву, зашли к римским отрядам в тыл и внезапной атакой разгромили их, захватив лагерь и – самое главное – боевое оружие.
Карта походов Спартака
За следующие несколько месяцев войско Спартака от семидесяти человек выросло до семидесяти тысяч, а в руках восставших оказалась практически вся Кампания. Теперь это уже была грозная сила, всерьез обеспокоившая сенат. Организовав и обучив свое разношерстое воинство по римскому образцу, Спартак двинулся на восток, к Адриатике. Осенью 73 года до Р.Х. наперерез восставшим были двинуты войска под командованием упоминавшегося выше Публия Вариния, но в столкновении претор вторично потерпел поражение, а Спартак пересек Апеннинский полуостров и, придерживаясь адриатического побережья, двинулся на север – судя по всему, с намерением через Альпы вывести своих людей сперва в Цизальпинскую Галлию[194], а затем и за пределы римского влияния. Силами двух легионов ему попытались было преградить путь консулы Луций Геллий и Гней Корнелий Лентул Клодиан[195] – однако и они в целом не слишком преуспели. Воспользовавшись тем, что консулы в попытке взять мятежников в клещи разделили силы – один из легионов зашел вперед, тогда как другие нагоняли восставших, Спартак совершил два стремительных броска и в скоротечных битвах поодиночке разгромил оба легиона. Затем близ города Мутины в Северной Италии он нанес сокрушительное поражение десятитысячной армии под командованием наместника Цизальпинской Галлии Гая Кассия. Теперь путь через Альпы был свободен.
Однако, дойдя до реки По (по пути его армия выросла, если верить Аппиану уже до 120 000 человек), Спартак «по невыясненным причинам», как дружно пишут историки, сжег все обозы и налегке повернул обратно на юг.
Осенью 72 года до Р.Х. сенат направил против рабов претора Марка Лициния Красса, наделив его особыми полномочиями и вверив его командованию два консульских легиона вкупе с правом набирать войска (в итоге легионов вскоре стало шесть). Новый главнокомандующий попытался окружить силы мятежников под Пиценой, однако тем удалось вырваться, разбив войска одного из ближайших помощников Красса – Муммия. Теперь Спартак повел свою армию на юг, чтобы с помощью киликийских пиратов переправить ее часть в Сицилию и разжечь там новый очаг восстания, – это вынудило бы римлян раздробить посланные против него силы. Однако что-то не сложилось – пиратские корабли так и не появились в оговоренный срок (похоже, Красс, недаром прозванный Богатым, заплатил им больше, чем пообещали мятежники). Тогда упорный в своих намерениях Спартак решил осуществить, пользуясь современной терминологией, широкомасштабную десантную операцию по форсированию Мессинского пролива при помощи подручных, так сказать, средств – соорудив великое множество плотов. Однако тут против него ополчилась стихия: когда большая часть плотов была уже готова, налетел шторм, разбивший эти неуклюжие и хлипкие сооружения в щепы. К тому же выяснилось, что западный берег Сицилии хорошо укреплен, а потому высадка там вряд ли увенчалась бы успехом, обогнуть же остров и высадиться на юго-западном побережье, как предполагалось первоначально, без мореходных судов было невозможно.
В результате восставшие оказались блокированы на полуострове Бруттий (современная Калабрия) – самом носке «италийского сапога». Чтобы сделать эту блокаду идеальной, по приказу Красса от ионического побережья до берега Тирренского моря был выкопан ров длиной 50,5 км и глубиной 5 м; по западному краю рва по всем канонам римского фортификационного искусства был насыпан вал, а на нем возведен мощный палисад[196]. Положение усугублялось тем, что в Брундизии (современный Бриндизи) вот-вот мог высадиться со своей армией вернувшийся из Фракии Марк Лукулл – брат победителя Митридата VI Луция Лукулла, воевавшего в Малой Азии; с Иберийского полуострова спешил (трудно сказать, с целью ли помочь Крассу, или чтобы лишить его лавров победителя) Помпей Великий. Спартак попытался было тянуть время, затеяв с Крассом переговоры, но тот на уловку не поддался. Тогда мятежники отважились на прорыв. В бурную ночь с обильным снегопадом (для Южной Италии погодный феномен, прямо скажем, нечастый!) засыпав часть рва хворостяными фашинами и землей, они штурмом взяли палисад и, вырвавшись на оперативный простор, двинулись к Брундизию, надеясь опередить Лукулла и захватить в этом портовом городе корабли, необходимые для броска в Сицилию или даже дальнего плавания – во Фракию, на родину Спартака.
Марк Лициний Красс (115–53 гг. до Р.Х..), прозванный Богатым.
Прорисовка римского барельефа конца I в. до Р.X.
Красс незамедлительно пустился в преследование, и близ Луканского озера ему удалось уничтожить двенадцатитысячный отряд под командованием Гая Канниция и Каста. После этого поражения Спартак, под командованием которого оставалось еще до 60 000 человек, двинулся к Петелийским горам, по пятам преследуемый войсками крассовских легата Квинта и квестора Скрофа. Развернувшись, Спартак дал преследователям бой – и разгромил наголову; римляне с позором бежали, едва вынеся с поля боя раненого квестора. Однако успех этот оказался роковым: мятежники воспряли духом и стали требовать, чтобы их вождь дал римлянам решающее сражение.
Оно состоялось весной 71 года до Р.Х. на реке Силарус. Когда перед боем Спартаку подвели коня, фракиец выхватил меч и убил его со словами: «В поражении и лучший конь не спасет, а победа принесет табуны других». Битва была яростной и кровопролитной. Спартак пытался прорваться к самому Крассу, но смог убить только двух центурионов. Даже раненый дротиком в бедро, он продолжал сражаться, стоя на одном колене, пока не был изрублен – так, что впоследствии даже тела его не удалось опознать.
Множество рабов пало в бою, 6000 пленных было распято на крестах вдоль дороги, ведущей из Рима в Капую, Немногие уцелевшие уже не представляли собою организованной силы – они разбились на несколько отрядов, скорее напоминавших разбойничьи шайки, и мало-помалу были уничтожены легионами Помпея.
Историография апокрифическая
Начнем с предыстории Спартака. Сведения о его происхождении и о судьбе до наступления знаменательного 74 года до Р.Х. отрывочны и противоречивы, причем все они восходят к весьма немногочисленным первоисточникам – их список практически исчерпывается трудами Аппиана, Веллея Патеркула, Диодора Сицилийского, Евтропия, Орозия, Плутарха, Саллюстия, Тита Ливия, Флора и Фронтина[197]. Причем в изложении фактов эти авторы почти повторяют друг друга, расходясь лишь в их трактовках, в силу чего при обращении к истории Спартака особое значение приобретает не изучение первоисточников, а поиск разного рода косвенных свидетельств и логический анализ ситуации. И все-таки даже на основании вышеперечисленных трудов общее представление о Спартаке сложить все-таки можно.
Он действительно был фракийцем – под этим общим именем понимали тогда представителей многочисленных племен, населявших Балканский полуостров и отчасти Малую Азию. Согласно Плутарху, Спартак «происходил из… медов», однако среди известных сегодня фракийских племен – бессов, гетов, трибаллов, мизийцев, одрисов и фригийцев (иногда к ним причисляют и даков) – медов не значится. Зато существовало в те времена племя майдику (или медику), и – согласно исследованиям известного болгарского историка Велизара Велкова – Плутарх имел в виду именно его. Косвенно это подтверждается и самим именем нашего героя, известным нам исключительно в латинизированной форме Спартак (Spartacus).
На основании, по всей видимости, чисто фонетического совпадения Теодор Моммзен[198] полагал, будто Спартак являлся отпрыском боспорской династии Спартокидов[199]. Пресеклась она в 110 г. до Р.Х., то есть за 36 лет до восстания Спартака, так что с хронологической точки зрения он вполне мог оказаться каким-нибудь последним отпрыском Спартокидов. Но каким образом этот боспорец очутился на Балканах? Оно конечно, в те не ведавшие «мерседесов» и «боингов» времена люди были не менее мобильны, чем сегодня, но ведь фракиец Спартак не просто пришельцем был, а вождем, причем не из последних…
Луций Корнелий Сулла (138–78 гг. до Р.Х..), прозванный Счастливым.
Современный рисунок с античного скульптурного портрета
Полностью исключить моммзеновскую версию я, пожалуй, не рискну, однако более вероятной все-таки представляется иная. Именно в том географическом ареале, где обитало племя майдику[200], чаще всего встречается (в частности, на могильных камнях) фракийское имя Спараток, что означает «копьеносец», которое носили многие племенные вожди. Будучи латинизированным, оно вполне могло превратиться в Спартак. Кстати, стоит заметить, что, говоря о племени, я вовсе не подразумеваю некую горстку или даже орду кочевников. Фракийские племена в ту пору жили уже вполне оседло, считались прекрасными металлургами (по своим качествам фракийская бронза нередко оказывалась лучше греческой), ювелирами, строителями. Их города мало отличались от греческих полисов, они чтили тех же богов, что и греки, возводя в их честь храмы, не уступающие аттическим, и украшали их мраморными статуями, которых не постыдились бы ни Фидий, ни Лисипп. В этом культурном контексте делаются вполне понятными слова Плутарха о Спартаке: «человек, не только отличавшийся выдающейся отвагой и физической силой, но по уму и мягкости характера стоявший выше своего положения и вообще больше походивший на эллина». Для раба-гладиатора оценка и впрямь странная. Но никоим образом не для эллинизированного фракийского племенного вождя. Вот только насчет мягкости характера… Однако об этом – ниже.
Разобравшись с происхождением, перейдем к биографии. Вопреки Аппиану (помните: «он раньше воевал с римлянами, попал в плен и был продан в гладиаторы»), приходится признать, что воевал Спартак не против римлян, а наоборот, в их рядах, куда в то время варваров привлекали уже весьма охотно. Во время Первой Митридатовой войны Спартак в битвах при Херонее[201] и Орхомене[202] командовал алой – так назывались тогда образованные из союзнических войск фланговые соединения римской армии. Здесь-то он и обратил на себя внимание полководца, а с 86 года до Р.Х. – и всесильного римского диктатора Луция Корнелия Суллы Счастливого, пришедшего к власти (обратите внимание!) в результате победоносной гражданской войны. Представитель аристократической партии, Сулла тем не менее – подобно Петру I – охотно опирался и на «новых людей», которые в римском обществе не имели никакой иной опоры, кроме самого диктатора; в их числе оказался и Спартак, не достигший особых высот, но неизменно отличавшийся и отличаемый. Однако в 79 году до Р.Х. Сулла, заявив, что исполнил все назначенное, сложил полномочия, удалился от дел, предался сочинению мемуаров, а годом позже умер. И с этого момента карьера Спартака покатилась вниз. В конце концов из блестящего боевого командира он превратился в учителя фехтования в капуанской школе гладиаторов. Нет, он не был рабом (никогда, заметьте, не был!) и жил при школе в собственном доме вместе с женой-фракийкой, однако нынешнее положение представлялось ему нестерпимым.
И он не стерпел. Гладиаторы, которых он обучал и тренировал, казалось, самою судьбой были назначены стать инструментом для исполнения созревшего у Спартака замысла. Замысла чрезвычайно амбициозного: в конце концов, если Сулла смог достичь вершин власти и стать единоличным правителем Рима, развязав ради этого кровопролитную гражданскую войну, почему этому примеру не может последовать его военачальник?
И это – главное: спартаковский мятеж был вовсе не восстанием рабов, а подлинной гражданской войной. Недаром честный Аппиан включил историю Спартака в ту часть своего труда, которая озаглавлена «Гражданские войны», хотя – вослед предшественникам – и писал о ней исключительно как о мятеже рабов и его подавлении.
Вообще рабы здесь играли роль отнюдь не первую. Все историки признают, что к Спартаку во множестве стекался окрестный свободный люд. Правда, пишут они об этом по-разному. «…Приняв в состав шайки многих беглых рабов и кое-кого из сельских свободных рабочих…» (Аппиан). Значит, много-много рабов и чуть-чуть свободных…. «К ним присоединились многие из местных волопасов и овчаров – народ все крепкий и проворный. Одни из этих пастухов стали тяжеловооруженными воинами, из других составился отряд лазутчиков и легковооруженных…» (Плутарх). Выходит, свободных было много – как минимум не меньше, чем рабов. Саллюстий же и вовсе проговаривается, что «…к Спартаку охотно и во множестве сбегался народ, в том числе даже некоторые рабы». Это уже, согласитесь, совсем иной поворот – масса свободных и некоторое число рабов. Что ж, привлечение в свой стан рабов обещанием им свободы после победы – прием, известный с древнейших времен; тут Спартак не был первопроходцем. Так что присутствие рабов в его войске легко объяснимо, однако ядро все-таки составляли не они, а римские граждане и подданные Рима. И, наконец, последняя деталь. Помните, в бою близ Луканского озера легионерам Красса удалось уничтожить отряд мятежников, которым командовали Гай Канниций и Каст? По поводу последнего сказать ничего нельзя. Другое дело – Гай Канниций, сулланский центурион (более того, примипил, то есть первый центурион первой когорты, иначе говоря, четвертый по старшинству офицер легиона – после командующего-легата, старшего из трибунов и префекта лагеря, по современным понятиям звание штабс-офицерское, не ниже майора, если не подполковника, в исключительных случаях старший примипил даже мог принимать на себя общее командование сражением, наконец именно он, как правило, носил почитаемого орла легиона), отличившийся при Херонее и Орхомене – там же, где и Спартак, но, в отличие от фракийца, римский гражданин, да не просто гражданин, а принадлежащий к сословию всадников. Не случайно его поминает только грек Плутарх – римлянин Аппиан вообще не называет имен Гая Канниция и Каста, а у других на месте Канниция возникает некий Ганник… Согласитесь, такого человек трудно представить себе в роли командира отряда в армии раба-гладиатора. А вот активным участником гражданской войны представить себе ветерана-сулланца совсем не трудно.
В пользу такой трактовки свидетельствует и тот факт, что в ходе трехлетней войны со Спартаком, пока Красс жесточайшими мерами (вплоть до казни по жребию каждого десятого в соединении – децимации) не навел в своих легионах дисциплину случаи перехода римских легионеров на сторону мятежников были явлением распространенным, чтобы не сказать массовым. Уже упоминавшийся генерал-майор и военный историк Разин усматривает в этом лишь признаки «разложения римских войск». Однако, замечу, на востоке, где шла война со внешним врагом, Митридатом VI Евпатором, этого разложения не было и в помине. А вот на Иберийском полуострове, где Помпей воевал с марианцами, – сплошь и рядом, причем перетекание шло в обоих направлениях. Явление это вообще характерно для гражданских войн – будь то Война Алой и Белой роз в Англии или Спартаковская война в Древнем Риме.
Если же принять за данность, что Спартак вел именно гражданскую войну, становятся понятными и его маневры, до сих пор ставившие в тупик авторов многочисленных энциклопедий, вынужденных признать, что по крайней мере дважды у «вождя восстания» была возможность увести своих людей с Апеннинского полуострова, но всякий раз он «по невыясненным и не до конца понятным причинам» снова поворачивал к Вечному Городу. Естественно – ведь обретение власти над Римом и было главной и единственной целью мятежного сулланского военачальника. Позволю себе такую аналогию. Представьте, что генерал-лейтенант Андрей Андреевич Власов, например, образовал бы свою Русскую освободительную армию (РОА) не во время Великой Отечественной войны, не из военнопленных, узников фашистских концлагерей, а в мирное время из отечественных зеков, когда он, опальный полководец, был бы назначен, скажем, заместителем начальника лагеря. В этом случае он стал бы не предателем родины, переметнувшимся на сторону ее врагов, а – в зависимости от исхода – либо государственным преступником, либо новым лидером государства.
Потерпев поражение, Спартак оказался преступником. Правда, он не был распят на кресте, как в финале кубриковского фильма, а героически пал в последнем сражении. Но пал, так и не поняв главного: он оказался классическим «человеком, который пришел слишком рано».
Впрочем, далеко не во всем. Например, отмечаемая Плутархом «мягкость» Спартака явно должна быть объяснена некоторой идеализацией героя, поведшейся еще от Саллюстия и легшей в основу спартаковского мифа, со временем ставшего многослойным или многокомпонентным.
Последний бой Спартака.
Прорисовка фрески из Помпей (конец I в. до Р.X.)
С первой его составляющей (Спартак – раб-гладиатор) – мы уже разобрались. Со второй (Спартак – вождь восстания рабов) – тоже. Перейдем к третьей.
Сформулировать ее можно примерно так: Спартак – благородный герой, рыцарь без страха и упрека, человек мягкий и едва ли не утонченный, воспитанный в лоне эллинистической культуры. Вот факты, мало укладывающиеся в это распространенное представление. С первых же дней восставшие захватывали имения, грабили, насиловали и убивали, причем Спартак приказал не оставлять в живых ни одного свидетеля, чтобы никто не мог разнести вести о «героических деяниях» его воинства. Далее. Когда римляне уничтожили тридцатитысячный отряд Крикса, Спартак принес в жертву памяти своего сподвижника три сотни пленных римлян. Далее. Прежде чем повернуть на юг от реки По, Спартак не только сжег обоз, но и приказал умертвить всех пленных. Согласитесь, в образ эти (и многие другие, им подобные) поступки как-то не вписываются… Впрочем, благородный человек с мягким характером не вписывается и в окружение великого полководца, но кровавого диктатора Суллы.
И последняя составляющая мифа: Спартак – великий военачальник и стратег, чуть ли не сопоставимый с Ганнибалом. Разумеется, в полководческим таланте ему не откажешь – в противном случае он не смог бы три года держать в страхе и напряжении великий Рим. Однако стоит учесть и одно немаловажное обстоятельство. Вся римская профессиональная армия, эти вошедшие в легенду непобедимые легионы, воевали в провинциях, за пределами Апеннинского полуострова – в Малой Азии, во Фракии, в Галлии, на Иберийском полуострове. В первое время против Спартака действовали сформированные на скорую руку добровольческие соединения, в которых ни солдаты, ни командиры не имели никакого боевого опыта («…у них было войско, состоявшее не из граждан, а изо всяких случайных людей, набранных наспех и мимоходом…» – пишет Аппиан). Слова «состоявшее не из граждан» говорят обо многом. В легионах могли служить только римские граждане, даже союзники-федераты вроде Спартака воевали исключительно в составе вспомогательных войск. Не станут же ветераны и граждане заниматься делом столь унизительным, как война против «возмутившихся рабов» – для этого хватит и наспех собранного сброда. И не в последнюю очередь этим объясняются как феноменальные начальные успехи Спартака, так и его финальное поражение.
Загадки и разгадки
Но почему же все античные историки дружно называют Спартака вождем восставших рабов, к которым в худшем случае примкнула кучка римского сброда? В чем причина столь явного умолчания о развязанной им гражданской войне?
Ответ прост. В те времена Рим еще не дозрел до мысли, что во главе государства может оказаться варвар. Это позже, с конца II века, а тем более в третьем столетии уже никого не удивить было тем, например, что императорами стали «родом ливиец» Септимий Север или безродный фракийский пастух, вошедший в историю как Максимин Фракиец, хотя и носил гордый набор имен – Цезарь Гай Юлий Вер Максимин Август; или что за власть над империей может бороться выходец из Британии Максим. Но тогда, в I веке до Р.Х., все обстояло иначе. Сулла, представитель древнего патрицианского рода, мог вести гражданскую войну – свой против своих; он мог даже развязать кровавый террор, и это сошло ему с рук. Позже римляне позволят это Помпею, Цезарю и многим, многим другим… А вот варвар-фракиец Спартак, чужой среди чужих, подобным правом в их глазах не обладал. И даже доведись ему одержать победу, разметать войска Красса, захватить Вечный Город, – его так или иначе не признали бы. Увы, Спартак мог перенять у римлян их воинское искусство, тактическую и стратегическую доктрины, образ жизни, наконец; но перенять их образа мысли, их мироощущения ему было не дано. Цезарь по полководческим дарованиям, стать Цезарем он не мог.
Гней Помпей (106–48 гг. до Р.X.), прозванный Великим.
Современный рисунок с античного скульптурного портрета
И так же не дано было римским (а вслед за ними уже – и греческим) историкам допустить, будто варвар может осмелиться добиваться власти над Римом, что он имеет не физическую возможность, но моральное право развязать в Риме гражданскую войну. Сама эта мысль представлялась столь несусветной, столь еретической, что в их глазах никем, кроме вождя взбунтовавшихся рабов (тем более что всем были еще памятны Первая и Вторая войны с рабами, развернувшиеся на Сицилии в 135–132 и 104–99 годах до Р.X.), Спартак представляться не мог. И эта точка зрения закрепилась на два тысячелетия.
Вообще, надо сказать, этот эпизод древней истории вряд ли оказался бы сегодня у всех на слуху, не напиши в 1874 году итальянец Рафаэлло Джованьоли своего всемирно известного романа «Спартак» (это уже потом его примеру последовали и несколько других авторов). Но Джованьоли-то, пламенному демократу, герою Рисорджименто[203], гарибальдийцу, командовавшему одной из колонн, штурмовавших Рим, – такому человеку интересен и нужен был именно Спартак, борющийся за свободу и освобождение, против тирании и диктатуры, романтический герой и демократ в душе, а вовсе не честолюбец и властолюбец, стремившийся повторить путь возвысившего его Суллы…
Но вот что любопытно. Уже в начале XX века начитавшиеся Джованьоли немецкие левые из Независимой социал-демократической партии Германии создали в 1916 году «Группу Спартака», которая затем, 11 ноября 1918 года, была преобразована в «Союз Спартака» (кто постарше, помните песню: «Вперед продвигались отряды / Спартаковцев – смелых бойцов»?). В Центральный комитет «Союза» входили, в частности, депутат рейхстага Карл Либкнехт; теоретик польской социал-демократии и мать той же «Роте фане» Роза Люксембург; философ, историк, литературный критик, автор четырехтомной «Истории германской социал-демократии» Франц Меринг; крупный деятель польского и немецкого рабочего движения Лео Иогихес, более известный как Ян Тышка; наконец, будущий первый президент Германской Демократической Республики Вильгельм Пик. Вскоре, 29 декабря 1918 года, из «Союза Спартака» родилась Коммунистическая партия Германии, возглавил которую уже знакомый нам Тышка. Не секрет, что все эти леворадикалы грезили отнюдь не освобождением и возвращением в родные края рабов, а взятием в свои руки власти – пусть даже ради этого придется развязать кровавую гражданскую войну.
Памятник Спартаку в Болгарии
Интересно, каким шестым чувством уловили они в образе Спартака ту подлинную правду, на которую так старательно закрывали глаза историки античности?
Глава 8. Операция «Азбука»
Меня с лица земли века сотрут, как плесень,
Но не исчезнет след упорного труда…
Валерий БрюсовВеликие и незабытые
Один из любимых моих фантастов, Роберт Энсон Хайнлайн, посетовал как-то, что люди, входя в лифт, слишком редко вспоминают человека по фамилии Отис. Увы, так оно и есть: по отношению к творцам (чем бы ни одаривали эти последние род людской) мы частенько оказываемся неблагодарно беспамятны. Однако героям, о которых пойдет речь в этой главе, все-таки повезло – их не забывают на протяжении уже одиннадцати с лишним веков. Они – первоучители и просветители славянские, благодаря которым я могу сейчас писать эту главу, а вы со временем сможете (если, конечно, захотите) ее прочесть…
Четыре десятилетия назад академик Рыбаков[204] писал: «Заслуги Кирилла и Мефодия в истории культуры огромны. Во-первых, Кирилл, отправившись с братом в 863 г. в миссионерское путешествие в Моравию, разработал первую упорядоченную славянскую азбуку и этим положил начало славянской письменности. Во-вторых, Кирилл и Мефодий перевели с греческого многие книги, что явилось началом формирования старославянского литературного языка и славянского книжного дела. Есть сведения, что Кириллом были созданы, кроме того, и оригинальные произведения. В-третьих, Кирилл и Мефодий в течение долгих лет проводили среди западных и южных славян большую просветительскую работу и сильно способствовали распространению грамотности у этих народов. В продолжение всей их деятельности в Моравии и Паннонии Кирилл и Мефодий вели, кроме того, непрестанную самоотверженную борьбу против попыток немецко-католического духовенства запретить славянскую азбуку и книги». Оценка академически-суховатая, но предельно объективная, емкая и точная. Кажется, и добавить нечего…
Словенская монета достоинством 20 крон 1941 г. чеканки с изображением Кирилла и Мефодия
Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий, просветители словенские.
Икона
Равноапостольные просветители причислены к лику святых и равно чтимы как православной, так и католической церквями: у православных день памяти Кирилла – 27 февраля, Мефодия – 19 апреля, обоих братьев – 24 мая[205] (причем этот последний день является праздником не только церковным, но и светским – днем славянской письменности), а у католиков – 14 февраля и 7 июля.
Их именами называют учебные заведения (например, Крестьянский государственный университет им. Кирилла и Мефодия, гимназия им. Кирилла и Мефодия и т.д.); им устанавливают все новые и новые памятники (только в России и только за последние годы открыты еще два – в Мурманске и в Самаре); в Омской области ежегодно проводится Сибирский межрегиональный фольклорно-этнографический фестиваль «На Кирилла и Мефодия»; существуют Братство во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, лютеранский (!) приход св. Кирилла и Мефодия, сетевой портал «Кирилл и Мефодий» и т.п.; ежегодно Патриарх Всея Руси Алексий II вручает премии Кирилла и Мефодия… В сознании многих поколений славян Кирилл и Мефодий – своего рода символы славянского письма и славянской культуры.
Кажется, ну что тут еще скажешь?
Впрочем, по счастью, только кажется.
Но, прежде всего, позвольте вкратце напомнить биографии братьев – имена-то их у всех на слуху, однако о судьбах, как правило, известно куда меньше.
Солунские братья
Родились они в македонской Солуни[206] (откуда и прозвание) – втором по значению городе Византийской империи, – в семье Льва, «друнгария под стратигом», то есть сановника весьма высокопоставленного: стратигу принадлежала вся полнота власти в пределах фемы (так называли в Византии провинцию), а друнгарий являлся его помощником по военным делам, то есть вторым лицом в этой провинции. В IX веке население Солуни было полугреческим-полуславянским, в летописных и житийных источниках о национальности Константина и Мефодия ничего не говорится, хотя на основании косвенных свидетельств современные ученые в большинстве своем считают братьев болгарами, а согласно одному афонскому преданию, отец их был болгарином, а мать – гречанкой. Детей у супругов, слывших людьми не только знатными, но весьма благочестивыми, было семеро: первенец Михаил[207] родился в 815 году, а Константин[208] – младший из семи братьев – в 827-м.
Сперва о старшем из братьев. Михаил пошел по стопам отца и, пользуясь неизменной поддержкой друга и покровителя семьи, великого логофета[209] евнуха Феоктиста, сделал неплохую военно-административную карьеру, увенчавшуюся постом стратига Славинии, провинции, расположенной на территории Македонии[210]. Вскоре, познав суету житейскую, он оставил мир и принял иночество в обители на горе Олимп[211], где вел незаметное существование и, согласно «Житию», усердно «прилежал к книгам». Постепенно и на новом поприще он снискал авторитет и известность, достаточные чтобы на рубеже шестидесятых годов император отправил его с миссией к болгарскому князю Борису, которого Мефодий не то крестил, не то подготовил ко крещению. Жития повествуют, что «Мефодий неустанно старался приобрести дарами словес князя болгар Бориса, которого он еще прежде сделал своим сыном». Согласно этим источникам, Мефодий «пленил Бориса отечественным своим языком, во всем прекрасным». В более поздних сказаниях упоминается и иное средство, примененное Мефодием: он будто бы столь красочно нарисовал Борису картину Страшного суда и нестерпимых мук, ожидающих язычников на том свете, что перепуганный князь сам принялся умолять Мефодия окрестить его.
Вероятно, именно за заслуги Мефодия в Болгарии патриарх Фотий[212] предложил ему высокий сан архиепископа, однако тот выбрал спокойную должность настоятеля небольшого монастыря Полихрон на азиатском берегу Мраморного моря, неподалеку от ставшей уже родной горы Олимп.
Теперь перейдем к младшему.
Уже с детства Константин превыше всего полюбил науку. Согласно «Житию», еще мальчиком он видел сон, о котором так рассказывал матери: «Отец собрал всех девушек Солуни и приказал избрать одну из них в жены. Осмотрев их, я выбрал прекраснейшую; ее звали София»[213]. Так Константин сызмальства обручился с мудростью.
Когда умер «друнгарий под стратигом» Лев, всесильный логофет Феоктист забрал пятнадцатилетнего Константина в столицу, ко двору императора Михаила III Пьяницы[214]. Там Константин получил блестящее образование – его учителями были крупнейшие представители византийской интеллектуальной элиты, в частности Лев Математик[215] и Фотий, с которым талантливого юношу постепенно связала тесная дружба, во многом предопределившая его дальнейшую судьбу. По словам «Жития», Константин в самый короткий срок изучил грамматику, диалектику и риторику, арифметику и геометрию, астрономию и музыку, Гомера и «все прочие эллинские художества».
По окончании учения, отказавшись заключить весьма выгодный брак с крестницей логофета, Константин принял сан иерея и был назначен хранителем патриаршей библиотеки при храме святой Софии. Но, пренебрегая выгодами своего положения, удалился в один из монастырей на черноморском побережье. Почти насильно он был возвращен в Константинополь и определен преподавать философию в том же Магнаврском[216] университете, где недавно учился сам (с тех пор за ним и укрепилось прозвище Константин Философ). На одном из богословских диспутов Константин одержал блестящую победу над многоопытным вождем иконоборцев[217], бывшим патриархом Аннием, что принесло ему если не славу, то широкую известность в столице. С этого момента подросший император Михаил III и патриарх Фотий начинают почти непрерывно направлять Константина посланником к соседним народам для убеждения их в превосходстве византийского христианства надо всеми иными религиями.
Около 850 года он отправляется в Болгарию, на реку Брегальницу и обращает там в христианство многих болгар. На следующий год, когда эмир милитенский попросил императора Михаила III прислать сведущих богословов, дабы познакомить его с основами христианства, выбор пал на Константина Философа и Георгия, митрополита Никомидийского. Результатом явился очередной богословский триумф – блистательная победа в диспуте о Святой Троице. Затем, утомленный этими путешествиями, Константин несколько лет провел в обители своего старшего брата Мефодия.
Однако больше всего внимания все жития уделяют третьему миссионерскому путешествию Константина – к хазарам. Ромеи[218] нередко использовали хазар как союзников в войнах с арабами, армянами и славянами, вследствие чего Византия была заинтересована в укреплении политических связей с каганатом, а в описываемое время политические связи почти всегда выступали в религиозном обличье. Этим и была вызвана хазарская миссия Константина Философа.
По пути Константин задержался в Херсонесе Таврическом (славянской Корсуни на территории современного Севастополя). Там он пополнил свои знания еврейского языка, которым после принятия иудаизма хазарская элита пользовалась примерно так, как русская аристократия XIX века – французским. В результате этих штудий Константин даже не то составил, не то перевел с еврейского некую «грамматику в восьми частях», подобно почти всем его сочинениям, увы, до нас не дошедшую. Там же, в Херсонесе, Константин вспомнил, что именно сюда был сослан императором Траяном и здесь же утоплен с якорем на шее Климент I Римский[219]. Константин занялся розысками – и нашел-таки где-то некие древние останки, а поскольку рядом с ними лежал и якорь, он пришел к выводу, что обрел мощи св. Климента. В Херсонесе же Константин обнаружил Евангелие и Псалтирь, написанные по-русски[220], а также встретил человека, говорившего на этом языке. Прислушиваясь к его речи и сопоставляя ее со своей болгаро-македонской, Константин вскоре начал читать и говорить по-русски, чем привел в изумление многих окружающих.
Папа Климент I Римский – тот самый, чьи мощи обрел в Крыму Константин.
Мозаика из Софийского собора в Киеве (XI век)
Путешествия по причерноморским степям, где бродили в ту пору орды кочевников, были чреваты многими опасностями, и потому Константин решил сменить сухопутный путь на морской. Сев в Херсонесе на судно, он уже через несколько дней прибыл в ставку хазарского кагана, где одержал очередную победу в богословском споре с иудаистами и магометанами (весь ход своего диспута с хазарскими мудрецами Константин впоследствии изложил по-гречески в своем отчете патриарху Фотию – увы, и это его сочинение до нас не дошло). Затем, беспрепятственно крестив двести хазар и взяв с собой пленных ромеев, которым каган широким жестом вернул свободу, Константин пустился в обратный путь.
А вскоре, в 862 году, в Константинополь прибыли послы из Великоморавской державы[221], недавно принявшей крещение по западному обряду от Рима. Возглавлял посольство Святополк – племянник и наследник князя Ростислава.
Деяния просветителей
Они были направлены к византийскому императору Михаилу III велеградским князем Ростиславом с просьбой прислать миссионеров, способных вести проповедь на понятном мораванам славянском языке, а не латыни немецкого католического духовенства. Кто же в силах справиться с подобной задачей? Естественно, выбор снова пал на Константина, причем на сей раз ему предстояло выполнять свою миссию совместно с Мефодием.
Тогда-то, как дружно свидетельствуют все источники, Константин за считанные месяцы и разработал славянскую азбуку, после чего вместе с Мефодием перевел на славянский язык основные богослужебные и вероучительные книги – «Избранное Евангелие», «Избранный апостол», «Псалтирь» и отдельные места из «Церковных служб».
Здесь необходимо небольшое отступление.
Специалисты до сих пор не пришли к согласию, авторство какой именно из двух славянских азбук – глаголицы или кириллицы – принадлежит Константину, хотя исследованию этого вопроса и ученым дебатам вокруг него посвящены многие тома: увы, ни в одном дошедшем до нас документе того времени образцов кирилловской азбуки не содержится. Даже название кириллицы не свидетельствует ни о чем: например, в дошедшей до нас в копии XV века и датированной 1047 годом рукописи новгородского попа по имени Упырь Лихой под этим названием подразумевается как раз глаголица… Однако для нас с вами это совершенно не важно: при очень заметном отличии в начертании букв алфавитный состав обеих азбук практически совпадает. И можно смело утверждать: какую бы из них ни составил Константин Философ, вторая представляет лишь ее модификацию, вызванную конъюнктурными соображениями.
Зато в оценке самой кириллицы ученые на диво единодушны – это лингвистический шедевр, рядом с которым можно поставить разве что армянский алфавит Месропа Маштоца[222]. «Как далеки от него алфавиты англосаксов и ирландцев, – восхищался Вандриес[223]. – Эти последние на протяжении столетий прикладывали невероятные усилия, чтобы приспособить к своему языку латинский алфавит, хотя в полной мере сделать этого так и не удалось». Академик Лихачев[224] констатировал: «Нет никаких сомнений, что наиболее совершенный алфавит, которым Русь начала пользоваться с X века, – кириллица».
Да, не назвать создание кириллицы научным подвигом – значит погрешить против истины.
Но вернемся к нашим героям.
Летом 863 г. Константин и Мефодий прибыли в Велеград и без проволочек приступили к делу, то есть проведению богослужений на славянском языке. При активной поддержке князя Ростислава они набрали учеников, обучили их славянской азбуке и церковным службам по-славянски, а затем с их помощью начали снимать все новые копии с уже переведенных с греческого богослужебных книг, а также переводить новые.
Одно из первых применений кириллицы на Руси – страница Остромирова евангелия (1056–1057)
Благое дело? Безусловно. Но – смотря для кого. Церкви, где служба велась по-славянски, полнились, а те, где по-латыни. – пустели. Естественно, их клир радости от такого положения не испытывал. И началась борьба – не на жизнь, а насмерть.
Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий, просветители словенские.
Фреска
Весьма эффективным средством противодействия солунским братьям явился отказ в посвящении их учеников в духовные звания. Константин и Мефодий оказались в почти безвыходно трудном положении: младший имел сан простого священника, а старший был простым монахом, пусть даже настоятелем небольшой обители. Ни тот ни другой не обладали правом самостоятельно ставить своих учеников на церковные должности и, следовательно, проводить церковные службы. Разрешить ситуацию можно было только в Константинополе или Риме.
Казалось бы, первый вариант предпочтительнее – подданные Византийской империи, братья были посланы в Моравию велением Михаила III, а патриарший престол все еще занимал друг и покровитель Константина Фотий. Однако Константин и Мефодий направились в Рим, представителем которого в Моравии был враг славянского богослужения – архиепископ Зальцбургский, где престол святого Петра занимал Николай I, яростно ненавидевший патриарха Фотия и всех с ним связанных.
И вот в середине 866 года Константин и Мефодий в сопровождении учеников выехали из Велеграда. По пути братья на несколько месяцев задержались в Паннонии, Блатнограде – столице Блатенского княжества, расположенного на территории современной Словакии. Хорошо понимая огромное значение миссии Константина и Мефодия, тамошний князь Коцел отнесся к братьям как друг и союзник. Он сам выучился славянской грамоте и отправил с ними для обучения и посвящения в духовный сан около пятидесяти учеников.
Совсем другой прием ожидал их в Венеции. «Собрались против него [Константина. – А.Б.], – рассказывает «Житие», – латинские епископы, священники и черноризцы, как вороны на сокола, и воздвигли трехъязыческую ересь»[225]. Как ни был привычен Константин к богословским спорам, но и ему пришлось бы туго против стольких противников, если бы весьма своевременно в Венецию не пришло любезное папское послание, приглашавшее братьев в Рим. Отношение местного клира к просветителям славянским разом изменилось. Правда, к тому времени, как братья, продолжив путь, достигли Вечного города, Николай I уже скончался и на престол святого Петра взошел новый папа – Адриан II.
По свидетельству папского библиотекаря Анастасия, братья были встречены в Риме с необычайным почетом – сопровождаемый духовенством и жителями Рима, сам папа во главе торжественной процессии вышел за город встретить… не их, может быть, но привезенные ими мощи святого Климента (помните херсонесскую находку Константина?). Благодарный за столь щедрый дар, Адриан II принял миссию братьев под свою высокую защиту. Он повелел положить переведенные ими книги в одном из соборов, совершить над ними торжественную литургию и в течение нескольких дней проводить в римских церквах богослужения на славянском языке. Главное же – посвятил Мефодия в священники, а его учеников – в пресвитеры и диаконы, а также составил послание ко князьям Ростиславу и Коцелу, разрешая славянские богослужение и книги.
Почти два года провели братья в Риме. О возвращении в Моравию говорить пока не приходилось: с детства не отличавшийся крепким здоровьем Константин постоянно болел, а в начале февраля 869 года окончательно слег, принял схиму и новое монашеское имя – Кирилл, а 14 февраля скончался. Похоронили его в церкви святого Климента – рядом с привезенными им мощами апостольского ученика и четвертого папы римского.
Отныне вся тяжесть миссии легла на плечи Мефодия. Он пустился в обратный путь но вскоре вернулся в Вечный город: выяснилось, что сан священника явно недостаточен, чтобы с ним считалось немецкое духовенство. По-прежнему благосклонный папа Адриан II охотно пошел навстречу, рукоположив его во архиепископа Моравии и Паннонии, на древний престол святого Апостола Андроника.
Окрыленный таким успехом, Мефодий развил в обеих столицах – Блатнограде и Велеграде – кипучую деятельность. Противодействие, впрочем, не слабело. В одной из битв с королем Людвигом Немецким потерпел поражение, был предательски захвачен и в 870 году умер в одной из баварских тюрем пригласивший братьев в Моравию князь Ростислав[226]. Князь Коцел в своем небольшом и отнюдь не могучем в военном отношении Блатенском княжестве тоже не чувствовал себя уверенно и служить опорой славянскому просвещению никак не мог.
Расправившись с Ростиславом, немцы, подстрекаемые архиепископом Зальцбургским, организовали расправу и со вторым своим упорным противником – Мефодием. Его арестовали и устроили над ним суд, обвиняя в том, что архиепископ Моравии и Паннонии незаконно (!) присвоил себе духовную власть в областях, издавна находившихся в ведении зальцбургского архиепископства – ведь еще Карл Великий пожаловал Зальцбургскому епископату права на моравскую церковь, на десятинный сбор по всей Моравии и на треть доходов с моравских земель. Однако тягаться с мастером богословских диспутов, немногим уступавшим покойному Константину Философу, оказалось непросто. По сути, процесс провалился. Тем не менее заручившись королевской санкцией, Мефодия приговорили к заключению в одном из швабских монастырей (сохранилась поминальная книга, где наряду с именами других монахов упоминается и его имя). Здесь он пробыл почти три года, терпя жесточайшие мучения – его избивали, выбрасывали голым на мороз, насильно влачили по улицам… И все это – втайне от папы римского.
Узнав об этом вопиющем самоуправстве от бродячего монаха Лазаря, папа Иоанн VIII, преемник Адриана II, запретил немецким епископам совершать литургию до тех пор, пока узник не будет освобожден. Собственно, папу мало интересовал сам Мефодий и его просветительская миссия, а к славянскому богослужению он относился весьма настороженно, если не враждебно. Но как посмели епископы судить архиепископа, посягнув тем самым на прерогативы наместника святого Петра! Поэтому Иоанн VIII немедленно послал в Моравию Павла, епископа Анконского, поручив расследовать происшедшее. Одновременно в письмах к Людовику Немецкому, к его сыну Карломану и к Зальцбургскому архиепископу папа повелел освободить Мефодия. (Впрочем, богослужение на славянском языке он категорически запретил, а славянскую речь разрешил только для церковных проповедей.)
Константинополь.
Гравюра из Нюрнбергской летописи XV века
Восстановленный в 874 году в архиепископских правах, к которым теперь добавилось и звание папского легата[227], Мефодий тут же развил кипучую деятельность. Вопреки запрещению, он продолжал вести богослужение на славянском языке; крестил чешского князя Боривоя с его супругой Людмилой и некоего польского князя с Вислы (эти князья приняли славянские богослужение, азбуку и книги, а заодно и вступили в военный союз с Моравией).
Борьба, впрочем, продолжалась. Неуемные немецкие прелаты организовали новый судебный процесс, обвиняя Мефодия в том, что тот якобы не верует в исхождение Святого Духа «и от Сына» и не признает своей иерархической зависимости от папы. Этого последнего обвинения не мог стерпеть уже и Иоанн VIII, который в 879 году призвал архиепископа Моравии и Паннонии на свой суд. Здесь Мефодий не только блистательно оправдался ото всех возведенных на него напраслин, но и получил папскую буллу, разрешающую славянское богослужение.
В 881 году по приглашению императора Василия I Македонянина[228] Мефодий посетил Константинополь – этого требовало и сильно пошатнувшееся здоровье. Однако «утешенный и ободренный вниманием императора и патриарха Фотия через три года вернулся в Моравию и вместе со своими учениками[229] закончил перевод Ветхого Завета (кроме Книг Маккавейских), а также Номоканона[230] и Патерика[231].
В 885 году Мефодий слег и на Вербное воскресенье попросил отнести его в храм, где обратился к народу с последней проповедью. В тот же день, 19 апреля, он скончался, – отпевание совершали в соборной церкви Велеграда на латинском, греческом и славянском языках.
Дело продолжили ученики, но это уже за пределами нашей темы.
Подвиг патриотов
Так выглядит краткое жизнеописание солунских братьев на основе дошедших до нас двадцати трех их житий, а также немногочисленных документов – также церковного происхождения. Последнее обстоятельство весьма важно: жития уже тогда составлялись по сложившемуся в агиографии канону, а все, этому канону не соответствующее, естественно, отсекалось; или, что еще хуже, добавлялись детали, на взгляд автора, более подходящие, нежели подлинные факты.
Однако докопаться до сути все-таки можно. И тогда подвиг Константина (Кирилла) и Михаила (Мефодия) предстает в ином ракурсе, не исключающем почти ничего из канонического представления, однако существенно дополняющем картину.
Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий, просветители словенские.
Икона
Итак, вернемся к началу нашей истории.
Как водится, сперва поговорим о старшем из братьев – старшем, отметим, на двенадцать лет. Семья Льва, друнгария под стратигом, пользовалась, как уже отмечалось, покровительством великого логофета, евнуха Феоктиста, в силу чего карьера Михаила складывалась весьма удачно: еще при жизни отца первенец занял даже не равное ему, а более высокое положение, став стратигом одной из фем, то есть одним из примерно полусотни высших сановников империи. Причем покровительство покровительством, а с обязанностями своими он справлялся отменно: о его выдающихся организаторских способностях свидетельствует и вся его совместная деятельность с братом, и – особенно – самостоятельная, уже после смерти Кирилла. Так когда же он «познал суетность всего мирского»? Отнюдь, замечу, не юношей – ему перевалило на пятый десяток, когда в 856 году правящий именем семнадцатилетнего императора триумвират, о котором говорилось выше, распался: дядя вдовствующей императрицы Феодоры, магистр Мануил, весьма своевременно скончался, саму императрицу-мать патрикий Варда насильно заточил в монастырь, а великого логофета приказал убить, в результате став единственным временщиком и правой рукой Михаила III. Естественно, началась и чистка всех протеже и ставленников убиенного Феоктиста. Тогда-то Михаила и посетили мысли о бренности всего земного: согласитесь, монастырь – далеко не худший способ избежать смерти…
Подведем итог. Опальный высокопоставленный сановник, спасая собственную жизнь, в возрасте сорока одного года уходит в монастырь, становясь иноком Мефодием. Причем шаг этот отнюдь не ведет в тупик: он прекрасно знает, что на духовном поприще можно достичь успехов не меньших, нежели на светском.
Перейдем теперь ко младшему брату.
Любопытно отметить, что, с детства мысля исключительно о божественном и обручась, согласно житиям, с божественной премудростью, он поступил не в любое из существовавших тогда в Византии духовных учебных заведений, а в единственное светское – основанный Львом Математиком Магнаврский университет, кузницу высших кадров империи. Странный выбор, не правда ли? И даже приводимый житиями перечень его интересов (помните? – грамматика, диалектика и риторика, арифметика и геометрия, астрономия и музыка, Гомер и «все прочие эллинские художества») свидетельствует, прямо скажем, отнюдь не исключительно о богословских интересах. С другой стороны, в Византии шли постоянные споры на темы догматики, этики, апологетики и прочих теологических дисциплин – причем не только в духовной, но и просто в культурной среде, а духовенство, отмечает Лев Гумилев, практически не отделяло себя от паствы, вследствие чего светски образованные люди становились порой высокими церковными иерархами и даже патриархами, как, например, Тарасий, Никифор или играющий заметную роль в нашей истории Фотий. В свете этого богословские интересы Константина Философа представляются совершенно естественными: его универсальный ум просто не мог проигнорировать столь обширной и захватывающе интересной сферы. Однако к принятию священнического сана его привела совсем иная ситуация.
Произошло это примерно в 847 году. Желая устроить будущее многообещающего молодого человека, великий логофет Феоктист вознамерился женить его на своей крестнице, гарантируя в этом случае назначение на должность стратига – вослед карьере старшего брата. Трудно сказать, что представлялось Константину менее желанным – брак по расчету (в те времена отнюдь не считавшийся, заметим, зазорным, скорее наоборот) или высокий пост: возможно он, интеллектуал по призванию, не жаждал ни того, ни другого. К тому же священнический сан позволял, никого не оскорбив, отказаться от обеих перспектив, а место хранителя патриаршей библиотеки при храме святой Софии – должность, надо сказать, весьма высокая. В причерноморский монастырь, правда, удалился Константин не по собственному желанию, не из скромности, как утверждают жития, а был сослан за самовольство, однако вскоре прощен, возвращен в столицу и назначен, как мы знаем, преподавать философию в Магнаврском университете. И не удивительно: такими кадрами не разбрасываются, и в империи это прекрасно понимали. Зато и опала после убийства Феоктиста ему – священнослужителю, не претендующему на административные посты, – не угрожала. К тому же его близкий друг Фотий к этому времени уже изрядно возвысился, а вскоре, в 858 году, стал патриархом, то есть покровителем не менее могущественным, чем покойный великий логофет.
Здесь надо остановиться на одной особенности политической жизни Восточной Римской империи. Ведя с соседями почти непрерывные войны, Византия искусно и гибко стремилась подчинить их своему политическому и культурному влиянию. А едва ли не главным инструментом этого влияния на окрестные народы являлось распространение среди них христианства, причем – в отличие от Рима, опиравшегося на мечи светских владык, – Византия стремилась делать это мягче и осторожнее. В результате любой византийский дипломат одновременно являлся миссионером, а всякий миссионер – дипломатом. Спрос на людей, способных к подобной деятельности, был, следовательно, велик. Так что таланты Константина Философа не могли пропасть втуне. И, как вы уже знаете, император Михаил III и патриарх Фотий использовали их наилучшим образом, причем в обстановке, надо сказать, весьма непростой.
Конфликты не утихали на всех границах империи.
С юга шла арабская экспансия – там ни о каком влиянии говорить не приходилось; обращать мусульман в христианство – задача бесперспективная, а потому там судьбы государств решала исключительно военная сила. И замечу, в конце концов решила – правда, руками не арабов, а турок, и уже в XV веке… Но и на протяжении всего IX столетия военное счастье чаще улыбалось не ромеям, а их противникам. Тем не менее случались и недолгие периоды мира, попытки налаживания более или менее сносного – пусть даже заведомо преходящего – сосуществования. С одним из таких периодов совпала, кстати, миссия Константина Философа и Георгия, митрополита Никомидийского, ко двору милитенского эмира.
На востоке лежал могущественный Хазарский каганат – иногда противник, временами союзник и всегда беспокойный сосед. Здесь тоже говорить о массовом обращении в христианство не приходилось (недаром Константину при всех его дарованиях удалось крестить лишь две сотни выделенных ханом из вежливости хазар), а вот налаживать и поддерживать добрые отношения было жизненно необходимо, чем и объясняется поездка туда младшего из солунских братьев. Там же, на востоке, находилась и вечно враждебная Персия.
На западе, в Италии, шла почти непрерывная война за римское наследие с гуннами, вандалами, лангобардами и норманнами. Несколько поутихшая после того, как на голову короля Карла Великого, основателя династии Каролингов, была возложена в 800 году императорская корона Священной Римской империи. До этого момента Византия не рассматривала себя как самодостаточное государство, знакомое нам по школьным учебником. Для себя она была не Восточной, а просто Римской империей и, следовательно, претендовала и на все территории, некогда подвластные Вечному городу. Теперь все изменилось. В царствование императрицы Ирины, последней из Исаврийской династии, папа Лев III, окончательно решив сделать ставку в борьбе с северными варварами не на проблематичную помощь далекой Византии, а на реальную мощь государства франков, объявил: «Поскольку в настоящее время в стране греков нет носителя императорского титула, а империя захвачена местной женщиной, последователям апостолов и всем святым отцам, участвующим в соборе, как и всему остальному христианскому народу, представляется, что титул императора должен получить король франков Карл, который держит в руках Рим, где некогда имели обыкновение жить цезари». Это окончательно похоронило мечту Византии о единстве империи и привело еще не к разделению[232], но к некоторому размежеванию и без того уже отдалившихся друг от друга церквей – римской католической и греческой, кафолической или ортодоксальной. Последнее обстоятельство обусловило неизбежное соперничество церквей в процессе обращения в христианство новых районов – попросту говоря, пошел суровый дележ сфер влияния. В описываемое время, в середине IX века, эта борьба обострилась до предела. А одним из ее важнейших объектов были еще только переходившие в христианство южные и западные славяне.
Наконец, на севере, за Проливами, располагалось Первое Болгарское царство – славяно-болгарское государство, образовавшееся в 681 году после подчинения тюрками-протоболгарами, вторгшимися на Балканы под властью хана Аспаруха, Союза семи славянских племен и освобождения этой территории от власти Византии. В худшем случае это был серьезный противник, а в лучшем – столь же сильный союзник, и склонить болгар к этому второму варианту Византии было крайне желательно.
Как я уже упоминал, Мефодий не то крестил, не то подготовил ко крещению болгарского князя (а впоследствии – и царя) Бориса, принявшего христианское имя Михаил – в честь Михаила III. Скорее все-таки, лишь приготовил, поскольку формальной датой крещения Бориса считается 865 год, когда солунские братья уже находились в Моравии. Итак, Болгария приняла христианство от Византии. Однако уже через год Борис порвал с византийской церковью и пригласил католических священников. Затем, в 870 году, он разочаровался в Риме, изгнал его представителей и вновь признал главенство византийских патриархов. Конечно же, дело было не в одних колебаниях нетвердого в вере болгарского князя – нетрудно представить себе, как мощно тянули его в разные стороны. Кстати, последнее решение Бориса привело к тому, что папа Николай I проклял патриарха Фотия[233]; тот не остался в долгу, да еще в таких выражениях, что обиженный папа даже слег от огорчения. Вот какие политические страсти пылали.
В этом контексте вполне понятно, каким подарком для Византии было посольство моравского князя Ростислава. Естественно, туда отправили солунских братьев – деятели калибра помельче тут никоим образом не годились. Ведь принятие славянским государством христианства по кафолическому обряду означало, что новосозданная церковь будет находиться в иерархической зависимости от Константинополя, а это – лучший путь и к политическому, военному союзу; это – безопасность северных границ империи, позволяющая концентрировать силы на юге, – против ислама.
Дорога, правда, вела в оба конца: моравский князь также стремился укрепить политические связи с могущественной Византийской империей в расчете на ее военную помощь против усилившегося в эти годы немецкого натиска[234]. А немцы, надо сказать, не дремали: их пресловутый Drang nach Osten, еще не обретя своего названия, уже делал первые шаги. Карл Великий, восстанавливая свою империю в границах Римской, славян в нее не включал, а лишь заключал с ними союзы, превращая из угрозы в стражей собственных рубежей. Но уже при его наследниках немцы под знаменем распространения света истинной веры на несчастных язычников мало-помалу двинулись на восток – это был своего рода вялотекущий крестовый поход до эпохи Крестовых походов; их, так сказать, предтеча.
Креститься предстояло всем центрально– и восточноевропейским народам. От тех, кто предпочел сохранить верность язычеству, в истории остались лишь имена. Можно было только выбирать: креститься добровольно, по собственному почину, приобщившись к великим центрам цивилизации, или подневольно, избрав тем самым печальную участь данников если не рабов. Можно было только выбирать: креститься по римско-католическому или греко-кафолическому, ортодоксальному обряду.
Единую (еще не разделенную!) церковь предлагали оба выбора. А вот дальше начинались отличия, в самом общем виде сводившиеся к двум пунктам.
Рим, цементируя христианством Европу, предлагал ей единый язык – латынь, равно чуждый всем (никому не обидно!), но и равно всем (в идеале) понятный. Прекрасная идея, но нежизнеспособная – слишком уж все мы привязаны к родным языкам, а второй учить подавляющему большинству совершенно не хочется, не только в IX веке, но и в XXI столетии… Не зря же перевод Библии на национальные языки стал одним из лозунгов Реформации; не зря даже у нынешней Объединенной Европы единого языка-посредника так и нет. И еще Рим предлагал старую имперскую идею единого для всех права – римского права, учитывавшего много больше, чем любые местные «правды» – будь то салическая, будь русская… Недаром его и посейчас изучают на всех юридических факультетах – фундамент современной юриспруденции, как-никак. И, наконец (после пряника) – церковную десятину. (Без налогов никак!)
Константинополь предлагал богослужение и проповедь на местных языках – причем отнюдь не из великой и бескорыстной любви к чужим культурам. Да, ортодоксальная церковь и Византия не препятствовали, а даже способствовали созданию у обращенных ими в христианство народов собственной письменности[235], развитию на этой основе народной культуры, переводу на местные языки богослужебных книг… Но потому лишь, что базилевсы и патриархи прекрасно помнили ветхозаветное предание о Вавилонской башне и смешении языков. Отсутствие на периферии империи общего для всех народов языка – дополнительная гарантия того, что они не сговорятся и не выступят против Византии солидарно. Это тоже римская идея, только другая: «divide et impera»[236]. Идея закона была для Византии если не чужда, то вторична – Восток есть Восток, даже если это восток великой империи, и у него иные принципы: превыше любого закона божественная власть базилевса[237]. Следовательно, и микробазилевсов обращаемых в христианство народов. Очень даже удобный принцип для охочих до самовластья[238]. И что немаловажно, ортодоксальная церковь не взимала десятины, теоретически существуя на доброхотные даяния, а практически – на даяния светской власти, поскольку в самой Византии она давно превратилась в нечто вроде министерства веры, вписанного в административную структуру государства.
Трудно сказать, каким именно из преимуществ восточного христианства прельстился князь Ростислав, отправляя свое посольство в Константинополь. Важно, что его начинание обернулось созданием славянской азбуки и подвигом солунских братьев.
И вот они прибыли – монах и священник, ученый и администратор, двое не отмеченных высокими должностями и званиями, но весьма высокопоставленных, доверенных и проверенных дипломатов империи. О том, что официальную свою миссию они выполнили с обычным блеском, жития повествуют достаточно красноречиво, и об этом уже было сказано. А вот на некоторых ее особенностях остановиться стоит.
И прежде всего – на поездке братьев в Рим. Почему в трудный час Константин и Мефодий отправились туда, а не в Константинополь?
«Легенды разно отвечают на этот вопрос, – писал в начале прошлого века автор нескольких книг о Константине и Мефодий В.А. Бильбасов. – По одним – папа Николай, извещенный о подвигах солунских братьев в славянских землях, много порадовался тому и особым посланием пригласил их в Рим; по другим – Константин выполнял данный им некогда обет посетить Рим: по третьим – они едут в Рим, чтобы представить папе труд своего перевода Священного Писания; по четвертым – папа позвал солунских братьев, желая их видеть, как ангелов Божьих».
Далекие от подобной романтики современные исследователи полагают, что, хотя в конечном итоге Константин и Мефодий прибыли в Рим, первоначальной их целью все же являлась Византия: братья изменили маршрут лишь в Венеции, когда получили там неожиданное приглашение папы Николая I. «Братья держали путь в Венецию, – пишет профессор Н. Грацианский, – потому что оттуда легко можно было попасть на один из кораблей, совершавших регулярные рейсы в Византию».
Однако взгляните на карту и сами убедитесь: путь из Велеграда в Византию через Венецию почти вдвое длиннее прямого, через Болгарию, которым они прибыли. И совершенно безопасен – ведь с болгарским князем Борисом у Мефодия давно сложились дружеские отношения.
Нет, конечно же Рим являлся изначальной целью. И братья рассчитывали, что их примут там с распростертыми объятиями. Но почему? Ведь патриарх и папа совсем недавно обменялись проклятиями и отношения между церквями были хуже, чем когда-либо; ведь папа Николай I яростно ненавидел патриарха Фотия и всех с ним связанных; ведь гонителями братьев в Моравии были римско-католические прелаты; наконец, ведь именно из Рима совсем недавно пришло послание понтифика Людовику Немецкому с вознесением молитв за успех похода против мораван…
Во-первых, из-за мощей святого Климента. Кстати, сама история с их обретением изобилует множеством странностей. Предположим (хоть и трудно поверить), что Евсевий Кесарийский, этот первый архивист и хронист Церкви, все-таки ошибался, а красивая легенда права, и Климента действительно с якорем на шее утопили в море близ Херсонеса Таврического. Но вот вопрос: если его утопили в море, как оказались кости на берегу – да еще вместе с тяжеленным якорем? И как через семь с половиной веков удалось установить возраст останков, не прибегая к методу радиоактивного углерода С14? Неужели же Константин Философ был столь легковерен или принимал желаемое за действительное? Невероятно: в первом случае он не был бы ученым, во втором – дипломатом… Остается предположить, что случайно услышанная в Херсонесе или кстати вспомнившаяся легенда подсказала ему найти подходящие кости.
Дело в том, что римские понтифики веками рьяно собирали, скупали и даже похищали мощи различных святых, стремясь составить возможно более полную коллекцию, причем особенно ценились и разыскивались мощи первых пап: стремясь обосновать свои притязания на первенство в христианском мире, католическая церковь объявила первым папой самого святого Петра, а Климент, если помните, являлся учеником апостола.
Вот и нашлась на берегу подходящая могила. И якорь тоже. Потому что якоря в первом веке мало походили на современные, металлические – это были изрядного веса обработанные камни с тремя отверстиями: через верхнее пропускался якорный канат, а в два нижних вставлялись колья[239]. И случалось, что камни эти использовали для надгробий морякам и рыбакам. Правда, на таком надгробии и надпись делалась, но может, рыбака и звали Климентом, да и с собою Константин увез только мощи, что вполне разумно – не возить же по свету каменюгу в полцентнера весом… Увез, заметьте: не отдал священные останки херсонесскому митрополиту, не поместил впоследствии в какой-либо из византийских или моравских церквей; он повсюду возил с собой эти почернелые кости: из Херсонеса в Византию, из Византии в Моравию и, наконец, в Вечный город. Константин был уверен: поскольку все пути ведут в Рим, рано или поздно и он там окажется с очередной миссией. А тогда… Да за такую реликвию любой папа пойдет на любые уступки – вплоть до разрешения богослужения и книг на славянском языке. Так и случилось.
Впрочем, была и еще одна причина. Хотя папа Николай I скончался, но и более мягкий Адриан II приязни к патриарху константинопольскому и ортодоксальной церкви не питал – ни по богословским причинам, ни по политическим. И тем не менее принял миссионеров-просветителей, младшего из которых папский библиотекарь Анастасий назвал «крепчайшим другом» Фотия. Отчего же? Но ведь формально церковь оставалась единой, до разделения оставалось еще два столетия и столь безрадостная перспектива не приходила в головы даже прозорливцам. Так что поддерживать отношения, урегулировать их было все-таки необходимо. И кто же подходил для такой миссии лучше, чем признанный мастер дипломатии?
Так что, вопреки мифу, не только просветителями и христианскими богословами были солунские братья. Они были еще и патриотами империи. Причем патриотами, служившими не базилевсу (не так уж много среди этих последних оказывалось достойных, и тем более патриотов!) и не патриарху (ведь и Фотий первый раз занял патриарший престол в результате восстания и низложения патриарха Игнатия, а кризис в отношениях между западной и восточной церквями не случайно называют иногда Фотиевым расколом[240]). Нет, эти родившиеся в македонской Солуни люди (но истинные-то патриоты редко произрастают в столицах!) – служили стране, империи, Церкви, рассматривая их в неделимом единстве и обеспечивая их будущность.
А теперь подведем итог. Кирилл и Мефодий, повторю, выполнили свою миссию с блеском. И не их вина, что Великоморавская держава вскоре прекратила существовать. Что Чехия, Польша, Словакия и другие западно-славянские и южно-славянские государства в конце концов вошли в сферу влияния римско-католической церкви и с кириллицы перешли на латиницу. В этом смысле судьба просветительских равно как и патриотических деяний братьев трагична. Правда, в ареале византийско-ортодоксального влияния остались Болгария, Сербия и Македония, где кириллица прижилась и живет до сих пор.
И еще деятельность солунских братьев привела к результату поистине грандиозному, хотя и совершенно непредвиденному.
Рикошет
Конечно же, о Руси Константин Философ знал. Знал о набеге на Константинополь, предпринятый русами в 860 году, – правда, сам он тогда находился в Херсонесе Таврическом и, на ходу осваивая незнакомый язык, разговаривал с одним из представителей этого народа. Но в общем-то Русь, которой еще два года оставалось ждать прихода Рюрика, его интересовала мало: в отличие от Хазарского каганата она не представляла собой организованной военной силы и находилась достаточно далеко от границ империи, если не считать того обстоятельства, что в 836 году в состав Византии вошел Херсонес. Вряд ли он думал (хотя в принципе мог, разумеется, представить – в конце концов, ничего невозможного), что через сто с небольшим лет, в 988 году, Русь примет христианство по греко-кафолическому обряду, а великий князь киевский Владимир I Святославич женится на сестре ромейских базилевсов. А с христианством придет на Русь и кириллица. И совершит триумфальный марш, закончив свой поход только на Тихом океане. И будут писать и читать на кириллице три народа – русский, украинский и белорусский.
Нет, не думал обо всем этом Константин Философ. Как и Михаил III Пьяница или Василий I Македонянин. Как и патриархи константинопольские Игнатий и Фотий. Никто не думал. До тех самых пор, пока 29 мая 1453 года турки не взяли штурмом Константинополь и не переименовали его в Стамбул, пока в 1461 году не пала последняя византийская твердыня – крепость Трапезунд.
А мы по сей день живем по плану хитроумных ромеев. Красивая римская идея дать Европе единый язык общения обернулась утопией (хотя веками латынь оставалась языком богословия и науки, без нее и сегодня немыслимы биология, медицина, палеонтология, ботаника, юриспруденция… да мало ли таких областей!). Римская идея грезила общеевропейским (если не мировым) единством – его и по сей день нет. Зато византийская идея разделения языков оказалась не только на диво живучей, но в высшей степени эффективной: введение новой письменности, отличной и от латыни, и от принятого в Византии греческого, порождало третий мир[241], мир периферийный, отрезанный и в цивилизацию не допущенный, и это сохранится даже тогда, когда одна из стран этого третьего мира наречет себя Третьим Римом…
Язык и вера стали по сути основными определителями национальной принадлежности. Мы – со словом, мы словене[242], а все они – немцы, немые то бишь; попадаются даже формулировки вроде «немец из фризов», датчан то есть, или «приехал некий немец, родом фрязин», итальянец, значит… То же и с верой. Мы – православные, а они – нехристи. И не подумайте, что это дремучесть средневековая какая-нибудь: когда в перестроечные годы стало модно говорить об императорской фамилии, некий почтенный священнослужитель, рассказывая (причем интересно!) по телевидению о жене последнего самодержца российского, императрице Александре Федоровне (в девичестве немецкой принцессе Алисе Гессен-Дармштадтской), заметил, что, приехав в Россию, она «приняла христианство». Не православие, но именно христианство, будто была до того язычницей! И примеров таких можно было бы привести немало.
Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий, просветители словенские.
Икона
И не думайте, будто азбука здесь ни при чем. Чехи и поляки потому намного легче вписались в европейский концерт держав и культур, что, не изменяя своему славянскому языку, пишут на привычной Западу латинице. Психологически уже сам вид чужих букв делает изучение незнакомого языка еще труднее. Этим, кстати, объясняется сравнительно невысокий, например, процент переводов с русского языка на другие европейские – по сравнению с теми же западными славянами, скажем, чьи произведения переводятся намного активнее.
И последнее. История поставила на редкость показательный эксперимент. Существует язык, именуемый сербско-хорватским. На нем говорят два народа, только пишут по-разному: сербы, принявшие крещение по греко-кафолическому обряду, – на кириллице, а хорваты, принявшие крещение по римско-католическому, – на латинице. Как вы думаете, где уровень развития и уровень жизни выше? Как говаривали римляне, sapienti sat[243].
Любопытно, что в чаянии близящейся мировой революции большевики активно готовились к серьезной реформе русского языка – переводу его с кириллицы на латиницу (с теоретическим обоснованием и подготовкой этой реформы в конце двадцатых годов XX века прекрасно справился Н.Ф. Яковлев[244]). Именно по этой причине, кстати, алфавиты для бесписьменных народов страны победившего социализма разрабатывались поначалу на основе латиницы – зачем связываться с кириллицей если вскоре и русскую азбуку придется менять? Правда в 1931 году Политбюро (читай Иосиф Виссарионович) отказавшись от утопических грез о грядущем всепланетном царстве свободы, равенства и братства, поставило целью построение социализма в одной отдельно взятой стране. В результате этого судьбоносного решения реформа умерла, не родившись. Грешен, иногда я об этом жалею…
Памятник Кириллу и Мефодию в Киеве
Кирилл и Мефодий.
Деталь памятника «Тысячелетие России» в Новгороде
Алфавит – всегда политика. Вот, например, во Вьетнаме пользовались поначалу китайской иероглификой; затем, веке примерно в четырнадцатом, в процессе отстаивания политической (а заодно уже – и культурной самостоятельности) на ее основе было разработано письмо «тьы-ном»; а в 1910 году в качестве государственного было введено письмо «куок-нгы», еще в XVII столетии разработанное португальскими миссионерами на основе латиницы. Или узбекский язык возьмите: сперва там пользовались арабским алфавитом, с 1927 года – разработанным на основе латиницы (понятно почему – см. выше), с 1939 года – созданным на основе кириллицы (как писал граф А.К. Толстой, «Мы будем тискать, тискать / В российский облик всех!»), а теперь опять вернулись к латинице… А с каким сладостным рвением совсем недавно была на корню пресечена Государственной Думой попытка Татарстана снова ввести у себя латиницу! (Пользуясь которой, там, кстати, писали – как и в Узбекистане – с 1927 по 1939 год…) И примеров таких, как поется в известной арии, mille e tre[245]. Повторяю: алфавит – это политика; всегда.
Но если ото всякой политики отвлечься, как же все-таки прекрасна кириллица и до чего же не хотелось бы – вослед западным славянам – переходить на латиницу, скольких бы преимуществ это ни сулило! Что поделать, если
…я душой Матерьялист, но протестует разум, –как точно, хотя и совсем по другому поводу заметил прекрасный наш поэт Давид Самойлов.
Что ж, остается признать: операция «Азбука» удалась – как, может быть, ни одна другая в истории.
Глава 9. Не ведая стыда
Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда…
Анна АхматоваАприорный герой
Если как следует покопаться в памяти, таких отыщется немало: мы точно знаем, что они – герои, но понятия не имеем, почему, собственно? что же они совершили? какую жизнь прожили? как оценивали их современники? Относится к их числу и тот, о ком пойдет речь, – Игорь Святославич, князь северский (а под конец жизни – князь черниговский), чьему походу на половцев посвящено самое древнее (точнее, самое древнее из дошедших до нас) произведение русской художественной литературы – «Слово о полку Игореве».
Поскольку впервые все мы сталкивались с ним на школьной скамье, то для начала давайте и обратимся к учебнику – это тем важнее, что, как ни посмотри, а основы отношения к миру (и в том числе – к историческим персонажам) закладываются именно в годы, проведенные за партой.
Итак, заглянем в учебник: «С небольшими силами, не сговорившись с киевским князем Святославом, Игорь Святославич Северский, очертя голову, „не сдержав юности“, как о нем говорит летопись, отправился в далекий поход на половцев, замыслив дойти до берегов Черного моря и вернуть Руси далекие земли у Керченского пролива. <…> Игорь жаждет свободы, готов смело защитить родную землю: „лучше ведь убитым быть, чем плененным быть“. <…> Игорь „поострил сердце свое мужеством“ и повел „храбрые полки на землю половецкую за землю Русскую“. <…> Но молодым князем руководит не только патриотизм, а и честолюбие, не только желание независимости, а и азарт покорения врагов»[246].
А теперь предположим, что в более зрелые годы вы, заинтересовавшись нашим героем, решили узнать о нем побольше и обратились к авторитетам. Вот что, например, пишет о нем академик Лихачев: «Совесть государственного деятеля, совесть князя – это то самое, что бросило и героя „Слова о полку Игореве“ – князя небольшого Северского княжества Игоря Святославича в его безумно смелый поход. С небольшим русским войском Игорь пошел навстречу верному поражению во имя служения Русской земле, побуждаемый к этому своей проснувшейся совестью одного из самых беспокойных и задиристых князей своего времени… В 1184 г. объединенными усилиями русских князей под предводительством Святослава Всеволодовича Киевского половцы были разбиты… Однако Игорь Святославич Северский не смог участвовать в этом победоносном походе: поход начался весной, и гололедица помешала его конному войску подоспеть вовремя. По-видимому, Игорь Святославич тяжело переживал эту неудачу: ему не удалось доказать свою преданность союзу русских князей против половцев, его могли заподозрить в умышленном уклонении от участия в походе, как бывшего союзника Кончака. Вот почему в следующем, 1185 году Игорь, „не сдержав юности“ – своего молодого задора, без сговора со Святославом и Рюриком бросается в поход против половцев… Высокое чувство воинской чести, раскаяние в своей прежней политике, преданность новой – общерусской, ненависть к своим бывшим союзникам – свидетелям его позора, муки страдающего самолюбия – все это двигало им в походе».
Иллюстрация к «Слову о полку Игореве».
Гравюра Владимира Фаворского (1954)
Воистину герой! Рыцарь без страха и почти без упрека (в крайнем случае – так, по мелочи…), вполне достойный вышеприведенных и всех прочих – причем весьма многочисленных! – панегириков.
Хочу сразу поставить точку над i: речь пойдет исключительно о личности князя Игоря как персонажа исторического и литературного, но никоим образом не о «Слове» и его авторе – сколь бы ни была интересна и привлекательна эта последняя тема, она, увы, лежит за рамками нашего сюжета.
Личность же из анализа известных фактов встает для своего времени, может, и достаточно типичная, однако нимало не симпатичная.
Но прежде чем приниматься за портрет, давайте беглыми штрихами наметим тот
Исторический фон,
на котором он предстанет затем нашему взору.
Как я уже отмечал во второй главе, Киевская Русь представляла собой семейное предприятие дома Рюриковичей, вследствие чего все князья доводились друг другу родней, а все их междоусобицы представляли собой сведение семейных счетов, равно ожесточенных и непредсказуемых. Причем если поначалу братоубийственные войны преследовали цель объединения земель в руках великого князя киевского, то есть продолжения строительства заложенной Рюриком раннефеодальной державы, то после Ярослава Мудрого (помните, злого гения несчастного Святополка?), весьма немудро поделившего земли между сыновьями, процесс пошел в обратном направлении. Хотя князья-христиане уже не могли похвастать таким обилием потомства, как их славный предок Владимир I Святой, до своего крещения в Корсуни наплодивший детей, как говорили в те дни, «без числа», все равно Рюриковичей становилось слишком много; во времена князя Игоря их насчитывалось до полусотни, а ведь каждому нужно было собственное княжество, пусть даже самое захудалое. Все они происходили от Владимира Красное Солнышко (последний Ярополчич, Святополк, как вы помните, погиб, а с ним пресеклась и эта ветвь рода) и делились на линии, каждая из которых называлась по имени родоначальника – Ольговичи (к ним относился и наш герой), Мстиславичи и так далее. В результате через несколько десятилетий после Ярославовой смерти на Руси появились даже князья «без стола», обладавшие статусом, но не вожделенным уделом. Ну как тут не воевать?
Раздробление Руси на десятки враждующих между собой независимых княжеств нельзя рассматривать исключительно как трагедию страны. Трагедия, разумеется, наличествовала – Русь была не способна объединиться даже перед лицом серьезной опасности, отчего в скором времени и рухнула перед монголами, хотя объективно, между прочим, была намного сильнее. Но в то же время процесс сложения независимых княжеств отражал бурное экономическое и социальное развитие страны. В считанные десятилетия она стала той Гардарикой, то есть Страной городов, какой знали ее скандинавы. Экономические интересы города и области, над которой этот город господствовал, были для населения куда важнее интересов Руси в целом. Попытка объединения, предпринятая ранними Рюриковичами, потому и провалилась, закончившись памятным по учебнику истории «периодом феодальной раздробленности», что не имела под собой реальных экономических предпосылок. Да и психологических, кстати, тоже – население русских земель пока не ощущало себя единым народом; и, замечу, долго еще не будет ощущать – большинство историков сходятся в том, что русское национальное самосознание родилось в горниле Куликовской битвы.
Осознание Руси как общности было тогда уделом единичных мыслителей – поэтов, вроде автора «Слова о полку Игореве», и духовных пастырей, ощущавших трагичность междоусобных раздоров. Однако шло это осознание не от стремления к некоему идеалу, даже не от тоски по Золотому веку времен Владимира Крестителя, а скорее, от противопоставления Руси и Великой степи.
Была Киевская Русь, состоявшая из больших и малых княжеств с традиционным центром – Матерью городов русских – и с признанием старшинства того князя, который занимал киевский престол (правда, к середине XII века это уже никоим образом не гарантировало великого князя киевского от нападений со стороны жаждущих власти и славы сородичей).
А рядом с Киевской Русью, прочно вросшей в землю Восточной Европы фундаментами своих белокаменных храмов, башнями и стенами городов, раскинулась Великая Степь, начинавшаяся там, где кончались пределы Рязанского, Черниговского и Киевского княжеств. Степь была враждебна – очередное проявление извечного конфликта земледельца и кочевника. Но к враждебности этой следует относиться очень осторожно – слишком уж непроста и неоднозначна она была.
В интересующее нас время Великая Степь была Полем Половецким – по имени народа, сменившего здесь еще недавно великих и грозных, а ныне сгинувших без следа хазар. Около двух столетий половцы соседствовали с Русью, участвовали в междоусобицах русских князей, ходили с ними на Венгрию, Польшу, Волжскую Булгарию, выдавали за них своих дочерей… Об руку с русскими дружинами встали они против монголов в битве на Калке – и бежали, разбитые, рассеянные, вроде бы переставшие существовать, но затем, как отмечает археолог, интереснейший историк (в частности, автор очень оригинальных исследований «Слова о полку Игореве») и великолепный писатель Андрей Никитин, снова возникли на исторической арене Восточной Европы – сначала под именем кипчаков, а после насильственной исламизации в XV веке – под именем казанских (слившись здесь с родственным тюркским народом – волжскими булгарами), астраханских и крымских татар.
Увы, известно о половцах не слишком много. Русские летописи объявляют их «погаными» (от латинского paganus – язычник), но теперь[247] мы уже знаем, что действительности это не соответствует: по преимуществу половцы были христианами-несторианами (что, разумеется, куда хуже, чем язычники, ибо церковь всегда боролась с еретиками, схизматиками и прочими инославными намного яростнее, чем с иноверцами). Это обстоятельство, кстати, объясняет частые династические женитьбы русских князей на половчанках, тогда как с представителями прочих кочевых народов подобные браки не заключались практически никогда.
Вопреки распространенным утверждениям об исконной враждебности половцев, которые широко распространены еще и сейчас, вследствие чего многие исторические труды твердят о постоянной «половецкой опасности» и борьбе с нею отважных русских князей, еще более полувека назад один из самых глубоких исследователей истории половцев Д.А. Расовский писал «Русская историография несколько преувеличила значение боевой встречи Руси и половцев и в бесплодных и, в сущности, безопасных для существования Руси войнах ее с половцами видела серьезный натиск азиатского Востока на форпосты европейской цивилизации. <…> Взгляд этот ошибочен. <…> За мелкими пограничными войнами не было замечено, что настоящего наступательного движения на Русь у половцев никогда не было и, добавим сейчас же, быть не могло из-за нежелания половцев выходить из степей и расширять свою территорию за счет лесостепной или лесной областей. Половецкие войны были статическими, а потому и не могли серьезно угрожать Руси…». Половцам не нужны были русские города – отправляясь походом куда бы то ни было, они неизменно возвращались в родные степи, прерывая даже военные действия, как только наступала пора сезонных перекочевок. Более того, летописи свидетельствуют, что порою именно степные родственники склоняли русских князей к установлению мира на Руси и к отказу от усобиц. Так что говорить следует не о войне, а о симбиозе двух народов, двух культур, причем постепенно переплетение русско-половецких государственных и торгово-экономических интересов становилось все прочнее. Хотя, разумеется, любители пограбить соседей неизменно находились как с той, так и с другой стороны. Подобно всем кочевникам, живущим натуральным хозяйством и торговлей скотом да «живым товаром», половцы видели в набегах и войнах естественную норму жизни. Страдающей стороной в этих конфликтах являлись как русские – горожане и крестьяне, так и половецкие пастухи, но никак не князья и ханы, сознававшие свое единство. Многие из них, как уже говорилось, давно породнились, и в тяжелую минуту князья звали на выручку половецких ханов и наоборот[248]. Именно по этой причине по зову степных союзников русские князья[249] выступили на их защиту против монголов в трагическом 1223 г. – половецкими воинами руководили тогда Котян-хан и Юрий Кончакович – сын того самого Кончака из «Слова о полку Игореве»; там, на реке Калке (совр. р. Калец), он и сложил голову…
Традиционная формула призвания князя на киевский престол гласила: «Хочет тебя вся русская земля и все черные клобуки». Черные клобуки – то есть каракалпаки – были своего рода гвардией киевских князей; они постоянно жили в Киеве и активно участвовали в политике государства. Обитали на Руси и другие кочевые племена – берендеи и торки, причем последние заселяли пограничье со Степью, неся там сторожевую службу. Русский язык был в ходу у половцев, как и половецкий – у русских, даже в княжеских семьях.
А теперь, припомнив все это, обратимся, наконец, к нашему герою и начнем с того,
Что было до
печально известного похода 1185 года, легшего в основу «Слова о полку Игореве».
Игорь Святославич, князь Северский, а потом и Черниговский, по крови был наполовину половцем. Заключая мир с кочевниками, великий князь киевский Владимир Мономах скрепил его сразу несколькими браками, и, как сообщает летопись, «Володимер <…> створиша мир и поя Володимер за Юргя[250] Аепину дчерь, Осеневу внуку, а Олег поя за сына Аепину дчерь, Гиргеневу внуку». Сын Олега – это Святослав, сам кстати, сын половецкой хатуни[251], дочери Тугра-хана, и отец нашего героя, Игоря; «Аепина дчерь, Гиргенева внука» – его мать. Их первенец Олег родился в тридцатых годах; вторым был Игорь (в крещении – Георгий) – он увидел свет 3 апреля 1151 (или, по другим данным, 1150) года; вскоре появился и третий сын – Всеволод.
В 1164 году князь Святослав умер, и тринадцатилетний – по тем временам уже почти взрослый – Игорь остался сиротой. Главенство в роде Ольговичей должно было перейти к его старшему брату Олегу, но черниговский стол захватил племянник покойного, Святослав Всеволодович, вследствие чего законному наследнику пришлось вместо черниговского довольствоваться северским княжением. Однако Новгород-Северский, хоть и невелик город, а все-таки являлся столицей большого – пусть и подчиненного Чернигову – Северского княжества[252]. Зато Игорю со Всеволодом в ожидании собственных уделов предстояло лишь уповать на щедроты своего двоюродного брата, нового черниговского князя.
Впрочем, двумя годами позже, так никаких щедрот и не дождавшись (да и что, в сущности, мог предложить юным кузенам Святослав Всеволодович?), братья решили получить свое силой, собрали ополчение и двинулись на Чернигов. Увы, из предприятия этого ничего не вышло. Святослав Всеволодович не зря принадлежал к Ольговичам, которые остались в истории не только как род коварный и злобный, но как род, поддерживающий самые тесные связи со Степью. Он призвал на подмогу союзных половцев, и те хорошо пограбили земли Новгорода-Северского. Восстановить шаткий мир удалось лишь стараниями великого князя киевского Ростислава Мстиславича.
Наступило короткое затишье, отмеченное лишь женитьбой нашего героя на княжне Ефросинье, дочери галицкого князя Ярослава Осмомысла – брак этот подготовил еще покойный Святослав Ольгович, желавший тем самым укрепить союз Чернигова с Галичем. И хотя черниговское княжение сыновья Святослава теперь утратили, прозорливый Ярослав понимал, что молодые Ольговичи себя еще покажут, а потому отказываться от уговора не стал.
Путь войска Игоря Святославича Новгород-Северского в Поле половецкое
(вариант проф. Кудряшова)
Путь войска Игоря Святославича Новгород-Северского от Сальницы до места сражений у рек Сюурлик и Каялы
(вариант проф. Кудряшова)
В 1167 г. умер великий князь киевский Ростислав Мстиславич, и Мать городов русских призвала на стол Мстислава II Изяславича, князя волынского, который, естественно, с удовольствием откликнулся на зов, легко проигнорировав законных наследников – Рюрика и Давида, сыновей Ростислава. Новый великий князь, естественно, начал и новую политику – прежде всего, в отношениях со Степью, которой он решил продемонстрировать силу. Половцы готовили тогда поход на Киев, и Мстислав II, собрав под знамена ополчения русских княжеств и союзников-степняков, – главной ударной силой этого многочисленного и разношерстого воинства являлись торкская конница под началом Бастея, берендеи и черные клобуки, – нанес превентивный удар: начатый 2 марта 1168 года поход, который завершился сокрушительным поражением половцев. В Киев были привезены несметно богатые трофеи, вследствие чего новая политика Мстислава II разом обрела популярность.
Игорю не повезло: по каким-то причинам он не принял участия в этом походе. Так что первое появление нашего героя на военно-политической арене состоялось годом позже. И похоже, принятое им тогда боевое крещение определило дальнейшую жизнь.
Но сперва позволю себе небольшое отступление. Стольный град Киев, сохраняя в теории свой высокий статус, в действительности мало-помалу его утрачивал. С одной стороны, на протяжении большей части XII века этому немало способствовала беспрестанная борьба за тамошний – первый на Руси престол: только с 1146 по 1176 год на нем сменилось двадцать восемь человек, и мало кому из них удавалось удержаться на троне хоть несколько лет; случалось, князья правили и по нескольку дней… С другой стороны, наиболее перспективным и быстро развивающимся регионом стала северо-восточная, Залесская Русь с центром во Владимиро-Суздальском княжестве – там росли старые и рождались новые города, там проходили основные торговые пути, именно туда мало-помалу перемещался реальный центр Древней Руси[253]. Теперь там правил сын Юрия Долгорукого, великий князь владимирский Андрей Боголюбский. В отличие от отца, который активно боролся за киевский стол и даже провел на нем последние три года жизни[254], Боголюбский своих краев не покидал, в княжеских усобицах предпочитая роль кукловода.
В 1169 году он сколотил коалицию князей, недовольных расширением власти Мстислав II Изяславича и резким поворотом в отношениях со Степью. Войска одиннадцати князей, связанных с половцами кровным родством, – сыновья Долгорукого, Ольговичи, Ростиславичи, а с ними и сами «половецкие князи» – двинулись на Киев. В числе вождей сколоченного дипломатией Андрея Боголюбского войска были и братья Святославичи – Олег с восемнадцатилетним Игорем.
Рати сошлись под Вышгородом и в начале марта стали лагерем близ Кирилловского монастыря, после чего постепенно окружили весь город. Надо сказать, киевляне не привыкли выдерживать долгих осад и, как правило, быстро сдавались князьям, приходившим силой добывать высшую власть. На этот раз их хватило на три дня, после чего, 12 марта, Мстислав II Изяславич бежал к себе, на Волынь, даже не успев захватить с собой жену и сына. И тогда случилось дотоле небывалое на Руси: впервые Киев был взят как вражеский город и на два дня отдан на разграбление войску, наполовину состоявшему из степняков. Были сожжены церкви, даже знаменитый Киево-Печерский монастырь; население большей частью перебили, остальных увели в плен; «были в Киеве на всех людях стон и тоска, – повествует летопись, – печаль неутешная и слезы непрестанные». В качестве трофеев из Киева вывозили не только частное имущество, но даже церковные иконы, ризы и колокола – разорение, явившееся генеральной репетицией Батыева. И часть всего этого окровавленного богатства потянулась в Новгород-Северский в обозе молодых Святославичей. С таким богатством возвращаться было не стыдно. И замечу: не знаю, как до того, но впредь, простите за тавтологию, Игорь Святославич жил и действовал, воистину «не ведая стыда».
А за их спинами остались руины Киева, окончательного лишившегося статуса Матери городов русских, столицы державы первых Рюриковичей; статуса никак юридически не закрепленного, но всеми осознаваемого; статуса исключительности и неприкосновенности, впервые нарушенной (помните?) во время войны Ярослава Мудрого со Святополком I. Со временем Киев, конечно, возродился, но отныне стал просто городом, как и любой другой, просто добычей, из которой всяк может урвать свою долю.
А на великокняжеском престоле в разоренном городе остался младший брат Андрея Боголюбского, Глеб Юрьевич.
Через несколько месяцев, собрав силы, изгнанный Мстислав II с черными клобуками, галицкими и туровскими полками двинулся к Киеву – любимому князю горожане открыли ворота без боя. Но Глеб Юрьевич бежал в Степь и месяцем позже вернулся, приведя войско половецкого хана Кончака. На этот раз он изгнал Мстислава окончательно – тот удалился в свой город Владимир-Волынский, где и отдал Богу душу в августе 1170 года. Впрочем, он хоть скончался своей смертью. А вот ставленник Боголюбского, Глеб Юрьевич, был отравлен благодарными киевлянами и умер 20 января 1171 года.
Не стану утомлять вас подробностями – от частой смены великих князей киевских ситуация, в сущности, менялась мало. Важно другое: во всех усобицах, во всех княжьих конфликтах имена молодых Святославичей встречаются теперь непременно. Так, например, узнав об убийстве брата, Андрей Боголюбский[255], собрал новый поход на Киев – пятидесятитысячную армию, в составе которой, конечно же, находился и наш герой. На этот раз поход обернулся неудачей – долгие осады, мелкие стычки, а в конце концов столь сокрушительное поражение, что Святославичи едва унесли ноги.
Но вот, наконец, 20 июля 1176 года великим князем киевским стал (и надолго, на целых восемнадцать лет!) Святослав Всеволодович Черниговский, двоюродный брат Игоря Святославича. Киев начал залечивать раны, нанесенные предыдущими войнами. В отличие от Мстислава II Изяславича, новый великий князь отношений с Полем половецким, не разрывал – союз со степняками был необходим для сдерживания главных соперников – Ростиславичей. Но в то же время он подготавливал некий политический противовес: в 1179 году он женил сына Всеволода Рыжего на дочери польского короля Казимира II из славной династии Пястов, а дочь выдал за Владимира Глебовича Переяславского, тем самым обеспечив себе еще двух надежных союзников.
Этот период был отмечен очередной авантюрой Святославичей: они напали на Стародуб и, от души пограбив окрестности города, взяли богатую добычу. Однако безнаказанным не остались: великий князь Святослав Всеволодович отомстил им, незамедлительно обрушившись на Новгород-Северский, так что братья со всей дружиной оказались в плену… Расклад получился дивный: стародубские трофеи пришлось вернуть, окрестности двух городов ограблены, пострадавших от разбоя и возмездия – тьма, выигравших – не существует в природе. Но такова уж, была природа Святославичей: если подворачивается возможность поживиться – вперед! А подумать и всегда успеется…
Вскоре, в 1179 году Святослав Всеволодович собрал в Любече съезд Ольговичей, на котором окончательно распределил уделы: родному брату Ярославу великий князь киевский отдал Чернигов, а двоюродному, Игорю – Новгород-Северский, поскольку его старший брат Олег только что умер. Наконец-то у двадцативосьмилетнего Игоря появился собственный удел, и он стал одним из влиятельных русских князей – гранича со Степью, небольшое по площади Северское княжество играло важную роль; основными его городами являлись Новгород-Северский и Путивль.
В последующие годы Игорь участвовал в новой большой войне, которую Святослав Всеволодович вел с коалицией князей во главе со Всеволодом Большое Гнездо. На стороне Святослава выступил и половецкий хан Кончак. Хитросплетения этой кровавой и разорительной (подобно всем княжьим усобицам!) войны весьма запутанны, главное же – не имеют прямого отношения к нашему повествованию. Но в конце концов, летом 1181 года, рати под совместным командованием тридцатилетнего Игоря Святославича[256] и половецкого хана Кончака расположились вдоль Долобской старицы Днепра. На них наступали степное войско черных клобуков и дорогобужский князь Мстислав Владимирович.
Натолкнувшись на кончаковский обоз, традиционно шедшие в авангарде черные клобуки забыли про всякую стратегию с тактикой и занялись грабежом. Игоревы дружинники и половцы (в этот раз выступавшие в роли полусоюзников-полунаемников) поспешили спасать добро. Черные клобуки не ожидали от противника такой прыти, растерялись, а потом кинулись отступать, да так рьяно, что по дороге буквально смели стан Мстислава и многих русских – в том числе и князя – заразили своим примером. Словом, началось общее отступление, скорее напоминавшее паническое бегство. Впрочем, панике поддались не все: «лучшие из мужей остались, – повествует летопись, – Лазарь воевал с полком Рюриковым, и Борис Захарьич с полком своего княжича Владимира, и Здислав Жирославич со мстиславовым полком». Перечисленные воеводы быстро навели порядок, так что кинувшиеся в преследование северская дружина и половцы разбились о строй лучников и латной пехоты; тяжелая кавалерия довершила дело. Разгром полный: большая часть Кончаково-Игорева воинства пала на поле боя (включая двоих половецких ханов, один из которых доводился Кончаку братом), многие оказались в плену – в том числе двое сыновей Кончака. Спасаясь, Игорь с Кончаком едва сумели пробиться к берегу, сесть в челн и уйти от погони по Днепру.
Иллюстрация к «Слову о полку Игореве».
Гравюра Владимира Фаворского (1954)
Кружным путем они добрались до Новгорода-Северского, лежавшего на пути половецкого хана к своим кочевьям. Судя по всему, им хватило времени многое обсудить – это было тем проще, что Игорь Святославич, напомню, был по крови (и, вероятно, по воспитанию и языку) на три четверти половцем. Обо многом можно лишь гадать, но одно известно точно: именно тогда была достигнута договоренность о браке княжича Владимира, Игорева первенца, с ханской дочерью.
Еще одно маленькое отступление. Жизнь Поля Половецкого была столь же сложна и сурова, как и в пределах Руси. Половцы отнюдь не были агрессорами, жившими исключительно набегами на киевские пределы. Им самим приходилось почти все время обороняться от наступавших с востока других кочевых народов (последний из таковых – монголы – в конце концов и привел половецкий народ к гибели). Ничуть не меньше им приходилось оберегать и северные границы своих владений – среди русских князей любителей пограбить вежи[257] половецкие всегда хватало. Летописью зафиксировано около двух десятков таких походов русских князей, причем они неизменно совпадают по времени с уходами половцев на Нижний Дунай – помогать болгарам в их войне с Византией. Русские дружины грабили оставленные без охраны вежи, захватывали пленников – слуг, женщин и детей – и отгоняли от стада. В свою очередь, каждый такой набег русских побуждал половцев к ответным действиям… Круг замыкался. И все это при том, что централизованного государства у половцев пока не было, устремления ханов зачастую оказывались взаимоисключающими, их личные пристрастия, интересы и амбиции делали невозможной выработку какой бы то ни было единой общеполовецкой политики. Многое свидетельствует, что Кончак – умелый политик и опытный воин – задумал стать во главе не только своего рода, но и половцев вообще.
Некоторое время после печально памятного разгрома 1181 года он мстил за погибшего брата и плененных сыновей, беспокоя киевские пределы набегами. Следует подчеркнуть: это была не пресловутая половецкая агрессия против Руси, не жажда поживиться в результате разбойничьих набегов, но естественная для того времени вообще, а для кочевников – в особенности, потребность в кровной мести, диктуемая обычным правом.
Однако цепь пограничных городов служила Киевской Руси достаточно надежным заслоном, и с каждым годом его становилось все труднее преодолевать. При этом сами пограничные города были небогаты – основная добыча таилась в глубине русских земель. И тогда Кончак решил взять Киев, для чего первым делом необходимо было реформировать армию. Хан выписал иноземных мастеров, построивших ему стенобитные орудия, катапульты[258], онагры[259], баллисты[260] и фрондиболы[261], без которых окруженного стенами города не взять. Параллельно Кончак боролся с самовластьем других половецких ханов, стараясь собрать воедино все силы Половецкого Поля. Затем его войска блокировали днепровский торговый путь – такого вызова русские князья не принять не могли.
Миниатюра к рассказу об Игоревом походе из «Повести временных лет».
XIII в.
И приняли – весной 1184 года великий князь Святослав Всеволодович созвал князей в поход на половцев. В этом военном предприятии участвовали многие – и, разумеется, Игорь Святославич (причем роль ему отводилась далеко не последняя) со своим младшим братом Всеволодом. Неуживчивый характер Святославичей не замедлил проявиться и на сей раз.
Едва армия начала приближаться к половецким кочевьям, как Игорь поссорился с переяславским князем Владимиром, требовавшим, чтобы ему определили место в авангарде: желание понятное – передовым частям всегда достается основная добыча. Замещавший в походе великого князя Игорь Святославич категорически отказал, в результате чего Владимир, оскорбившись, в самый разгар кампании покинул войско.
Посчитав, что беда невелика, Игорь повел свою поредевшую рать дальше. Вскоре, ко всеобщему удовольствию, повезло наткнуться на беззащитные половецкие вежи, где по сути без боя удалось взять и богатые трофеи, и немалый полон. Однако тут выяснилось, что стычка с Владимиром Переяславским, показавшаяся было незначительной, повлекла последствия куда как серьезные: гонец принес весть, что недовольный князь отправился отнюдь не восвояси, а решил в отместку за обиду пограбить Северскую землю – к конце-то концов, не все ли равно, откуда трофеи, чем русские хуже половецких? Он сжигал села, уводил пленных, разрушал городки…
Забыв про половцев, Игорь кинулся обратно, но не землю свою оборонять, а за ее разорение расплачиваться: взял, начисто ограбил и сжег дотла переяславский город Глебов.
И вышло, что в результате задуманного похода на половцев пострадали только два русских княжества.
Стремясь исправить положение, летом того же 1184 года сам Святослав Всеволодович собрал против половцев невиданную по масштабам армию, куда вошли войска многих князей – но только не северских[262]. Понять Игоря можно: авангардом в походе командовал князь Владимир Переяславский (добился-таки!). Понимая, как сложно сколотить достаточно представительную и многочисленную коалицию, великий князь киевский предпочел закрыть глаза на обиду родича, тем более что в чисто военном отношении выигрыш превосходил потерю.
Форсировав Днепр у Переволочны, объединенное русское войско двинулось в глубь степи. Вскоре авангард – дружина Владимира Переяславского и легкая берендейская конница – столкнулся с передовыми отрядами хана Кобяка. Половцы увидели, что русский отряд невелик, и кинулись на него. Владимир спешно послал гонца ко Святославу, чтобы поторопить главные силы, отстававшие на день пути, а сам, отразив атаку половцев, пускаться в преследование не стал. Соединившись с главными силами Кончака, хан Кобяк, видевший лишь относительно немногочисленный авангард, сообщил, что русских немного. В результате Кончак, ожидая легкой победы, столкнулся с настолько превосходящими силами, что понес жесточайшее поражение: только пленными половцы потеряли свыше семи тысяч (в их числе оказались хан Кобяк и двое его сыновей, а также некоторые другие ханы).
Тем не менее русский поход решил только тактическую задачу – освобождение днепровского торгового пути. Стратегическая же цель достигнута не была: Кончак понес серьезные потери, однако не был разгромлен, а пленение ханов лишь избавило его от конкурентов в борьбе за власть и, следовательно, способствовало объединению Степи. Вернувшись в свои кочевья, он продолжал готовить большой поход на Русь.
Вернемся, однако к нашему герою. Дома он все-таки не усидел и организовал собственный набег на степняков, рассчитывая безнаказанно пограбить их становища, пока войско Кончака связано действиями великого князя киевского. Однако ему не повезло: кочевий найти так и не удалось; лишь на обратном пути дружина Игоря столкнулась с отрядом отступающих после разгрома половцев (около четырех сотен сабель) и без потерь истребила его, срывая зло за собственную неудачу. Практического смысла в этом не было: много ли трофеев возьмешь с тех, кто бежит, спасая собственную жизнь?
В феврале следующего года переформированное войско Кончака двинулось на Русь. Конечной целью похода был Киев, где томились пленные ханы[263]. В обозе везли не только стенобитные, но даже стреляющие греческим огнем[264] орудия, которые соорудил ему некий беглый ромей. Летопись упоминает также о «луках, которые могли натянуть лишь пятьдесят человек» (по всей видимости, разумея под этим баллисты).
Далее последовали дипломатические маневры: зная что черниговские и северские князья не слишком-то ладят с Киевом, Кончак в обмен на нейтралитет гарантировал неприкосновенность их владений. Ярослав Всеволодович Черниговский согласился и отправил к Кончаку для переговоров боярина Ольстина Олексича. Узнав об этом, великий князь киевский письменно укорил брата за измену, но тот ответил, что уже дал Кончаку слово и нарушить его не может. Затем Святослав Всеволодович повелел нашему герою без промедлений собирать дружину и ополчение и выступать на соединение с войском, идущим навстречу половцам. Согласно летописи, получив этот приказ, Игорь объявил ближним боярам:
– Не дай Бог нам отказаться от похода на поганых! Поганые всем нам общий враг!
И, как верный вассал, тут же исполчился и выступил. Да вот беда: на берегах реки Суды его рать попала в такой густой туман, что, потоптавшись на месте, почла за благо вернуться. В своем исследовании «Слова о полку Игореве» академик Б.А. Рыбаков доказывает, что история с туманом – чистейшая отговорка: и то сказать, какой может быть туман в феврале? Да еще такой, чтобы войско заблудилось в нем, идучи с детства знакомыми дорогами? Трудно сказать, что в этом случае руководило князем Игорем: застарелая ли нелюбовь к великому князю, некогда лишившему Святославичей черниговского стола? союзнические и уже почти родственные чувства к Кончаку? или же хан пообещал за невмешательство нечто весьма ощутимое? Так или иначе, однако он остался в своем Новгороде-Северском.
А Святославу Всеволодовичу повезло: в степи повстречались купцы, видевшие, где разбило лагерь Кончаково войско. Нападение русских было внезапным, однако Кончак сумел увести войска с малыми потерями, оставив победителям лишь с таким трудом собранный парк стенобитных и огневых машин.
И вновь установилось прежнее шаткое равновесие сил. Решив нанести половцам окончательное поражение, великий князь Святослав всю весну провел в разъездах и переговорах, организовывая новую кампанию.
Злосчастный поход
А князь Игорь тем временем готовился к собственной: зная, что Кончак с войском еще в марте находился на левобережье Днепра, он полагал, что половцы, готовясь к новому походу на Русь, останутся там еще надолго. А значит, он сможет захватить беззащитные половецкие вежи и хорошо поживиться. К тому же, договорившись о мире, половцы не ждали нападения со стороны князя Игоря. Равно таясь от половцев и от собственного великого князя, Игорь собирал войска не у себя, в Новгороде-Северском, а в Путивле и пограничном Курске.
О дальнейшем академик Лихачев пишет: «23 апреля 1185 года, во вторник[265], Игорь Святославич Новгород-Северский, сын его – Владимир Путивльский, племянник – князь Святослав Ольгович Рыльский вместе с присланными от Ярослава Всеволодовича Черниговского во главе с Ольстином Олексичем дружинами… выступили в далекий степной поход на половцев без сговора с киевским князем Святославом. Откормленные за зиму кони шли тихо. Игорь ехал, собирая свою дружину. В походе у берегов Донца 1 мая, когда день клонился к вечеру, их застало солнечное затмение, считавшееся в те времена предзнаменованием несчастья…»
Позволю себе маленький (оставляя более пространные на потом) комментарий. Затмение-то и впрямь имело место, да только максимум его пришелся не на вечер, а на 15 часов 25 минут по киевскому времени, причем Луна закрыла только 80% видимого солнечного диска, так что все столь яркие описания «Слова» представляют собой поэтические преувеличения (при таком затмении общая освещенность примерно на уровне обычного пасмурного дня или даже чуть выше).
Но бог с ними – с затмением, со знамением… В любом случае рать мало-помалу все дальше углублялась в Поле Половецкое. Один из высланных вперед конных разъездов захватил пленника, от которого узнали, что половцам о продвижении Игоревой рати известно. Наконец за неширокой степной речкой показались половецкие кибитки и всадники, покидающие вежи, не вступая с русскими в бой. Младшие князья бросились в погоню и возвратились ко главным силам только вечером, заморив коней, но так никого и не догнав.
А теперь, пока русский лагерь спит, позволю себе еще одно отступление – о кибитках. При том слове воображение привычно рисует нехитрый и убогий возок. И – ошибается.
Половецкие вежи представляли собой настоящие передвижные городки. Рубрук[266] пишет, что они представляли собой огромные платформы на колесах (язык не поворачивается называть эти сооружения телегами, хотя в «Слове о полку Игореве» их именуют именно так) – ширина колеи достигала шести метров, а сама платформа была еще на добрых три метра шире. И на ней стояла огромная – девяти метров в диаметре – войлочная юрта. На перегоне каждый такой фантастический дом на колесах влекли 22 быка. А исчислялись они десятками (если кочевал небольшой род) или даже многими сотнями. Пищу готовили прямо на ходу, и над степью стлался пропитанный соответствующими ароматами дым. Жили половцы небедно – пограбить было что…
Однако на этот раз до дележа трофеев дело не дошло: на рассвете лагерь проснулся от топота тысячных отрядов. На беду оказалось, что основные силы Кончака и другого могучего половецкого хана, Гзы, оказались неподалеку. Узнав о походе русских, они в считанные дни настигли Игоря.
Русские полки начали пробиваться на север, но путь им преградили половецкие отряды. Началась жестокая сеча. День выдался жаркий, кони изнемогали без воды и быстро уставали. Однако к воде половцы не пропускали – лишь к вечеру измученные воины пробились к речке. Битва продолжалась и ночью. Перелом наступил утром следующего дня, 28 апреля, – после суток почти непрерывного сражения. Легкая конница союзных степняков пустилась в бегство, разрушив русский строй. Игорь Святославич поскакал за беглецами, но остановить и вернуть не смог. К полудню Всеволод и остатки войска сложили оружие. В плен попали сам князь Игорь, его брат, сын и пять тысяч дружинников. Мало кому удалось вырваться, но и этих счастливчиков преследовали и ловили отряды легкой половецкой конницы.
Узнав, что в плен попали русские князья, Кончак торжествовал. Во-первых, пленники – это выкуп. За Игоря половцы потребовали две тысячи гривен, за прочих князей – по тысяче, за воевод – по двести. Кроме того, после ряда понесенных половцами поражений обилие пленных позволяло рассчитывать на обмен. Во-вторых, с гибелью Игорева войска в русской обороне открылась брешь.
Правда, по этому поводу между ханами возникли разногласия. Гза хотел воспользоваться моментом и разгромить беззащитное Северское княжество. Кончак рассчитывал на большее – Святослав Всеволодович еще только собирает войска союзных князей, армия пока не готова, и можно нанести удар по Киеву. Так и не сговорившись, ханы повели свои полки в разные стороны.
Кончак осадил Переяславль. Князь Владимир – тот, обидчик и соперник Игоря, – с малыми силами предпринял вылазку. Половцы окружили его и так изранили, что дружинники еле живого внесли князя обратно в город, где он вскорости и скончался.
Узнав об этом, Святослав поспешил на выручку. Кончак снял осаду и повернул назад, по дороге буквально стерев с лица земли город Римов. Добыча была так велика, что хан повернул в степь.
Войско Гзы подошло к Путивлю, сожгло посады, разграбило окрестные села, хотя самого города взять и не смогло: вовремя подоспели полки сыновей великого князя киевского. Гза отступил за реку, увозя награбленное добро и пленных, а сына послал вверх по Сейму жечь прибрежные деревни. Тот увлекся грабежом, его настигли киевские войска, и он погиб.
Давно половцы не наносили такого удара Руси – русские рабы продавались теперь за бесценок, а перекупщики съехались в стан Кончака и с Кавказа, и с Волги. Правый берег Днепра Святославу еще удалось защитить, но левобережье было опустошено.
Вернувшись в кочевья, Гза встретился с Кончаком и, обуреваемый жаждой мести за погибшего сына, потребовал убить князя Игоря. Однако Кончак принимал Игоря скорее не как пленника, а как гостя: и дружба старая не ржавеет (особенно для степняка с его кодексом чести); и недавний (а может, и будущий!) союзник все-таки; и выкуп ожидается солидный (дружба дружбой, но кошелек-то врозь!); и свадьба дочери с княжичем Владимиром Игоревичем на носу…
Сколько Игорь пробыл в плену – предмет спора историков. Принято считать, что чуть более года[267]: в казне у княгини Ефросиньи Ярославны не хватало денег на выкуп, к тому же половина ее княжества была разграблена Гзой.
Узнав, что среди половцев зреет план убить его, Игорь склонился на уговоры некоего Овлура (в крещении Лавра), обещавшего организовать побег. Вместе с Лавром и несколькими слугами, преодолев за 2 дня верховой езды и одиннадцать дней пешего хода около 350 километров, они добрались до пограничного города Донца. «И оттуда пошел в свой Новгород… – сообщает Ипатьевская летопись. – Из Новгорода пошел к брату своему Ярославу в Чернигов, прося помощи. <…> Ярослав же обрадовался ему. И помощь дать обещал… Игорь же оттуда поехал в Киев к великому князю Святославу».
Дальнейшее можно описать очень коротко.
Великий князь киевский Святослав Всеволодович требует от Игоря публичного покаяния – и получает: «Вспомнил я грехи свои перед Господом Богом моим, ибо много убийств, кровопролитий учинил я в земле христианской, не пощадил христиан, а взял приступом город Глебов у Переяславля. Немало зла приняли тогда невинные христиане: родителей разлучили с детьми их, брата с братом, друга с другом, жен с мужьями их, дочерей с матерями их, подругу с подругой ее. Все были в смятении от плена и скорби. Живые мертвым завидовали, а мертвые радовались, что они, словно мученики святые, получили огнем испытание в сей глуши; старцы умерщвлялись, юноши получали лютые, жестокие раны, мужчин убивали и рассекали на части, а женщины терпели поругание. И все это совершил я…» И так – эпизод за эпизодом.
Здесь следует заметить, что для русского сознания факт покаяния всегда был намного важнее факта греха: распространенное присловье «не согрешишь – не покаешься, не покаешься – не спасешься» родилось исключительно в наших палестинах. Недаром народная песня[268] о Кудеяре, неповторимо исполнявшаяся Шаляпиным, начинается словами:
Жили двенадцать разбойников, У них Кудеяр атаман. Много разбойники пролили Крови честных христиан…и заканчивается:
Сам Кудеяр в монастырь ушел, Надел вериги тяжелые, А когда со святыми преставился, Мощи его по сей день чудеса творят…Логика, согласитесь, дивная!
Вернемся, однако, к нашему кудеяру. Похоже, поражение и позор несколько поумерили его пыл. В следующие годы Игорь Святославич не столько воюет, сколько постоянно укрепляет родственные связи с другими князьями: в начале октября 1188 его двенадцатилетний сын Олег обвенчан с дочерью князя Рюрика Ростиславича, а первенец Владимир – с Кончаковной. Двумя годами позже великий князь Святослав «ожени внука своего Давида Ольговича Игоревною».
В следующем, 1191 году Игорь возглавляет объединенные походы на половцев. В 1199 году после смерти черниговского князя Ярослава Всеволодовича этот стол по старшинству переходит к Игорю Святославичу Северскому.
После смерти великого князя Святослава Всеволодовича на киевском столе утвердился Рюрик Ростиславич, а его соправителем по «Русской земле» (то есть южной Киевщине), ненадолго стал его зять, Роман Мстиславич Волынский, праправнук Владимира Мономаха, получивший лучшие земли с городами Треполем, Торческом, Каневом и другими. Однако этой «лепшей волости» позавидовал Всеволод Большое Гнездо[269], желавший осуществлять контроль и над киевскими землями. Началась длительная распря между Рюриком, поддержавшим притязания Всеволода, и обиженным Романом Волынским. В конце концов Романа поддержали многие города, а также черные клобуки, и в 1202 году «отвориша ему кыяне ворота». Уже на следующий год новый великий князь киевский организовал поход в глубь Поля Половецкого «и взя веже полевеческие и приведе полона много и душь христьянских множество отполони от них, и бысть радость велика в земли Русьстей». Велика, замечу, радость – удачный грабеж…
Таким представлял себе князя Игоря живописец Константин Алексеевич Коровин (1861–1939), делая в 1890 г. эскизы костюмов к премьере оперы Бородина
Но Рюрик не собирался сдаваться: 2 января 1203 года в союзе с Ольговичами и «всею Половецкою землею» он взял Киев. «И сотворилося велико зло в Русстей земли, якого же зла не было от крещенья над Кыевом… Подолье взяша и апожгоша; ино Гору взяша и митрополью святую Софью разграбиша и Десятинную [церковь. – А.Б.]… разграбиша и манастыри все и иконы одраша… то положиша все собе в полон». Союзники Рюрика – половцы – изрубили всех старых монахов, попов и монашек, а юных черниц увели в свои становища. Впрочем, укрепиться в Киеве Рюрик не надеялся и, ограбив город, ушел в свой укрепленный Овруч.
Рассказываю об этом не из любви к подробностям, к делу прямого отношения не имеющим. Иногда история любит изящно закольцовываться. Как вы помните, начинал свои героические деяния наш герой, участвуя в 1169 году в разграблении Киева, вдохновленном Андреем Боголюбским. Последним же его делом в 1202 году стала работа по сколачиванию антикиевской коалиции, дипломатическая подготовка войны, вдохновляемой наследником Боголюбского – Всеволодом Большое Гнездо. Входил в эту подготовку и наем половцев, которым в качестве вознаграждения было даровано право безнаказанно грабить Мать городов русских.
Правда в самом походе Игорь Святославич принять участия уже не смог – накануне начала военных действий он умер в Чернигове, в последний год жизни предусмотрительно успев завести собственную летопись, попавшую впоследствии в киевский свод и представлявшую Игоря весьма благородным князем, непрерывно думающим о благе земли русской.
Князь Андрей Боголюбский, организатор разорения русскими князьями Киева.
Реконструкция доктора исторических наук М.М. Герасимова – антрополога, археолога и скульптора
Недоумения и разумение
А теперь вернемся к тому, с чего начинали. Академик Лихачев пишет[270]: «Совесть государственного деятеля, совесть князя – это то самое, что бросило героя „Слова о полку Игореве“ – князя небольшого Северского княжества Игоря Святославича в его безумно смелый поход. С небольшим русским войском Игорь пошел навстречу верному поражению во имя служения Русской земле, побуждаемый к этому своей проснувшейся совестью одного из самых беспокойных и задиристых князей своего времени… В 1184 г. объединенными усилиями русских князей под предводительством Святослава Всеволодовича Киевского половцы были разбиты… Однако Игорь Святославич Новгород-Северский не смог участвовать в этом победоносном походе: поход начался весной, и гололедица помешала его конному войску подоспеть вовремя. По-видимому, Игорь Святославич тяжело переживал эту неудачу: ему не удалось доказать свою преданность союзу русских князей против половцев, его могли заподозрить в умышленном уклонении от участия в походе, как бывшего союзника Кончака. Вот почему в следующем, 1185 году Игорь, „не сдержав юности“ – своего молодого задора, без сговора со Святославом и Рюриком бросается в поход против половцев… Высокое чувство воинской чести, раскаяние в своей прежней политике, преданность новой – общерусской, ненависть к своим бывшим союзникам – свидетелям его позора, муки страдающего самолюбия – все это двигало им в походе. Смелость, искренность, чувство чести столкнулись в характере Игоря с его недальновидностью, любовь к родине – с отсутствием ясного представления о необходимости единения, совместной борьбы. Игорь в походе действовал с исключительной отвагой, но он не подчинил всю свою деятельность интересам родины, он не смог отказаться от стремления к личной славе, и это привело его к поражению, которого еще не знали русские». Это, если угодно, точка зрения равно общепризнанная, общепринятая и официальная.
Всякий, прочитавший конспективно изложенное выше жизнеописание нашего героя увидит множество поразительных несовпадений. Не стану утомлять полным перечнем, но вот хотя бы некоторые.
Итак, в «безумно смелый поход» нашего героя бросила совесть? Тогда всякий выходящий на большую дорогу путничков пограбить – человек на редкость совестливый…
Гололедица помешала его конному войску подоспеть? В летописях, правда, говорится о тумане… Конечно, мелкая подтасовка делает причину возвращения Игоревой рати в Новгород-Северский несколько убедительнее, но все равно, подозревать князя в «умышленном уклонении от участия в походе» основания имелись – как вы могли убедиться, он неоднократно оставлял киевских князей один на один с половцами.
Ну, а насчет «не сдержав юности» – так оно и вовсе смешно: тридцатитрехлетний по тем временам считался мужем не только не юным, но и не молодым даже, а вошедшим в пору зрелости…
Насчет чести княжеской тоже возникают вопросы. Вот, например, эпизод с бегством из стана Кончака, когда прошел слух, что «придут половцы с войны и перебьют они всех (!) князей и всех (!) русских». Что же делает наш герой? Бежит, нимало не заботясь о судьбе оставшихся в плену брата, племянника и сына. Кстати, с точки зрения половецкого кодекса чести, более строгого, нежели русский, побег из плена до внесения выкупа представлялся поступком человека, не только не имеющего чести и совести, но и не ведающего стыда. Но Игорь таков и есть. Недаром автор «Слова о полку Игореве» устами великого князя киевского Святослава Всеволодовича называет поход Игоря нечестным: «нечестно одолеше, бо нечестно кровь погану пролиясте» («нечестно вас одолели язычники, ибо сначала вы сами нечестно пролили языческую кровь»).
И посему совершенно неудивительно, что академик Рыбаков пришел к печальному выводу: «Игорь не был борцом за Русскую землю и действовал преимущественно в своих интересах». В другом месте, комментируя поход, предпринятый Игорем Святославичем в Поле Половецкое в 1184 году он же пишет: «Не общерусская оборонительная борьба и даже не защита собственных рубежей, а лишь желание захватить половецкие юрты с женами, детьми и имуществом толкало князя на этот поход – своего рода репетицию будущего похода 1185 года. И действующие лица в этой репетиции те же самые: Игорь, буй тур Всеволод, Святослав Ольгович и княжич Владимир».
А Олжас Сулейменов[271], прекрасный поэт и автор блистательного исследования «Слова» сформулировал то же самое не столь академично и более эмоционально: «Страшный враг, ужас и проклятие Руси – не половцы, а скорее князья, подобные Игорю. Это они “несут розно русскую землю”, кричат летописи. Это они приводят половцев или провоцируют их набеги. Ученые, оправдывая Игоря, еще более усложняют обстановку… И в конце работы может выясниться, что икона-то висит на стенке неверно, и изображен на ней не бог Игорь, а живой человек с дьявольскими чертами».
И тогда встают два вопроса. Во-первых, почему же именно поход князя Игоря избрал сюжетом неизвестный нам по имени, но безусловно талантливый автор «Слова о полку Игореве»? И во-вторых, почему в сегодняшнем массовом представлении он остается символом борьбы Руси с неумолимой внешней угрозой, героем-патриотом, рыцарем без страха и упрека?
От первого проще всего было бы отмахнуться, сославшись на слова Анны Ахматовой, поставленные мной в эпиграф к этой главе: в конце концов даже гениальные стихи (трактуя это понятие расширительно, как произведение искусства вообще) и впрямь способны произрастать из любого сора. Но можно и копнуть поглубже.
«Слово» – произведение художественное, авторское, и, следовательно, пронизано авторским же отношением к сюжету и герою; в отличие от летописи, где автор также несвободен от своих (и не только своих) воззрений и симпатий, оно даже не претендует на беспристрастность и фактографическую точность. Вот лишь один пример последнего.
Помните, мы говорили о солнечном затмении и нестыковке дат? Современные исследователи потому и заставляют князя Игоря отправиться в поход 23 апреля, отдавая безусловное предпочтение единственному свидетельству «Киевской повести» против всех остальных источников, чтобы в полном соответствии с текстом «Слова» 1 мая он мог стать свидетелем этого астрономического дива. А ведь Ипатьевская летопись точно указывает, что Игорь потерпел поражение «во втору седмицу (т.е. второе воскресенье) Пасхи», – если учесть, что в 1185 году Пасха пришлась на 21 апреля, то «втора седмица» – это 28 апреля, так что затмением князь Северский любовался уже в плену… А в действительности автор «Слова» просто для вящего эффекта «передвинул» затмение! И никакого греха в том нет – Александр Дюма, скажем, на несколько лет передвинул осаду Ла-Рошели, чтобы участниками ее могли одновременно стать д’Артаньян и Атос – и никому не приходит в голову осуждать за это писателя. Вольное обращение с фактами в данном случае является только свидетельством: перед нами не хроника событий, а произведение художественной литературы. И главное в нем – не описание деяний князя Игоря, а вывод: нет для страны беды большей, чем княжеские которы. Если хотите, это своего рода роман-предупреждение[272], только не фантастический, как это было принято в XX столетии, а исторический.
И следовательно, князь Игорь – не герой, но антигерой. Если встать на такую точку зрения, сразу становится понятным проступающее иной раз ироническое отношение к нему автора. Вновь возвращаю вас к началу – помните фразу из учебника: «отправился в… поход на половцев, замыслив дойти до берегов Черного моря и вернуть Руси далекие земли у Керченского пролива»? Это из «Слова» почерпнуто, не из летописи. А теперь попробуйте представить, как с теми силами, которыми Игорь Святославич располагал, столь амбициозный и дерзновенный замысел осуществить. Это ж – дайте мне два взвода, и я вам пол-Европы завоюю! Причем не только мы нынче умные – первые читатели и слушатели «Слова» получше нас понимали…
Признаюсь, меня долго примирял с личностью Игоря Святославича знаменитый «Плач Ярославны». Выходит, было что-то в этом человеке, если автор «Слова» вложил в уста его жены столь проникновенные слова? Но потом и это разъяснилось: Андрей Никитин доказал, что «Плач» – включенная в соответствии с литературными нормами и традициями XII века вставка из произведения более раннего, из того самого легендарного Бояна, и принадлежит действительно Ярославне, только совсем другой – Елизавете, дочери Ярослава Мудрого[273].
А теперь перейдем ко второму вопросу. Каким же чудом антигерой превратился в XIX–XX веках в героя?
Старый екатерининский вельможа, известный ценитель и коллекционер древних рукописей, тайный советник граф Алексей Иванович Мусин-Пушкин раздобыл рукопись «Слова» в конце XVIII века и опубликовал в 1800 году. Это было время всеобщего стремления к поиску славного прошлого, достойного великой Российской империи. Антигерои никого не интересовали, зато герои были очень даже нужны. Так «Слово о полку Игореве» и прочитали[274]. И читали весь следующий век, прошедший под знаком славянофильства и обращения к корням. А этим направлениям русской мысли тогда (как, впрочем, и сейчас) равно дороги и даже жизненно необходимы подтверждения двух тезисов: во-первых, что Русь изначально и вечно находилась во враждебном окружении (отсюда и теория о половецкой угрозе); во-вторых, русский героизм всегда превосходил все прочие.
Павел Захарович Андреев (1874–1950) в роли князя Игоря в одноименной опере А. Бородина (1912 г.)
Хотя в то время, конечно, сам текст знали только немногочисленные историки, антикварии, любители изящной словесности, список (отнюдь, замечу, не исчерпывающий – так, навскидку) все равно получается внушительный. На современный русский язык «Слово о Полку Игореве» переводили И.И. Козлов, В.А. Жуковский, А.Н. Майков, К.Д. Бальмонт (а позже, уже в прошлом столетии – Н.А. Заболоцкий, В.И. Стеллецкий, И.А. Новиков, Г.П. Шторм, С.В. Шервинский, А.К. Югов, И.И. Шкляревский). Оно так или иначе упоминается у А.Н. Радищева, А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, К.Ф. Рылеева, Н.М. Языкова, А.Н. Островского, позже – у А.А. Блока и И.А. Бунина. К нему обращались такие художники как В.М. Васнецов, В.Г. Перов, В.А. Фаворский… Перечисление длинное, но красноречиво свидетельствующее о масштабах влияния «Слова» на умы и души. Особенно это относится к опере Александра Порфирьевича Бородина, либретто для которой написал, замечу, Владимир Васильевич Стасов – художественный и музыкальный критик, историк искусства, почетный член Петербургской АН. И еще – к наиболее популярному стихотворному переложению «Слова», сделанному одним из главных поэтов послепушкинского периода и (что немаловажно) чиновником-патриотом (по оценке «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона») Аполлоном Николаевичем Майковым.
Их совместными усилиями волшебная сила искусства и победила правду истории.
Сокрушаться по этому поводу не стоит – пусть из сора, но сколько же выросло блистательных произведений! Но разве от знания исторической правды хуже звучит бессмертная ария «О дайте, дайте мне свободу!..»?
Однако – и это не резонерство мое, но глубокое убеждение – знать истину все-таки необходимо.
Владимир Киняев (род. 1929) в роли князя Игоря в одноименной опере А. Бородина
(Мариинский театр, 1967 г.)
Глава 10. Творец небылого
И с честной поссоритесь вы стариной,
И, предкам великим на сором,
Не слушая голоса крови родной,
Вы скажете: «Станем к варягам спиной,
Лицом повернемся к обдорам![275]
А. К. ТолстойПредтеча дома Даниловичей
Александр Невский
(мозаика мастерской М.В. Ломоносова, XVIII в.)
Александр Ярославич по прозванию Невский – тот, к кому (через младшего из сыновей, Даниила) восходит первый дом великих князей московских и – впоследствии – государей всея Руси, начиная с Ивана I Калиты и кончая несчастным сыном Ивана IV Грозного, Федором Иоанновичем, тот самый дом Даниловичей, о котором мы уже вели речь в шестой главе, посвященной Борису Годунову. Волею отца, князя Ярослава Всеволодовича, Александр – удельный князь Переяславский; затем – приглашенный князь новгородский; по татарскому ярлыку – великий князь, сперва киевский, а потом владимирский. Прославленный государственный деятель, национальный герой, «солнце земли Суздальской», «защитник земли Русской», уже в конце XIII столетия причисленный православной церковью к лику святых – со всеми причитающимися по такому случаю житиями и чудесами. Его почитали не только Даниловичи (что для прямых потомков вполне естественно), но и династически никак не связанные с ними Романовы, причем в 1723 году Петр I даже повелел торжественно перевезти прах великого «предка» из Владимира[276] в Санкт-Петербург, в недавно построенную и специально для того предназначенную Александро-Невскую лавру[277], а на месте легендарной Невской битвы приказал воздвигнуть в честь святого церковь. Он же постановил отмечать память Александра Невского 30 августа – в день заключения победоносного Ништадского мира[278]. А вскоре, 21 мая 1725 года, Екатериной I был учрежден орден святого Александра Невского – один из высших в Российской империи. После революции он прекратил существование, однако во время Великой Отечественной войны образ победоносного полководца вновь оказался востребованным, и по рекомендации товарища Сталина Президиум Верховного Совета СССР указом от 29 июля 1942 года заново учредил орден Александра Невского – рельефное изображение княжеского лика помещено в центре покрытой рубиново-красной эмалью серебряной пятиконечной звезды…
В итоге едва ли не всякому нашему соотечественнику Александр Невский знаком со школьной скамьи – по одной из пятнадцати редакций житийной повести XIV века «О храбрости благоверного и великого князя», написанной при участии его сына Дмитрия Александровича и митрополита Кирилла; по беллетризованным жизнеописаниям; по историческим романам; по картинам Хенрика Семирадского, Николая Рериха и Павла Корина, наконец, по фильму Сергея Эйзенштейна[279] (все это, по счастью, в значительной мере избавляет меня от необходимости перед началом повествования напоминать основные факты биографии героя). Историки не перестают заниматься его разносторонней деятельностью, давая ей, замечу, достаточно противоречивые оценки.
Впрочем, более всего он известен двумя славными победами, одержанными в юности, – Невской битвой и Ледовым побоищем (которое, по мнению некоторых историков, ставит князя в один ряд с наиболее выдающимися полководцами мировой истории). «Триумфальные победы 1240 г. в Невской битве и 1242 г. на льду Чудского озера остановили неприятельское нашествие; остались неизменными и границы Новгородской земли», – пишет заведующий отделом славяно-финской археологии Института истории материальной культуры РАН доктор исторических наук А.Н. Кирпичников. Немало ветвей к лавровому венку князя прибавил также более поздний, менее общеизвестный, но столь же легендарный Северный (или, как его еще называют, Финский) поход.
Вот с этих баталий и начнем.
Невская битва
Казалось бы, что нового можно тут сказать? По учебникам, справочникам и энциклопедиям кочуют одни и те же почерпнутые из летописей факты. Вот их сухое и предельно сжатое изложение. Летом 1240 года шведы – возглавляемые то ли ярлом Ульфом Фаси, то ли его двоюродным братом Биргером Магнуссоном (зятем тогдашнего короля Эрика V Эрикссона, прозванного Леспе, то есть Картавым), то ли под совместным командованием обоих этих представителей славного рода Фолькунгов, – поднялись по Неве и стали лагерем при впадении в нее левого притока, Ижоры[280]. Отсюда Биргер направил Александру Ярославичу послание, вызывая новгородского князя на бой.
Тот, заручившись благословением новгородского архиепископа Спиридона, поспешил выступить «в мале дружине» (но по другой версии – и с некоторым контингентом новгородского ополчения). Так или иначе, 15 июля 1240 года под прикрытием утреннего тумана его воины внезапно обрушились на шведов и наголову разгромили неприятеля.
Особо отличились в бою шестеро поименно перечисленных: боярин Гаврило Олексич, который вознамерился было по шатким сходням въехать на коне на борт шведского корабля, но был сброшен в воду, оставшись притом невредимым (подвиг, согласитесь, эпический); некто Сбыслав Якунович неоднократно обрушивался на противника с топором; княжий ловчий Яков Полочанин бился мечом, заслужив тем личную похвалу Александра Ярославича; слуга последнего, Ратмир, пал израненным; новгородец Миша со товарищи потопил три (!) шведских шнеки[281]; наконец, дружинник Савва обрушил праведный гнев на шатер шведского предводителя и подрубил поддерживающие ни в чем не повинное сооружение столбы. Князь, разумеется, тоже не оплошал – он «…изби множество бещисленно их, и самому королеви[282] възложити печать на лице острым своим копием». Наконец, с теми, до кого не добрались воины Александра, разобрались вышние силы: «много множество избиенных от ангела Господня».
Биргеру с остатками своего отряда едва удалось спастись бегством в наступившей темноте. Побито супостатов было без числа[283] – телами рядовых воинов заполнили две обширные братские могилы, останками же более именитых загрузили аж два корабля[284]. Причем насколько именитых! Как сообщает Синодальная рукопись, «убиен бысть воевода их… Спиридон… и бискуп убиен бысть ту же…».
Войско же Александра, согласно новгородским и псковским летописям, потеряло в этом сражении до двадцати человек.
Этой-то великой победе Александр и обязан своим прозвищем – Невский.
А теперь давайте разбираться, потому что вопросов возникает, мягко говоря, немало.
Повторю: согласно первоисточникам, новгородские потери составили двадцать человек. Правда, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Владимир Андреевич Кучкин полагает, будто «летопись говорит лишь о потерях среди знатных <…> мужей, и названная ею цифра в двадцать человек оказывается не такой уж маленькой. Например, при взятии в 1238 г. Батыем Торжка было убито всего четверо знатных новоторжцев. В 1262 г. при штурме немецкого города Юрьева[285] русские полки потеряли двоих знатных воинов и т.д.» Увы, этот тезис не согласовывается с таким, например фактом: в числе павших на Неве упоминается некий Дрочило Нездылов, сын кожевника – особа куда как знатная… Так что двадцать человек – число, судя по всему, предельное. Тем более что Новгородская первая летопись скромно замечает: «Или менее, Бог весть». И добавляет: «Князь же Олександр с новгородци… придоша вси здрави в свояси, схранени Богом и святой Софией»… Вот так – четверо павших перечислены поименно, безымянных еще полтора десятка, но все притом вернулись восвояси во здравии. Впрочем, подобных несостыковок в этой истории хватает.
Так что оставим их без внимания, как справедливые, но неуместные в данном контексте рассуждения о ценности всякой человеческой жизни, и обратимся к опыту военной истории. Конечно, серьезный подсчет военных потерь начался, пожалуй, только в XVIII–XIX веках, однако о некоторых сражениях мы знаем достаточно подробно. Вот, например, в 1238 году произошло сражение с крестоносцами под Изборском (современный Старый Изборск, что в 30 километрах западнее Пскова); здесь псковско-новгородская рать потеряла от шестисот до восьмисот человек. 13 июля 1260 года на реке Дурбе большое войско крестоносцев (в него входили ливонские рыцари магистра Бурхарда фон Горнгаузена, тевтоны с орденским маршалом Генрихом Ботелем, ревельский отряд датского герцога Карла и войска местных комкуров) было наголову разгромлено литовцами князя Миндовга – погибли все предводители орденского войска, сто пятьдесят знатных рыцарей и множество кнехтов. Вторгшись в 1296 году в Индию, монголы в сражении при Лахоре потеряли около 12 000 человек. В 1304 году при Монс-ан-Певеле фламандцы были разбиты французской армией под командованием короля Филиппа IV Красивого и отступили, потеряв до 6000 человек. Примеров можно было бы привести и больше, однако и перечисленных, относящихся к далеко не самым крупным и кровопролитным сражениям XIII – начала XIV веков, на мой взгляд, вполне достаточно, чтобы стало ясно: на этом фоне вооруженное столкновение на Неве явно утрачивает привычный ореол яростной битвы.
Новгородцы и немецкие рыцари перед боем.
(рисунок по летописной миниатюре)
Маленький экскурс в область семантики. Само слово «битва» подразумевает вооруженные действия огромного размаха – таковы, скажем, битва при Грюнвальде, Бородинская битва, битва при Ватерлоо, Битва за Англию, Сталинградская битва… Согласитесь, к вышеописанным событиям слово это кажется малоприменимым. Однако усилиями десятков поколений летописцев, историков и литераторов словосочетания «Невская битва» или «битва на Неве» стали столь привычными, что смысловое несоответствие как-то проскальзывает мимо сознания.
Но вернемся к анализу самого события. Битва началась под прикрытием утреннего тумана. С точки зрения тактики – более чем логично. Однако в таком случае, чтобы шведы могли потом бежать под прикрытием темноты, сражение должно было продолжаться весь световой день (как, например, Куликовская битва). Да и вообще – откуда темнота? Ведь середина июля – это еще знаменитые петербургские белые ночи, когда
…не пуская тьму ночную На золотые небеса, Одна заря сменить другую Спешит, дав ночи полчаса…Приходится признать, что вопрос этот остается безответным. Более того, никто из историков вообще не обратил на это странное несоответствие ни малейшего внимания. Воистину прав был Денис Иванович Фонвизин: география – наука не дворянская!
Любопытно, что число шведских кораблей варьируется в разных источниках от трех до сотни[286]; таким образом численность отряда Биргера, исходя из вместимости кораблей, колеблется от полутораста до шести тысяч. То же и в отношении русских: одни утверждают, будто Александр располагал лишь «малой дружиной» (это не оценка численности, а термин: «малая» – или, иначе, «старшая» – дружина являла собой личную княжескую гвардию, составлявшую около 150 человек); другие – что при нем состояло 300 конных дружинников, 500 отборных новгородских конников и 500 пеших ополченцев; третьи – будто помимо дружины в распоряжении князя было новгородское ополчение, достигавшее то ли нескольких сотен, то ли нескольких тысяч пешцев, плюс ополчение ладожское (это еще несколько сотен), плюс местное, ижорское – еще минимум сотня, а то две. Прямо скажем, сплошной туман. И все это, замечу, опираясь на одни и те же летописи…
Не менее интересно, откуда могло взяться у шведского «воеводы» такое исконно скандинавское имя, как Спиридон. Ни в каких шведских источниках оно, разумеется, не фигурирует, зато, если помните, совпадает с именем новгородского архиепископа… Кстати, о лицах духовных. В Швеции было в то время семеро епископов: Ярлер из Упсалы, Лаурентиус из Линчепинга, Лаурентиус из Скара, Николаус из Стренгнеса, Магнус из Вестероса, Грегориус из Вехье и Томас из Або. И все они благополучно пережили 1240 год. Так какой же «бискуп убиен бысть»?
Есть и еще один вопрос, совершенно уже неожиданный. Помимо летописных источников историкам приходится пророй пользоваться и устойчивыми устными преданиями. Одно из таких записал литератор, краевед и историк-любитель Георгий Васильевич Торопов, уроженец села Усть-Ижора, представитель, по собственным словам, «древнего рода, обитавшего там на протяжении многих веков». Согласно этому «Ижорскому преданию» Александр Невский прибыл с дружиной в Ижору… за два дня до шведов. Как же быть тогда с дерзким вызовом Биргера, отправленным в Новгород уже из лагеря под Ижорой? Получается, князь поджидал противника, точно зная, где он высадится?
Ярл Биргер Магнуссон (средневековый портрет).
И где же знаменитый шрам?
В путанице с руководителем шведского похода разобраться проще. Поначалу все историки дружно говорили о ярле Биргере. Здесь приходится пояснить, что ярл – в данном случае не наследственный феодальный титул, а титул по должности, нечто вроде первого министра при короле Швеции. Не знаю, кто первым сказал «а» (возможно, историк И.П. Шаскольский), но кто-то сообразил, что в 1240 году Биргер Магнуссон еще не занимал этой должности; ярлом был в то время его кузен Ульф Фаси. А поскольку столь грандиозную армаду и возглавлять должно если не первое, так уж точно второе лицо в государстве, дружно стали числить в командирах похода именно его. Наиболее осторожные, как я уже упоминал, на всякий случай писали о совместном командовании. Да только горе-то – оно всегда от ума. Ярлом и вправду был в то время Ульф Фаси. Но и преуменьшать роль королевского зятя Биргера Магнуссона тоже никоим образом не стоит. Уже с тридцатых годов он был правой рукой короля во всех внутриполитических делах, а с 1241 года (и это уже после позорного поражения на Неве!) он заметно потеснил кузена и сосредоточил в своих руках также заметную часть дел внешнеполитических. В частности, не будучи ярлом, он возглавлял так называемый Второй крестовый поход в Финляндию. Так что на Неве был, разумеется, именно он. Вот только шрам на лице от копья Александра Невского тоже почему-то ни в каких рассказах о Биргере (а таковые до нас дошли) почему-то не фигурирует. А ведь надо сказать, боевыми шрамами в те поры принято было гордиться (подозреваю, именно тогда сложилось присловье: «Шрам на роже, шрам на роже для мужчин всего дороже»). Например, французский герцог Генрих де Гиз так и вошел в историю под прозвищем Меченого (а если буквально перевести, так Шрамоносца). И очень своей отметиной гордился. Вот и Биргер, полагаю, гордился бы. Если бы было чем.
И вот ведь какой реприманд неожиданный: не так уж часто случается, чтобы масштабное военное поражение обернулось для полководца не концом карьеры, а фундаментом для взлета: Биргер сосредоточивает в своих руках все больше власти и в конце концов становится-таки ярлом. А через десять лет после Невской битвы наследником бездетного Эрика V Картавого был объявлен королевский внук – семилетний сын ярла Биргера, Вальдемар I Биргерссон, который полтора десятилетия, до самой смерти отца, последовавшей в 1266 году, правил с ним совместно. Понятно, что избирая на царствование малолетнего Вальдемара I, в действительности избирали Биргера Магнуссона.
И еще: между домами Александра Невского и Биргера установились с тех пор добрые и тесные отношения. Именно с Биргером был достигнут договор об убежище на случай, если Александру из-за превратностей судьбы придется покинуть пределы Руси. Именно под крылом у Биргера скрывался от ханского гнева после неудачи антимонгольского восстания брат Александра – Андрей Ярославич. И так далее…
Остается загадкой и полное отсутствие упоминаний о битве на Неве в шведских источниках, хотя скандинавские хроники отличаются скрупулезностью в фиксировании любых деяний – безразлично, побед или поражений. Как отмечает известный датский историк и русист Д.Г. Линд, в шведской историографии Невская битва 1240 года не фигурирует вообще, порукой чему, например, ставшая классической современная книга Йеркера Розена и Стена Карлсона, выдержавшая с 1962 года немало изданий.
Печати Александра Невского (слева) и ярла Биргера (справа).
Интересно, скрепляли они договоренности, достигнутые во время встречи на Неве, или же соглашение было устным?
Все это наводит на парадоксальную мысль: Невской битвы не было вообще; место имело совсем иное событие.
Шведы действительно приходили – на трех кораблях, упоминаемых историками, наименее склонными к романтическим и патриотическим преувеличениям; было их 150–180 человек – обычный отряд владетельного сеньора, каковым и являлся королевский зять и будущий соправитель королевства. При впадении в Неву речки Ижоры, их, как заранее договорено было, ждали русские – сын великого князя владимирского (и будущий великий князь владимирский) новгородский князь Александр Ярославич с «малой дружиной». Но это была встреча не противников с приблизительно равными силами, а равных по статусу князей, решивших договориться о разделе сфер влияния. И договорились, притом весьма эффективно: на протяжении следующих трех с лишним столетий Русь со Швецией не воевала, если не считать неизбежных в любые времена мелких приграничных стычек – той «вялотекущей войны крепостей», о которой будет подробно рассказано в главе «Град, родства не помнящий». Зато – о чем мы, как правило, забываем! – в Смутное время русские города освобождали от поляков и передавали российскому ополчению Минина и Пожарского именно шведы под командой блистательного полководца Якоба де ла Гарди.
Это ли не величайший триумф дипломатии?
Откуда же взялась легенда о Невской битве? Очень просто: чтобы вернуть самоуважение, Руси, только что потерпевшей жесточайшее поражение от монголов, превращенной в данника Золотой Орды, позарез необходима была хоть какая-нибудь победа – пусть даже мифическая. И тонкий психолог Александр Невский это понял. Летописцы же талантливо изложили на бумаге княжескую версию происшедшего, сделав сотворенный Александром миф историческим фактом… Не забывайте, летописец ведь – не объективный наблюдатель, но фигура, вовлеченная во все современные процессы, и свои пристрастия да понятия у него, разумеется, есть. Как и свой патриотизм, причем отнюдь не русский (этот еще просто не успел родиться, он примерно через век-полтора начнет формироваться), а новгородский, псковский, владимирский, рязанский и так далее. Творит-то летописец в уединении монастырской кельи, но ведь над ним и настоятель имеется – наставник, редактор и цензор. А тому в свою очередь и с высшими церковными иерархами считаться приходится – епископом, архиепископом, митрополитом… Да и со светской властью тоже. Так что рождались летописи в борении сил и интересов – искать в них безукоризненно строгое изложение фактов столь же бессмысленно, как изучать историю по полному комплекту газеты «Правда». Но что написано пером, как известно, не вырубишь топором. В мозгах оседает и в историографии остается – «Правда» ведь тоже образ мыслей не одного поколения сформировала… Это ли не величайший триумф пропаганды?
Вы спросите, а как же с павшими в бою? Ну ладно еще, шведы – одних в безымянных ямах схоронили, других на корабли погрузили и то ли в Неве потопили (что само по себе чрезвычайно странно), то ли на родину повезли. Но русские-то? Не знаю. Могу предложить на выбор две версии. Первая: по случаю успешного окончания переговоров организовали что-то вроде турнира, а таковые без жертв обходятся редко, особенно если сходятся такие ярые бойцы, как славяне и потомки викингов. Вторая – по тому же случаю устроена была грандиозная попойка, завершившаяся членовредительством со смертельным исходом. Тоже в характере и, кстати, объясняет эпический подвиг Гаврило Олексича – на трезвую-то голову всякий поймет, что на полупалубной (!) шнеке верхом не навоюешься… Можно, наверное, придумать и третью версию. И четвертую. Оставляю это вам.
И последнее. Общепринято считать, что именно за победу в битве на Неве Александра Ярославича прозвали Невским. Однако впервые это прозвище встречается в источниках только с XIV в. – при жизни его именовали Александром Храбрым и Александром Грозны Очи. К тому же известно, что некоторые потомки князя также прозывались Невскими – не исключено, что таким образом за ними закреплялись владения в здешних местах. Историк же Игорь Данилевский и вовсе утверждает, что прозвище Невский впервые появляется лишь в Степенной книге, которая создавалась в царствование Ивана IV Грозного. «Составители, – пишет Данилевский, – преследовали вполне конкретную политическую цель: доказать преемственность власти московского царя от первых князей киевских. При этом авторы не стесняли себя исторической реальностью и широко применяли даже заведомо неправдоподобные сведения. Главным было для них доказать, что все князья, предки „государя царя и великого князя всея Руси“, – святые. И Александр Ярославич не был среди них исключением. Ну а потом заработал другой механизм: в общественное сознание надо было внедрить определенные идеологические установки. Это у нас отлично умели делать и в XVI веке тоже».
Гаврило Олексич въезжает по сходням на шведскую шнеку
(летописная миниатюра)
Кстати, не оттого ли, что современники-новгородцы реальнее нас представляли себе происшедшее, они вместо выражения вечной признательности за эпохальный ратный подвиг на Неве осенью того же 1240 года попросили Александра Ярославича выйти вон, и обиженному такой черной неблагодарностью князю пришлось удалиться в Переяславль?[287]
Ледовое побоище
На новгородском столе Александр оказался в десять лет. А когда ему исполнилось тринадцать, в 1234 году, от имени Господина Великого Новгорода подписал с Ливонским орденом (который три года спустя слился с Тевтонским) договор о мире, границах и торговле – причем для русской стороны весьма выгодный. Бог весть, кто стоял за формулировками – Ярослав ли Всеволодович, советники ли князя-недоросля или же новгородская старшина; а может, и собственный его вклад оказался не так уж мал – современники утверждают, что государственное мышление и дипломатический дар проснулись в Александре очень рано.
Господин Великий Новгород
(рисованный план)
Ледовое побоище – разгар битвы
(летописная миниатюра)
Однако монгольское вторжение внесло поправки. Хотя до Новгорода Батыева конница и не дошла, поворотив обратно возле урочища Игнач Крест, тем не менее наиболее дальновидные псковские и новгородские купцы стали все пристальнее смотреть на запад: перспектива окончательно обрести статус вольного ганзейского города[288] представлялась им куда достойнее участи стать данником Орды. В конце 1241 года спровоцированный этими настроениями и тайными переговорами Тевтонский орден нарушил мирный договор и с малыми потерями (или даже вовсе не встречая сопротивления) занял Изборск, вошел в открывший ему ворота Псков[289] и возвел крепость в Копорье.
Александр Невский, к которому обратились несогласные с пронемецкими настроениями новгородцы, располагая своей дружиной и ополчением из новгородцев, ладожан, ижоры и карел, неожиданным ударом захватил Копорье, перебил почти весь гарнизон (хотя часть рыцарей была взята в плен и впоследствии отпущена, тогда как наемники из местного населения – чуди – перевешаны), после чего срыл укрепления нововозведенной крепости.
Затем, получив подкрепления от отца и брата Андрея, взял Псков, после чего вторгся в принадлежащие ордену земли эстов и принялся опустошать их[290]. Здесь его передовой отряд был разбит, что заставило Александра отступить к Чудскому озеру.
До сих пор с военно-стратегической точки зрения эта кампания не представляла ничего особенного – несколько приграничных столкновений. Но тут происходит нечто удивительное: с обеих сторон оказываются вдруг неисчислимые полчища. В битве, состоявшейся 5 апреля 1242 года на льду Чудского озера и вошедшей в историю под именем Ледового побоища, если верить летописным источникам и следующим за ними историкам, с русской стороны участвовало до 17 000 человек, а с немецкой – до 12 000. Русских потерь никто всерьез не подсчитывал, тогда как о немецких сказано, что на льду погибло пятьсот рыцарей, полсотни было взято в плен, чуди же (то есть навербованной из местного населения пехоты) пало, как всегда, «без числа».
Но не только в численности дело.
Бытует мнение, будто в сороковых годах XIII века доспехи тевтонских рыцарей были тяжелее вооружения русских воинов, в силу чего якобы крестоносцы проваливались под лед там, где Александровы дружинники да ополченцы чувствовали себя вполне вольготно. Увы…
В Средние века реки и озера играли роль своеобразных магистралей, которыми активно пользовались не только летом, но и зимой. В летописях упоминается несколько сражений, разворачивавшихся на льду. Похоже, замерзшая водная гладь представлялась тогда идеальным плацдармом – в отличие от окружающих лесов, где не развернешься, да и снегу по пояс.
Германский рыцарь XIII в. – с такими имел дело Александр Невский на западных границах
Что же до тяжести рыцарских доспехов, то анализ археологических находок и иконографического материала приводит к однозначному выводу: снаряжение новгородского дружинника и орденского рыцаря были сходны. Одинаковые кольчуги с капюшонами (хауберки) длиною до колен с длинными рукавами. Мечи с дисковидным или в виде уплощенного шара навершием и прямым перекрестьем. Одинаковая конструкция щитов. Сфероконические шлемы русские дружинники любили дополнять металлическими масками или полумасками, так что по весу они почти равнялись горшковидным рыцарским. К тому же многие рыцари все еще носили открытые куполообразные шлемы, практически равные по весу русским. И рыцари и дружинники использовали кольчужные чулки и стеганые подшлемники. Поверх кольчуг и те и другие надевали доспехи – бригандин или чешуйчатые, – а русские могли надевать также ламинарные или ламелярные доспехи, заимствованные у кочевников. Лошадиные доспехи с равным успехом могли использовать как рыцари, так и новгородцы. Так что легенда о не знавших броду тяжеловесных немцах – вымысел чистой воды. Следовательно, и о хитроумном использовании особенностей местности Александром тоже говорить не приходится. Да, сражение было и русские одержали в нем верх, но безо всяких тактических ухищрений, традиционно опираясь на численное превосходство. Тоже достойно, кстати, да и вообще – победителей не судят.
В отличие от Невской битвы, на этот раз существует письменный источник, принадлежащий противной стороне – так называемая «Рифмованная хроника». Она приводит совершенно иные цифры: в сражении участвовало 300–400 немцев, двадцать рыцарей пали в бою, шестеро были пленены. И надо сказать, это куда более похоже на правду. Ордену просто неоткуда было взять многих сотен рыцарей – их едва насчитывалось несколько десятков. Причина проста – меньше чем за десятилетие он понес несколько тяжелых поражений.
Сперва, в 1234 году – от войска князя Ярослава Всеволодовича, приведшего под Дерпт переяславский полк, а также псковские и новгородские рати. Принимал участие в походе и юный княжич Александр. Сражение произошло на льду реки, по-немецки называемой Эмбах, а по-эстонски – Эмайыга. Лед проломился (не отсюда ли и Ледовое побоище?), и многие рыцари ушли на дно реки. Оставшиеся в живых в панике бежали. Битва прошла так удачно, что, если верить летописи, никто из новгородцев не погиб, а княжеская дружина потеряла лишь несколько воинов. Немецкие рыцари срочно отправили послов к Ярославу Всеволодовичу, и он «взял с ними мир на всей правде своей». Меченосцы стали платить дань новгородскому князю и клятвенно обещали больше не нападать на владения Великого Новгорода.
Однако это было только началом.
Затем, в 1236 году Орден меченосцев в очередной раз предпринял вторжение в Литву. Однако нашла коса на камень – оказалось, что кунигас (вождь? князь? – трудно дать точное определение) Летувы по имени Миндаугас (в русской традиции – Миндовг) сумел железной рукой объединить разрозненные до того литовские земли в единое государство и противопоставить крестоносцам многочисленную и боеспособную армию. Под Сауле (современный Шауляй в Литве) эта армия нанесла ордену такое поражение, какого рыцари никогда до сих пор не ведали[291]. Их неуклонное до того продвижение на Восток было не только остановлено: орден оказался отброшен к границам 1208 года. В битве при Шауляе пало сорок рыцарей. Впрочем, вспоминать о ней за пределами исторических монографий у нас не любят – по той причине, что литовцы взяли тогда в плен чуть ли не две сотни псковитян, сражавшихся на стороне ордена против «безбожной Литвы». Вот тебе и исконное противостояние русских и немцев!
На следующий год была еще одна битва, пусть и не столь ожесточенная – при Дорогичине; орден снова потерял больше двадцати рыцарей.
Наконец, в 1241 году Восточную Европу опустошила монгольская орда хана Кайду, пронесшаяся через Польшу и Силезию, разгромив под Краковом армию польского короля Болеслава V. Европейцы были убеждены, что под его командованием не двадцать, а все двести тысяч человек. Столь раздутым цифрам верили, однако биться готовились до последнего. Силезский князь Генрих Благочестивый собрал армию из немцев, поляков и тевтонских рыцарей общей численностью до 40 000 человек и у города Легницы занял оборонительную позицию на пути орды Кайду. На подмогу ему спешил с пятидесятитысячной армией богемский король Венцеслав.
Хан Кайду атаковал 9 апреля, когда богемцы находились еще в двух днях пути. Европейцы сражались упорно и храбро, но были наголову разбиты; кто уцелел, бежали на запад. Вечером на поле боя монголы обрезали у убитых врагов уши и собрали этих трофеев девять кожаных мешков.
В этом сражении Тевтонский орден был так обескровлен, что выставить уже на следующий год многотысячного войска против Александра Невского никоим образом не мог.
И еще одно. Почти через два века, 15 июля 1410 года, состоялась другая великая битва – при Грюнвальде, где объединенное польско-литовско-русское войско под командованием короля Владислава Ягайло нанесло Тевтонскому ордену сокрушительное поражение. С обеих сторон в этом сражении участвовало до 80 000 человек. Так вот, там по сей день при весенней пахоте извлекают из земли клинки, наконечники стрел и копий, а также иные свидетельства грандиозного кровопролития.
А вот на месте Ледового побоища археологам ничего найти так и не удалось. Пусть даже толпы рыцарей окончили свои дни в водах озера – окислившись, металл все равно остался бы там, и чуткие магнитометры следы его присутствия обнаружили бы. Увы…
И снова приходится признать – великой битвы попросту не было. Была заурядная стычка двух отрядов – по тем временам, впрочем, довольно значительных: гибель двадцати рыцарей и пленение еще шестерых представляла для ордена ощутимую потерю (в составе его находилось на тот момент не больше сотни «братьев»). Вновь проступает уже знакомый почерк Александра Невского: ради воодушевления соотечественников раздуть не слишком впечатляющую победу до эпических масштабов. Как тут не повторить: это ли не величайший триумф пропаганды?
Подпортила его, пожалуй, только Ипатьевская летопись, пользующаяся, кстати, у историков доверием большим, нежели некоторые другие. Так вот, в ней написано коротко: «В лето 6750. Не бысть ничтоже». А лето 6750 от Сотворения мира – это как раз и есть 1242 год от Рождества Христова, ознаменованный Ледовым побоищем. Вот и гадай: то ли плохо был информирован летописец, то ли не счел достойным упоминания малозначительную по тем временам пограничную стычку… Второе, по-моему, вероятнее. И в «Хронике земли Прусской» Петра из Дусбурга Ледовое побоище тоже не упоминается. И даже в Лаврентьевской летописи, опирающейся на великокняжеский свод 1281 года, составленный при сыне Александра Невского, князе Дмитрии, сказано скупо: «В лето 6750. Ходи Александръ Ярославичь с Новъгородци на Немци и бися с ними на Чюдъскомъ езере оу Ворониа камени. И победи Александръ, и гони по леду 7 верст секочи их».
Но постепенно стараниями сподвижников (вроде митрополита Кирилла – того самого, что в 1263 году после смерти Александра сказал, обращаясь к жителям стольного града Владимира: «Дети мои милые! Знайте, что зашло солнце земли Русской!») и княжих потомков пропагандистский миф полностью возобладал над историческим фактами. И положение это – в общественном мнении, в художественной литературе, в школьных и вузовских учебниках, наконец – сохраняется по сей день.
Вот только одна беда. Упоминавшийся уже А.Н. Кирпичников пишет: «Триумфальные победы 1240 г. в Невской битве и 1242 г. на льду Чудского озера остановили неприятельское нашествие… В момент, когда почти три четверти Руси лежало в развалинах [об этом подробнее будет сказано в пятнадцатой главе. – А.Б.], эти битвы со шведами и ливонскими немцами были восприняты как общенациональные свершения народа, поднявшегося на борьбу за свободу и независимость». Оставим в стороне идеологию с пропагандой и зададимся единственным вопросом: если и впрямь грозный меч Александра Невского остановил нашествие ордена, отчего ж его отдаленному потомку Ивану IV Грозному тремя веками позже пришлось вести с этим самым орденом печально известную Ливонскую войну?
Увы, на этот счет миф хранит молчание…
Северный поход
Осенью 1249 года состоялся так называемый Второй крестовый поход в Финляндию – шведское войско во главе с уже знакомым нам Биргером Магнуссоном высадилось на ботническом побережье, откуда двинулось в глубь страны. Подробности этого похода неизвестны, но в результатах его в «Хронике Эрика»[292] сказано: «язычники потерпели поражение, а христиане победили. <…> Ту страну, которая была вся крещена, русский князь, как думаю, потерял». Началась планомерная колонизация новопокоренных земель.
Но вот что интересно: ни новгородцы, ни великий князь Александр Ярославич, весьма болезненно воспринимавший любые посягательства на подвластные ему территории, на сей раз на вышеупомянутые события никак не отреагировали. Будто все так и должно было быть. Невольно напрашивается вывод, что именно так и обстояло: шведы просто наводили порядок в регионе, по соглашению, достигнутому Биргером и Александром во время памятного саммита на Неве (да простится мне подобный анахронизм!), отошедшему к зоне их исключительного влияния.
Обычно историки объясняют нехарактерное равнодушие Александра Невского ко Второму крестовому походу в Финляндию тем, что 1248–1249 годах он ездил в Каракорум, к великому хану, а потом вел борьбу за великокняжеский стол, завершившуюся лишь в 1252 году. Может быть. Но, как явствует из следующих событий, в случае реальных угроз границам его владений он был вполне способен проигнорировать даже важнейшие события, происходящие в Орде, не то что привычные княжеские раздоры.
Таким событием стала в 1255 году смерть престарелого Батыя, при котором последние годы всеми делами заправлял ханский сын Сартак, побратим Александра Невского. Этот последний незамедлительно был убит по приказу его дяди, хана Берке, вверившего власть над русским улусом своему наместнику – малолетнему хану Улагчи, к которому сразу же потянулись в надежде на профит многие русские князья. Казалось бы, Александру Невскому нужно быть там первым. Ан нет! Нашлись дела поважнее: строптивые новгородцы изгнали сидевшего там наместником старшего сына князя, Василия Александровича, и пригласили княжить его брата – Ярослава Ярославича. Александр немедленно собрал полки и выступил на Новгород. Жестоко расправившись с новгородцами, а заодно и с приближенными Василия[293], он восстановил status quo ante bellum[294] и привел к управлению Новгородом своих сторонников. Как видите, приоритеты здесь проявляются предельно четко.
Замечу, уладив дела в Новгороде, в Орду Александр все равно не поехал, лишь отправив Улагчи полагающиеся дары. Дело в том, что на этот раз шведы и впрямь несколько зарвались: они высадились в устье реки Наровы (или Нарвы), отделявшей новгородские земли от датских владений на севере Эстонии, и приступили к возведению крепости на правом, русском берегу реки. Опираясь на эту твердыню, они рассчитывали в дальнейшем покорить земли води, ижоры и карел. Кроме того, крепость должна была контролировать важнейшие торговые пути по Неве и Финскому заливу.
Александр незамедлительно собрал полки. Однако шведы дожидаться не стали и, сознавая, очевидно, себя нарушителями конвенции, отступили без боя, бросив недостроенную крепость на произвол судьбы. Тем более что на Балтике вот-вот должен был стать лед, а это отрезало и пути отступления морем, и возможность получения подкреплений из метрополии. Да и вообще рассчитывать на какую бы то ни было помощь не приходилось: на недавно присоединенных к Швеции финских землях начались волнения, которые необходимо было срочно подавить. Какие уж тут заморские экспедиции?
Успех, достигнутый без кровопролития – что может быть желаннее? Тут бы порадоваться, распустить полки да и заняться первоочередными делами. Но Александр рассудил иначе. Со своими «низовскими [т.е. владимиро-суздальскими. – А.Б.] полками» и новгородским ополчением он двинулся к погосту Копорье. Зачем? Само его воинство, похоже, терялось в догадках. Но вскоре все разъяснилось: в Копорье митрополит Кирилл благословил отряды, выступавшие в дальний путь, а князь объявил: предстоит поход на территорию современной юго-восточной Финляндии, в землю восставших против шведов тавастов (или, в русской традиции, еми). Зимний поход представлялся столь тяжелым, что немалая часть воинов – в первую очередь новгородцы – отказались следовать за князем и, не убоясь его грядущего гнева, повернули из Копорья обратно. С оставшимися Александр Невский пересек по льду Финский залив, вышел на Карельский перешеек и двинулся дальше, на север. Летописец повествовал: «И бысть зол путь, якоже не видаша ни дни, ни ночи, но всегда тьма».
А вот дальше начинаются разночтения.
Согласно общепринятой точке зрения, поход был предпринят ради возвращения под свою руку территорий, на которые распространил новгородское влияние еще отец Александра, князь Ярослав Всеволодович в 1227 году. Для подтверждения этой точки зрения отечественные историки даже несколько сдвигают начало восстания тавастов, которое началось якобы не до, но после начала Северного похода Александра Ярославича и, таким образом, было как раз им и спровоцировано (классическая логика: post hoc, ergo propter hoc[295]). Сделать это тем проще, что тогдашние хроники далеко не всегда называют точные даты. Но в таком случае приходится признать, что предприятие полностью провалилось: в ближайшие несколько веков ни о каком особом русском влиянии в тех краях говорить не приходится.
Значительно менее распространена (но все-таки высказывается) другая версия: Александр просто-напросто предпринял лихой набег, чтобы под шумок восстания тавастов пограбить местных людишек и таким образом разжиться «мягкой рухлядью» для выплаты ордынского выхода, то бишь дани. Это более правдоподобно, однако для Александра Невского, государственного деятеля все-таки весьма крупного масштаба, как-то уж слишком мелкотравчато. Тем более что поход и в самом деле можно смело назвать легендарным.
Ярл Биргер Магнуссон.
Скульптурный портрет в усыпальнице
Скрупулезно выбирая информацию из скупых летописных сообщений, академик Б.А. Рыбаков восстановил маршрут Северного похода: из Новгорода – до Копорья, от Копорья по льду Финского залива на лыжах в Финляндию, по финским лесам и замерзшим озерам, через «горы непроходимые» – в «Поморие» (то есть на побережье Ботнического залива в районе Улеаборга). На обратном пути войско прошло земли еми в южной Финляндии. Более того, Б.А. Рыбаков высказывает и еще одно предположение, заставляющее снять шляпу перед памятью участников дерзкого предприятия: судя по всему, русские «вои» даже пересекли Полярный крут и достигли берегов Баренцева моря. В конце зимы Александр Невский и его воины благополучно возвратились в Новгород.
Так что же все-таки заставило князя совершить эту невероятно трудную военную операцию? Отстаивая традиционную версию, будто поход был предпринят для возбуждения антишведского восстания, историк Вадим Каргалов пишет: «…русское войско, разрушая по пути крепости и опорные пункты шведов, прошло через всю Финляндию и “воеваша Поморие все”». Даже папа римский сетовал в своей булле, что русское войско в Финляндии «многих, возрожденных благодатью священного источника, прискорбным образом привлекло на свою сторону, восстановило, к несчастью, в языческих обычаях». Но Бог с ним, с папой – он был глубоко оскорблен отказом Александра Невского перейти в католичество и принять участие в совместных действиях против татар[296], так что вполне мог обвинять русского князя в чем угодно[297]; в действительности же тавастов и не надо было возвращать в язычество – подобно многим народам, они принимали христианство с невеликой охотой, и процесс их христианизации растянулся надолго. И уж если на то пошло, русские могли обращать емь в православие, но никак не возрождать язычество. Так что вернемся к военным вопросам. В шведских источниках ни о каком разрушении крепостей упоминаний почему-то нет. И это не стыдливое умолчание. Просто упоминать было особенно не о чем.
Все расставляет по местам версия, согласно которой Александр Невский выступал здесь не против шведов, а за. В полном соответствии с договоренностями, достигнутыми между ним и Биргером Магнуссоном на Неве, Александр помог шведам усмирить восстание, вспыхнувшее на периферии владений шведской короны, куда руки самих шведов дотягивались пока еще с трудом. И Александр показал еми, суми и прочим, кто здесь хозяин, не разжигая, но гася мятежи. Иначе как объяснить, что после Северного похода ни о каком восстании в землях тавастов больше в хрониках не упоминается? Ну а грабежи – что ж, война тогда как правило велась «в зажитья», то есть войско кормилось грабежом и вознаграждалось трофеями. И Александр Невский просто следовал практике своего времени.
Но в каких трудных условиях ни проходил бы Северный поход, считать его замечательной военной кампанией вряд ли возможно: противником-то были не организованные, регулярные войска, даже не ополчение, а лишь кое-как вооруженное местное население. Так что особых полководческих лавров князю принести он никак не мог.
Итоги
Не имея намерения оценивать личность Александра Ярославича в целом (это гораздо шире рамок нашего разговора об исторических мифах), хочу завершить эту главу словами, почерпнутыми из книги Джона Феннела «Кризис средневековой Руси (1200–1304)».
«Какие выводы можно сделать из всего, что мы знаем об Александре, его жизни и правлении? – пишет английский историк. – Был ли он великим героем, защитником русских границ от западной агрессии? Спас ли он Русь от тевтонских рыцарей и шведских завоевателей? Стоял ли он непоколебимо на страже интересов православия против посягательств папства? Спасла ли проводимая им политика уступок Северную Русь от полного разорения татарами? Диктовалось ли его самоуничижение, даже унижение перед татарами в Золотой Орде самоотверженным стремлением к спасению Отчизны и обеспечению ее устойчивого будущего?
Мы, конечно, никогда не узнаем истинных ответов на эти вопросы. Но те факты, которые можно выжать из коротких и часто вводящих в заблуждение источников, даже из умолчаний «Жития», заставляют серьезно подумать, прежде чем ответить на любой из этих вопросов утвердительно. Ведь не было согласованного плана западной агрессии ни до, ни во время правления Александра; не было и опасности полномасштабного вторжения, хотя папство, немцы, шведы, датчане и литовцы могли полагать, будто Северная Русь окончательно ослаблена татарским нашествием, что на самом деле не соответствовало действительности. Александр делал только то, что многочисленные защитники Новгорода и Пскова делали до него и что многие делали после него, – а именно, устремлялись на защиту протяженных и уязвимых границ от отрядов захватчиков. Нет никаких свидетельств в пользу того, что папство имело какие-то серьезные замыслы относительно православной церкви и что Александр сделал что-либо для защиты ее единства. На самом деле он и не думал порывать с католическим Западом даже после 1242 года: он собирался женить своего сына Василия на Кристине, дочери норвежского короля Хакона IV Хаконссона Старого[298], готовил несколько договоров с немцами, заключил один договор с Норвегией, принимал посольства из северных и западных европейских стран, отвечал на папские буллы».
Пожалуй, только об одном можно говорить с уверенностью: Александр Невский был поистине незаурядным дипломатом.
Оставим в стороне маневрирование в Орде – это отдельная история. Он был потрясен убийством отца, поводом к чему послужили, очевидно, некоторые шаги Ярослава Всеволодовича к сближению с католическим миром ради совместной борьбы с татарами[299] – хотя и не столь активные, как предпринятые Даниилом Галицким. Он был потрясен необъятностью монгольской империи, открывшейся ему во время путешествия в Каракорум[300]. Противостоять подобной мощи представлялось в принципе невозможным – можно было лишь применяться к ней и максимально использовать ее в собственных интересах, что Александр последовательно и делал всю дальнейшую жизнь.
Памятник ярлу Биргеру в Риддархолмене
Но вот его западная политика. Негласный договор на Неве с Биргером Магнуссоном. Сперва соглашение 1242 года, а потом и мир 1253 года с немцами. В 1254 г. он заключил мирный договор с Норвегией. В 1262 году был подписан договор с Литвой, а также договоры о мире и торговле с Ливонским орденом, Любеком и Готландом. «Едва ли не впервые в средневековой Европе, – пишет уже упоминавшийся А.Н. Кирпичников, – Александр Ярославич выдвинул идею нерушимости границ – “жити не преступающе в чужую часть”».
Всеми этими достижениями можно только восхищаться. Остается только повторить: это ли не величайший триумф дипломатии!
И еще он был непревзойденным мастером пропаганды, сумевшим обрести неувядающую славу полководца, благодаря победам, которых не было.
И – напоследок – еще один миф, связанный с личностью Александра Невского. Лаконично формулируя общепринятую точку зрения, петербургский историк Юрий Бегунов подводит итог: «После побед 1240 и 1242 годов Александр Невский явился основателем особой и длительной государственной внешней политики, опиравшейся на его политический выбор. Эту политику можно было бы определить так: меч Западу и мир Востоку».
С «мечом Западу» мы с вами уже разобрались. А вот что касается «мира Востоку»… При жизни самого Александра Ярославича так оно, безусловно, и было. Но в конечном-то счете при его преемниках и потомках этот самый «мир» обернулся взятием Казани, Астрахани пленом и крушением Сибирского ханства (кто бы сказал хану Кучуму о «политике мира Востоку?») и покорением Сибири вплоть до Тихого океана…[301]
Памятная медаль, отчеканенная в Швеции в 2002 г. в честь ярла Биргера
Зато с длительной государственной внутренней политикой Александра Невского все предельно ясно. Его безудержное стремление к единодержавной власти и в самом деле на века определило грядущее Московской Руси не по варяжскому, а по обдорскому пути, который в конце концов закономерно породил Ивана IV Грозного с его кровавыми неистовствами, безнаказанным сыноубийством и самоубийственной Ливонской войной. Возвращаясь к внешней политике замечу, что войны этой сам Александр Невский, вероятнее всего, не допустил бы, найдя выход из конфликта дипломатическим путем, демонстрацией силы или, на худой конец, ограничившись стычкой вроде той, что была на Чудском озере (но в сознании соотечественников непременно превратив ее в эпохальную битву). Впрочем, тут мы уже вступаем на зыбкую почву альтернативной истории, а значит – самое время переходить к следующему сюжету.
Глава 11. Спаситель династии
Над вымыслом слезами обольюсь…
А.С. ПушкинМикромемуар
Для меня эта история началась лет тридцать назад. Как-то раз, когда я совершал очередной ежегодный наезд в первопрестольную, мой друг Олег Соколов, бывший в те годы редактором «Искателя», пригласил меня на защиту диссертации одного из авторов журнала. После защиты, в полном соответствии с академическим протоколом, был банкет, где я и разговорился с кем-то из гостей.
– Вы не думайте, это у него так, тема диссертабельная, – оправдывал героя дня человек, чьего имени я так и не узнал. – А вообще-то он действительно умница. Вот, например, блестяще доказал, что никакого сусанинского подвига никогда не было – прекрасная, поверьте, работа! Но на этом же диссертацию не защитишь… И вообще, куда с таким «закрытием» пойдешь? Ни один журнал не опубликует…
Вот уж воистину: я об этом и фантастический-то рассказ не рискнул бы написать – при всей дружбе тот же Олег Соколов ни в жизнь не взял бы! Но – зацепило. И по возвращении в Питер я полез в книги. Оказалось, впрочем, что слишком глубоко рыть и не надо: еще Костомаров об этом знал…
Рассказ не рассказ, а стихотворение я все-таки написал:
О ней судачило село: Мол, мужику-то – весело, В Твери там, аль в Калуге, Молодку, знай голубит; Дак разве справный-то мужик За так от бабы побежит? – Знать, плешь ему проела, Такое, значит, дело… И даже бабья жалость Лишь больше унижала: – У, басурман проклятый! И что ты в нем нашла-то? …Да знать нашла – раз помнится, Раз им полна вся горница, Не выкинуть из сердца, Не выставить за дверцу… И вот твердила детям, Что лучше всех на свете Был батька, что он сгинул В военную годину, Что он погиб иройски, Сгубивши вражье войско… Она сама не знала, Из гордости ли лгала, От горькой той обиды ли На жизнь свою разбитую, Но этой бабьей версии История поверила – Поверила слезам ее, Легенде про СусанинаИ решил, что на этом тема для меня исчерпана.
Но теперь пришлось все же к ней вернуться. Есть некоторые любопытные обстоятельства в этой истории четырехсотлетней давности…
Легенда как она есть
В коротком пересказе выглядит она примерно так.
Осенью 1612 года по Руси привольно гулял оружный люд – тут и польско-литовские отряды, и войска земского ополчения, и казаки, и просто разбойничьи шайки (впрочем, пограбить не прочь были все). Уже два года, как свергнут царь Василий Шуйский – старик, десятилетиями интриговавший, рвавшийся к трону, но лишь доказавший, что скипетр и держава не по его рукам. Эти годы заправляет всем (насколько это вообще возможно в хаосе Смуты) Семибоярщина, но последние полтора года им самим приходится отсиживаться в стенах Кремля, надеясь только на польский гарнизон… Наконец, в октябре Москву заняло Второе земское ополчение во главе с Козьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским; кремлевский гарнизон капитулировал.
Утром 26 октября шестнадцатилетний боярский недоросль Михаил Романов вместе с матерью – инокиней Марфой – наконец-то покинули Кремль, где чуть не умерли от голода. Впрочем, погибнуть в Белокаменной было вообще нехитро: уже на мосту через Неглинку их чуть не убили казаки. Так что в поисках покоя и безопасности они решили спешно отправиться в свои костромские вотчины.
Там, в усадьбе Домнино, их встретил вотчинный староста Иван Осипович Сусанин. В Домнине мать и сын Романовы пробыли, однако, недолго, поскольку спешили в стоящий на реке Унже Макарьевский монастырь, где собирались молиться об освобождении томящегося в польском плену отца недоросля Михаила – боярина Федора Никитича Романова, при Борисе Годунове насильственно постриженного в монахи, а ныне – ростовского митрополита Филарета (в свое время мы о нем уже говорили).
Вожди Второго земского ополчения – князь Дмитрий Пожарский и нижегородский земский староста Козьма Минин
Иван Сусанин.
Деталь памятника «Тысячелетие России» в Новгороде
А несколько дней спустя в Домнино на розыски Михаила кружным путем (через Вологду, Данилов, Любим и Головинское) прискакал польский отряд – доводясь свойственником Ивану IV Грозному по линии первой жены Анастасии, юноша являлся одним из наиболее вероятных претендентов на русский престол и мешал тем кто хотел бы видеть московским государем польского королевича Владислава или самого короля Сигизмунда III Тут-то и попался полякам на глаза Сусанин. У старосты поинтересовались, где скрывается Романов-младший. Тот вызвался в проводники, однако повел незваных гостей в противоположную сторону – через обширное болото к селу Исупову лежащему в десятке верст от Домнина. Поняв, что Сусанин их обманул, поляки долго пытали его, а потом зарубили саблями.
Похоронен герой на домнинском кладбище, у стен Воскресенской церкви.
Польский король Сигизмунд III Ваза.
Портрет маслом работы неизвестного художника XVII в.
Львов, Исторический музей
Далее следуют варианты сюжета.
Первый. Согласно преданию, записанному в начале XX века Н.Н. Виноградовым, поляки почти добрались до села Домнина, где в то время якобы находился Михаил. В ближнем лесу им повстречался Иван Сусанин. Как положено хлебосольному хозяину, староста привел их к себе, стал угощать. А супостаты все добивались, где же Михаил. Сусанин сказал, что он, мол, остался в лесу. Сусанина повели в лес, долго искали там Михаила, но так и не нашли. За это время боярского отрока удалось увести из Домнина в деревню Деревеньки (ныне несуществующую), где жили дочь Сусанина Антонида со своим мужем Богданом Собининым (запомните эту парочку!). Там Михаила спрятали в полусгоревшем овине.
Поляки, поняв, что Сусанин их обманывает, набросились на него, но тот вырвался и пытался перебраться через речку к селу Исупову. Лед на ней, однако, был еще тонок и провалился под ним. Тут поляки его и схватили. Русские воины, которых какое-то время спустя привел Богдан Собинин, подобрали тело Сусанина и принесли в Деревеньки. Михаил вылез из укрытия и, «когда узнал, за что и как умер Иван Сусанин, то сам плакал, обмывал и складывал части его тела и велел похоронить останки Ивана Сусанина в церкви», но уже той, что в Деревеньках, а не в Домнине.
Памятник Ивану Сусанину в Костроме
Второй. Проводником-то быть полякам Сусанин и впрямь вызвался, однако завел их не в болото, а в дремучие леса, послав перед уходом своего зятя, Богдана Собинина, к Михаилу Федоровичу с советом укрыться в Ипатьевском монастыре. Заставив поляков целую ночь проблуждать по глубокому снегу, в котором вязли кони, поутру герой раскрыл им свой обман. Несмотря на жестокие пытки Сусанин не выдал места убежища царя и был изрублен поляками «в мелкие куски». Там его косточки и остались, вместе с замерзшими поляками, и никто их до сих пор не нашел – разве что волки.
Третий. Едва стало известно, что Михаил Федорович избран на престол, отряд поляков направился к Костроме, чтобы найти и убить русского царя. В окрестностях Домнина они принялись расспрашивать всех встречных и поперечных, где находится Михаил. Когда Иван Сусанин, которому также был задан этот вопрос, поинтересовался, зачем, собственно, Михаил полякам нужен, те отвечали, что хотят поздравить нового царя с избранием. Но Сусанин не поверил и послал внука (заметьте, уже не зятя, а внука!) предупредить государя об опасности. Сам же предложил полякам свои услуги: «Тут дороги нет, давайте я проведу вас лесом, по ближнему пути». Поляки обрадовались, что теперь легко найдут Михаила, и последовали за Сусаниным. Прошла ночь, а Сусанин все вел и вел ляхов по лесу, и лес становился все глуше. Заподозрив проводника в обмане, поляки набросились на него. Тогда Сусанин, в полной уверенности, что ворогам из лесу не выбраться, заявил: «Теперь можете делать со мной, что хотите; но знайте: царь спасен и вам до него не добраться!»
Сусанина-то поляки убили, но и сами погибли. Благодарные односельчане отыскали останки старосты и погребли в стенах Ипатьевского монастыря, что в Костроме.
Ипатьевский монастырь в Костроме.
Рисунок XVII в.
Четвертый. Здесь Сусанин, прежде чем отправиться на подвиг, укрыл царя в яме под овином на собственном подворье, а яму ту тщательно замаскировал бревнами. Как писал в 1840 году в своем «Взгляде на историю Костромы» князь Козловский, «Сусанин увез Михаила в свою деревню Деревищи и там скрыл в яме овина», за что впоследствии «царь повелел перевезти тело Сусанина в Ипатьевский монастырь и похоронить там с честью». Злобные же вороги не просто зарубили Сусанина в лесной чаще, но для пущей назидательности предварительно посадили на кол.
Не стану утомлять вас дальнейшими пересказами – хотя вариантов и подвариантов я насчитал десятка полтора, однако сущности интриги они принципиально не меняют, приводя лишь к появлению неизбежных вопросов: что же все-таки было? и было ли?
А чтобы ответить на них, необходимо завести целое следственное дело. Что ж, вперед!
Дознание. Жизнь – за кого?
Начнем с хронологии, причем не для порядку, а потому как вопрос этот представляет принципиальную важность. Когда именно погиб Сусанин?
Традиционно принято считать, что случилось это не раньше конца февраля и не позже середины марта 1613 года. Объясняется такая датировка следующим. Сразу же по освобождении Москвы в октябре 1612 года по городам были разосланы грамоты – срочно направить в Белокаменную по десять представителей для «Государева собиранья». К январю выборные от пятидесяти городов собрались в Москве, где вместе с высшим духовенством и столичными боярами составили Земский собор, коему предстояло избрать нового царя.
Больше месяца предлагались различные кандидатуры и шли обсуждения – «всякий хотел по своей мысли делать, всякий хотел своего, некоторые хотели и сами престола, подкупали и засылали». На русский трон претендовало тогда восемь кандидатов – из числа отечественных князей да бояр, а также польский королевич Владислав, шведский герцог Карл-Густав, сын Лжедмитрия Второго и Марины Мнишек (так называемый Воренок), и даже некий Дмитрий Мамстрюкович, выдвинутый частью казачества. Но вот 7 февраля делегат от Галича, к которому вскоре присоединился и один из донских казачьих атаманов, предложили собору остановить выбор на Михаиле Романове. Их поддержали рязанский архиепископ Феодорит, Аврамий Палицын[302], новоспасский архимандрит Иосиф и боярин Морозов[303]. Недоросль показался подходящей фигурой – достаточно бледной, чтобы за влияние на него могли соревноваться придворные кукловоды, что и называется политикой. И вот 21 февраля Михаил Романов был провозглашен царем Московского государства, и собор (в отсутствие самого избранника) принес ему присягу. Затем были отряжены послы к новоизбранному государю, жившему со своей матерью в Ипатьевском монастыре под Костромой. Тот в лучших годуновских традициях поотнекивался, но в конце концов 14 марта 1613 года, вразумленный матерью, согласился взвалить на хрупкие юношеские плечи непомерный груз ответственности за судьбы страны. И наконец, 16 июля в столице произошло торжественное помазание его на царство.
Борис Тимофеевич Штоколов (1930–2005) в роли Ивана Сусанина в одноименной опере М. Глинки
Максим Дормидонтович Михайлов (1893–1971) в роли Ивана Сусанина Фото 1952 г. в одноименной опере М. Глинки
Учитывая вышеизложенное, воспетая М.И. Глинкой «жизнь за царя» могла быть отдана только после 21 февраля, да и то не сразу – информация о сем судьбоносном для Руси событии должна была еще достичь Костромы, а на это в то не ведавшее телевидения, телефонов, телеграфов и газет время требовалось по самым оптимистическим подсчетам несколько дней. С другой стороны, произойти пресловутое покушение ляхов на помазанника Божия могло лишь до прибытия послов Земского собора, то есть до 12 марта.
Но вот костромской провинциальный священник А.Д. Домнинский (судя по фамилии, местный уроженец) писал во втором номере журнала «Русский архив» за 1871 год, что «в нашей местности, в феврале или марте месяцах, никак не возможно ни пройти, ни проехать, кроме проложенной дороги. В нашей местности к огородам и лесам наносит высокие бугры снега в сии месяцы <…> а историки между тем говорят, будто Сусанин вел поляков все лесами, а не путем, и не дорогою». К тому же первоначальное предание относит указанное событие к концу ноября – дате куда более логичной: и снегом леса еще не завалило, и болота (если принять эту версию) еще не до конца промерзли[304]… А в дореволюционной России день Ивана Сусанина регулярно отмечался 11 сентября, в праздник усекновения главы Иоанна Предтечи. То есть опять-таки до избрания Михаила на царство…
Увы, эти вполне резонные соображения отечественные историки и литераторы почли за лучшее проигнорировать, ибо если сусанинский подвиг был совершен раньше, неотвратимо рушилась вся патриотическая концепция «жизни за царя», ибо царь на поверку оборачивался просто-напросто шестнадцатилетним боярским отпрыском.
Дознание. Поляки? Или?..
Наличествует во всей сусанинской ситуации необъяснимая странность.
Некий отряд поляков вознамерился убить новоизбранного царя. Но – чего ради? Чем мешал им боярский недоросль, совсем недавно присягнувший в Москве на верность польскому королевичу Владиславу, сыну Сигизмунда III[305]? Последнее обстоятельство, кстати, впоследствии послужило предметом многих дипломатических прений: с одной стороны, государь всея Великыя, Малыя и Белыя Руси, а с другой – вассал польского королевича, следовательно, правитель страны как минимум от Речи Посполитой зависимого… Нет, «вражьим ляхам» убивать Михаила никакого резону не было.
Портрет короля Владислава IV Ваза, в бытность принцем избранного на русский престол.
Работа неизвестного художника масло, 1634 г.
Допустим, однако, что решились они на оное преступное деяние безо всяких резонов – просто так, по злобе и природному окаянству. Но вот беда: доподлинно известно, что мать и сын Романовы в описываемое время не в своих вотчинных имениях были, а прятались за стенами прекрасно укрепленного Ипатьевского монастыря, который не то что отряду – армии не враз взять удалось бы, да и то лишь после длительной осады. Неужто же поляки – вояки, кстати сказать, достаточно лихие и многоопытные – об этом не знали? Вот посланцы Земского собора – те почему-то точно знали. Чудеса, да и только. Кстати, и сама Кострома была городом укрепленным и располагала значительным гарнизоном.
Но самое главное – столь же достоверно, что в 1613 году в костромских краях вообще ни одного поляка не было: ни королевских отрядов, ни так называемых «лисовчиков»; как и предписывалось военными регламентами того времени, они стояли на зимних квартирах и никаких активных действий не предпринимали.
По мнению Н.А. Зонтикова, краеведа, историка Костромской епархии, близкого к тамошнему владыке Александру, никаких поляков в лесах не гибло и в болотах не тонуло. В своей работе «Иван Сусанин. Легенды и действительность» он утверждает, что наш герой принял мученическую смерть в селе Исупове, причем от рук разбойничьей шайки, домогавшейся не самих Романовых, но исключительно их сокровищ. Подобные шайки бродили по всей Руси в превеликом изобилии – «воровские» казаки и прочие тати-душегубы (и, разумеется, нельзя исключить, что к ним не примыкали порой польские дезертиры). Это и позволило Костомарову еще в XIX веке усматривать в Сусанине «одну лишь из бесчисленных жертв, погибших от разбойников в Смутное время». И правда, «гулящий люд» вполне мог решиться пограбить романовские вотчины – род-то, прямо скажем, не из бедных, найдется чем поживиться.
Подтверждается подобная точка зрения и еще одним немаловажным обстоятельством: полным отсутствием малейших упоминаний (пусть не о сусанинском подвиге, но о злодейском покушении на священную особу государя со стороны поляков) в каких бы то ни было официальных источниках. Хранит, например, молчание об этом «Наказ послам», отправленный в том же 1613 году в Германию, – преподробный документ, скрупулезно перечисляющий «все неправды поляков» на предмет организации европейского общественного мнения. Ни словом не обмолвился на интересующую нас тему патриарх Филарет, который по возвращении из польского плена, став фактическим соправителем сына, неоднократно в речах и письмах пенял полякам на всяческие их «многыя вины». И сам Михаил Федорович уж на что только не обижался… Однажды в присланной из Польши грамоте его по описке назвали не Михаилом Федоровичем, а Михаилом Филаретовичем; так какую он гневную отповедь Сигизмунду III направил! А вот о покушении на свою особу – молчок. Наконец, посол в Польше Федор Желябужский, ведя в 1614 году переговоры о заключении мира между Речью Посполитой и Русью, добивался преимуществ, из всех сил стараясь выставить польскую сторону виновной во всех грехах, а потому со вкусом перечислял «всякие обиды, оскорбления и разорения, принесенные России». Однако о покушении на Михаила под Костромой – уж какой, казалось бы, выигрышный факт, козырная карта! – ни слова.
Истоки. Миф эгоистический
Все официальные сведения о Сусанине восходят к единственному первоисточнику – обельной грамоте царя Михаила Федоровича, которой он даровал в 1619 году «по нашему царскому милосердию и по совету и прошению матери нашей, государыни великой старицы инокини Марфы Ивановны» (обратите внимание!) крестьянину Костромского уезда, села Домнина, Богдашке Собинину половину деревни Деревищи: «Как мы, Великий Государь Царь и Великий Князь Михайло Федорович всея Руси <…> были на Костроме, и в те поры приходили в Костромской уезд Польские и Литовские люди, а тестя его Богдашкова Ивана Сусанина в те поры Литовские люди изымали и его пытали великими немерными пытками. А пытали у него, где в те поры мы Великий Государь Царь и Великий Князь Михайло Федорович всея Руси были, и он Иван ведал про нас Великого Государя, где мы в те поры были, терпя от тех Польских и Литовских людей немерные пытки, про нас Великого Государя тем Польским и Литовским людям, где мы в те поры были, не сказал, и Польские и Литовские люди замучили его до смерти». (Орфография и пунктуация подлиника. – А.Б.).
Основатель династии Романовых – царь Михаил Федорович.
Портрет XVII в.
В летописях, хрониках и других письменных источниках XVII века о Сусанине ничего не говорится, существовали только устные предания, передававшиеся из рода в род. И вплоть до начала XIX столетия никто и не думал усматривать в фигуре Ивана Сусанина спасителя царской особы.
Сусанин, надо сказать, фигура вообще странная. Взялся он словно ниоткуда. В XVII столетии учет был поставлен совсем даже неплохо – надо же знать, кто чем и кем владеет и с кого и сколько брать! Тем не менее о предках Сусанина – никаких сведений, даже фамилии такой в тех краях не зафиксировано. Согласно устному преданию, «незаконнорожденный он был. По матери назвали, по Сусанне». Странное, между прочим, для русской деревни того времени имя… А кто был отцом? Прохожий молодец? Или – кто-то из Романовых? Не потому ли они и назначили его вотчинным старостой? О жене сусанинской также никаких упоминаний – словно никогда ее и не было. Зато дочь у Ивана Осиповича точно имелась – Антонида Ивановна. И вот у нее-то муж точно был – некий Богдан Собинин. Этой-то парочке и была выдана царева обельная (то есть переводящая их в категорию белопашцев[306]) грамота.
Царская милость заключалась в том, что им пожаловали в неотъемлемое владение уже знакомые нам Деревеньки, на вечные времена освобожденные ото всех без исключения налогов, крепостной зависимости и воинской обязанности. Подтвердил эти привилегии и царский указ от 30 января 1633 года, изданный по случаю переселения дочери Антониды «с детьми ея с Данилком да с Костькою» на дворцовую пустошь Коробово того же Костромского уезда – в обмен на владения в деревне Деревеньки Домнинской вотчины, переданные в Новоспасский монастырь за упокой души матери царя Михаила Федоровича, инокини Марфы.
Третий указ, касавшийся потомков Сусанина, появился в правление царей Ивана и Петра Алексеевичей в сентябре 1691 года. Он подтверждал права детей Антониды и Богдана Собинина на пустошь Коробово, полученную их родителями в 1633 году («владеть им Мишке и Гришке и Лучке и их детям и внучатам и правнучатам и в род их во веки неподвижно»), а также их привилегии и статус белопашцев («никаких податей, кормов и подвод и наместных всяких запасов и в городовые проделки и в мостовщину и в иные ни в какие подати с тое пустоши имати не велели»).
Памятная медаль в честь избрания королевича Владислава Вазы (будущего польского короля Владислава IV) на русский трон.
1610 г.
За что же все эти не слишком, может, обильные, но явные милости? Многие историки сходятся на том, что Богдан Собинин просто-напросто придумал эпизод с поляками и подвигом, оставшись без поддержки старосты-тестя, убитого разбойниками. Жить-то надо! И подал челобитную царевой матери, инокине Марфе[307], к чьим просьбам, рекомендациям и советам в первые годы царствования, особенно до возвращения из польского плена отца, патриарха Филарета, Михаил очень прислушивался. Надо сказать, разного рода прошениями по случаю «разорения Смутного времени» государь был буквально завален – всяких компенсаций, пожалований и освобождений от тягла он в первый год царствования подписал несметное множество. В такой обстановке серьезно расследовать, а был ли подвиг, и некому было, да и незачем. Одним белопашцем больше, одним меньше… С другой стороны, и собининская афера была для того времени в порядке вещей – как только ни исхитрялся народ, чтобы освободиться от податей или хоть поослабить чуток тягловое бремя.
Приезд выборных от Земского собора в Кострому.
Рисунок из «Книги об избрании на царство царя Михаила»
Наконец, в царствование Анны Иоанновны потомок Сусанина «Иван Лукоянов сын Собинин», которого «положили в тягло в равенстве», подал на высочайшее имя челобитную, прося подтвердить свой привилегированный статус. Ответ не замедлил – в указе от 19 мая 1731 года говорилось: «в прошлом <…> приходил из Москвы из осад на Кострому блаженной и вечной достойный памяти великий Государь Царь и великий князь Михайло Федорович, с матерью своей с великой государыней инокиней Марфой Ивановной и были в Костромском уезде в дворцовом селе Домнине, в которую бытность их Величеств в селе Домнине приходили Польские и Литовские люди, поймав многих языков, пытали и расспрашивали про него великого Государя, которые языки сказали им, что великий Государь имеется в оном селе Домнине и в то время прадед его оного села Домнина крестьянин Иван Сусанин взят оными Польскими людьми, а деда их Богдана Собинина своего зятя оный Сусанин отпустил в село Домнино с вестью к Великому государю, чтоб Великий государь шел на Кострому в Ипацкий монастырь для того что Польские и Литовские люди до села Домнина доходят, да он Польских и Литовских людей оный прадед его от села Домнина отвел и про него великого государя не сказал и за то они в селе Исуповке прадеда его пытали разными немерными пытками и, посадя на столб, изрубили в мелкие части, за которое мучение и смерть оного прадеда даны деду его Богдану Собинину Государевы жалованные грамоты…»
В этом документе, составленном на основании лукояновской челобитной, впервые упоминаются два обстоятельства: в подвиге участвовал не только сам Сусанин, но и его зять[308], уже знакомый нам аферист Богдан Собинин; а злобные ляхи не одного Сусанина отловили, но пытали многих. Первое дополнительно обосновывает претензии Лукоянова, второе предает всей истории большую масштабность. Правда, сам Богдан Собинин – по скромности, очевидно, – о собственной роли в событиях 1619 года умолчал, но теперь, как видите, справедливость восторжествовала.
Становление. Миф монархический
В середине мая 1767 года, важнейшего в первой половине ее царствования, в Кострому, совершая вояж по стране[309], наведалась императрица Екатерина II. Монарший визит был отнюдь не случайным: здесь дважды во всеуслышание прозвучало утверждение ее преемственности по отношению к основателю дома Романовых. То есть происходила легитимация Екатерины II, как известно, не имевшей никаких прав на российский престол – ни по наследству, ни по завещанию.
На следующий день по прибытии государыни в Кострому об этом говорил в Успенском соборе архиепископ Дамаскин, которому воцарение Михаила представлялось главным и едва ли не единственно важным событием в истории города. «Предок Вашего Императорского Величества, Михаил Федорович, от Литовских и Польских людей искомый, в пределе того крестьянином Иваном Сусаниным утаен бысть и сей же, про прошению духовных и мирских, нарочно от Царствующего Града Москвы, присланных чинов, принял скипетр Российского Государства, но радость оная ово тогдашнего ради смятения и мучения оными людьми реченного Сусанина ведавшего где, и не сказавшего им про него даже до смерти, ово ради матери его Государыни Великой Старицы Марфы Иоанновны, о младом своем сыне во столь многомятежное Всероссийское время на рамени свои восприемлющем, с плачем растворялась».
Именно в этот момент подвиг Сусанина впервые стал частью истории возведения Романовых на престол и слился с нею, утверждая идею народной любви и преданности царствующему дому. Одновременно Екатерина II была признана наследницей московских царей: «…вниди в град сей, вниди путем, им же прием скипетр Всероссийского Царства, шествовал достохвальный прадед твой Михаил Федорович».
Чуть позже, уже в Ипатьевском монастыре, генерал-поручик А.И. Бибиков[310] говорил, обращаясь к императрице: «Преславно и знаменито время здешней стране и граду, в которое Всевышнему судилось возвести на Всероссийский престол вечно прославления достойного Государя Царя Михаила Федоровича, прапрадеда Вашего Императорского Величества, и тем избавить многими мятежами уже изнуренную Россию от всеконечного ее разрушения».
Екатерина II чутко уловила пропагандистское значение сусанинского мифа, и потому в декабре того же 1767 года все привилегии потомков «спасителя династии» (к тому времени их, между прочим, насчитывалось аж 153 человека) были в очередной раз подтверждены соответствующим монаршим указом.
Правда, в литературе за время ее царствования сусанинская история всплывала всего дважды, да и то как-то мимоходом – в труде Ивана Васькова «Собрание исторических известий, относящихся до Костромы» в 1792 году и в «Зерцале российских государей» Тимофея Мальгина в 1794-м.
Оно и не удивительно: мифу еще предстояло расцвести – уже на следующем этапе.
Расцвет. Миф патриотический
В XIX веке потомки Екатерины II уже мало задумывались о легитимации своего положения на троне – время сделало свое дело. Зато для цементирования разноплеменной Российский империи понадобилась общегосударственная патриотическая идея. В окончательном виде она сформировалась в царствование Николая I, в 1834 году, когда Уваров[311] огласил свою знаменитую триаду «православие, самодержавие, народность» – тезис, и в наши дни находящий отклик во многих (слишком многих!) душах. Однако вызрела-то эта «официальная теория народности» не враз… И сусанинский миф, хорошо подогретый патриотическим пафосом Отечественной войны 1812 года, пришелся тут очень в жилу.
Не собираюсь слишком долго занимать ваше внимание, отслеживая каждое упоминание об Иване Сусанине в литературе. Достаточно назвать «Словарь географический Российского государства» Афанасия Щекатова, «Словарь достопамятных людей в России» Бантыш-Каменского[312], «Русскую историю в пользу воспитания» С.Н. Глинки[313], учебники Константинова (1820 г.) и Кайданова (1834 г.); в области художественной литературы – думу Рылеева «Иван Сусанин» и драму Полевого[314] «Костромские леса»; на сцене – оперы Кавоса[315] «Иван Сусанин» и Глинки «Жизнь за Царя» (последняя, кстати, была написана с подачи В.А. Жуковского[316])…
Печать царя Михаила Федоровича
(ею и была скреплена знаменитая обельная грамота)
Для нас с вами важно сейчас одно. В фигуре нашего героя сошлись все три магических слова: православие (ибо он, разумеется, был православным по вероисповеданию), самодержавие (ибо он стал «спасителем династии») и народность (как-никак, выходец из народа). Столь емкий символ просто не имел права пропасть втуне.
И не пропал. Напротив, как видите, он стал, как признает Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, «любимым предметом для деятелей искусства всех жанров». Впрочем, и для большинства историков – приятное исключение составляли, пожалуй, только Костомаров и отчасти Соловьев.
Путешествуя в 1834 году по России, Николай I дал разрешение на сооружение в Костроме памятника Михаилу Романову и Сусанину – «во свидетельство, что благородные потомки видели в бессмертном подвиге Сусанина – спасении жизни новоизбранного русской землей царя через пожертвование своей жизни – спасение православной веры и русского царства от чужеземного господства и порабощения». Правда, воздвигнут монумент был по проекту В.И. Демут-Малиновского[317] только в 1851 году. Высеченный на цоколе текст гласил: «Ивану Сусанину, за царя, спасителя веры и царства, живот свой положившему, благодарное потомство». На высоком пьедестале застыл юный царь, увенчанный шапкой Мономаха, а внизу притулилась фигура молящегося Сусанина; рядом было помещено несколько слов о нем и воспроизведен текст обельной грамоты 1619 года.
Закат. Миф советский
Едва в городе укрепилась советская власть, как памятник этот, разумеется, снесли – по решению Костромского совета депутатов от 5 сентября 1918 года: монархическая идея почиталась вредной, а патриотическая – чуждой, ибо о каким патриотизме могла идти речь в преддверии мировой революции. Однако в канун Великой Отечественной войны, когда позади уже были бои на Хасане и Халхин-Голе, когда вовсю шла подготовка к Финской кампании, патриотическая идея понадобилась опять.
И сразу же вернулась на сцену опера Глинки, до того изъятая из репертуара и вообще не упоминаемая. Премьера ее состоялась 2 апреля 1939 года. Правда, старое название – «Жизнь за Царя» – сменилось новым: «Иван Сусанин», а место либретто Жуковского-Розена заняло так называемое советское, вышедшее из-под пера Городецкого[318] и написанное в соответствии с установками, изложенными Самосудом[319] в статье в «Правде» от 4 июня 1937 года: опера должна была превратиться в «глубоко патриотическую народную драму, направленную своим острием против врагов великого русского народа». В итоге получился дивный памятник сталинского искусства. Из советского либретто бесследно исчезли царь и самомалейшие намеки на монархические чувства народа. Взамен опера наполнилась восславлением, как пишет Виктор Живов, «имперского милитаризма, пафосом национального единства, народного героизма, борьбы со злокозненными интервентами, богатства и величия русской земли».
Сусанин вернулся на страницы учебников, но как-то измельчав, утратив высокий символизм и уйдя на периферию сознания. Тот факт, что в 1942 году двенадцатилетний пионер-герой Коля Молчанов повторил сусанинский подвиг в лесах Брянщины, заведя в болото немецкий обоз и даже ухитрившись остаться в живых, как-то мало увязывался с давней историей. Александры Матросовы и Николаи Гастелло говорили уму и сердцу куда больше.
Тем не менее осенью 1967 года в Костроме был открыт новый памятник Ивану Сусанину – теперь уже работы скульптора Н.А. Левинского. Монумент из желтого известняка высотой в 12 метров установлен на Молочной горе. Фигура Сусанина, высеченная из азербайджанского известняка, развернута лицом к Волге, из-за чего символически повернулась спиной к гуляющему по бульвару народу.
Эхо. Костромской бренд
«Иван Сусанин – главный бренд Костромской области» – формулировку эту придумали сами костромичи; регион всерьез решил зарабатывать на самом известном земляке. Здесь открыты туристический маршрут «Сусанинская тропа» с театрализованным действом и Музей сусанинского подвига; подле Домнинской церкви установлен памятный крест (по одной из версий, герой лежит именно тут); выпускается водка «Иван Сусанин» (ну как без того на Руси!)… Планируется осмотр мест гибели героя с дельтаплана и еще много радостей для тех, кто готов выложить деньги.
Установлено место погребения дочери Сусанина и его внуков – при поддержке администрации Красносельского района там установлены памятники. В Коробове подле руин Предтеченского храма воздвигнут памятный крест. Принято решение о начале реставрации храма в Прискокове. По благословению архиепископа Александра реставрация храма поручена протоиерею Георгию Эдельштейну, на что градоначальник Костромы Борис Константинович Коробов, «сам являющийся прямым потомком Ивана Сусанина»[320], уже выделил от Фонда по подготовке празднования четырехсотлетия дома Романовых 100 000 рублей. Начата кампания по канонизации «спасителя династии». Тут, правда, многие проявляют осторожный скепсис, однако отец Николай Кабанов, настоятель церкви Покрова Пресвятой Богородицы в райцентре Сусанино Костромской епархии, возражает: «До нас не дошло свидетельств о его праведности, однако здесь можно вспомнить князей Бориса и Глеба[321], которых прославили не за то, что они были святыми при жизни. В чине страстотерпца можно было бы канонизировать и Сусанина. За святость подвига. Специалисты, наверное, могут что-то возразить, но обстоятельства гибели нашего земляка красноречиво говорят – великий был человек».
Укрепления Костромы.
Рисунок XVII в.
Археологи вовсю ищут могилу – или место гибели – героя. Причем находят. Одно, например, в деревне Исупово; среди первых находок – его нательный крестик. А поскольку во время раскопок обнаружены сотни человеческих останков, теперь предстоит многолетняя работа по установлению, какие из них могли принадлежать Ивану Сусанину. Другое упорно отыскивается в Ипатьевском монастыре, хотя в педантично ведшихся монастырских архивах о факте захоронения героя нет ни слова. В болоте, где якобы утопил Сусанин поляков, тоже найден какой-то скелет. И в лесу, где он ляхов водил, тоже… Впрочем, мало ли скелетов лежит в русской земле?
Мемориальный камень, установленный энтузиастами в окрестностях Домнина
И все это – лишь малая толика эксплуатации сусанинского имени. Так неужели же вы думаете, будто благолепно уйдет в небытие миф о подвиге, которого никогда не было?
Впрочем, как заметила писательница Мария Арбатова, «Сусанин – это такая здоровая историческая мифология»…
Глава 12. Последняя хитрость Лиса пустыни
Не тратьте души на никчемные споры,
Пусть прошлое тихо уснет под водой:
Красивая сказка – хоть ложь, да опора,
А правда – извечно чревата бедой…
Андреас Фон Бальдур[322]Белый рыцарь
Сага о нем начала складываться почти сразу по окончании Второй мировой войны – усилиями множества историков и генералов-мемуаристов, не говоря уже о журналистах, писателях и кинорежиссерах, причем отнюдь не только немецких. И уже вскоре плоды их совместных усилий обрели черты завершенного портрета, на котором генерал-фельдмаршал Йоханнес Эрвин Ойген Роммель выглядел примерно следующим образом.
Роммель (на снимке слева) – юный офицер времен Первой мировой
Он родился в Хайденхайме, близ Ульма, 15 ноября 1891 года в хорошей семье – отец был школьным учителем, а мать – дочерью высокопоставленного вюртембергского[323] сановника. Девятнадцати лет от роду одаренный юноша, с младых ногтей грезивший подвигами во имя отечества и воинской славой, был записан кадетом в 124-й пехотный полк и одновременно зачислен в двухгодичное военное училище в Данциге[324] (и это – несмотря на врожденную паховую грыжу!), откуда вышел в 1912 году пехотным лейтенантом. Во время Первой мировой войны сражался сперва на Западном фронте, во Франции, где был ранен и награжден Железным крестом первой степени, а потом на Итальянском, где отличился при штурме нескольких горных вершин, в том числе Монте-Матажур (к этому последнему эпизоду мы еще вернемся). Его деяния не остались незамеченными, и в 1917 году кайзер Вильгельм II за мужество, проявленное в сражении при Капоретто, удостоил капитана Роммеля ордена Pour le merite[325].
Во времена Веймарской республики и даже после прихода к власти нацистов Роммель, нимало не интересуясь политикой, служил в рядах рейхсвера: командовал пехотным полком и преподавал – сперва в Дрезденском, а потом в Потсдамском пехотных училищах. На основе своих лекций он опубликовал в 1937 году книгу «Пехотные наступательные операции» – серьезный учебник по тактике пехотной атаки, в котором была впервые развита так называемая доктрина «опережающего контроля». Сформулированная в этом труде теория ближнего боя была сразу же по достоинству оценена коллегами.
Начало Второй мировой вернуло Роммеля на поля сражений – правда, в новом качестве: 15 февраля 1940 года он был произведен в генерал-майоры и принял под командование 7-ю танковую дивизию. В мае-июне 1940 года, во время наступления на Францию, Роммель выработал собственную тактику, которой придерживался в дальнейших военных действиях: он стремительно продвигался вперед, не считаясь ни с каким риском и компенсируя это фактором внезапности и огневой мощи. Роммель старался наступать не широким фронтом, но сосредотачивая танки для прорыва линии обороны противника с тем, чтобы ударить ему в тыл и в итоге добиться перевеса. Правда, приверженность наступательной доктрине имела и оборотную сторону: столкнувшись 21 мая 1940 года под Аррасом с неожиданной и мощной контратакой, Роммель ко всеобщему изумлению реагировал на нее как-то нерешительно и неуверенно. Впрочем, на общем фоне неизменных успехов этого лыка ему в строку никто ставить не стал.
Он лично участвовал в боях, находясь в передовых рядах, чтобы на месте определять боевую обстановку и обладать способностью немедленно принимать решения. Солдаты, нечасто видевшие генералов в гуще боя, были воодушевлены таким поведением командира и полюбили его. Все это укрепляло боевой дух роммелевских танкистов. Его соединение столь ретиво, по 60–80 километров за день, продвигалось в глубь французской территории, что заслужило прозвище «призрачной дивизии», ибо противник никогда не мог предугадать, где именно она появится в следующий раз, а командир вскоре присоединил к Железному кресту новый – теперь уже Рыцарский. К окончанию французской кампании, потеряв всего 2500 человек и 42 танка, Роммель захватил около 100 000 пленных и уничтожил более 450 танков противника, не считая множества артиллерийских орудий.
В феврале 1941 года Роммель был поставлен во главе экспедиционного танкового корпуса и отправлен в Северную Африку с полномочиями главнокомандующего всеми операциями войск стран «оси Рим-Берлин-Токио» против Египта и Суэцкого канала (хотя номинально этот пост по-прежнему занимал итальянский генерал Эттори Бастико). На африканском театре военных действий британская Армия пустыни под командованием генерал-майора Ричарда О’Коннора без особого труда теснила вяло отбивающихся итальянцев: за два месяца англичане продвинулись на 800 км, уничтожив девять итальянских дивизий, взяв в плен 130 000 человек, захватив 400 танков и 1290 орудий, тогда как их собственные потери составили всего 500 человек убитыми и 1373 ранеными.
С прибытием Роммеля положение радикально переменилось. На протяжении двух лет – с марта 1941 по март 1943 года – блистательный военачальник (едва успевая менять погоны – генерал-майорские сперва на генерал-лейтенантские, потом на генерал-полковничьи, полного генерала и, наконец, на генерал-фельдмаршальские) противостоял здесь неуклонно растущей мощи союзников, удостоившись от них прозвища Лис пустыни, которым чрезвычайно гордился.
Фюрер вручает Роммелю бриллианты к Рыцарскому кресту 17 марта 1943 г.
Несмотря на то что мощь англичан и американцев возросла, а итальянские союзники Роммеля были откровенно слабы, его части продолжали храбро сражаться. Гитлер, который не хотел или не мог прислать Африканскому корпусу подкреплений, в то же время приказал Роммелю и его людям «биться до последнего солдата».
Едва ли не все военные историки сходятся в том, что получи Роммель дополнительно три моторизованные дивизии, которые он требовал у Гитлера и Верховного командования вермахта, он, разгромив британские колониальные войска, достиг бы Каира и Суэцкого канала и оказался в состоянии перерезать поток союзнической помощи, идущей в Советский Союз через Персидский залив и Иран (лучше не думать, какой потерей это обернулось бы для СССР!). Однако этого не случилось – из-за поглощенности руководства вермахта основными наступательными действиями на Восточном фронте и недооценки значения африканского театра военных действий.
В итоге, не желая губить своих людей в бесплодной борьбе, 6 марта 1943 года генерал-фельдмаршал предпочел капитулировать. Тем не менее большинство историков сходятся в оценке: в сложнейших условиях действия Африканского корпуса носили феноменальный характер и навсегда вписаны золотыми буквами в летопись вермахта, а также в историю военного дела вообще.
Даже будучи разгневан невыполнением приказа, Гитлер все же понимал, что талантливый полководец ему нужен, а потому приказал перед подписанием капитуляции эвакуировать Роммеля в Германию. Некоторое время тот являлся советником рейхсканцлера по вопросам обороны Италии, а 15 июля 1943 года был направлен во Францию, чтобы укрепить там оборону в канун ожидаемого вторжения союзников. Роммель утверждал, что в районе предполагаемого десанта необходимо сосредоточить танковые части, дабы разгромить союзников непосредственно в момент высадки, однако на его предложения не обратили внимания. Он смог лишь укрепить моральный дух войск да установить на побережье около 5 000 000 мин.
Когда началась операция «Оверлорд» и союзники высадились в Нормандии, Роммель находился в Германии, в отпуске, но сразу же вернулся во Францию, чтобы лично возглавить оборону. Гитлер по-прежнему отказывался использовать резервные танковые дивизии, вследствие чего генерал-фельдмаршалу в попытке остановить продвижение союзников оставалось лишь последовательно создавать все новые оборонительные рубежи. Искусно маневрируя, он отводил людей в тыл перед налетами авиации противника и возвращал их на позиции перед наступлением его сухопутных сил.
17 июля 1944 года английский истребитель обстрелял штабную машину Роммеля, и генерал-фельдмаршал был ранен в голову. Его отправили в Германию для лечения, но вернуться на передовую бесстрашному воителю было уже не суждено.
Хотя и в Африке, и во Франции Роммель в конце концов терпел поражения, а звездным его часом так и осталось взятие Тобрука, зато впереди генерал-фельдмаршала ждал звездный час политика и гражданина – участие в событиях 20 июля 1944 года.
Увы, заговор провалился: Гитлер уцелел при взрыве бомбы полковника Клауса Шенка фон Штауффенберга, в армии начались безжалостные и кровавые чистки, кольцо вокруг генерал-фельдмаршала все сжималось, и Роммель, которому в случае успеха заговора прочили кресло рейхспрезидента, был вынужден покончить с собой, приняв яд.
Так ушел из жизни рыцарь без страха и упрека, современный Ганнибал и современный Брут в одном лице – ушел, чтобы стать бессмертным героем неувядающей легенды.
Генерал Шпейдель утверждал, будто Роммель намеревался арестовать и предать суду Гитлера, а журналист Лютц Кох пошел еще дальше, поведав миру о совместном плане Роммеля и Манштейна захватить ставку фюрера. Вице-адмирал Фридрих Руге писал: «Фельдмаршал был единственным человеком в Германии, который хотел закончить войну 20 июля 1944 года». А по мнению начальника штаба Африканского корпуса генерала Нольте, Роммель был «неподкупен в своем осуждении безнравственной, лживой и самообманывающейся системы». Активный участник Сопротивления Карл Штрелин вспоминал о своих встречах с Роммелем и ведшихся меж ними многозначительных и многообещающих беседах.
Им вторили даже бывшие противники. Американский генерал-майор Омар Нельсон Брэдли назвал Роммеля «одним из величайших героев мировой истории». И даже непримиримый борец с фашизмом Уинстон Черчилль, выступая в 1953 году в палате общин, сказал: «Сопротивление гитлеровской тирании, которому отдал жизнь Роммель, я расцениваю как еще один его подвиг». А среди арабов Северной Африки он слыл настолько неуязвимым, что еще в 1967 году бедуины утверждали, будто встречали в пустыне фельдмаршала, который во главе своего штаба дожидался своего старого противника – британскую Восьмую армию генерал-лейтенанта сэра Бернарда Лоу Монтгомери, первого виконта Аламейнского… Каирская газета «Эль Бурс» свидетельствовала: «Образ этого человека завораживает массы, олицетворяя для них чувство и мечту. Среди песчаных дюн они угадывают силуэт вечного пленника пустыни, усматривая в том и поэзию, и чудо…»
Но оставим чудеса и поэзию бедуинам – еще классик подметил их неиссякаемую склонность «петь, считая звезды, про дела отцов» – и обратимся к фактам.
Серая правда. До Северной Африки
Начнем с того, что Роммель вовсе не чаял с детства офицерской карьеры – наделенный несомненными математическими способностями подросток мечтал о стезе авиаконструктора и в военном училище оказался, лишь подчинившись категорическому настоянию отца. Впрочем, подчиняться он любил, что и обеспечило ему относительно благополучную жизнь в армейской среде.
На полях Первой мировой он и впрямь отличился, но эпизод со штурмом Монте-Матажура наложил отпечаток на всю его дальнейшую жизнь. Так случилось, что награду за эту действительно блестящую операцию[326] получил другой офицер, некий лейтенант Шнибер. И хотя в конце концов справедливость восторжествовала и роммелевская грудь украсилась-таки орденом «За заслуги», с тех пор он неукоснительно преуменьшал чужие заслуги, преувеличивал собственные и ловко перекладывал ответственность за свои просчеты на плечи подчиненных. Он проявил себя незаурядным психологом, стяжая лавры за самые малозначащие победы, о которых другие военачальники – вроде Манштейна или Гудериана, например, – постеснялись бы и упоминать. Однако это, в конце концов, лишь черта характера – малоприятная, но не более того.
Важнее другое. Взлет Роммеля был целиком и полностью обусловлен лишь благорасположением фюрера. Правда, начало его карьеры на службе Третьему рейху не задалось. Дело в том, что какой-то светлой голове в Берлине взбрело: раз Роммель так легко находит общий язык с молодежью в своем училище, отчего бы ему не покомандовать гитлерюгендом, воспитывая в должном духе подрастающее поколение? Но тут наш бравый воитель потерпел полное фиаско: даже прочие вожди молодежного движения не смогли примириться с его солдафонскими методами. Да что там вожди! Его собственный сын Манфред, которому в соответствии с отцовскими идеями о правильном воспитании уже в семь лет приходилось по нескольку часов в день отрабатывать элементы кавалерийской атаки, впоследствии вспоминал о детских годах с ужасом и отвращением.
Впрочем, особенно расстраиваться полковник Роммель не стал. Не вышло с наставничеством – что ж, он стяжает лавры теоретика. Тогда-то он и засел за упоминавшуюся выше книгу «Пехотные наступательные операции».
Здесь необходимо сделать небольшое отступление и, покинув континент, перенестись за Ла-Манш, в Англию, чтобы познакомиться там с замечательным военным мыслителем Бэзилом Лиддел-Гартом. Основываясь на собственном опыте, полученном на фронтах Первой мировой войны, в 1920 году тридцатипятилетний капитан написал служебную инструкцию под названием «Обучение пехоты». Выпущенная мизерным тиражом и распространявшаяся исключительно в армии, брошюра эта осталась практически не замеченной, а высказанные там идеи – не оцененными по достоинству. Обиженный этим, Лиддел-Гарт в 1924 году вышел в отставку, чтобы развивать и продвигать свои идеи уже в качестве частного лица, хотя в 1937 году некоторое время и состоял советником при тогдашнем военно-морском министре Сэмюэле Джоне Гёрни Хоре, первом виконте Темплвуде. На собственные средства Лиддел-Гарт опубликовал несколько работ, посвященных использованию в следующей войне авиации, а также танковых соединений, которые рассматривал в качестве самостоятельной и независимой ударной силы для глубокого проникновения на территорию противника и отсечения вражеских войск от их тылов и высшего командования. Увы, и к этим его идеям соотечественники обратились, лишь когда жареный петух в темечко клюнул – то бишь после начала (да и то не сразу) Второй мировой. Впрочем, и это запоздалое признание идей не принесло их автору ни званий, ни постов, ни особых лавров. После 1945 года Лиддел-Гарт интервьюировал пленных немецких генералов (Рундштедта, Клейста и многих других), после чего написал по сей день остающуюся лучшей по глубине анализа и сжатости изложения однотомную «Историю Второй мировой войны»[327]. Умер Лиддел-Гарт в 1971 году в возрасте семидесяти шести лет.
Что ж, как известно, в своем отечестве голос пророка нередко остается гласом вопиющего в пустыне. Однако за пределами родных палестин его нередко слышат, и слышат очень даже хорошо. Немцы же всегда отличались завидным слухом – так, Гудериан и Роммель извлекли для себя немалую пользу из работ Лиддел-Гарта и даже открыто называли себя его учениками и последователями. Но это – что касается его более поздних трудов, касающихся стратегии и тактики танковых войск. А вот о малоизвестной лиддел-гартовской брошюре «Обучение пехоты» никто из них даже мельком не упомянул. Казалось бы, чему удивляться: ну осталось это ведомственное издание неизвестным и забытым – такое ведь сплошь и рядом случается. Но так – да не так: роммелевские «Пехотные наступательные операции» так проникнуты духом служебной инструкции Лиддел-Гарта, так творчески развивают идеи британского капитана, что совпадения эти случайными при всей снисходительности не сочтешь.
Вот и получается, что лавры теоретика Роммель снискал, как говорится, въехав в рай на чужом горбу. Но так или иначе, а выход в свет его труда явился одним из важнейших, поистине судьбоносных событий в роммелевской жизни: книгой всерьез заинтересовался сам фюрер. Заинтересовался настолько, что вскоре, летом 1939 года, ее автор сменил полковничьи погоны на генерал-майорские и был назначен комендантом ставки Гитлера. А затем фюрер внял настоятельным просьбам своего любимца, опасавшегося, что война может закончиться без его участия, не принеся желанных наград, и доверил ему танковую дивизию, хотя управление кадрами категорически возражало против такого назначения – и не без оснований, поскольку Роммель был все-таки пехотным офицером.
Любопытная деталь: принимая в феврале 1940 года в Бад-Годесберге Седьмую танковую дивизию, Роммель со спартанской прямотой спросил у ее не слишком довольного происходящим прежнего командира, старого генерала Шмидта:
– Скажите, а как лучше всего руководить танковой дивизией?
– Всякая ситуация подразумевает два варианта решения, – процедил тот. – И более смелое – всегда самое верное.
С той минуты Роммель, еще не успевший ознакомиться с работами Лиддел-Гарта по тактике танковых операций (это произойдет месяца через три-четыре), неукоснительно следовал этому совету Шмидта – в чем, в чем, но в недостатке храбрости упрекнуть его не мог никто и никогда; орден Pour le merite он носил совершенно заслуженно. А вот тезис, согласно которому (помните?) «…в мае-июне 1940 года, во время наступления на Францию, Роммель выработал собственную тактику», увы, приходится переформулировать: в означенный срок он просто-напросто хорошо усвоил в теории и применил на практике лиддел-гартовские идеи. Что ж, если разобраться, и это не так уж мало.
Притом не следует упускать из виду и мнения, бытовавшие как в среде штабных офицеров, так и в среде офицеров-танкистов из других подразделений, действовавших на том же театре военных действий. Невероятные успехи «призрачной дивизии» во время французской кампании, утверждали они, объяснялись не столько талантами ее командира, сколько привилегированным снабжением и множеством других преимуществ, в которых любимцу самого фюрера никто не мог, да и не хотел отказать…
Серая правда. Северная Африка
Здесь Роммель и впрямь показал все, на что был способен, но одновременно выяснилось, что способен он не столь уж на многое. «Всемирная история войн» Эрнеста и Тревора Дюпюи объективно отмечает: «Главным достижением Роммеля было эффективное применение тридцати пяти имевшихся в его распоряжении 88-мм зенитных орудий, которые он выдвигал вперед, чтобы образовать очаги смертоносного противотанкового огня, под защитой которого быстро маневрировали его собственные танки». Неплохо, разумеется, однако до Ганнибала все-таки далеко[328]…
Лис пустыни в Северной Африке
На этом, пожалуй, следует остановиться особо. Временами создается впечатление, будто Роммель искал не столько победы, сколько славы. Причем нагляднее всего это проступает на примере общепризнанно самой блестящей из роммелевских операций – взятии Тобрука 14–30 июня 1942 года, за которое он и был произведен в генерал-фельдмаршалы. Геббельсовская пропаганда превозносила его как национального героя («Это – как овеществленная мечта», – признавалась в одном из писем к мужу фрау Люция Роммель). И даже Черчилль, выступая в палате общин, не без досады снял перед противником шляпу, сказав: «Мы имеем перед собой весьма опытного и храброго врага и, должен признаться, несмотря на эту опустошительную войну, – великого полководца».
Все так. Но.
Это поражение стоило Англии 75 000 жизней, не говоря уже о потере порта, занозой торчавшего в боку роммелевских операций (и, к тому же, базы, где было сконцентрировано немало всякого рода запасов). И в то же время на поверку роммелевский триумф обернулся авантюрой: англичане-то могли вновь накопить силы, а вот немцам на пополнение рассчитывать никоим образом не приходилось, поскольку Средиземное море контролировали флот и особенно авиация союзников. А потому понесенные Роммелем при штурме Тобрука потери, хотя и вдвое меньшие, нежели английские, оказались для него роковыми. И четыре месяца спустя Африканский корпус понес тяжелейшее поражение в битве при Эль-Аламейне. Правда, новоиспеченный генерал-фельдмаршал сумел на редкость вовремя заболеть дизентерией, был эвакуирован для лечения в Германию, а потому и ответственности за вполне предвидимую катастрофу не разделил; впрочем, ответственности не понес никто, поскольку заместитель Роммеля, генерал Ганс Штумме, в первый же день английского наступления умер от сердечного приступа. Более того, на третий день боев Роммель поспешил вернуться в Африку, чтобы, вновь приняв командование, попытаться насколько возможно спасти если не положение, то хотя бы сам Африканский корпус – что опять-таки способствовало вящей его славе полководца, пекущегося о подчиненных. Тем не менее потери оказались огромными: 59 000 человек (совокупно убитыми, ранеными и захваченными в плен, в том числе 34 000 немцев), 500 танков, 400 орудий и большое количество другой техники. Зато британская Восьмая армия потеряла лишь 13 000 (совокупно убитыми, ранеными и пропавшими без вести), а также 432 танка.
Роммель с подчиненными изучает карту во время кампании в пустыне.
Фото декабря 1941 г.
Стратегически и психологически Эль-Аламейн является решающим сражением Второй мировой войны – с него началось крушение держав «оси Рим-Берлин-Токио». Эта победа спасла Суэцкий канал, позволила англо-американским войскам четыре дня спустя вторгнуться в Северную Африку и явилась прелюдией к разгрому под Сталинградом. Укрепился боевой дух союзников, особенно – британцев, которые гордились тем, что имеют победоносные армию и командующего – генерала Бернарда Лоу Монтгомери. Соответственно, боевой дух солдат стран Тройственного пакта упал. Отданный Гитлером приказ «стоять до конца» (отмененный 48 часов спустя после того, как Лис пустыни уже начал отступление) также способствовал делу разгрома Африканского корпуса.
Роммель с офицерами своего штаба во время августовского наступления 1942 г.
Трудно умолчать и еще об одной не слишком широко известной детали, добавляющей некую черту к портрету Белого рыцаря. Помимо чисто военных, стратегических задач, важнейшей целью немцев в Северной Африке было изъятие и вывоз всех и всяческих ценностей: валюты, золота, драгоценных камней, музейных редкостей, ювелирных изделий, картин и других произведений искусства. Для выполнения этой миссии Африканскому корпусу была придана особая моторизованная команда СС во главе с неким оберштурмбаннфюрером Шмидтом, оперативно подчинявшимся Роммелю, но подотчетным только лично рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру. За два года доблестные сыны Третьего рейха награбили неисчислимые сокровища, причем немалая их часть являлась достоянием не рейха, а генерал-фельдмаршала лично. В 1943 году эсэсовцы погрузили эти ценности в шесть больших бронированных контейнеров и отправили морем из тунисского порта Бизерта в Аяччо на Корсике, откуда их должны были вывезти в Италию. Однако американская авиация беспрестанно бомбила Аяччо, не позволяя ни одному судну выйти в море. Тогда эсэсовская охрана решила спрятать сокровища в подводной пещере на восточном побережье Корсики (по одним данным) или в бухте Сен-Флорин (по другим). Впрочем, дальнейшая история этого так называемого «клада Роммеля» – сюжет совершенно иного рассказа…
Роммель во время августовского наступления 1942 г.
И наконец, последний штрих, к событиям в Северной Африке отношения уже не имеющий, но естественно завершающий разговор о полководческом гении Роммеля. Когда в январе 1944 года в преддверии высадки союзников в Европе генерал-фельдмаршал был назначен командующим группой армий «Б» в Северной Франции, начальник штаба Верховного командования вермахта генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель предположил: «Фюрер знает, что Роммель никакой не стратег, а обыкновенный солдат и не более того, и значит, он хочет сам командовать сражением, используя этого фанатичного исполнителя его воли как орудие». Подтверждением высказанного Кейтелем мнения может служить факт, почерпнутый английским историком и писателем Дэвидом Ирвингом[329] из дневников офицеров группы армий «Б»: Гитлер совершенно справедливо ожидал высадки союзников на берегах Нормандии или Бретани, тогда как Роммель предлагал встречать их на французском берегу Ла-Манша[330]. Впрочем, здесь, скорее всего, действовал и еще один фактор: Гитлер хотел предоставить своему любимцу-неудачнику шанс восстановить репутацию, пошатнувшуюся после капитуляции в Африке, – тем более что на западе дело предстояло иметь с англичанами и американцами, уже имевшими опыт войны с Роммелем и уважавшими его как противника.
Роммель и Кейтель
Серая правда. Заговор генералов
А теперь – главное. Роммель не имел ни малейшего отношения к Сопротивлению, недаром же один из активных участников заговора 20 июля, чудом уцелевший Ганс Берндт Гизевиус – сотрудник абвера, работавший в Швейцарии – назвал его «супернацистом среди гитлеровских фельдмаршалов». И это, пожалуй, самая точная и емкая формулировка.
Роммель в только что завоеванном Париже
В отличие от большинства немецких генералов, хотя и выполнявших приказы, но все-таки недолюбливавших выскочку-ефрейтора, Роммель принял Гитлера всей душой и оставался верен ему до конца. Немалую роль в формировании такого отношения сыграла его жена, фрау Люция, буквально боготворившая рейхсканцлера. «Молитесь ли вы каждый день за фюрера?» – неизменно спрашивала сия экзальтированная дама у своих гостей, и горе тому, чей ответ звучал с запинкой: больше в доме Роммелей ему появляться не стоило. Трудно сказать, действительно ли Роммель был заворожен личностью Гитлера изначально, или же просто ночная кукушка – величайший мастер убеждать, но вскоре и сам бравый вояка стал изъясняться таким же образом. Даже его рождественские открытки родственникам заканчивались неизменным «Хайль Гитлер!». И сохранил он свое отношение к вождю нации до последнего вздоха. «Какая сила исходит от него, какая вера и преданность привязывают народ к нему!» – патетически писал Роммель в дневнике осенью 1943 года. Саму идею противодействия Гитлеру Роммель отвергал как изначально абсурдную, ибо до последнего дня верил: фюрер сумеет найти достойный политический выход даже из проигранной войны.
Справедливости ради замечу, что заговорщики несколько раз и впрямь пытались осторожно прощупать Роммеля. А заговорщиков в нацистской Германии, надо сказать, всегда хватало – особенно в штаб-офицерской и генеральской среде. Правда, заговор армейских офицеров в сентябре 1938 года – так называемый Берлинский путч – провалился в самый критический момент из-за явных недостатков планирования. К тому же заключенное как раз в тот момент Мюнхенское соглашение сослужило путчистам плохую службу, резко усилив популярность Гитлера и, соответственно, ослабив веру самих заговорщиков в успех. Годом позже, в ноябре 39-го, неудача постигла Цоссенский путч. В январе 1943 года разделил общую судьбу и Сталинградский путч. В марте того же года генерал фон Тресков и Шлабрендорф пришли к выводу, что настало время действовать. В самолете, на котором Гитлер вылетал из Смоленска в Растенбург, Шлабрендорф установил мину британского производства с часовым механизмом, замаскированную под бутылку бренди. По непонятным причинам бомба так и не взорвалась, но о попытке покушения, к счастью для заговорщиков, известно не стало. 21 марта 1943 года еще одна попытка покушения на Гитлера также провалилась, когда не сработали две бомбы, положенные в карманы гитлеровской шинели. Неудачными оказывались и все последующие попытки покушения. Участников Сопротивления казнили, сажали в тюрьмы и отправляли в лагеря, но кому-то всякий раз удавалось так или иначе спастись, так что цепь все-таки не прерывалась.
Судя по всему, первым, еще в феврале 1944 года, отважился завести разговор с Роммелем уже упоминавшийся выше обербургомистр Штутгарта Карл Штрелин. Вторым (дважды – в июне и 9 июля) – сотрудник административного штаба Верховного командования вермахта обер-лейтенант (а до войны – доктор исторических наук) Хофаккер, сын старого приятеля Лиса пустыни, командира Вюртембергской пехотной дивизии. Но Роммель или впрямь не понимал, о чем с ним заводят речь, или прикидывался, будто не понимает.
За три дня до покушения на Гитлера штабной «хорьх» Роммеля был обстрелян английским истребителем, и раненый генерал-фельдмаршал был доставлен сперва в лазарет Люфтваффе в Бернау а потом переправлен для лечения на родину, в Ульм. Врачи не утешали: в самом лучшем случае о возвращении в строй можно будет говорить месяцев через шесть – не шутки ведь, перелом основания черепа и тяжелое сотрясение мозга. Так что все события 20 июля Роммель пережил, лежа с затуманенным сознанием на больничной койке. Однако это его не спасло.
Число казненных в результате провала Июльского заговора по разным данным колеблется от 180 до 200 человек[331]; осужденных и приговоренных к различным срокам – как минимум на порядок больше. При том далеко не все они были действительно замешаны в покушении: иные пребывали в мягкой оппозиции, а грань между нею и заговором в подобных случая стирается начисто; с иными под шумок сводили счеты; кое-кого просто прихватили под горячую руку. Не наш 1937 год, конечно, но чистка была яростная и с размахом. Даже не ведавшие за собою и тени греха не могли не чувствовать себя под дамокловым мечом.
Когда тремя месяцами позже, в полдень 14 октября 1944 года, к нему явились генералы Бургдорф и Майзель, чтобы предложить герою нации во избежание преследования близких добровольно уйти из жизни, фельдмаршал задал единственный вопрос: «Фюрер об этом знает?» И безропотно принял утвердительный ответ в качестве смертного приговора. Он хотел застрелиться, как приличествует боевому офицеру, однако выбора ему не предоставили, и пришлось раскусить ампулу с цианистым калием. Так было нужно, чтобы похоронить самоубийцу поневоле с почестями – как героя нации, «скончавшегося вследствие осложнения после ранения». Фюрер сдержал слово – никаких репрессий к родственникам Роммеля применено не было.
Нация прощается с героем
Замечу, летом 1944 года, особенно после начала вторжения союзников, Роммель стал все-таки подумывать и даже поговаривать о необходимости перемен в стране. Однако мягкая его оппозиция резко отличалась от позиции заговорщиков: в отличие от этих последних, генерал-фельдмаршал и не помышлял о свержении Гитлера, мечтая лишь о том, чтобы фюрер дозволил заключить сепаратный мир (или хотя бы перемирие) и сосредоточить все иссякающие силы Третьего Рейха на Восточном фронте. Эти взгляды, надо сказать, разделяли и многие другие высокопоставленные военные, в том числе и чины СС.
Уже после войны, когда участие в Сопротивлении расценивалось не как преступление, но как подвиг, вдова Роммеля, фрау Люция, писала: «Я утверждаю, что мой муж не участвовал в подготовке событий 20 июля или руководстве ими. Он был солдатом, а не политиком». Уж кому бы, как говорится, знать лучше?
Ирония судьбы
Так из какого же зерна родились легенды о Роммеле – современном Ганнибале и герое Сопротивления?
С первой все просто: ее отцом было ведомство пропаганды рейхсминистра Геббельса. Начиная с, 1942 года в ходе войны уже явственно обозначился перелом, и для воодушевления народа был остро необходим герой. Кто же мог подойти на эту роль лучше, чем сражающийся в далекой Северной Африке Роммель? Пропаганда, надо сказать, оказалась столь эффективной, что убедила не только своих, но и чужих – именно ее опосредованным воздействием объясняется переоценивание полководческих талантов Роммеля некоторыми из английских и американских генералов. Впрочем, в этом последнем сыграло роль и традиционное стремление возвысить разбитого противника, увеличивая тем самым и ценность собственной победы.
Подлинный герой немецкого Сопротивления – полковник Клаус Шенк фон Штауффенберг
А вот героем Сопротивления, чуть ли не признанным лидером и душой заговора сделали Роммеля… сами же заговорщики, причем первыми среди них оказались тот самый доктор-лейтенант Хофаккер, начальник роммелевского штаба генерал Шпейдель и генерал Штюльпнагель. Называя на допросах имя «супернациста среди гитлеровских фельдмаршалов», который-де был «душой заговора, будущим рейхспрезидентом, готовым самолично свергнуть и казнить фюрера», они тем самым отводили подозрения от подлинных борцов с фашизмом (и замечу, благодаря этому маневру некоторым удалось остаться в живых). Но – ирония судьбы – подавляющему большинству этих счастливцев пришлось впоследствии хранить молчание или даже подпевать хору тех, кто после войны стал творить легенду о безупречном Роммеле.
И не только затем, чтобы не опровергать своих же слов: легенда отвечала потребностям времени. Мертвый генерал-фельдмаршал в ореоле мученика играл в послевоенной Германии роль чрезвычайно важную: поверженная нация испытывала чувство вины, мучилась комплексом неполноценности. И потому ей был жизненно необходим герой, не замаранный ни в холокосте, ни в военных преступлениях на Восточном фронте, далекий от берлинских интриг – герой, сама фигура которого подразумевала бы, что в тени колосса неизбежно должны крыться еще многие и многие борцы с режимом, а значит, и гитлеровская эра проходила вовсе не под знаком всеобщей фанатической преданности фюреру. Впрочем, такой герой был нужен не только Германии, но и бывшим ее противникам – недаром же именно с этих позиций написал в 1950 году свою биографию Лиса пустыни британский бригадный генерал Десмонд Юнг.
Со сравнительно небольшим временным разрывом на кино– и телеэкраны США (а далее, естественно, – и без малого всего мира) вышло несколько фильмов, посвященных военным действиям в Северной Африке: «Крысы пустыни»[332] (с немецким актером Эрихом фон Штрохеймдтом в роли Роммеля), «Лис пустыни» (с Джеймсом Мейсоном в той же роли), телесериал «Крысы пустыни», не так давно прокатившийся и по российским телеканалам, и т.д. Эволюция образа Роммеля от первого, антинемецкого (не в националистическом, разумеется, а в политическом смысле), до последнего, уже совершенно (и, я бы сказал, совершенно излишне) политкорректного, чрезвычайно показательна. Умный, но жестокий враг на глазах превращается в противостоящего, но благородного героя.
И даже сейчас, когда от крушения Третьего рейха нас отделяет более полувека, а современников событий почти не осталось в живых, отдельные и все еще довольно робкие покушения на роммелевский миф мгновенно вызывают взрыв всеобщего возмущения. В частности, жертвой такого всеобщего гнева стал уже упоминавшийся Дэвид Ирвинг, осмелившийся развенчать легенду о Лисе пустыне. Вице-адмирал в отставке Фридрих Руге объявил, что все выводы британца – «чистейший вымысел». Генерал Шпейдель (теперь уже не нацистский, а натовский) во множестве газетных и телевизионных выступлений не употреблял эпитетов более слабых, нежели «бред» и «ложь». Президент Красного Креста Вальтер Брагатцки призывал всех порядочных людей дать отпор наглой клевете английского историка… И так далее, и так далее. Подобных примеров можно привести немало.
Оно и не удивительно: трудно смириться с покушением на святыню, в которой важна не подлинность, а ее необходимость душам и сердцам.
А еще меня не оставляет еретическая мысль, будто рождение роммелевского мифа – последняя, пусть даже невольная и посмертная хитрость человека, не случайно прозванного не Львом, например (согласитесь, львы для Северной Африки куда более естественны!), но именно Лисом пустыни, этаким истинно немецким Рейнеке – лисом…
Часть III. Инакобывшее
Глава 13. Битва мифов
…всегда хотелось знать, что произойдет, когда необоримая сила натолкнется на неодолимое препятствие?
Артур КларкБайки Сфинкса, или Миф египтологов
Вряд ли Шампольон[333], публикуя в 1822 году свое «Письмо г-ну Дасье относительно алфавита фонетических иероглифов…» – книгу, излагавшую основы дешифровки древнеегипетской письменности, – предполагал, какую лавину стронет с места его труд. Иероглифы стало можно не только читать – ими даже научились писать: в Египетском зале Сиденхемского дворца помещенными в овалы картушей иероглифами были выведены имена королевы Виктории и ее любимого супруга, принца-консорта Альберта[334]; в Берлине иероглифами же обозначены годы строительства Египетского музея; немецкий археолог Лепсиус прибил к пирамиде Хеопса табличку, увековечившую в иероглифах имя Фридриха-Вильгельма IV[335], давшего деньги на его экспедицию… Деяния бесполезные, но горделивые. Главное же – заговорили письмена, безгласные вот уже почти две тысячи лет; вновь обрел дар речи так надолго умолкший Сфинкс.
Высеченные в камне и начертанные на папирусе тексты искали, копировали, читали, публиковали… Правда, подавляющая их часть наводила на грустные размышления о неиссякаемой потребности рода людского доносить и клянчить. Вот что писал, например, митаннийский царь Тушратта фараону Аменхотепу III[336], чьи фиванские сфинксы украшают ныне набережную Невы: «Ты поддерживал очень тесную дружбу с моим отцом. Теперь, когда дружбу заключили мы, она вдесятеро крепче, чем дружба с моим отцом. И теперь я говорю своему брату: пусть мой брат уделит мне в десять раз больше, чем моему отцу! Пусть пришлет мне очень много золота, бесчисленные количества золота пусть пришлет мне брат мой, пусть мой брат пришлет мне больше золота, чем моему отцу!» И это, заметьте, не требование дани, а нахальная и настырная просьба о дарах; письмо же отнюдь не специально отобрано, а весьма типично… К счастью, подобные писания составляют лишь статистическое большинство древнеегипетских текстов, среди которых время от времени встречаются и подлинные жемчужины – произведения религиозные и поучительные, исторические и беллетристические. Каждая такая находка для египтологов – праздник души. Об одном из последних и пойдет речь.
Написанное ритмической прозой, оно получило название «Поэмы Пентаура»[337]. На русский язык это не слишком пространное[338] произведение переводили дважды – Н.С. Петровский и М.А. Коростовцев, так что всякий желающий без труда может его прочесть, а потому я ограничусь лишь пересказом и короткими цитатами.
«Поэма» рассказывает о героических деяниях фараона Рамсеса II Великого[339], и сюжет ее формулируется в первых же строках: «Повествование о победах царя Верхнего и Нижнего Египта, Усер-маат-Ра-сетеп-ен-Ра, сына Ра[340], возлюбленного Амоном[341], Рамсеса, – да живет он вечно! – одержанных им в странах хеттов, в Нахарине, в стране Арцава, над Пидасой, над дарданами, в стране Маса, в стране Каркиш, над народом Лука, в Кархемише, в Кеде, в стране Кадеш, в странах Угарит и Мушанеч».
Перечень побед, как видите, весьма впечатляющ. Но чего же еще ждать от великого владыки Египта, безусловной сверхдержавы своего времени? А вот и портрет самого Рамсеса: «Нет мужа, равного его величеству владыке младому, отважному. Могуча длань его, бесстрашно сердце, силой подобен он Монту[342] в час величия его. Он прекрасен собою, как Атум[343], и ликуют созерцающие великолепие его. Прославлен он победами своими надо всеми странами, и не ведают часа, когда вступит он в бой. Как стена, ограждает он войско свое, он – щит его в день сражения; в стрельбе из лука не ведает он соперников, отважнее он сотни тысяч воинов. Он идет во главе войск своих и обрушивается на полчища вражеские, веря сердцем в победу свою, смел и доблестен он пред лицом врага, а в час битвы подобен пламени пожирающему. Стоек сердцем он, словно бык, и с презрением взирает на объединившиеся против него страны. Тысяча мужей не может устоять перед ним, сотни тысяч лишаются силы при виде его; вселяет он страх грозным рыком своим в сердца народов всех стран; почитаем и славим он, подобно Сету[344], в сердцах чужеземцев, точно лев свирепый в долине средь пасущихся стад; он стремится отважно вперед и возвращается только с победой, и не похваляется он никогда».
И вот в 1296 году до Р.Х. описанный выше непревзойденный венценосный воитель отправился в поход против северо-восточных соседей. Надо сказать, предприятие было не захватнической войной, а скорее вынужденной необходимостью. И необходимостью давней.
За время царствования то ли смелого реформатора, то ли презренного еретика (в зависимости от точки зрения) Аменхотепа IV[345], более известного как Эхнатон, соседи с аппетитом откусывали от слабеющей сверхдержавы куски – главным образом, разрывая вассальную зависимость и прекращая выплату дани. (За великие реформы, как правило, приходится платить территориальными уступками.) В итоге фараоны, царствовавшие после великого отступника, начиная с Эйе и Хоремхеба (предшествовавшие им Сменхкара и Тутанхамон не в счет, поскольку правили слишком уж недолго), а также первые представители следующей, XIX династии – Рамсес I и Сети I – вынуждены были прилагать немалые усилия, чтобы вернуть окрестные народы под руку владык Обеих Земель. Продолжать этот труд и приходилось теперь Рамсесу II Великому.
К решению стратегической задачи он подошел методично. В ходе кампании предыдущего года на финикийском побережье для обеспечения наиболее удобного морского сообщения с Египтом были созданы укрепленные базы. Теперь предстояло вторгнуться в глубь Сирии, в решающей битве нанести поражение противнику и утвердиться на завоеванной территории. С этой целью Рамсес II собрал величайшую, говорят, по тем временам армию – по некоторым данным, численность ее достигала 20 000 человек. В состав неисчислимого воинства входили также нубийские наемники и шарданы – выходцы из Сардинии, не то насильственно рекрутированные пираты, которые были взяты в плен во время одного из пиратских рейдов на Нильскую дельту, не то наемники, завербованные на этом далеком средиземноморском острове. Войско свое Рамсес II разделил на четыре корпуса, названных по именам богов – Амона, Ра, Птаха[346] и Сета, причем первый их них фараон возглавил лично.
В конце апреля 1296 года до Р.X., когда в Сирии прекратились дожди, египетское войско выступило из пограничной крепости Чара. Пройдя через Палестину, оно двинулось финикийским побережьем, по-видимому, поддерживаемое с моря флотом. Затем египтяне повернули в глубь Сирии и вышли в долину реки Оронт. Не сумев обнаружить противника, разведка предположила, что он находится где-то далеко на севере. На двадцать девятый день похода египтяне разбили лагерь на высотах южнее Кадеша (близ современного города Хомс в Сирии), в дневном переходе от города. Здесь к Рамсесу привели двоих перебежчиков, заявивших, что они посланы вождями своих племен, не желающими воевать на стороне хеттов. По сведениям перебежчиков, войско хеттов и их союзников находилось в окрестностях города Тунип, километрах в полутораста от Кадеша. Подтвердив, таким образом, донесения разведки, эти сведения притупили бдительность фараона.
На заре тридцатого дня египетское войско выступило из лагеря и, следуя правым берегом Оронта, двинулось к Кадешу. В авангарде шагал корпус Амона, за ним – корпуса Ра, Птаха и Сета. Близ города Шабтуны, километрах в десяти южнее Кадеша, предстояло форсировать реку. На переправу походной колонны с растянувшимися на полтора десятка километров отрядами боевых колесниц и обозами даже при хорошей организации требовалось пять, а то и все шесть часов. При этом колонна разорвалась – корпуса двигались врозь, не поддерживая связи. Впрочем, Рамсес II о том и не заботился, полагая, будто противника поблизости нет.
Едва корпус Амона закончил переправу, фараон в сопровождении одного только отряда царских телохранителей быстро двинулся к Кадешу и к полудню оказался уже под стенами города. Стремясь перерезать ведущие на север пути, он приказал разбить лагерь к северо-западу от Кадеша, куда неторопливо подтягивался корпус Амона. Сведений о местонахождении остальных трех корпусов не было, однако фараон считал, что отряд Ра уже на подходе, хотя в действительности из-за никудышной организации переправы через Оронт войско разделилось на две неравные части: большая – корпуса Ра, Птаха и Сета – застряла у Шабтуны (причем два последних даже не приступили еще к переправе), тогда как меньшая (царские телохранители и корпус Амона) стала лагерем под Кадешем.
Корпус Амона на биваке.
Копия египетского рельефа из Рамессеума – одного из храмов комплекса Карнак (древнеегипетский Ипет-Исут) в Фивах
Между тем, пока Рамсес II держал здесь совет со своими военачальниками, противник отнюдь не дремал. «Жалкий поверженный князь хеттский», как в соответствии с египетской традицией полагалось заранее именовать любого противника вне зависимости от его сил и исхода сражения, находящийся со своей армией отнюдь не где-то на севере, а здесь же, под Кадешем (мнимые перебежчики являлись его агентами-дезинформаторами), и осведомленный о положении дел куда лучше фараона, нанес внезапный и мощный удар, противопоставить которому оказалось практически нечего. Хеттские боевые колесницы, на которых располагалось не по два воина (возничий-щитоносец и лучник), как у египтян, а по три (возничий, щитоносец и копейщик), обрушились на корпус Амона и буквально разметали его. «Переправились они через канал, что к югу от Кадеша, и проникли внутрь войска его величества, когда оно маршировало и не ожидало их. И тогда отступило [читай – обратилось в паническое бегство. – А.Б.] войско и колесницы его величества перед ними, к северу от того места, где находился его величество. И враги [т.е. войска. – А.Б.] этого побежденного князя страны хеттов окружили телохранителей его величества, которые были подле него».
Тут-то Рамсес и показал, чего стоит.
Диспозиция перед битвой
(по К. Кераму)
Поначалу он, правда, обиделся на судьбу и воззвал: «Что же случилось, отец мой Амон? Неужто забыл отец сына своего? Совершал ли я что без ведома твоего? Разве не хожу я и не останавливаюсь по воле твоей? Разве преступал я предначертания твои? Что значит владыка Египта, если чужеземец осмеливается преграждать ему путь! Что сердцу твоему, о Амон, азиаты эти ничтожные, не ведающие бога?! Разве не воздвиг я для владыки множество великих памятников? Разве не заполнил я дворы храмов твоих плененными в странах чужих? Разве не возвел я храмы тебе на миллионы лет и не отказал всякое добро свое в завещании? Я принес тебе в дар все страны, дабы обеспечить твои алтари приношениями. Я даровал тебе несметное количество скота и всякие растения благоухающие. Не покладая рук трудился я для украшения святилища твоего. Я возвел для тебя великие пилоны и воздвиг высокие мачты для флагов. Я доставил тебе обелиски с Элефантины и сам сопровождал их до храма твоего, снаряжал суда за Великую Зелень[347], дабы доставить тебе изделия чужеземных стран. И что скажут, если случится недоброе с покорным предначертаниям твоим? Будь милостив к полагающемуся на тебя и пекущемуся о тебе по влечению сердца! Я взываю к тебе, отец мой Амон, окруженный бесчисленными врагами, о которых не ведал, когда все чужеземные страны ополчились против меня, и я остался один, и нету со мной никого, и покинуло меня войско мое, и отвернулись от меня мои колесничие. Я кричал им, но не слышал из них ни один, когда я взывал…»
Допрос с пристрастием хеттских перебежчиков.
Копия египетского рельефа из Рамессеума
Ну разве мог Амон не отозваться на такой крик души? Нечеловеческие силы вселил он в фараона, и тот ринулся в бой на своей колеснице «Победа при Фивах», запряженной великими конями Бодрость духа и Мут[348] Благая, в сопровождении единственного колесничего-щитоносца по имени Менну.
И началось. «Я подобен был Монту в миг величия его, – скромно признается Рамсес, – Я стрелял правой рукою, а левой – захватывал в плен! Я был для врагов подобен Сету в миг славы его. Две тысячи пятьсот [вражеских] колесничих, окружавших меня, распростерлись пред конями моими, ни один из них не поднял руки на меня. Сердца их утратили мужество от страха передо мною, руки их обессилели, они не могли натянуть тетиву, не нашлось у них сердца, чтобы взяться за копья. Я поверг их в воду, как крокодилов, и упали они лицами друг на друга; и перебил я многих из них. Ни один из поверженных не взглянул назад, ни один из них не обернулся! Кто упал – уже не поднялся! Только жалкий поверженный правитель хеттов стоял среди колесничих своих, взирая, как мое величество ведет в одиночестве бой, без войска своего и без колесничих своих. <…> Я ринулся на них, как Монту! Я мгновенно дал им почувствовать могущество длани моей! Находясь один среди них, я истреблял их без устали. И один из них воззвал к другим: „Это не человек среди нас! Это Сет, великий силой, это сам Ваал! Недоступные людям деяния творит он!“ <…> Мое величество сокрушил сотни тысяч врагов и лишь тогда прекратил избиение».
Насколько известно, в истории зафиксирован всего один случай такого же индивидуального воинского триумфа. Написанная по-латыни английская хроника VIII века повествует о событиях 516 года: «В те дни сражался с саксами военачальник Артур совместно с королями бриттов <…> и пало в один день девятьсот шестьдесят вражеских воинов, и поразил их не кто иной, как единолично Артур[349]». Простой подсчет показывает, что для достижения такого результата славный король Артур весь световой день должен был работать мечом, как машина, поражая от двух до четырех противников в минуту. Но как ни эпичен этот подвиг, даже легендарному Артуру далеко до фараона, повергшего во прах тысячи колесниц по три человека на каждой… Остается признать, что за разделяющие эти два сражения восемнадцать столетий герой порядком измельчал…
Но, считают египтологи, в конце концов перед нами литературное произведение, имеющее право на поэтическое преувеличение. Как говорится, «простим поэту» и обратимся к ходу событий.
Египетская боевая колесница. Серповидная насадка на дышле является штандартом из чеканной листовой меди шириной до 70 см. Одновременно это и символической щит для колесничего, своим блеском наводящий на врагов страх
Итак, царь Египта единолично поверг всех (ну, почти всех) противников. Узрев сей акт высочайшего героизма, его войска воспряли духом и завершили разгром хеттов и их союзников, после чего спешным маршем отправились восвояси – судя по всему, развивать успех представлялось победителям ниже их достоинства.
На обратном пути их догнал хеттский посланец с письмом, заканчивавшимся так: «Говорит слуга твой [царь хеттов. – А.Б.], дабы ведали: ты – сын Ра, зачатый от семени его. Дал он тебе одолеть все страны, собравшиеся вместе. Страна Египет и страна хеттов – рабы твои, они под стопами твоими, дал их тебе Ра, отец твой прекрасный. Не сокрушай нас. Ведаю – мощь твоя велика. Сила твоя тяготеет над страною хеттов. Разве хорошо, что ты убиваешь слуг своих? Твой лик свиреп, нет у тебя милосердия. Смотри, вчера ты убил сотни тысяч. Пришел ты и не оставил наследников нам. Не будь жесток в деяниях своих, царь! Мир благотворнее битвы. Дай нам дышать!»
Рамсес посоветовался с военачальниками, и те признали: «Очень, очень хорошо заключить мир, царь, владыка наш, и нет зла в примирении, которое ты совершишь». Сказано – сделано, и перемирие было подписано, чем Рамсес II в глазах людей понимающих стяжал славу не только великого воителя, но и великого миротворца.
Тут и сказке – то бишь поэме – конец.
Пожалуй, добавить стоит лишь одно. Со временем выяснилось, что «поэма» представляет собою не результат поэтического вдохновения и трудов великого древнеегипетского поэта Пентаура, так живо описанного Георгом Эберсом[350] в романе «Уарда», а просто копию, для собственного удовольствия снятую в XIII веке до Р.Х. писцом по имени Пентаур с текста царской победной надписи, повествующей о битве Рамсеса II Великого. Однако принципиального значения для нашего сюжета сей факт не имеет.
Повествованья глиняных таблиц, или Миф хеттологов
В сказку эту, надо сказать, европейцы верили без малого сотню лет. В конце концов, почему бы и нет? Те самые поэтические преувеличения вполне можно оставить на совести автора, самому же описанию битвы египетской армии с северными племенами поверить можно вполне. Правда, у наиболее вдумчивых некоторые недоумения возникали. Почему, например, Рамсес не стал развивать успеха и не закрепил победы, захватив часть территории противника и обложив его данью? Почему вместо этого он сразу же двинулся в обратный путь в свою столицу Пи-Рамсес-Миамон[351]? Почему хетты запросили мира у армии, уже покидающей их страну? И вообще, кто они такие, эти хетты? Этот народ (или его отдельные представители) пятьдесят раз упоминаются в книгах Ветхого Завета, но много из этих упоминаний не извлечешь, если не считать того любопытного обстоятельства, что великий царь Соломон по матери был полухеттом…
Впрочем, одно из упоминаний в высшей степени любопытно: «Господь сделал то, что стану Сирийскому послышался стук колесниц и ржание коней, шум войска большого. И сказали они друг другу: верно нанял против нас царь Израильский царей Хеттейских и Египетских, чтобы пойти на нас»[352]. Постановка хеттских царей в один ряд с фараонами (и даже впереди грозных владык Черной Земли!) достаточно красноречива: выходит, под Кадешем сражались как минимум двое равных! Однако поначалу никто не обратил на это внимания.
Здесь не место излагать историю открытия хеттской державы, тем более что ей посвящено немало интереснейших – и достаточно доступных – томов. А потому ограничусь лишь упоминанием, что начало этому процессу (если не углубляться в предысторию вопроса) положила вышедшая в 1884 году в Лондоне книга миссионера и историка Уильяма Райта, озаглавленная «Великая империя хеттов, с дешифровкой хеттских надписей профессора Арчибальда Генри Сейса». А три десятилетия спустя, в 1915 году, в разгар Первой мировой войны, в одном из номеров журнала «Доклады Германского общества ориенталистики» появилась статья доктора Фридриха Грозного[353] «Решение хеттской проблемы. Предварительное сообщение». Затем, в 1917 году в Лейпциге увидела свет его книга «Язык хеттов, его структура и принадлежность к индогерманской[354] семье языков». И так же, как благодаря Шампольону заговорил египетский Сфинкс, теперь обрели голос хеттские клинописные глиняные таблички, которых к тому времени стараниями археологов накопилось уже немало[355], ибо отныне стали доступны тексты, написанные собственно по-хеттски.
Хеттская боевая колесница.
Ничего лишнего, все строго функционально, оттого и столь малый вес
Хеттские боевые колесничие.
Рисунок по египетскому рельефу времен XIX династии
Хеттские воины.
Копия рельефа из Кархемиша
Так что вскоре стали выплывать все новые подробности не только о самих хеттах и созданном ими обширном и могущественном государстве, но и о событии, нас с вами в данный момент более всего интересующем, – битве при Кадеше.
Столкновение боевых колесниц.
Копия египетского рельефа из Рамессеума
Во-первых, стало понятно, что египтяне воевали здесь не с кое-как слепленным союзом обитающих на севере, в районе нынешних Сирии и Ливана, племен. Нет, это была война двух единственных на тот момент сверхдержав, причем противостоявший Рамсесу II хеттский царь Муваталлис вывел в поле армию, численно не уступавшую египетской, – также около 20 000 человек. Как писал мне египтолог Андрей Сущевский, к которому я по дружбе обратился, собирая материалы для этой главы, в ней «участвовали практически все народы Малой Азии и Восточного Средиземноморья, так что ее по праву можно считать Самой первой мировой войной [курсив мой. – А.Б.]. Сражение произошло примерно за сто лет до Троянской войны, но вот Вам людская справедливость! Ведь «Илиаду» знает каждая собака, а вот о «Поэме Пентаура» приходится добывать особые сведения, хотя по значимости «наезд» Агамемнона был всего лишь мелким эпизодом». Чьей бы победой ни завершилась битва при Кадеше, она в любом случае имела всемирно-историческое значение, ибо определяла судьбы народов, обитавших на огромной территории от Тигра до Нила… А всемирная история, как известно, вершилась в те времена именно там.
Египетские пехотинцы.
Копия египетского рельефа из Рамессеума
Крепостные сооружения Кадеша.
Рисунок по египетскому рельефу из Рамессеума
Во-вторых, изменилось и представление о ходе самого сражения, считающегося теперь первым в истории, все течение которого можно проследить в деталях. Согласно теперь уже не египетским, а хеттским источникам, протекало оно примерно так.
Когда сбитый с толку дезинформацией мнимых перебежчиков Рамсес II расположился лагерем под Кадешем, Муваталлис под прикрытием близлежащих холмов двинул свою армию на юг и обрушился на марширующий походным порядком корпус Ра, уничтожив его почти полностью. Стремительные (невероятно, однако весили они всего 10 килограммов – как нынешний легкий велосипед!) хеттские колесницы преследовали бегущих до тех пор, пока остатки корпуса Ра (в том числе и двое царевичей – сыновей Рамсеса II) не ворвались в безмятежный лагерь корпуса Амона, мгновенно посеяв там панику.
Муваталлис одним ударом достиг двух результатов: почти на четверть уменьшил суммарную численность войска противника и окружил лагерь корпуса Амона, где находился и сам Рамсес II. Правда, хеттскую атаку египтяне встретили храбро, но их попытка прорваться на запад оказалась тщетной. Только на востоке удалось неожиданной контратакой сбросить в реку находившиеся там слабые силы противника, но этот частный успех не имел ни малейшего значения. Ждать помощи фараону было неоткуда: ни о чем не подозревающий корпус Птаха еще только начинал движение от Оронта к Кадешу, а корпус Сета вообще еще не закончил переправы. Сохранив практически нетронутыми свои силы, хеттский царь мог теперь так же эффективно завершить уничтожение корпуса Амона и покончить с самой священной персоной владыки Верхнего и Нижнего Египта. Помешать этому могло только чудо.
Захват хеттами лагеря Рамсеса II.
Копия египетского рельефа из Рамессеума
И чудо свершилось. Но не потому, что в божественном гневе фараон самолично поразил сотни тысяч врагов. Нет! Хеттов подвел недостаток дисциплины – ворвавшись в лагерь, воины разом утратили боевой пыл и предались грабежу (судить их за это трудно: трофеи до самого Нового времени были практически единственным заработком солдата). Очевидно именно в этот момент Рамсес, кое-как наведя порядок в отряде своих телохранителей, предпринял отчаянную попытку спастись бегством и вырваться из окружения – попытку, которая под пером автора «Поэмы Пентаура» превратилась в учиненное фараоном фантастическое побоище. И тут на помощь фараону пришел случай: небольшой, но хорошо организованный египетский отряд, не принадлежавший ни к одному из корпусов армии Рамсеса II, явился с самой неожиданной стороны, – с запада, от морского побережья. Полагают, что это было пополнение, доставленное на кораблях и пешим маршем следовавшее от одной из предусмотрительно организованных Рамсесом II морских баз. Сориентировавшись в обстановке, вновь прибывшие незамедлительно вступили в бой и учинили среди мародерствующих хеттских воинов настоящую резню[356].
Египетская армия на походе
Египетские копейщики XIII в. до Р.Х..
Боевое построение корпуса Птаха
Это спасло фараона, но не решило исхода сражения.
Когда положение египтян начало улучшаться, Муваталлйс бросил в бой резерв – тысячу боевых колесниц; с переменным успехом битва продолжалась еще три часа, пока наконец не подоспел корпус Птаха[357] и ударил в тыл хеттам, которые в результате оказались вынуждены отступить в Кадеш укрыться за его неприступными стенами, где они чувствовали себя в полной безопасности. Потери их, как выяснилось, были не слишком велики[358].
Воины-шардены в составе египетского войска.
Рисунок по египетскому рельефу из Рамессеума
В конечном счете поле боя осталось за египтянами, однако их потери оказались столь непомерны, что Рамсес II не решился штурмовать или осаждать крепость и двинулся обратно в Египет, что на практике оказалось равносильно признанию поражения. В то же время этот спешный отход позволил хеттам с полным правом счесть себя победителями. С полным правом, поскольку бой шел возле пограничной крепости Кадеш. Фараон убрался восвояси, даже не ступив на территорию хеттского царства, столица которого, Хаттусас, находилась, кстати, в шестистах километрах к северу.
В том, что победу одержали именно хетты, не позволяет усомниться и тот факт, что страна Амурру, присоединившаяся было к Египту и некоторое время исправно платившая фараону дань, снова отошла под руку Муваталлиса. А мятежные племена Палестины и Сирии продолжали все активнее бунтовать против власти Египта, на что вряд ли отважились бы после убедительной победы Рамсеса II.
Резюме серебряных пластин, или Плоды битвы
Итак, подобно тому, как три с лишним тысячелетия назад под Кадешем сошлись армии двух тогдашних сверхдержав, сегодня продолжают битву два мифа – так сказать, египтологический и хеттологический.
«Очень забавно, – замечает Анна Овчинникова[359], – слушать высказывания современных египтологов и хеттологов, чьи мнения о том, кто победил, столь же разноречивы, как мнения Рамсеса и Муваталлиса.
«Когда Рамсес Великий наголову разбил хеттов у крепости Кадеш… – мимоходом, как о чем-то само собой разумеющемся, упоминает египтолог.
«Когда хетты наголову разгромили Рамсеса Второго у Кадеша…» – не менее уверенно говорит об этой же битве хеттолог.
Откуда же берутся столь разные интерпретации одного и того же события?»
Ничего беспрецедентного в этом нет. Англичане и немцы до сих пор спорят, чей же именно флот выиграл 31 мая 1916 года Ютландский бой, а русские и французы с одинаковым успехом 26 августа ежегодно отмечают свою победу при Бородине. Но все-таки попробуем разобраться.
С одной стороны, «поэма Пентаура» при всех несомненных художественных достоинствах, представляет собой панегирик, преследующий сугубо пропагандистские цели. В этом отношении, надо сказать, Рамсес II оказался подлинно Великим – второго столь успешного гения пропаганды история человечества не знает, и даже доктор Геббельс годился бы фараону разве что в подмастерья, даром что жил тремя тысячелетиями позже. Сами посудите: истории об эпохальной победе над хеттами Египет верил, покуда не разучился читать иероглифы; современный мир поверил ей, едва научившись эти иероглифы читать; и многие продолжают верить по сей день. Кто сможет превзойти подобный рекорд?
Фараон воюет в одиночку.
Копия египетского рельефа из Рамессеума
С другой стороны, и победа хеттов не самоочевидна. Правда, один упрек в их адрес можно все-таки отвести. Бытует мнение, будто хетты упустили чистую победу нокаутом, обретя взамен сомнительную победу по очкам, когда Муваталлис, увлекшись, разом бросил в сражение две с половиной тысячи боевых колесниц. Как пишет упоминавшаяся выше Анна Овчинникова, «сбившиеся в кучу, 2500 хеттских колесниц образовали нечто вроде человеческо-конной Ходынки, и преимущество оказалось на стороне немногочисленных телохранителей фараона, спаянных железной дисциплиной». Однако само число это почерпнуто исключительно из «Поэмы Пентаура» и более нигде не встречается. Но там же, между прочим, сказано: «Мое величество сокрушил сотни тысяч врагов и лишь тогда прекратил избиение…» И это при общей численности обеих армий около 40 000 человек! Сдается, и 2500 колесниц из той же оперы. К тому же если ознакомится с окрестностями Кадеша хотя бы при помощи современной крупномасштабной карты, выяснится, что относительно ровное пространство, пригодное для маневров и боя колесниц, просто-напросто не в состоянии вместить такого их числа (особенно если учесть, что египетские колесницы в боевых действия также принимали все-таки некоторое участие). Это была бы уже не Ходынка, а скорее автопарк, где упряжки едва могли бы разместиться бок о бок…
Но это все же деталь.
Рамсес II Великий.
Статуя из серого гранита. Каирский музей
В Священном Писании сказано: «…по плодам их узнаете их»[360]. Вот давайте и разберемся с плодами битвы при Кадеше.
Вослед бесславно отступающему Рамсесу II тонкий дипломат Муваталлис направил письмо, содержание которого, безусловно, отличалось от слов, приведенных в «Поэме Пентаура», но содержало предложение о мире. И Рамсес – едва ли не самый воинственный из фараонов! – предложению этому охотно внял и с тех пор его войска ни разу не пересекали хеттской границы, установленной вдоль современной реки Нахр-эль-Кельба[361] в Финикии. Пятнадцать или двадцать лет сверхдержавы исподлобья взирали друг на друга через эту узенькую полоску воды, однако неустойчивого равновесия разумно не нарушали. И все это время между ними шли дипломатические переговоры.
Наконец между 1280 и 1269 годами до Р.Х. (точная дата неизвестна) переговоры увенчались подписанием поразительного документа, скрепленного печатями хеттского царя Хаттусилиса III, наследовавшего своему умершему старшему брату Муваталлису, и фараона Рамсеса II. Это был древнейший в истории человечества образец договора о дружбе и ненападении. Оригинал этого договора был выгравирован на серебряных табличках (они, разумеется, до наших дней не дошли – материал-то ценный и, скорее всего, давным-давно переплавлен). Египетский вариант текста высечен на стенах двух храмов – Рамессеума и в Карнаке. Хеттский выдавлен клинописью на глиняных табличках и сохранился не полностью (только до четырнадцатого параграфа, коих, судя по египетскому тексту, всего было всего тридцать).
Вот преамбула этого документа: «Договор, составленный великим царем хеттов, могущественным Хаттусилисом, сыном Мурсилиса, могущественного великого царя хеттов, и внуком Суппилулиумаса, могущественного великого царя хеттов, записанный на серебряной таблице для Рамсеса II, могущественного властелина Египта, сына Сети I, могущественного великого властелина Египта, и внука Рамсеса I, могущественного великого властелина Египта, прекрасный договор о мире и братстве, устанавливающий мир между ними на вечные времена».
Уже из первых строк совершенно очевидно, какая сторона являлась инициатором и главным составителем договора, из многочисленных и витиеватых пунктов которого наиболее значительны два.
Бедржих (Фридрих) Грозный, расшифровавший хеттскую письменность.
Фото 1915 г.
Во-первых, обе стороны обязывались не предпринимать более завоевательных походов на территории друг друга и заключили оборонительный союз.
Во-вторых, они обязались придерживаться определенных правил в отношении перебежчиков и политических беженцев. «Если человек, или два, или три убегут из страны Египта и явятся к великому царю страны хеттов, то великий царь хеттов должен задержать их и приказать снова отправить к Рамсесу, великому властелину Египта. Но тому [человеку. – А.Б.], которого возвратили к Рамсесу, великому властелину Египта, не следует предъявлять обвинения в преступлении, не следует губить его дом, его жен, его детей, не следует убивать его самого или наносить раны глазам, ушам, устам или ногам, не следует обвинять его в каком бы то ни было преступлении». Естественно, точно таким же образом должен был поступать и Рамсес II в отношении перебежчиков хеттских. Звучит, надо признать, весьма современно.
Завершался договор патетическими словами, подчеркивающими особую значимость документа: «Что касается этих слов, записанных на серебряной таблице для страны хеттов и страны Египта, – кто не станет придерживаться их, пусть погубят тысячи богов страны хеттов и тысячи богов страны Египта его самого, его дом, его землю, его слуг!»
Но вот что самое главное. Договор явственно подчеркивал не только равноправие сторон, но и равновесие сил. Равновесие, явленное еще в битве при Кадеше, где в действительности победителей не было – там, по образному выражению Артура Кларка, вынесенному в эпиграф к этой главе, необоримая сила натолкнулась на неодолимое препятствие.
Вскоре после торжественного подписания договора Рамсес II женился на дочери Хаттусилиса III – на каменной стеле близ Абу-Симбела изображены сцены прибытия хеттской царевны, принявшей в Египте имя Маатнефрур (Истина является красотой Ра). Разумеется, без пропаганды не обошлось и тут – Рамсес есть Рамсес. Текст на стеле гласит: «После победы Рамсеса II над страной хеттов эта страна жила в бедности и страхе. Царь хеттов послал Рамсесу свою дочь». Но это писано для потомков. Современники же воочию видели, с какой пышностью было обставлено прибытие и встреча хеттской принцессы – царевен, присылаемых в качестве дани и в знак покорности, принимают не так. Их делают в лучшем случае наложницами, тогда как Маатнефрур сразу же стала главной женой фараона.
Жан-Франсуа Шампольон, благодаря которому вновь заговорили египетские иероглифы
Так вот, о плодах.
Договором и женитьбой дело не ограничилось. Во все времена договоры заключались и не соблюдались, а браки заключались и расторгались – самыми разными способами, не исключая и смертоубийства. Или же просто не мешали воевать с царственными свойственниками самым лютым образом. В конце концов войной родственников была и война Алой и Белой розы (о которой велась речь в четвертой главе), и даже Первая мировая, поскольку и королева Виктория, и кайзер Вильгельм II и царь Николай II доводились друг другу родственниками. Вопреки этой грустной статистике брак Рамсеса II и Маатнефрур продолжался до самой смерти фараона. Но что еще существеннее, мирный договор не был нарушен ни разу – вплоть до того дня, когда хеттское царство пало под натиском очередной волны переселения народов – на этот раз так называемых «народов моря». Случилось это около 1200 года до Р.Х.
Но это уже совсем другая история, и ее мы коснемся лишь в том случае, если я все же решусь когда-нибудь писать о Троянской войне.
Глава 14. Забытые в веках
Вас земля от глаз людских сокроет,
Порастет забвения травой…
Мир вам, позабытые герои –
Вовсе не забытых, кстати, войн!
В. ЕритасовДиспозиция
Фермопилы[362] – семикилометровое ущелье, рассекающее хребет Каллидр южнее горы Ламия, неподалеку от побережья Малийского залива. Это единственный проход, ведущий из Северной Греции в Центральную[363], поскольку горы здесь являют собой неприступную природную твердыню. В античные времена само ущелье называлось попросту Тесниной; Фермопилами же тогда именовали только три северных входа в это, пользуясь военным лексиконом, узкое дефиле. Сегодня Теснины уже не существует – она погребена под четырехкилометровым наносом реки Сперхей. Однако легенда о сражении при Фермопилах жива вот уже два с половиною тысячелетия – и вряд ли позабудется в обозримом будущем.
А теперь позволю себе маленький экскурс в историю Греко-персидских войн.
После того как 12 сентября 492 года до Р.Х. в сражении при Марафоне[364] греки нанесли поражение непобедимой дотоле армии Дария I[365], оскорбленный в лучших чувствах персидский царь с удвоенной энергией взялся за подготовку нового победоносного похода, который смыл бы это позорное пятно. Однако в 486 году до Р.Х. он мирно отошел в мир иной, так что завершать начатое пришлось уже его сыну, Ксерксу. Поначалу тому пришлось отвлечься на дела более актуальные – подавление восстаний, незамедлительно вспыхнувших после кончины Дария I в Египте и Вавилонии. Но уже три года спустя, когда положение в империи более или менее стабилизировалось, Ксеркс развил энергичную деятельность по подготовке нового похода в Грецию – как военной, так и дипломатической.
О военных приготовлениях говорить особенно нечего – тут со времен греко-персидских войн и вплоть до недавней Иракской кампании мало что изменилось. На протяжении 484–481 годов до Р.Х. под Сардами шло сосредоточение войск, пока не была сформирована армия вторжения, насчитывавшая до 200 000 человек[366] – возможно, самая многочисленная из дотоле кем-либо собранных. Одновременно для ее транспортировки строился многочисленный (до 1200 вымпелов) флот – как военный, так и транспортный. Заготовлялись снаряжение и припасы; на покоренных еще Дарием I землях, лежащих по северному берегу Эгейского моря (в частности, на территории признавшей персидский протекторат Македонии), создавались магазины и склады. А чтобы избежать опасностей плавания в районе Афонского мыса, где в 492 году до Р.Х. быстрые течения и многочисленные рифы погубили флот Дария I[367], у основания полуострова Акте был прорыт двухкилометровый канал. Наконец, через Геллеспонт (современные Дарданеллы) были наведены два длинных плавучих моста, по которым великая армия могла двигаться параллельными колоннами.
Дипломатические интриги были куда сложнее и разнообразнее. Прежде всего, чтобы не допустить помощи греческим государствам со стороны их богатых колоний в Сицилии, Ксеркс заключил договор с Карфагеном, согласившимся напасть на Сицилию, когда персы начнут вторжение в Грецию. Затем путем уговоров, обещаний, подкупа и т.д. – то есть всего традиционного арсенала международной дипломатии – Ксеркс добился поддержки аристократических полисов (городов-государств) Фессалии и Беотии, а также нейтралитета со стороны Аргоса.
Несмотря на одержанную десятилетием раньше победу при Марафоне, греки все еще уважали военную мощь Персии и были откровенно встревожены приготовлениями Ксеркса. Следствием этой тревоги явилось создание в 481 году до Р.Х. военно-оборонительного союза во главе со Спартой, в состав которого вошло тридцать одно эллинское государство. Правда, по-настоящему единого антиперсидского объединения сформировать так и не удалось – с одной стороны, вследствие успехов дипломатии Ксеркса, с другой – из-за традиционной разобщенности самих греков.
На следующий год персидский экспедиционный корпус пересек Геллеспонт и направился сперва на запад – вдоль берегов Фракии и Македонии, а затем на юг, в Фессалию. Командовал войском Мардоний – зять Дария I, искусный и многоопытный полководец и дипломат, возглавлявший армию вторжения еще в предыдущее царствование. Персидский флот держался рядом, прибрежными водами следуя за воинством Мардония[368].
Согласно эллинскому стратегическому плану, первым оборонительным рубежом должен был послужить узкий вход Темпейской долины в Северной Фессалии, и даже выслали туда десятитысячный отряд. Однако некоторые фессалийские полисы уже перешли на сторону персов, которых считали непобедимыми, и союзники резонно опасались, что их примеру последуют остальные тамошние государства. В результате Северная Греция была оставлена без боя, тем более что оборона проходов, расположенных южнее горы Олимп, требовала слишком многочисленной армии.
Следующим сухопутным рубежом являлось дефиле у Фермопил. Подле Западных и Средних его ворот Теснина, вероятно (сегодня вследствие изменений рельефа об этом трудно судить), достигала лишь нескольких метров в ширину и представляла собой идеальную естественную позицию, где даже малый отряд решительных тяжеловооруженных пехотинцев-гоплитов мог бесконечно долго удерживать любое число наступающих. Судя по итогам археологических раскопок 1938–1939 годов, там имелись и достаточно мощные фортификационные сооружения (стена и башни), в преддверии сражения срочно отремонтированные и усиленные[369].
К Фермопилам выступил спартанский царь Леонид I во главе отряда из 7000 гоплитов и 2000 лучников (замечу, что за исключением трехсот царских телохранителей, спартанцев среди них не было). Тот факт, что пелопонесские государства не направили для обороны Фермопил большего числа войск, свидетельствует об их неохотном согласии вести какую-либо оборону севернее Коринфа.
Спартанские гоплиты
Одновременно соединенный эллинский флот – около 330 трирем – занял позицию в узком проливе у мыса Артемисий, что на северо-восточной оконечности острова Эвбея, перекрывая персам единственный удобный морской путь вторжения в Центральную Грецию. Номинальным командиром являлся спартанец Эврибиад, хотя решающим голосом на военном совете располагал афинянин Фемистокл, возглавлявший едва ли не две трети всех эллинских военно-морских сил. Когда в конце августа 480 года до Р.Х. персидский флот приблизился к Эвбее, вмешались силы стихии: жестокий шторм нанес ему существенный урон, отчего грозная армада утратила едва ли не половину боевой мощи. Греки – частично ввиду большей защищенности своих кораблей в укрытой бухте, отчасти в силу лучших мореходных качеств эллинских трирем – пострадали куда менее серьезно.
Надо сказать, конфликт у мыса Артемисий не относился к числу решающих – в двух столкновениях, последовавших одно за другим на протяжении двух дней, обе стороны понесли весьма незначительные потери. На третий день греки были готовы к более решительному сражению, однако, получив неутешительные известия из-под Фермопил, поспешили к Афинам – вернее, к расположенному рядом с ними острову Саламин.
Легенда о Леониде
Спартанский царь Леонид I.
Деталь скульптуры V в. до Р.Х..
Хотя битва у Фермопил, как и морское сражение у мыса Артемисий, преследовала весьма ограниченные цели – проверить боеспособность персов, одновременно сплотив совместными военными действиями собственные сводные войска, – царь Леонид I приготовился к обороне продуманно и тщательно.
С главными силами, насчитывавшими около 6000 человек, он удерживал Средние ворота, а тысячный отряд и значительную часть лучников разместил на склоне расположенной на левом фланге горы, чтобы перекрыть тропу, ведшую в обход дефиле. Как он и ожидал, персы попытались форсировать проход, но греки отразили атаку. Ксеркс негодовал, однако все было тщетно. Сложилась парадоксальная ситуация: самая подготовленная и многочисленная армия мира оказалась бессильна против горстки эллинов. Дошло до того, что устрашенные героизмом эллинов персидские воины отказались идти в очередную атаку, и по приказу взбешенного Ксеркса их погнали вперед бичами. В конце концов персидский царь оказался вынужден использовать свою не знающую поражений гвардию – десятитысячный отряд личных телохранителей, «бессмертных». Их, надо сказать, вводили в бой лишь в самых исключительных случаях. Но и те бесславно откатились от греческих позиций.
«Бессмертные» – личная гвардия царя Ксеркса
Персидские лучники – конные и пешие
Персидская боевая колесница
Так продолжалось три дня, после чего предатель, грек-фессалиец по имени Эфиальт, рассказал персам о тропе, ведущей в тыл обороняющимся в обход Фермопил. Ксеркс немедленно направил туда «бессмертных», и те внезапной атакой смели греческое охранение. Хотя Леонид и отрядил 4500 человек, чтобы предотвратить окружение, однако они опоздали и были разгромлены «бессмертными».
Считая дальнейшую оборону бессмысленной и стремясь спасти большую часть отряда, Леонид приказал им отступить на соединение с главными эллинскими силами, сосредоточенными в это время за укреплениями на Коринфском перешейке. Сам же во главе трехсот личных телохранителей принял последний бой, продолжавшийся, покуда спартанцы не полегли до единого, смертью своей показав Ксерксу, сколь доблестных воинов встретит он на земле Эллады.
Героическая гибель защитников Фермопил вошла в мировую историю как символ беззаветной верности воинскому долгу. Воздавая должное противнику, рыцарственные персы погребли павших со всеми подобающими героям почестями. Впоследствии над их могилой был воздвигнут памятник в виде сидящего льва (ведь Леонид означает Львинородный), а на постаменте высечена эпитафия, сочиненная знаменитым поэтом Симонидом Кеосским и начинающаяся словами:
Спутник, коль сможешь, поведай всем гражданам Лакедемона[370]: Здесь мы в могиле лежим, честно исполнив свой долг.Такова легенда, с которой вы можете познакомиться, заглянув в любой учебник и даже почти во всякий куда более серьезный исторический труд. В общем и целом это правда – только, увы, не вся…
Преданные забвению
Правда же заключается в следующем.
Для начала займемся арифметикой. В совокупности под командованием Леонида I, как вы помните, находилось около 9000 человек. Усиленное отрядом лучников тысячное охранение он разместил на левофланговом горном склоне – оно было истреблено «бессмертными» поголовно. Из числа направленного туда подкрепления (4500 человек) около половины вернулось к основным силам. Следовательно, к моменту последнего героического сражения под рукой Леонида I пребывало несколько больше 5000 воинов. Около 2000 ушли по приказу спартанского царя на юг, чтобы на укреплениях Коринфского перешейка соединиться с союзными эллинскими войсками. Однако отряды опунтского, феспийского и фиванского ополчений общей численностью около 2000 человек остались у Фермопил и приняли бой и смерть плечом к плечу со спартанцами[371]. По сравнению с более чем стотысячным воинством Ксеркса, стоявшим у Фермопил, что 300 человек, что 2300[372] – разница, прямо скажем, невелика. А вот по отношению к памяти павших…
Триста спартанцев вошли в легенду на века. А тысяча павших в боевом охранении на горном склоне, две тысячи из числа шедших им на выручку, две тысячи лучников и две тысячи ополченцев из Опунта, Фив и Феспия – всех их под Фермопилами словно и не было. Но, собственно, почему?
«Путник, коль сможешь, поведай всем гражданам Лакедемона…» – говорится в эпитафии Симонида. Следовательно, слова обращены исключительно к спартанцам, и это многое объясняет.
Современный мемориал неподалеку от Фермопил.
На переднем плане – фигура царя Леонида
Еще со времен не то легендарного, не то вовсе мифического Ликурга, сформулировавшего свод спартанских законов примерно за четыре столетия до описываемых событий, Спарта стала до предела милитаризированным обществом, постоянно поддерживаемым в боевой готовности. С младых ногтей всякий лакедемонянин преследовал единственную цель – воинскую службу: государство было армией, и армия была государством. Следствием этого явилось появление лучших в Греции солдат, а также лучшей, может быть, на всем протяжении мировой истории (для своих численности и времени) маленькой армии. По структуре, вооружению или тактике спартанская армия не слишком отличалась от войск других греческих городов-государств; ее составляли преимущественно пехотинцы-копьеносцы в защитном вооружении, набираемые из свободнорожденных граждан высшего и среднего классов. Принципиальными отличиями были более совершенное индивидуальное воинское мастерство, значительно более высокая организация, более строгий порядок, маневренность отдельных соединений и железная дисциплина, прославившая спартанцев на всю Грецию. Но главное – в спартанцах с младых ногтей воспитывался шовинизм, позволивший в наши дни французскому историку культуры Анри Боннару применительно к Спарте говорить в «Греческой цивилизации» об «античном фашизме». В собственных глазах лакедемоняне были единственными полноценными людьми, тогда как все прочие – так, получеловеками. И потому среди героев Фермопил для них имели значение только Леонид с его телохранителями – остальные не в счет.
Симонид Кеосский (556–468 гг. до Р.Х.) был первым в античной истории профессиональным поэтом, претворявшим в жизнь принцип, согласно которому торговать вдохновением, может, и грешно, а вот рукописями – отнюдь не зазорно. Он писал на заказ, зарабатывая тем (и замечу, весьма неплохо) средства к существованию. Вот и эту эпитафию – общепризнанно одну из лучших – он писал по спартанскому заказу, отсюда и «Путник, коль сможешь, поведай всем гражданам Лакедемона». Правда, будучи внутренне честен, Симонид вопреки древнегреческой любви к точности ни словом не обмолвился о трехстах героях: «Здесь мы в могиле лежим, честно исполнив свой долг». Его «мы» включает всех, а не только лакедемонян. Тем более что он прекрасно понимал: в некотором отношении подвиг фиванцев и феспийцев даже выше спартанского.
Дело в том, что спартанская военная доктрина вообще не предусматривала такого понятия, как отступление. Подобно тому, как двумя с половиной тысячелетиями позже маршал Сталин заявлял, что «у нас нет военно-пленных – только предатели родины», для лакедемонян не существовало отступивших – тоже только предатели. А предательство каралось смертью – других наказаний Спарта попросту не знала. Не случайно в другом переводе Симонидовой эпитафии говорится: «…в могиле лежим, честно закон соблюдя». Кстати, в значительной мере именно эта тактическая негибкость и не позволила Спарте возобладать над всеми прочими греческими полисами; но это уже a propos… Так или иначе, воины Леонида не отступили, ибо не имели на это права. А вот союзники их этим правом обладали. Более того, Леонид прямо приказал им уходить, но они отказались, сознательно обрекая себя на гибель. Не профессиональные солдаты, но воины-ополченцы, они и здесь выбрали свою участь добровольно.
Правда, благодарное отечество им тоже воздвигло памятник. Там же, под Фермопилами, были установлены пять (по числу городов, откуда прибыли сюда ополченцы) каменных стел – как пишет Страбон[373], «столбов на месте погребения многих героев». Несколько Бог весть кем сочиненных слов, высеченных на одной из этих стел, дошли до нас, поскольку были процитированы античным автором:
Плачет о сих от персидской руки за Элладу погибших Мать городов локриян[374], мудрозаконный Опунт.Увы, папирус оказался долговечнее камня: Фермопилы исчезли под наносами Сперхея, с ними исчезли и эти стелы, а вслед за ними мало-помалу стерлась и память[375].
В защиту Эфиальта и Плутарха
Начнем с последнего, понимая под этим именем не только его самого, но и античных историков вообще. Ведь они прекрасно знали, как обстояло дело, – так неужели же в их сердца не стучал прах неправедно забытых героев? Наверное, стучал – только звук этот заглушался иным, более настойчивым и громким.
Дело в том, что в тогдашнем представлении (как, впрочем, в гораздо более поздние времена и в представлении древнерусских летописцев, например) историк не может быть просто скрупулезным хронистом, бесстрастно описывающим ход событий, перечисляющим исключительно факты и даты. Всякая история – непременный нравственный урок ныне живущим, сотворение для них зримых символов добра и зла.
Если разобраться, то сражения при Фермопилах и у мыса Артемисий стратегически ровным счетом ничего не решали. Да, персидскую армию удалось задержать на четыре дня. Но что от этого изменилось? Это ведь не «чудо под Москвой» времен Великой Отечественной войны, когда сопротивление из последних сил, даже сверх всяких мыслимых сил, позволило дождаться прибытия сибирских дивизий и перейти в контрнаступление. Не было в ходе кампании 480 года до Р.Х. ничего подобного! Весь героизм защитников Фермопил не мог помешать Ксерксу всего лишь месяц спустя оккупировать Афины. Причем, как отмечают в своей «Всемирной истории войн» Эрнест и Тревор Дюпюи, «армия Ксеркса, понесшая пока мало потерь, была к тому же усилена контингентами из Фив и других северных греческих государств. Персидский флот, вероятно, все еще насчитывал более 700 боевых кораблей – вдвое больше числа греческих трирем». Окончательно решили судьбу войны морское сражение у Саламина[376] и битва при Платеях[377].
Но не одной стратегией исчерпывается значение. Фермопилы послужили образцом высшего героизма, нравственным примером, символом, под которым могли объединиться разношерстые эллинские войска. И с этой точки зрения триста спартанцев – горстка против неодолимой силы – символ куда более яркий, нежели трехтысячный сводный отряд. Конечно, еще и грозных лакедемонян дразнить не хотелось: раз уж считают, что одни воевали и приносили жертвы на алтарь победы, пусть их… Впрочем, последнее соображение было сугубо побочным, а не определяющим.
Зато Эфиальту – тому фессалийцу, что показал персам горную тропу в обход Фермопил, – недобрая слава досталась благодаря этому нравственному подходу совершенно облыжно. Историки, начиная с Плутарха, дружно клеймят его предателем и перебежчиком. Оно и понятно: нравственная правда в Греко-персидских войнах была за эллинами, отстаивавшими свои земли от вторгшихся полчищ Дария и Ксеркса, а раз так – всякий, все кто персам споспешествовал, суть изменники и предатели. Замечу, через полтора с небольшим столетия эта шкала ценностей дивным образом вывернулась наизнанку – когда уже не персы пришли в Грецию, а греки под командованием Александра Македонского отправились крушить Персию и покорять мир. Увы, исторически сложилось так, что о греко-персидских войнах мы знаем только с одной, эллинской стороны: персидских текстов до нас не дошло. А дошли бы – подозреваю, взгляд с другой стороны показался бы не менее убедительным, и мы сегодня сочувствовали бы Дарию и Ксерксу не меньше, нежели Александру, чья слава не увядает по сей день и разошлась куда шире пределов некогда завоеванной им ойкумены и основанной на ее просторах эфемерной империи, рухнувшей сразу вслед за смертью своего творца.
Но вернемся к нашему Эфиальту. Предательство, замечу, применительно к военной ситуации может пониматься лишь как измена присяге. Эфиальт же в этом никоим образом не повинен. Персы потому и не встретили в Фессалии никакого сопротивления, что тамошние греческие города-государства держали в конфликте сторону Ксеркса. И значит, фессалиец Эфиальт, принадлежа к числу проперсидски настроенных греков, не перебегал к противнику, а изначально принадлежал к его стану. Это, согласитесь, совсем иное дело. Весь мировой опыт феодальных и гражданских войн гласит, что в них речь идет в первую очередь не о предательстве, а о расколе, ведущем к братоубийству. Так что, выходит, все обвинения в адрес Эфиальта несправедливы.
Впрочем, так случается всякий раз, когда из каких-то высших (и даже воистину благородных) соображений история подменяется мифом. Миф обладает живучестью, о какой не может и помыслить знание, интересуют же его лишь идеи и судьбы народов, тогда как людские с легкостью приносятся им в жертву нравственному уроку. И сколько бы ни покушались на миф те, в чьи сердца стучит пепел Клааса, их усилиям никогда не изменить ни единой строчки учебника истории. Да что там учебники – они по определению отличаются (и должны отличаться) завидным консерватизмом! Но ведь и художественная литература идет след в след. И кинематограф. Вот, например, в 1962 году режиссером Рудольфом Мэйтом был поставлен один из лучших голливудских исторических фильмов с Ричардом Игеном, Ральфом Ричардсоном, Дианой Бейкер и Барри Коу в ролях, подводящий своеобразный итог эпохе исторических сверхпроектов в американском кино. Назывался он без лишних изысков: «Триста спартанцев». И что же? В очередной раз зрителям была впечатляюще явлена все та же каноническая легенда о Леониде, не более.
Пожалуй, лишь упоминавшийся выше Страбон нашел в себе достаточно объективности, чтобы сказать, уклоняясь от всяких оценок: «Говорят, Эфиальт, показав персам горную тропинку в Фермопильских теснинах, отдал в руки персам отряд Леонида и провел варваров внутрь Греции». Прошу при этом заметить, что слово «варвары» в данном контексте начисто лишено свойственного ему в нашем восприятии негативного оттенка: так греки именовали всех неэллинов, и только. Однако за этим счастливым исключением едва ли не все историки на протяжении двадцати пяти веков прикладывали руку к сотворению мифа.
Но разве это повод, чтобы молчать?
Глава 15. Щит Европы?
И в том, что сломалась мотыга,
и в том, что распалась телега,
и что на печи – холодрыга,
а двор не видать из-под снега,
виновны варяги, Расстрига,
хазары, наплыв печенега,
татаро-монгольское иго,
татаро-монгольское эго.
Евгений ЛукинУтешительный миф
Суть мифа, о котором нам предстоит говорить в этой главе, с предельным лаконизмом сформулирована Пушкиным: «России определено было великое предназначение: ее необозримые равнины поглотили силу монголов и остановили их нашествие на самом краю Европы, варвары не осмелились оставить у себя в тылу порабощенную Русь и возвратились в степи своего Востока. Образующееся просвещение было спасено растерзанной Россией». Эти слова – или, по крайней мере, сам стоящий за ними тезис – заучивали поколения российских гимназистов и советских школьников, а потом всю жизнь исполнялись сознанием жертвенной исторической миссии наших соотечественников по спасению Европы. Очень, надо сказать, утешительное в неустроении нашем ощущение!
Не знала об этом только Европа, в полной мере ощутившая на себе монгольскую мощь во время Великого западного похода 1241–1242 годов, во главе которого стоял многоопытный военачальник и ближайший сподвижник Чингисхана Субэдэй-багатур.
Великий западный поход
Позволю себе напомнить основные вехи этой кампании.
Оставив тридцатитысячную армию охранять пути сообщения на покоренных русских и половецких землях, Субэдэй с остальными имевшимися в его распоряжении ста двадцатью тысячами человек вторгся в Центральную Европу. Он прекрасно понимал, что и Венгрия, и Польша, и Богемия, и Силезия – каждая из этих стран способна выставить армию многочисленнее монгольской. Не менее четко он осознавал, что нападение на любую из них незамедлительно приведет к конфликту с тремя остальными, а также со Священной Римской империей. Но Субэдэй достаточно хорошо ориентировался в хитросплетениях европейской политики – политическая разведка у монголов была налажена отменно, их агенты действовали чуть ли не во всех странах, – и потому был уверен, что успеет закрепиться в Центральной Европе, прежде чем враждующие друг с другом папа римский и германский император, а также английский и французский короли поймут, что происходит, и попытаются вмешаться. А затем можно будет поочередно разобраться и с ними.
Субэдэй разделил свою армию на четыре орды по три тумена[378] в каждой. Первая – командовал ею хан Кайду, внук Угедея – должна была прикрывать северный фланг. Прикрывать южный – вторгшись с юга в Венгрию, через Трансильванию и долину Дуная, – должен был хан Кадан, сын Угедея. Две остальные орды – под командованием Батыя и самого Субэдэя – должны были параллельными, судя по всему, маршрутами наступать через Центральные Карпаты и встретиться уже в Венгрии – на восточном берегу Дуная, перед городом Пешт, напротив столицы, Буды.
Хан Бату (Батый; 1208–1255).
Китайская вышивка по шелку.
XIII–XIV вв.
Хан Кайду, чьей задачей было отвлечь внимание поляков, богемцев и силезцев от главной цели похода, выступил в начале марта 1241 года, несколько раньше остальных. Он пронесся через Польшу и Силезию, разгромив по пути три больших польских армии. Сам он шел с двумя туменами (третий, которым командовал хан Байдар, защищая правый фланг Кайду, отвернул на север, через Литву, а потом на запад, через Восточную Пруссию и вдоль балтийского побережья в Померанию) и в марте наголову разбил под Краковом армию польского короля Болеслава V.
Пока монгольские тумены предавали северо-восточную Европу огню и мечу, паника ширилась. Волны беженцев в ужасе катились на запад. Город за городом захватывался, грабился и сжигался; беженцев становилось все больше, слухи – все кошмарнее. Когда в начале апреля два тумена Кайду появились в Силезии и осадили ее столицу, город Бреслау (современный Вроцлав в Польше), европейцы были убеждены, что под его командованием не двадцать, а все двести тысяч человек. Это ощущение лишь укрепилось под влиянием победы монголов в битве при Легнице (иначе – немецкий Вальштадт; в современной Польше), состоявшейся 9 апреля 1241 года. О ней уже говорилось в десятой главе, так что здесь остается упомянуть лишь о некоторых деталях, которым в рассказе об Александре Невском не нашлось места.
Монгол с конем.
С персидского рисунка XV века
Во-первых, некоторые польские историки считают, что при Легнице монголы применили новинку, с которой европейцы никогда прежде не сталкивались, – химическое оружие. В подтверждение своего тезиса эти специалисты ссылаются на описание едкого дыма, застлавшего долину во время битвы. Монгольские позиции находились с наветренной стороны, и ветер сносил ядовитый газ в сторону противника. Газ этот выбрасывался с помощью специальных труб, украшенных головами драконов. Гипотеза, возможно, и спорная, но любопытная и требующая дальнейшего исследования.
Монгольская конница на походе.
Рисунок XIX в.
Во-вторых, для прикрытия своего развертывания монголы подожгли тростник, создав тем самым дымовую завесу, над которой лишь поднимались время от времени бунчуки, с помощью которых передавались приказы (силезцы разглядели и впоследствии описали только один, состоявший из скрещенных овечьих костей и хвоста черного яка). Монгольская легкая кавалерия осыпала армию Генриха II дождем стрел – ответная стрельба оказалась малоэффективной, поскольку монголы, едва показавшись, тут же снова скрывались в дыму. Тогда в атаку на монгольский авангард ринулись польские рыцари и рыцари Тевтонского ордена. И хотя сражение в дыму было затруднено до чрезвычайности, им удалось обратить противника в бегство. Однако последовавшего за тем натиска монгольской тяжелой кавалерии не выдержали уже европейцы, тем более что хитрые степняки кричали по-польски: «Спасайся, спасайся!» – чем вызвали замешательство в рядах союзных войск. А когда Генрих II Благочестивый пал в бою и весть об этом прокатилась по войску, отступление превратилось в бегство.
В-третьих, на том основании, что монголы не стали преследовать разрозненные остатки европейского воинства, панически бежавшие на запад, некоторые историки ошибочно заключают, будто битва у Легницы окончилась вничью, а татары понесли столь тяжелые потери, что решили наступления на Германию не продолжать. В действительности же преследовать бежавших хану Кайду было совершенно незачем. Со своей задачей он справился: весь север Центральной Европы – от Балтики до Карпат – был опустошен. Теперь правому флангу армии Субэдэя абсолютно ничто не грозило и грозить не могло. Единственная оставшаяся в регионе боеспособная армия – богемского короля Венцеслава – отступала на северо-запад, чтобы присоединиться к войску, спешно скликаемому германской знатью. Столь блестяще исполнив роль, отведенную ему в планах Субэдэя, хан Кайду отозвал с балтийского побережья тумен прикрытия и, по пути разоряя Моравию, двинулся на юг, в Венгрию, на соединение с главными силами.
Наконец, еще одним любопытным обстоятельством является участие в битве русских – естественно, на монгольской стороне. Само по себе это отнюдь не удивительно. В сущности, собственно монголов, тех, что послужили ядром кристаллизации гигантской империи, было очень мало. Большую часть их войска составляли представители покоренных народов, и русские не стали исключением. Кстати, именно русские со времен Хубилая традиционно охраняли ставку великого хана в Бэйцзине[379] – им Кубла-хан и его преемники доверяли безоговорочно.
Полководец Субэдэй-багатур.
Китайская вышивка по шелку. XIII–XIV вв.
Рыцари, противостоявшие монголам в Восточной и Центральной Европе
Южная орда прикрытия действовала не менее эффективно, хотя ее продвижение несколько задержали оттепель и разливы рек. После трех генеральных сражений к 11 апреля все сопротивление в Трансильвании было окончательно сломлено. Через теснину Железных Ворот хан Кадан прошел между Карпатами и Дунаем и двинулся на север, в Венгрию, на соединение с армией Субэдэя.
Тем временем главные силы монгольской армии 12 марта прорвались через венгерскую стражу на карпатских перевалах. Когда известие об этом дошло до короля Белы IV, тот созвал в Буде, в 200 километрах от гор, военный совет – решить, как остановить монгольское вторжение. Пока совет заседал, 15 марта поступило сообщение, что монгольский авангард уже появился на противоположном берегу реки. Однако Бела IV не ударился в панику. Пока монгольское наступление сдерживалось широким Дунаем и мощными укреплениями Пешта, он собрал почти стотысячную армию.
В начале апреля Бела IV, уверенный, что отобьет агрессора, выступил со своей армией из Пешта на восток. Монголы отступили. После нескольких дней осторожного преследования, вечером 10 апреля, Бела IV догнал их – возле реки Шайо, почти в 160 километрах к северо-востоку от современного Будапешта, – и удивил Субэдэя тем, что первым делом отбил у малочисленного монгольского караула мост через Шайо. Затем он обустроил мощный предмостный плацдарм, а с остальной частью армии разбил на западном берегу реки укрепленный лагерь, огородив его кольцом из скованных вместе фургонов. Разведка донесла ему точную численность монгольского войска, и король знал, что его армия существенно больше.
Орденские рыцари – такие сражались в битве при Легнице
Тут стоит поговорить еще об одной расхожей ошибке. Слово «орда», означающее монгольское племя или действующую армию, стало синонимом неисчислимых полчищ, поскольку западные противники монголов отказывались верить, что побеждены численно уступающими силами. Отчасти, чтоб оправдать свое поражение, отчасти потому, что им ни разу не представлялось возможности разобраться в организационной системе, благодаря которой монголы умудрялись наносить удар со скоростью и силой урагана, в XIII веке европейцы искренне заблуждались, полагая, будто монгольские армии – это исполинские, относительно неуправляемые полчища, которые добиваются победы одним лишь подавляющим численным перевесом.
На самом же деле Чингисхан со своим войском совершал то, что едва ли оказалось бы под силу и современной армии, в первую очередь благодаря тому, что войско его не имело равных в отношении обучения, организации и дисциплины – как среди современников, так и, пожалуй, за всю человеческую историю. Как правило, монгольская армия оказывалась гораздо меньше, чем выставленная противником. Самое многочисленное свое войско Чингисхан собрал для покорения Хорезма – 240 000 человек. Но ни одна из монгольских орд, покорявших Русь, а затем страны Восточной и Центральной Европы, не превышала 150 000 человек.
Увы, и королю Беле IV численное превосходство не помогло в битве на Шайо.
Перед самым рассветом 11 апреля 1241 года на защитников предмостного плацдарма обрушился ливень монгольских стрел и камней, «сопровождавшийся громоподобным шумом и огненными вспышками». Поскольку о громе и вспышках современники упоминали и в описаниях битвы при Легнице, некоторые историки усматривают здесь намек на первое в практике европейских войн применение артиллерии. Однако Эрнест и Тревор Дюпюи в свой «Всемирной истории войн» полагают, что «скорее они [монголы. – А.Б.] следовали привычной тактике: использовали баллисты и катапульты, а для пущего эффекта – ранние варианты китайских шутих». Но в любом случае это был аналог современной артподготовки. За нею – как и в современной тактике – последовало стремительное наступление.
Сопротивление защитников плацдарма, ошеломленных этой вакханалией огня, смерти и разрушения, было быстро сломлено, и монголы хлынули по захваченному по мосту на западный берег Шайо. Разбуженный шумом боя Бела IV принялся торопливо выводить из укрепленного лагеря главные силы. Завязалась ожесточенная битва. Но внезапно выяснилось, что это была не атака, а лишь отвлекающий маневр.
Главные силы – три тумена, тридцать тысяч человек под непосредственным командованием Субэдэя – под прикрытием темноты вброд форсировали холодные воды Шайо южнее моста и повернули на север, чтобы ударить венграм в правый фланг и в тыл. Не в силах устоять против столь сокрушительного напора, европейцы поспешно отступили в лагерь. К семи часам утра тот уже был со всех сторон окружен монголами, которые несколько часов забрасывали его камнями, стрелами и горящей нефтью.
Самым отчаявшимся венграм показалось, будто на западе в окружении наметился просвет. Несколько всадников беспрепятственно ускакали. Пока монголы усиливали натиск с других сторон, больше и больше венгров незаметно выскальзывали из окружения. В конце концов сопротивление защитников лагеря было сломлено и оставшиеся в живых беспорядочной толпой поспешили вослед беглецам – многие даже бросали оружие и доспехи, чтобы сподручнее было улепетывать. И внезапно выяснилось, что монголы подстроили им ловушку: со всех сторон неожиданно обрушилась конница на свежих лошадях, рубя изможденных венгров, загоняя в болота, предавая огню и мечу окрестные деревни, где беглецы безуспешно пытались укрыться. За несколько часов жуткой бойни венгерская армия фактически перестала существовать; потери составляли от сорока до семидесяти тысяч человек.
Что еще существеннее, разгром этот неоспоримо свидетельствовал: под контролем монголов оказывалась вся Восточная Европа – от Днепра до Одера и от Балтийского моря до Дуная. За четыре месяца монголы одержали верх над христианскими армиями, в совокупности пятикратно превосходившими их числом.
За лето 1241 года Субэдэй упрочил контроль над Восточной Венгрией и занялся подготовкой следующей зимней кампании[380] – вторжения в Италию, Австрию и Германию. В Западной Европе царила паника; отчаянные попытки организовать коллективный отпор ни к чему не приводили. Сразу после Рождества монголы переправились через замерзший Дунай. Их передовые отряды перешли Альпы перевалом Бирнбаумер-Вальд и вышли в Северную Италию, а разведчики второй колонны долиной Дуная двинулись к Вене.
И тут в дело вмешался случай, в котором многие охотно усматривали божественное провидение.
Неожиданно из Каракорума пришло сообщение: 11 декабря 1241 года умер великий хан Угедей, сын и преемник Чингисхана. Закон же, установленный Чингисханом («Яса»), недвусмысленно гласил, что «в случае смерти правителя все чингизиды, где бы ни находились, обязаны незамедлительно вернуться в Монголию, дабы принять участие в курултае – выборах нового великого кагана».
Скрепя сердце, Субэдэй был вынужден напомнить троим ханам-чингизидам (Батыю, Кайду и Кадану) об их династическом долге. Монгольские тумены отступили буквально от самых стен Венеции и Вены, население которых было охвачено смертельным страхом, и больше никогда уже не возвращались. Их обратный путь на восток пролег через Далмацию и Сербию, а потом через северную Болгарию – в результате Сербское и Болгарское царства оказались опустошены и разорены подчистую.
Схема битвы на р. Шайо (или, иначе, Сайо)
Отдельного упоминания заслуживает малоизвестный эпизод, послуживший своеобразным эпилогом этого похода. Один тумен[381] под командованием хана Байдара двинулся из Северной Италии на Запад. Пройдя югом Франции, монголы, практически не встречая сопротивления и легко отражая эпизодические мелкие атаки[382], Ронсевальским ущельем углубились в Пиренеи, затем стремительно прошили весь Иберийский полуостров и вышли к берегу Атлантического океана. Таким образом был выполнен завет Чингисхана – достичь «последнего моря». Здесь они набрали (Бог уж весть, во что) соленой океанской водицы и тем же скорым маршем двинулись обратно. О темпах этого продвижения красноречиво свидетельствует тот факт, что основные силы Субэдэй-багатура они догнали уже в Северном Причерноморье.
Да, завоеватели ушли из Западной, Центральной и Восточной Европы. Но не потому, что завоевание этих стран оказалось непосильной для них задачей. И убедительно продемонстрировали европейцам, кто хозяин на поле боя. Следовательно, говорить о том, что русские «необозримые равнины поглотили силу монголов и остановили их нашествие на самом краю Европы» не приходится. Хорош край Европы – Венеция и Вена, не говоря уж об атлантическом побережье…
Грозный тыл
Перейдем теперь к другой части пушкинского тезиса: «варвары не осмелились оставить у себя в тылу порабощенную Русь и возвратились в степи своего Востока». Почему монголы возвратились на Восток, мы уже знаем. Замечу, кстати, что сама по себе их экспансия с уходом из Европы отнюдь не умерилась, завоевательский пыл ничуть не иссяк, – один знаменитый Желтый крестовый поход чего стоит[383]! – просто сменилось направление. Иногда говорят, будто смутила монголов европейская городская культура, с которой им-де было не совладать, и они почли за благо удалиться; что здешние лесистые пространства не давали развернуться монгольской коннице. Однако и городов[384], и лесов на Руси хватало. Так ведь не помешали они одним, не спасли других… И в Азии, где мощно двинулась на юг и на запад империя хулагуидов – потомков хана Хулагу внука Чингисхана через младшего сына, Толуя, – городов хватало. Что опять-таки не помешало и не спасло. Так что приходится признать, ушли монголы по собственной воле, а не вернулись и не продолжили завоеваний в силу изменения политических интересов.
Так что порабощенная Русь в тылу тут ни при чем. Да и с порабощением не все ясно. Чего стоит одна лишь деталь: отправляясь покорять Европу, Батый ни в одном русском городе не оставил гарнизона. И это в совсем недавно завоеванной-то стране! Тем не менее он полностью полагался на лояльность местных правителей. Причем практика подтвердила, что хан имел к тому все основания: русские князья с готовностью признавали владычество Орды. Более того, оно было им выгодно: эту внешнюю силу они с удовольствием использовали в собственных семейных распрях[385] (не забудем, что практически все они были связаны родством или свойством). Как писал в своей «Истории государства Российского от Гостомысла до Тимашева» граф Алексей Константинович Толстой,
Что день, то брат на брата В орду несет извет; Земля, кажись, богата – Порядка ж вовсе нет.Само понятие «татаро-монгольское иго» не встречается ни в одном историческом документе тех времен, к которым относится. Впервые оно зафиксировано в XVIII веке, когда в петровские времена Россия (точнее, правящая ее элита) ощутила отсталость страны по отношению к Европе, вследствие чего и начала испытывать потребность в утешительном мифе: мол, кабы да не татарское иго, никому бы нас не вовек догнать!
Гораздо справедливее говорить об отношениях вассалитета, установленных между русскими землями и Ордой. Признав ханскую власть, князья стали его вассалами, что являлось признанной нормой и для Европы. Ведь даже английские короли, став после женитьбы Генриха II Плантагенета на Элеоноре Аквитанской сеньорами Аквитании, стали вассалами французской короны, что и обернулось в конце концов Столетней войной, причем наибольшее зло эта война принесла не Англии, а Франции. Кстати, у нас – и примерно в то же время – вассальная зависимость от Орды также кончилась плохо именно для нее… Здесь стоит заметить, что вассалитет накладывал определенные обязательства на обе стороны. Неукоснительно соблюдая это, Орда неизменно считалась со всеми нормами русского законодательства. Так, когда великий князь владимирский Юрий Всеволодович погиб в 1238 году в битве на реке Сить, в полном соответствии с русским лествичным правом Батый выдал ярлык на великое княжение его брату, Ярославу Всеволодовичу, отцу Александра Невского. А в 1243 году Ярослав призвал русских князей признать хана Батыя «своим царем».
Отдельные антимонгольские выступления, разумеется были – и организованные, и стихийные. Стоит вспомнить и восстание, поднятое братом Александра Невского, Андреем Ярославичем. И упорную, хоть и тщетную борьбу Даниила Романовича Галицкого – единственного в отечественной истории короля[386]. И более поздние попытки Михаила Черниговского сколотить антиордынскую коалицию в Западной Европе – попытку, за которую гордый князь заплатил в Орде жизнью. Но все это были разрозненные, одиночные выступления.
В целом же ни до Куликовской битвы 1380 года, ни на протяжении следующего века Русь не предпринимала никаких попыток освободиться от «ига». Само же это освобождение весьма условно, поскольку Золотой Орды к тому времени добрых полсотни лет как не стало – она распалась на Астраханское, Крымское, Казанское и Сибирское ханства, постоянно враждовавшие друг с другом и в этой борьбе неизменно прибегавшие к помощи московских великих князей. Так что в «Стоянии на Угре»[387] русские противостояли не Золотой Орде, а войску хана Ахмата, провозгласившего себя главой некоей нелигитимной Большой Орды, и двинувшегося походом на Москву…
Так стоило ли ханам опасаться за подобный тыл?
Порабощенная страна
Это еще одна составляющая пушкинской формулы, и она также оспаривается без особого труда.
В любом школьном учебнике истории по сей день царствует версия, согласно которой Орда разорила все города Русской земли – лишь Новгород и Псков остались непокоренными после «чуда у Игнач-креста». Однако на самом деле в ходе зимней кампании 1237–1238 годов разорению подверглись только восемнадцать русских городов, причем в большинстве своем они были восстановлены уже через год-другой[388]. А городов на Руси в начале XIII века известно около четырехсот! Замечу, кстати, что эти восемнадцать городов отличились не только героическим сопротивлением захватчикам, которое должно по сей день являть для нас патриотический пример, но и убийством или поношением татарских послов. Фигуры же посла и толмача почитались неприкосновенными, и посягательство на них требовало – в урок прочим – немедленного и кровавого возмездия.
В шестидесятые годы прошлого века археологи раскопали на Киевщине ряд селищ, походя разоренных монголами. Любопытная деталь: в культурном слое – ни останков людей, ни останков животных. Получается, что даже соседней рощи было достаточно, чтобы крестьянин при приближении отряда ордынцев укрылся там и с семьей, и со скотиной. Если же он мог уйти поглубже в лес, то оказывался в полной безопасности – в леса ни один самый доблестный нукер не шел. Приходится признать, что в ходе монгольского завоевания пострадало лишь городское население – причем только тех городов, которые оказывали сопротивление. Сельское же население осталось практически нетронутым.
Само собой, сказанное не означает, будто монголы были этакими добродушными гостями. Завоеватели есть завоеватели, и всякое завоевание глубоко аморально (жаль только, моральные критерии к истории неприменимы). Были и жертвы, и неизбежные военные разорения[389]. Был обреченный героизм Евпатия Коловрата. И предательства были. Все было. Но если взглянуть, так сказать, «с птичьего полета», то становится ясно: в разорении Руси монголы заинтересованы никоим образом не были. Завоевание для них являлось в первую очередь предприятием экономическим. А какую дань возьмешь со страны, лежащей в руинах?
Кстати, о дани. Скрупулезно исчисляя все, что можно, монголы очень точно определяли ее размер. И взимали десятину (то есть 10% дохода) со всех земель, промыслов и так далее – исключение составляла только не облагаемая данью церковная собственность. Сравните: во второй главе я упоминал, что во времена Владимира I Святого Новгород платил Киеву дань в размере 66%. Сдается, что и по сравнению с налогами, принятыми в наши дни, монгольский подход нельзя не счесть более чем гуманным…
Беда в том, что взимание дани русские князья фактически взяли на откуп[390]. И обирали собственных подданных ровно настолько, чтобы на оставшееся можно было не умереть с голоду. Объяснялось это, разумеется, необходимостью выплачивать дань Орде (необходимость выплачивать внешние долги государства за счет собственных подданных или граждан – вечный бич России). Впоследствии, когда народ попривык и притерпелся, и вовсе не объяснялось. Но это уже проблемы взаимоотношений русского народа со своей властью, а не Руси с Ордой.
Кое-что о щитологии
И последнее в пушкинской формуле, что нуждается в комментарии – представление о монголах как о степных варварах и крушителях цивилизации.
Как укладываются в это представление такие, скажем, факты?
Веротерпимость, издавна считается как раз одним из определяющих факторов цивилизованности. Так вот, положения о веротерпимости зафиксированы уже в «Ясе» Чингисхана (по неизвестным причинам он отказал в покровительстве лишь иудаистам – чем-то они не пришлись, видно, ко двору). Сами монголы, ядро империи, исповедовали так называемую черную веру бон. Однако в Орде было много и христиан-несториан, и мусульман. Христианином был, например, сын Батыя, царевич Сартак, побратим Александра Невского. Крестником Александра Невского, кстати, был великий баскак владимирский Амирхан; его христианское имя история тоже сохранила – Захар. Несторианство исповедовали жены великого кагана Мункэ и вождя Желтого крестового похода хана Хулагу… А брат Батыя, хан Берке, был ревностным мусульманином и активно уговаривал ордынскую знать принять ислам; однако ему ответили, что, во-первых, не ханское это дело – указывать, в кого и как верить, а во-вторых, как это мы станем мусульманами? мы разве медники или сапожники? И только в правление хана Узбека, пришедшееся на 1314–1340 годы, ислам в качестве официальной религии приняла вся Золотая Орда.
Угедей (1186–1241), третий сын и преемник Чингисхана; это из-за его смерти был прерван Великий западный поход.
Китайский рисунок на шелке
Наличие на выборах международных наблюдателей считается сегодня нормой. Однако ввели ее в употребление еще монголы. Вот, скажем, тот курултай, ради присутствия на котором орды Субэдэя-багатура ушли из Европы. История с ним была длинная, выборы великого хана откладывались на протяжении четырех лет – в основном, из-за соперничества сыновей Джучи и Угедея, реальная же власть тем временем находилась в руках вдовы Угедея – Тураки. В конце концов в январе 1246 года каганом избрали Гуюка. И все это время в Каракоруме пребывали Плано Карпини, посол папы римского Иннокентия IV[391]; двое грузинских царевичей, русский князь Ярослав Всеволодович, отец Александра Невского; послы багдадского халифа и английского короля; посол короля Франции Людовика IX – уже упоминавшийся в главе, посвященной князю Игорю, Гийом де Рубрук… Это равно свидетельствует и об естественном всеобщем интересе к монгольским делам, и о стремлении монголов показать всему миру, что их внутренняя политика ведется открыто и честно (в теории, конечно; на деле были там и подкупы, и отравления, и… словом, все, что заведено от веку).
Или вот еще: не кто-нибудь, а Чингисхан в 1227 году впервые в мире начал выпуск бумажных денег. Позднее, при его преемниках, в Монгольской империи печатали бумажные купюры ста видов. Тогда же началось и зарождение банковской системы Монголии. Так, по указу хана Мункэ от 1253 года печатались деньги на рисовой бумаге, производство которых регулировал Отдел по делам денег. А уже в 1260 году хан Хубилай открыл в Каракоруме Управление для сдачи денег (в современной терминологии – банк). Не знаю, как вас, а меня это удивило. И почему-то порадовало. Может, потому что все-таки не совсем дикари нас завоевали…
Мы представляем себе монгольские города этаким скопищем шатров да кибиток. А тем временем археологи с удивлением раскапывают на их месте каменные дома, где были водопровод и канализация. И это в то время, когда в Париже ночные горшки выплескивали, как известно, из окон прямо на улицу, а сапожники наладились делать сабо на толстенной подошве, чтобы удобнее было ходить среди нечистот… Не Париж ругаю – повсеместное это было явление для XIII–XIV веков. Однако, как видите, исключения также имели быть…
Орда имела своих ученых и поэтов – совсем недавно, кстати, вышла антология ордынских стихов, впервые переведенных на русский язык.
И приходится признать: ордынцы были не большими варварами, чем весь современный им мир.
А отсюда и любопытная кода нашей темы о Руси, ставшей щитом, укрывшим Европу от варваров и позволившим ей взлелеять просвещение. Но давайте задумаемся. Щит, по определению, укрывает нечто, нуждающееся в предохранении от посягательств лиц и сил, на это нечто покушающихся.
Однако после своего ухода в 1242 году монголы на Европу больше не покушались. Единственный значимый рецидив их экспансии в этом направлении имел место в 1259 году, когда в правление хана Берке (1256–1263 гг.) совершались набеги на Венгрию, Польшу и на Балканы. Темники Тулубег и Ногай, возглавлявшие один из этих набегов, дошли до Силезии, при этом в 1259 году были захвачены и сожжены Краков, Сандомир и Бытом. Так что щит Европе вряд ли был нужен.
А вот из монгольских источников можно понять, что русский улус помимо своей экономической ценности как источника дани играл и другую роль – щита, предохраняющего цивилизованную и культурную Орду от посягательств варваров Запада. Как видите, все зависит от точки зрения.
Надо сказать, с этой своей функцией Русь справилась блестяще. Четырежды Запад предлагал русским князьям участвовать в крестовом походе против татар. Но вослед Александру Невскому все они, за исключением Даниила Галицкого и Михаила Черниговского (или, иначе, Михаила Святого), гордо отказывались: мы, мол, родных татар в обиду не дадим.
И не дали – пока Орда не разложилась сама собой.
Глава 16. О чем молчат мемуары
Забыв на время о народе
И чуть нарушив этикет,
Его величество проходит
На пять минут к мадам Жоржет…
Николай АгнивцевСцена и персонажи
Признаться, я долго колебался, к какой из частей книги отнести эту главу. К «Без вины окаянным»? Но кардинала Ришелье[392] к этой категории при всем желании не причислишь; да, его многие не любили, но все-таки не настолько, и все мало-мальски справедливые историки усматривают в нем фигуру, коей Франция может с полным правом гордиться. То же относится и к Анне Австрийской[393], пусть даже она не являла собой столь значительной исторической личности. К «Возвеличенным облыжно»? Однако в этой истории никакой облыжности и на дух нет. Вот и пришлось помещать ее в «Инакобывшее», хотя в этой части речь по большей части идет не о людях, а о событиях. К тому же в почти анекдотической этой истории все действительно было «не так»…
Кардинал Ришелье.
Гравюра с картины Филиппа де Шампеня (1602–1674)
Всякому, кто читал в детстве «Трех мушкетеров» или смотрел одну из многочисленных экранизаций, памятен пылкий роман между юной королевой Анной Австрийской и блистательным Джорджем Вильерсом, герцогом Бэкингемом[394], которым чинил всяческие козни коварный кардинал Ришелье. Но мало кому известно, что был и другой, увы, несостоявшийся роман – между королевой и кардиналом…
На рубеже XVI–XVII веков Франции удивительно повезло: после трех бездарных царствований последних венценосцев из династии Валуа во главе государства дважды – с перерывом в неполных полтора десятилетия – оказывались люди подлинно великие. Первым из этих титанов был король Генрих IV Наваррский[395], основатель династии Бурбонов, чьей правой рукой являлся многоопытный, умный, прозорливый, но – увы! – слабовольный министр финансов де Сюлли[396]. Вторым – кардинал Жан Арман дю Плесси, маркиз де Шилу, герцог де Ришелье, государственный министр в царствование Людовика XIII, умного и благородного, но, увы, бесхарактерного и слабовольного сына Генриха IV.
Оба – великий король и великий кардинал – стремились к одной цели: величию Франции. Правда, определил это величие Генрих IV, пороху понюхавший немало и нравом отнюдь не пацифист, словами, казалось бы не имевшими ни малейшего отношения к военному или политическому могуществу: «Я хочу, чтобы у каждого француза каждый день была курица в супе»[397]. И этот курьезный девиз царствования действительно привел к процветанию страны. Жаль только, сраженному двумя ударами кинжала на улице Медников королю увидеть этого не пришлось…
О событиях того времени написано очень много. И сами персонажи исторической драмы в большинстве своем оставили если даже не полноценные мемуары, как сам Ришелье или упомянутый выше де Сюлли, то уж по крайней мере обширное эпистолярное наследие. Чего стоят хотя бы «Занимательные истории» великолепного бытописателя собственной жизни и всей эпохи Гидеона Таллемана де Рэо, послужившие источником вдохновения для многих французских исторических романистов, в том числе и для Александра Дюма-отца. И на разнообразные документы та эпоха была щедра. Так что ни историкам, ни литераторам на недостаток материалов сетовать не приходится. И все-таки некоторые эпизоды остаются вне поля зрения: мемуаристы по вполне понятным резонам предпочитают обходить молчанием свои промахи и неудачи, а порою даже тактично замалчивать чужие; ученые, как правило, обращают мало внимания на мелочи, от которых нимало не зависит ход исторического процесса; писатели отнюдь не всеведущи, а иной раз живой и сам по себе интересный исторический анекдот ну никак не вписывается в уже сложившуюся концепцию книги. Вот и ту историю, о которой пойдет у нас речь, при всем желании не представишь на страницах «Трех мушкетеров»: автору нужны были совсем другой кардинал и совсем другая Анна Австрийская; о Мириам же он и вовсе не упомянул, хотя именно эта особа сыграла в несложившемся романе всесильного первого министра и молодой скучающей королевы решающую роль.
Но – по порядку.
Портрет кардинала. От любви не зарекаются
К началу нашей истории Ришелье едва исполнилось сорок лет – пик зрелости и для государственного деятеля, и для мужчины, даже если учесть, что в те времена люди взрослели гораздо раньше, а жили, как правило, значительно меньше, чем сейчас. Время не надежд, но свершений, достойных кардинала и главного государственного министра Франции.
Алое кардинальское облачение оттеняло бледность узкого лица, обрамленного черной, ниспадающей густыми локонами шевелюрой. Высокий, мощный лоб; чуть приподнятые, словно в непрестанном удивлении, брови; длинный, с горбинкой, тонкий нос; волевой рот. Удлиненность овала лица усиливали лихо, по-солдатски закрученные вверх усы и заостренная бородка-эспаньолка. Пронзительный, всепроникающий взгляд больших серых глаз придавал лицу Ришелье суровое, но, как отмечали современники, одновременно приветливое выражение. Чаще всего в этом взгляде читались ясность и спокойствие уверенного в себе человека. Глаза его вообще обладали некоей завораживающей силой, особенно действующей на женщин. Он знал это и временами не отказывал себе в удовольствии проявить свою власть над ними. Власть, которую в полной мере испытала на себе даже вдова Генриха IV и мать Людовика XIII Мария Медичи, благодаря чьему расположению и вознесся он на нынешние высоты.
Путь к ним был дорогой не торной, но горной – через вершины, пропасти, перевалы. Позади – учеба в Наваррском колледже и академии Плювинеля, кафедра епископа Люсонского и членство в Королевском совете, министерский портфель и многолетняя опала… Позади – взлеты и падения, успехи и поражения, мгновения славы и долгие периоды забвения. Позади – унизительные заискивания перед ничтожествами и, наконец, безденежье. Словом, все, на что потрачено столько сил, на что ушли лучшие годы. Теперь начиналась новая, куда более короткая, но и куда более важная полоса жизни. И продлится она (правда, герой наш знать этого не может) по политическим меркам долго – целых восемнадцать лет.
С отроческих лет Ришелье уяснил, что жизненным его предназначением является служение Франции на политическом поприще. А чтобы преуспеть в этом намерении, требовались соответствующие свойства натуры. Во-первых, пламенные честолюбие и властолюбие – и того и другого ему было не занимать. Собственно, ничего худого в том нет – лишенному этих черт человеку политиком вовек не бывать; важно лишь, чтобы честолюбие не стало всепожирающим, а властолюбие всесожигающим – тогда они способны лишь разрушать. Увы, этим дело не ограничивается: бытует убеждение, будто политик должен руководствоваться лишь рациональными соображениями, трезвым расчетом, изгнав из души все привязанности, любви и нелюбви. Опыт многих великих – от Перикла до Черчилля – доказывает ложность вышеназванного тезиса. Но Ришелье уверовал, уверовал исто, с младых ногтей, и всю жизнь последовательно применял этот принцип в жизни.
Он никогда и никого не любил, ни с кем не заводил дружбы – окружающие делились для него на политических союзников и противников, которые в любой момент могли легко поменяться местами, а также на исполнителей его воли. Он легко отрекался от недавних сотоварищей и мирился с врагами, причем не в силу беспринципности, а ради следования основополагающему принципу. Разумеется, героя нашего это вовсе не красит, но что поделаешь – он был таким, каким был.
Однако правила, как известно, исключениями крепки. Многие биографы сходятся на том, что самый верный из сподвижников Ришелье, его духовник, правая рука и надежнейшая из опор, отец Жозеф дю Трамбле, прозванный за свое неявное влияние «серым кардиналом», все-таки был не только союзником, но и другом первого министра. А однажды (случилось это на исходе 1624 года) герцог к великому собственному удивлению осознал, что в его сердце возникла из ниоткуда пылкая страсть, не имеющая никакой политической подоплеки: любовь к жене Людовика XIII – красавице Анне Австрийской, чьим духовником он стал с первого же дня пребывания испанской инфанты на французской земле.
Портрет королевы. Тоска по любви
Анна Австрийская – аллегорический портрет в виде Минервы кисти «первого живописца короля» Симона Вуэ (1590–1649)
Предоставим слово одному из первых биографов Ришелье, аббату де Пюру: «Анна Австрийская находилась тогда в расцвете красоты. Отливавшие изумрудом глаза были полны нежности и в то же время величия. Маленький ярко-алый рот не портила даже нижняя губа, чуть выпяченная, как у всех отпрысков австрийского королевского дома Габсбургов, – она была прелестна, когда улыбалась, но умела выразить и глубокое пренебрежение. Кожа ее славилась нежной бархатистой мягкостью, руки и плечи поражали красотой очертаний, и все поэты эпохи воспевали их в своих стихах. Наконец, волосы ее, белокурые в юности и принявшие постепенно каштановый оттенок, завитые и слегка припудренные, очаровательно обрамляли ее лицо, которому самый строгий критик мог бы пожелать разве только чуть менее яркой окраски, а самый требовательный скульптор – побольше тонкости в линии носа. У нее была походка богини».
При дворе уже давно поговаривали о неладах в королевском семействе. Поначалу юный супруг (напомню, в 1615 году, когда был заключен брак, обоим венценосцам было по четырнадцать лет) боготворил молодую жену. Однако юношеский пыл быстро иссяк, и король вскоре отдалился от Анны, предпочитая общество лошадей, охотничьих собак и ловчих птиц. Он целыми днями пропадал на охоте или забавлялся стрельбой по птицам в аллеях Тюильри, причем как-то раз даже умудрился угодить свинцом в пышную прическу прогуливавшейся в парке Анны, за чем последовали очередная ссора и выяснение отношений. Впрочем, давала пищу для сплетен и сама королева, относившаяся к Людовику XIII с явным пренебрежением. У нее были свое общество и свои забавы. Не было только одного – любви.
Фрейлины и статс-дамы, по опыту зная, чем излечивается дамская меланхолия, нашептывали: вокруг столько кавалеров, которые готовы охотиться не только на кабанов и оленей! И первый из них – кардинал Ришелье (трудно сказать, инспирировал ли господин главный государственный министр эти шепотки, или же, как это часто случается, со стороны виделось ему самому еще неясное). Воспитанная при испанском дворе, куда менее куртуазном и более ханжеском, нежели французский, Анна, разумеется, и помыслить не могла, чтобы снизойти к кому-либо из придворных. Однако Ришелье – хоть и не помазанник Божий, но в каком-то смысле даже больше, чем король: она прекрасно понимала, что подлинные величие и власть обитают не в Лувре, а в Пале-Кардинале[398]. И, как вспоминала ее доверенная фрейлина-испанка Эстефания, однажды Анна кокетливо заметила: «Какая там любовь! Кардинал сух, желчен и, вероятно, вообще не умеет веселиться. Ей-богу, если эта живая мумия станцует сарабанду, я буду готова на многое…»
И что же? Едва повеяло надеждой, Ришелье сбросил сутану и сплясал. Да как! Двор ахнул. Разумеется, на страницах «Трех мушкетеров» этому эпизоду места не нашлось, между тем он свидетельствует, сколь глубокой была охватившая кардинала страсть, ибо сей факт совершенно выпадает из его предыдущего и последующего поведения. Согласитесь, непохоже такое на человека, писавшего: «Надо признать, что, коль скоро мир погубила именно женщина, ничто не может нанести государствам большего вреда, чем женский пол, который, прочно утвердившись при тех, кто ими правит, чаще всего заставляет государственных мужей поступать так, как этому полу заблагорассудится, а это значит – поступать плохо». Рискуя карьерой, всегда сверхосторожный и предусмотрительный Ришелье даже написал королеве, в самых пылких и неосторожных выражениях излив на бумаге свои чувства. И та, истосковавшаяся по любви, по сути любви еще не знавшая, не устояла.
Увы, дело ограничилось лишь несколькими тайными свиданиями. И всякий раз по их окончании преданная Эстефания заставала повелительницу в слезах, теряясь в догадках о вызвавшей их причине. На расспросы Анна отвечала: «Не знаю… Стоит ему приблизиться – и я уже плачу. Он умеет говорить и уговаривать. Он вовсе не сухарь, но… Не знаю, я просто не могу. Не могу!» В конце концов кардинал устал и охладел, вместо пылкой красавицы обнаружив в королеве беспричинную плаксу. Погасла, так по-настоящему и не загоревшись, королева.
А вскоре, 11 мая 1625 года, в Нотр-Дам де Пари состоялось заочное венчание сестры Людовика XIII, принцессы Генриетты Французской, с английским королем Карлом I Стюартом. Чтобы сопроводить юную королеву на новую родину в Париж прибыл специальный представитель британского монарха – блистательный герцог Бэкингем. И началась иная история, подробности которой вы можете без труда почерпнуть хоть в исторических хрониках, хоть в тех же «Трех мушкетерах».
Портрет Мириам. Две хвори
Мириам. Фрагмент картины неизвестного художника XVII в. «Кошки кардинала»
От предков Анна Австрийская унаследовала не только знаменитую «габсбургскую губу», представлявшую собой лишь потомственную портретную черту, если верить современникам, нимало ее не портившую, но достаточно серьезную болезнь – в те времена представлявшуюся непонятной, хотя и аристократичной (слово «аллергия» еще не было тогда в ходу).
Если помните, в романе Дюма наперсницей королевы была кастелянша госпожа Бонасье – фигура, казалось бы, для подобной роли отнюдь не подходящая. Но только на первый взгляд. Дело в том, что прикосновение к телу даже тонкой льняной ткани вызывало у королевы столь сильное нервное раздражение, что она падала в обморок. Она могла носить лишь белье из тончайшего полупрозрачного батиста. Много позже кардинал и первый министр Джулио Мазарини, преемник и бледная тень Ришелье, преуспевший однако там, где предшественник потерпел столь жестокое поражение, шутил: «В аду, дорогая, вместо раскаленных сковород вам просто застелют постель полотняными простынями». Не зря говорят, что прототипом героини андерсеновской «Принцессы на горошине» послужила именно Анна Австрийская. Не выносила она и запаха многих цветов – особенно роз. Именно в силу аллергии она физически не могла терпеть рядом с собой мужа, чей костюм нередко благоухал псиной – по тем временам запах для увлекающегося охотой мужчины вполне достойный.
Не отличался крепким здоровьем и кардинал. С юных лет его преследовала загадочная хворь, проявлявшаяся в воспалении суставов, головных болях и слабости, на недели, а порою и месяцы приковывавшей Ришелье к постели. Все старания ученых медиков оказывались тщетными. Облегчали страдания лишь тишина, полутьма, прохладная повязка на лбу и некая терапия, о которой стоит сказать особо.
Единственными живыми существами, разделявшими короткие часы досуга Ришелье и искренне к нему привязанными, были населявшие Пале-Кардиналь многочисленные кошки. История даже сохранила некоторые имена: пушистую белую любимицу звали Мириам, английского серого кота – Фенимором, черного без единой белой шерстинки – Люцифером, дымчатую парочку – Пирамом и Фисбой[399], трехцветную кошку – Газетт… А еще были Сумиз, Серполетта, Рюбис, присланная в подарок из Польши Лодоиска… «Кто знает, – пишет современный историк П.П. Черкасов, – быть может, кардинал, не чуждый мистики, прослышал, что кошки заряжают человека какой-то неведомой (космической или биологической, как сказали бы мы сейчас) энергией, в которой он так нуждался для поддержания сил. Во всяком случае, Ришелье относился к своим кошкам с редкой привязанностью и даже любовью, которой не удостаивал никого из людей».
Так-то оно так, однако кошки отличаются и еще одной удивительной способностью. Любя человека, с которым их связала судьба, они способны облегчать ему течение многих болезней, что могут засвидетельствовать многие нынешние специалисты, посвятившие себя изучению кошачьего племени. Зафиксирован, например, случай, когда кошка буквально выходила пребывавшую на грани инфаркта хозяйку, после чего сама умерла от разрыва сердца.
Так вот, только кошки способны были утишить физические страдания Ришелье. И особенно Мириам. Однако лечение это влекло за собой неизбежное побочное следствие – вездесущую кошачью шерсть, особо неодолимую в не знавший еще пылесосов век. Именно эта шерсть и вызывала у Анны Австрийской острую аллергическую реакцию.
Аллергия победила нарождавшуюся любовь и не позволила взаимному влечению королевы и кардинала вылиться в роман, способный не радикально, может быть, но все-таки поменять ход истории.
Глава 17. Рожденные «Красной звездой»
…Великая Отечественная – самая засекреченная война нашей истории. Такой и останется – надолго, очень надолго. Хотя ни о какой другой не напишут столько, все будет лживо и приблизительно. Все будет не то. Писать то просто нельзя – и не потому даже, что никогда не разрешат; правда об этой войне останется ненужной и вредной, взрывоопасной. Сегодня эта правда непосильна даже нам, видевшим ее настолько близко, что теперь остается одно: поскорее забыть, заслониться придуманным, приемлемым, лестным; но полную правду об этих четырех годах не примет и второе поколение…
Юрий СлепухинУроки патриотического воспитания
Мифами неизбежно обрастает любая война, причем если победы (за исключением тех, что сами относятся к разряду мифических, но о них разговор особый) порождают мифы достаточно редко, то поражения – почти всегда. И не удивительно: именно горечь поражений вызывает в душах неиссякаемую потребность в утешении и неистовую жажду спасительного чуда; именно поражение требует полной концентрации сил и, следовательно, вдохновляющего примера; наконец, именно временам поражений свойственны те неразбериха и путаница, что от веку являются почвой, на которой мифы взрастают особенно пышно…
Вот два любопытных примера.
Первая мировая, 1916 год. На Западном фронте установилось шаткое равновесие, позиционная война, битва под Верденом… Кажется, эта мясорубка способна бесконечно перемалывать людские жизни, не обещая взамен ни окончательной победы, ни окончательного поражения. Сердца замирают в жажде чуда, которое способен сотворить лишь некий внешний толчок. И тогда в Англии рождается любопытный миф, который из наших историков упоминает только Андрей Буровский. Будто бы где-то на севере, в Шотландии, высаживаются полки русской армии, оттуда торжественным маршем проходят на юг, то ли к Саутхемптону, то ли к Дувру, где грузятся на транспорты, пересекают Ла-Манш и дальше пешим порядком через всю Францию отправляются громить бошей. Естественно, никогда ничего подобного не было. Да и быть не могло, ибо незачем полкам торжественно дефилировать через всю Англию под развернутыми знаменами и с оркестрами впереди. Однако сыскались даже очевидцы, собственными глазами наблюдавшие это дивное зрелище. К тому же вскоре и положение на фронте несколько улучшилось, причем и впрямь русской заслугой – благодаря знаменитому Брусиловскому прорыву. Как тут не поверить в красивую сказку?
Или еще. Лет, помнится, пятнадцать или двадцать назад (во всяком случае, до распада Союза) социологов, проводивших опросы в Японии, поразило, что многие – представители как старшего, так и младшего поколений, – совершенно искренне считали, будто атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки сбросила советская авиация. Естественно, никто, никогда и никоим образом не пропагандировал ничего подобного, а посему пенять на взращивание антисоветских настроений, как это с удовольствием сделали наши политические комментаторы, не след. Это был просто очередной миф, порожденный очевидной логикой: война с Америкой идет уже четыре года, с Пёрл-Харбора, с того самого «черного воскресенья» 7 декабря 1941, – и никаких вам атомных бомб. А тут… 6 августа – трагедия Хиросимы, 9-го – Нагасаки, а как раз между этими датами, 8-го, – СССР объявляет войну Японии, которая вопреки увещаниям Гитлера на протяжении всей Второй мировой сохраняла по отношению к Советскому Союзу нейтралитет[400]. Согласитесь, в каком-то смысле странное убеждение японцев понять можно…
Пышно плодоносила мифами и Великая Отечественная.
Но вот что стоит отметить. В отличие от приведенных выше примеров, на советской почве мифы никогда (по крайней мере, мне такие случаи неизвестны) не произрастали сами собой, из, так сказать, коллективного бессознательного; наоборот, они всякий раз санкционированно внедрялись сверху. То есть из инструмента осознания мира миф был превращен в инструмент управления сознанием масс. Порой, правда, бывает чрезвычайно трудно или даже вовсе невозможно проследить, как именно рождался тот или иной миф.
Чтобы стало понятнее, о чем, собственно, речь, приведу опять-таки два примера – из великого множества возможных.
Начнем с мифа о Горовце. Вот как он выглядит в изложении «Книги для чтения», адресованной третьеклассникам. «Возвращаясь с задания, Горовец заметил группу вражеских бомбардировщиков. Он резко развернул свою машину и один отважно бросился в гущу фашистских самолетов. Первой же очередью он сбил флагмана. Затем упали на землю второй и третий самолеты. Строй неприятельских машин распался, они стали рассредотачиваться. Но Горовец снова и снова дерзко нападал. В этой невиданной схватке он сбил девять бомбардировщиков! По пути на свой аэродром Горовец попал под неожиданный удар четырех вражеских истребителей. Его самолет был подбит и врезался в землю.
А.К. Горовец – единственный в мире летчик, сбивший в одном бою девять вражеских самолетов. Так дрались наши истребители».
Как водится, «Военный энциклопедический словарь» скупее на восклицательные знаки и выражаемые с их помощью эмоции. «Горовец Александр Константинович (1915–1943). Герой Советского Союза (1943, посмертно), гвардии старший лейтенант. Член КПСС с 1939 г. В Великую Отечественную войну заместитель командира авиационной истребительной эскадрильи, совершил 74 боевых вылета. Во время Курской битвы[401] 6 июля 1943 г. в районе деревни Засоринье вступил в бой с 20 вражескими бомбардировщиками, 9 из них сбил. Всего сбил 11 самолетов противника». Солидно, скромно, детально и внушает непререкаемое доверие.
Правда, если забыть, что боевое искусство «сталинских соколов» традиционно преувеличивается. Как отмечает в книге «Правда о Великой Отечественной войне» Борис Вадимович Соколов, «почему-то принято думать, что слабая боевая подготовка была свойственна Красной армии лишь в первый год войны. На самом деле, ситуация принципиально не изменилась и в последующем, когда эффект от внезапного немецкого нападения сошел на нет. Не случайно же в последние полтора года войны люфтваффе рассматривали Восточный фронт как своеобразный учебный полигон. Там молодые пилоты могли обстреляться в относительно более спокойных условиях и налетать необходимый минимум часов (в конце войны подготовку в училищах с 450 часов сократили до 150)[402], прежде чем вступить в куда более тяжелые схватки с англо-американскими «летающими крепостями» в небе над Германией».
К тому же вот что странно: за семьдесят три вылета Горовец сбил два самолета противника, а за семьдесят четвертый – разом девять. Но самое главное, существует лишь описание боя, тогда как любые документы, его подтверждающие отсутствуют. А ведь чтобы победа в воздушном бою была зафиксирована и занесена в летную книжку пилота, требовалось предъявить и показания свидетелей (либо пилотов других самолетов, либо наземных наблюдателей), и обломки сбитой машины (на худой конец, их фотографию на месте падения). Конечно, война есть война, и некоторые отступления от бюрократических норм случались всегда и смотрели на них сквозь пальцы. Но чтобы совсем ничего?.. Ведь даже записей радиопереговоров со своим аэродромом не имеется – рация на самолете то ли отказала, то ли была повреждена в бою. Нет свидетелей в воздухе – в бой Горовец вступил один; нет и на земле – впрочем, их и не могло быть, ибо никто не в состоянии проследить за всем течением боя, происходящего на пространстве протяженностью не менее 30 километров.
И последнее. Раскапывая архивные данные, журналист Дмитрий Назаров, расследовавший эту историю, выяснил, что за весь день 6 июля 1943 года 2-я и 77-я эскадрильи немецких бомбардировщиков, поддерживавших группу армий «Юг», потеряли всего пять пикирующих бомбардировщиков «Юнкерс Ju-87 “Штука”»: два были сбиты истребителями, еще два – зенитным огнем, один – разбился из-за отказа двигателя. Еще пять машин было повреждено: две – истребителями и три – зенитным огнем.
Как же Горовец сумел сбить девять бомбардировщиков из двух?[403]
Чтобы разобраться в этом, следует вернуться к тезису о том, что матерью мифов во все времена являлось поражение. И еще – к Курской битве, вернее к одному из ее эпизодов, знаменитому танковому сражению под Прохоровкой. Снова процитирую «Военный энциклопедический словарь»: «Прохоровка – поселок городского типа, райцентр Белгородской обл., в районе которого 12 июля 1943 г. в ходе Курской битвы произошло самое большое танковое сражение Второй мировой войны (с обеих сторон в нем одновременно участвовало до 1200 танков и САУ[404]), завершившееся разгромом численно превосходящей наступавшей немецко-фашистской танковой группировки». Увы, численным превосходством обладала как раз Пятая гвардейская танковая армия генерала Петра Алексеевича Ротмистрова: против 273 танков и штурмовых орудий (включая восемь трофейных «тридцатьчетверок») Второго танкового корпуса СС генерала Хауссера она могла выставить 850 танков и САУ. А теперь сравним потери сторон. Немцы потеряли 5 танков и еще 54 было повреждено; армия Ротмистрова – 334 танка и САУ, а около 400 было повреждено[405]. Говорят, когда в Ставке стало известно об этих итогах, судьба Ротмистрова буквально весела на волоске, но потом Верховный пришел к выводу, что в пропагандистских целях лучше счесть поражение под Прохоровкой победой.
А для вящей убедительности стоило также показать, как доблестно разят врага и другие рода войск. Тут-то и родился (Бог весть, чьими стараниями) миф о Горовце – действительно хорошем, наверное, летчике (все-таки 74 вылета – как правило, гибли раньше!), как и сотни других сложившем голову в Курской битве и так и не успевшем узнать о собственном легендарном подвиге, на котором теперь воспитывают в школьниках патриотизм…
А вот другой эпизод, где подвиг и героизм самоочевидно присутствуют.
В самом начале войны, в боях под Новгородом 24 августа 1941 года двадцатичетырехлетний политрук роты 1-го батальона 125-го танкового полка Александр Константинович Панкратов бросился на вражеское пулеметное гнездо и грудью закрыл амбразуру, за что впоследствии, в 1942 году, был посмертно удостоен звания Герой Советского Союза. Полагаю, в горячке боя он не думал ни о наградах, ни о славе, ни о посмертном воздаянии – просто «положил живот свой за други своя». Но когда в одном из справочников по истории Великой Отечественной я прочел, что Панкратов «повторил подвиг Александра Матросова», мне все-таки стало очень горько. И не только за самого Панкратова – согласно списку, составленному на основании документов, хранящихся в архиве Министерства обороны СССР и архиве Министерства внутренних дел СССР, насчитывается 55 воинов[406], закрывших своими телами амбразуры дотов и дзотов до 23 февраля 1943 года, когда в бою за деревню Чернушки Великолукской области такой же подвиг совершил Александр Матросов.
Так почему же мифологизирован был именно этот последний? Не потому ли, что на амбразуру он бросился именно в день Красной армии? Очень уж подходящий случай и для политдонесения, и для статьи в «Красной звезде»… И пропагандистская машина стала лихо набирать обороты. Недаром же историк Олег Витальевич Будницкий утверждает, что Великая Отечественная война – до сих пор не столько история, сколько пропаганда…
Вот и получается – для героизма (не подлинного, но официально восславляемого, что отнюдь не одно и то же) мало самого подвига, надо еще совершить его так, чтобы это было с руки использовать пропаганде…
Однако тот миф, о котором пойдет речь ниже, стоит в ряду иных прочих особняком, поскольку тут прекрасно известны и конкретный автор мифа, и все этапы его развития.
Слово о 28 гвардейцах
Шел ноябрь 1941 года – самый напряженный этап Битвы за Москву[407], когда судьба столицы висела буквально на волоске. Правительство уже готово было в любой момент переехать в Куйбышев (старую и нынешнюю Самару, где и сейчас демонстрируют всем желающим приготовленный для Сталина бункер). В партийно-правительственных ведомствах спешно жгли секретные документы; впрочем, многие из этих бумаг сотрудники, покидая свои посты, попросту бросали, поскольку плановая эвакуация день ото дня превращалась во все более паническое бегство. Готовились ко взрыву или поджогу многие здания. Формировались подпольные диверсионные, разведывательные и террористические группы, которым предстояло остаться в Москве после занятия столицы гитлеровцами. В то, что город удастся отстоять, многие уже не верили.
А на подступах к Москве помимо регулярной армии насмерть стояли все мыслимые резервы – народное ополчение, курсанты военных училищ, милиция… На Волоколамском направлении оборону держала 316-я стрелковая дивизия генерала Панфилова[408]. Входящий в ее состав 1075-й стрелковый полк занимал позиции на линии высота 251 – деревня Петелино – разъезд Дубосеково, находящийся на 117 километре Рижского направления Московской железной дороги в 7 километрах к юго-востоку от Волоколамска. На левом фланге полка, седлая железную дорогу, окопалось соседнее пехотное подразделение.
Накануне разведка донесла, что немцы готовятся к новому наступлению – в населенных пунктах Красиково, Жданово, Муромцево они сконцентрировали свыше восьмидесяти танков, два полка пехоты, шесть минометных и четыре артиллерийских батареи, а также группы автоматчиков и мотоциклистов. Около восьми часов утра 16 ноября после авианалета и артподготовки, упредив наступление наших частей, на расположение 4-й роты 2-го батальона 1075-го полка двинулось более двух десятков танков…
У самого разъезда Дубосеково им противостояла группа истребителей танков в составе двадцати девяти человек: Николая Яковлевича Ананьева, Григория Михайловича Безродного, Николая Никоноровича Белашева (по другим сведениям – Болотова), Якова Александровича Бондаренко, Иллариона Романовича Васильева, Петра Даниловича Дутова, Ивана Евстафьевича Добробабина, Петра Кузьмича Емцова, Нарсутбая Есибулатова, Дмитрия Митрофановича Калейникова, Аликбая Касаева, Даниила Александровича Кужебергенова, Григория Ефимовича Конкина, Абрама Ивановича Крючкова, Николая Гордеевича Максимова, Гавриила Степановича Митина, Никиты (по другим сведениям – Николая) Андреевича Митченко, Ивана (по другим сведениям – Николая) Васильевича Москаленко, Ивана Моисеевича Натарова, Григория Алексеевича Петренко, Мусабека (по другим сведениям – Мустафы) Сенгирбаева, Дмитрия Фомича Тимофеева, Николая Игнатьевича Трофимова, Ивана Демидовича Шадрина, Дуйшенкула Шапокова, Григория Мелентьевича Шемякина, Ивана Алексеевича Шепеткова и некоего безымянного (о нем речь ниже) под командованием старшего политрука Василия Георгиевича Клочкова[409].
А теперь обратимся к описаниям этого боя.
«Свыше пятидесяти вражеских танков двинулись на рубежи, занимаемые двадцатью девятью советскими гвардейцами из панфиловской дивизии… Смалодушничал только один из двадцати девяти, только один поднял руки вверх [он-то и есть безымянный из списка – имена трусов и геростратов, как известно, полагается забывать… – А.Б.] – несколько гвардейцев[410] одновременно, не сговариваясь, без команды, выстрелили в труса и предателя…»
«Машина поднялась над траншеей. Шемякин резко пригнулся, чтобы не оказаться раздавленным, схватил бутылку с горючей смесью и, когда вражеский танк перевалил траншею, бросил. Прозвучал страшный взрыв, а потом наступило беспамятство…»
«Пылали вражеские танки. Все новые и новые товарищи выбывали из строя. Вместе с Мусабеком Сенгирбаевым Васильев подбил два танка и бросился к третьему…»
«…Бой длился более четырех часов. Уже четырнадцать танков недвижно застыли на поле боя. Уже убит сержант Добробабин, убит боец Шемякин… мертвы Конкин, Шадрин, Тимофеев и Трофимов… Воспаленными глазами Клочков посмотрел на товарищей: „Тридцать танков, друзья, – сказал он бойцам, – придется всем нам умереть, наверно. Велика Россия, а отступать некуда: позади – Москва…“
Прямо под дуло вражеского пулемета идет, скрестив на груди руки, Кужебергенов и падает замертво…»
«Всего панфиловцы уничтожили восемнадцать танков и много живой силы врага. Но гитлеровцы и на этот раз не прошли. А сам политрук, будучи тяжело раненым, бросился со связкой гранат под вражеский танк, взорвал его и погиб смертью героя…»
«Сложили свои головы – все двадцать восемь. Погибли, но не пропустили врага».
«Стойкость панфиловцев стала нормой боевого поведения для тысяч и тысяч бойцов и командиров».
Увы, невзирая на весь этот героизм, 1075-й полк понес столь значительные потери, что вынужден был «отойти на новые оборонительные рубежи», за что его командир, полковник Иван Васильевич Капров[411] и комиссар Мухамедьяров были отстранены от занимаемых должностей (хотя впоследствии и восстановлены – когда дивизия, выйдя из боев, находилась на отдыхе и доукомплектовании).
А теперь давайте проследим, как происходило
Рождение и крушение легенды
О героях-панфиловцах страна узнала из скупой заметки фронтового корреспондента Коротеева, опубликованной 27 ноября 1942 года в газете «Красная звезда». На следующий день там же была опубликована пространная передовая статья «Завещание 28 павших героев», написанная литературным секретарем редакции Александром Кривицким. Затем 22 января 1942 года на страницах газеты появился его же очерк «О 28 павших героях», где все они впервые перечислялись поименно. Естественно, эти материалы обильно перепечатывались фронтовыми, армейскими и дивизионными газетами, так что вскоре не осталось человека, о героическом подвиге панфиловцев не наслышанного.
Спецкор «Красной звезды» Василий Коротеев, с чьей корреспонденции все и началось
Наконец, в апреле по инициативе командования Западного фронта было возбуждено ходатайство перед наркомом обороны о присвоении им звания Герой Советского Союза. И вот Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1942 года всем двадцати восьми было посмертно присвоено звание Герой Советского Союза.
А потом на месте подвига был воздвигнут мемориал, в помещении нелидовского сельского клуба – открыт музей, в Алма-Ате на Аллее Славы установлен памятник, имя героев-панфиловцев присваивалось улицам и площадям, домам культуры и пионеров, школам и колхозам, в их честь слагались стихи и поэмы, а слова политрука Клочкова вошли в школьные учебники, по которым училось не одно поколение советских детей и их – российских уже – внуков…
А тем временем разворачивалась другая, никоим образом не популяризируемая и по сути своей детективная история.
Уже в мае 1942 года Особым отделом Западного фронта был арестован красноармеец 4-й роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка 8-й гвардейской им. Панфилова дивизии Даниил Александрович Кужебергенов, тот самый, о ком в опубликованной в марте 1942 года поэме «Слово о 28 гвардейцах» поэт Николай Тихонов писал:
Стоит на страже под Москвою Кужебергенов Даниил, Клянусь своею головою Сражаться до последних сил!..Запас сил, видимо, оказался не слишком велик, и «павший герой» почел за благо сдаться в плен, что ему теперь и инкриминировалось. В ходе допросов он показал, что в бою под Дубосековом не участвовал, а о присвоении звания Герой Советского Союза узнал из газет.
Это был удар.
Командир 1075-го полковник Капров срочно направил в наградной отдел Главного управления кадрами Наркомата обороны рапорт об ошибочном включении в число двадцати восьми героев Кужебергенова Д.А., вместо его однофамильца по имени Аскар (или, по другим источникам – Алиаскар). Этот-то Аскар–Алиаскар и был включен в Указ о награждении, невзирая на малосущественное обстоятельство, что в списках полка никогда не значился. Казалось, инцидент более или менее благополучно исчерпан. Но не тут-то было!
Александр Юрьевич Кривицкий, творец мифа о двадцати восьми панфиловцах
Заподозрив неладное, Военная прокуратура Калининского фронта начала следствие, которое к августу выявило еще троих здравствующих покойников – Иллариона Васильева, Григория Шемякина и Ивана Шадрина. Впрочем, ловить их не пришлось: все сами явились за своими Звездами Героев…
Уже после войны был арестован за сотрудничество с немцами пятый «павший герой» – Иван Добробабин.
В связи с этим Главная военная прокуратура СССР провела обстоятельное расследование истории боя у разъезда Дубосеково и выяснила, что еще в августе сорок второго все точки над i, в сущности, были расставлены проверкой, проведенной старшим инструктором Четвертого отдела Главного политического управления Рабоче-крестьянской Красной армии старшим батальонным комиссаром Мининым.
Председатель Нелидовского сельсовета Смирнова дала следующие показания: «В район нашего села и разъезда Дубосеково немцы зашли 16 ноября 1941 года и отбиты были частями Советской армии 20 декабря 1941 года. В это время были большие снежные заносы, которые продолжались до февраля 1942 года, в силу чего трупы убитых на поле боя мы не собирали и похорон не производили… В первых числах февраля 1942 года на поле боя мы нашли только три трупа, которые и похоронили в братской могиле на окраине нашего села. А затем, уже в марте 1942 года, когда стало таять, воинские части к братской могиле снесли еще три трупа, в том числе труп политрука Клочкова, которого опознали бойцы. Так что в братской могиле, которая находится на окраине нашего села Нелидово, похоронено шесть бойцов Советской армии. Больше трупов на территории Нелидовского сельсовета не обнаруживали».
Свой доклад начальнику Оргинспекторского отдела ГлавПУРККА[412] дивизионному комиссару Пронину старший батальонный комиссар Минин завершал словами: «О подвиге двадцати восьми ни в ходе боев, ни непосредственно после боя никто не знал, и среди масс они не популяризировались».
Итак, жаркий бой двадцати восьми героев против пятидесяти четырех танков оказался выдумкой. Но чьей?
Старший политрук Василий Георгиевич Клочков.
Хоть и не произносил он своих исторических слов, а голову в бою под Дубосековом сложил и к мифу никакого отношения не имеет.
Светлая ему память!
Разобраться с этим оказалось не так уж сложно. Прежде всего следствие 1948 года допросило корреспондента Коротеева, с заметки которого все и началось.
«Примерно 23–24 ноября 1941 года я… был в штабе Шестнадцатой армии, – показал тот. – При выходе из штаба армии мы встретили комиссара Восьмой панфиловской дивизии Егорова, который рассказал о чрезвычайно тяжелой обстановке на фронте… В частности, Егоров привел пример геройского боя одной роты с немецкими танками, на рубеж роты наступало пятьдесят четыре танка, и рота их задержала, часть уничтожив. Егоров сам не был участником боя, а рассказывал со слов комиссара полка, который также не участвовал в бою с немецкими танками… Егоров порекомендовал написать в газете о героическом бое роты с танками противника, предварительно познакомившись с политдонесением, поступившим из полка… В политдонесении говорилось о бое пятой [обратите внимание! – А.Б.] роты с танками противника и о том, что рота стояла «насмерть» – погибла, но не отошла, и только два человека оказались предателями, подняли руки, чтобы сдаться немцам, но они были уничтожены нашими бойцами. В донесении говорилось о количестве бойцов роты, погибших в этом бою, и не упоминалось их фамилий…
Давид Иосифович Ортенберг – главный редактор «Красной звезды» и крестный отец мифа
По приезде в Москву я доложил редактору газеты «Красная звезда» Ортенбергу обстановку, рассказал о бое роты с танками противника. Ортенберг меня спросил, сколько же людей было в роте. Я ему ответил, что состав роты, видимо, был неполный, примерно человек 30–40; я сказал также, что из этих людей двое оказались предателями… Таким образом и появилось количество сражавшихся 28 человек, так как из 30 двое оказались предателями. Ортенберг говорил, что о двух предателях писать нельзя, и, видимо, посоветовавшись с кем-то, решил в передовой написать только об одном предателе.
27 ноября 1941 года в газете была напечатана моя короткая корреспонденция, а 28 ноября… передовая «Завещание 28 павших героев», написанная Кривицким».
Взялись за Кривицкого. Выяснилось, что свою передовую статью он написал, полагаясь исключительно на короткое изложение фактов главным редактором и собственное творческое воображение. Однако в январе, прежде чем браться за более пространный очерк, Кривицкий выезжал к разъезду Дубосеково, благо немцев там уже не было. Вместе с командиром полка Капровым, комиссаром Мухамедьяровым и командиром 4-й роты Гундиловичем они съездили на место боя. «Капров мне не назвал фамилий героев, – показывал Кривицкий, – а поручил это сделать Мухамедьярову и Гундиловичу, которые составили список, взяв сведения из какой-то ведомости… [Интересно, из какой? О постановке на довольствие? О выдаче сапог?.. – А.Б.] В части же ощущений и действий 28 героев – это мой литературный домысел. Я ни с кем из раненых или оставшихся в живых гвардейцев не разговаривал[413]. Из местного населения я говорил только с мальчиком лет 14–15, который показал могилу, где похоронен Клочков… В 1943 году мне из дивизии, где были и сражались 28 героев-панфиловцев, прислали грамоту о присвоении мне звания гвардейца. В дивизии я был всего три или четыре раза».
Мухамедьяров и Гундилович к тому времени давно уже погибли, а вот бывшего комполка допросили. «…Никакого боя 28 панфиловцев с немецкими танками у разъезда Дубосеково 16-го ноября 1941-го года не было, – честно признал тот, – это сплошной вымысел. В этот день у разъезда Дубосеково в составе 2-го батальона с немецкими танками дралась 4-я рота, и действительно дралась геройски. Из роты погибло свыше 100 человек, а не 28, как об этом писали в газетах. Никто из корреспондентов ко мне не обращался в этот период; никому никогда не говорил о бое 28 панфиловцев, да и не мог говорить, так как такого боя не было. Никакого политдонесения по этому поводу я не писал. Я не знаю, на основании каких материалов писали в газетах, в частности в “Красной звезде”, о бое 28 гвардейцев из дивизии им. Панфилова. В конце декабря 1941-го года, когда дивизия была отведена на формирование, ко мне в полк приехал корреспондент “Красной звезды” Кривицкий вместе с представителями политотдела дивизии Глушко и Егоровым. Тут я впервые услыхал о 28 гвардейцах-панфиловцах. В разговоре со мной Кривицкий заявил, что нужно, чтобы было 28 гвардейцев-панфиловцев, которые вели бой с немецкими танками. Я ему заявил, что с немецкими танками дрался весь полк и в особенности 4-я рота 2-го батальона, но о бое 28 гвардейцев мне ничего не известно… Фамилии Кривицкому по памяти давал капитан Гундилович, который вел с ним разговоры на эту тему, никаких документов о бое 28 панфиловцев в полку не было и не могло быть».
Материалы следствия завершались выводом: «…установлено, что подвиг 28 гвардейцев-панфиловцев, освещенный в печати, является вымыслом корреспондента Коротеева, редактора “Красной звезды” Ортенберга и в особенности литературного секретаря газеты Кривицкого. Этот вымысел был повторен в произведениях писателей Тихонова, Ставского, Бека, Кузнецова, Липко, Светлова и других и широко популяризировался среди населения Советского Союза».
Такими словами Главный военный прокурор ВС СССР генерал-лейтенант юстиции Н. Афанасьев подписал мифу смертный приговор и передал Генеральному прокурору СССР Г. Сафонову, а тот в свою очередь переправил секретарю ЦК ВКП(б) А.А. Жданову. Как разбирались с этим документом члены Политбюро, покрыто мраком тайны. Ясен лишь результат – миф уцелел, сочтенный более полезным для блага страны, чем правда. И то сказать: не сносить же памятники, не снимать же с полок многочисленные книги о панфиловцах, вышедшие из-под пера Александра Кривицкого и многих куда более ярких сочинителей… Оно конечно, и памятники в отечестве нашем сносили во множестве, и книги уничтожали, так ведь то вредные. А герои-панфиловцы – они полезные, патриотичные; пусть живут в веках…
Прошло без малого два десятка лет, прежде чем на миф покусился на этот раз не прокурор, а писатель-фронтовик В. Кардин[414]. К тому времени плодовитый Кривицкий как раз выпустил очередную книжицу – «Не забуду вовек», посвященную все той же неиссякаемой теме. Ловя автора на многих несоответствиях, несостыковках и умолчаниях (в частности, об уцелевших «героях»), критик Кардин не хуже прокуратуры провел собственное следствие и пришел практически к тем же выводам. О чем и написал в статье «Легенды и факты», опубликованной в журнале «Новый мир». Сделать это было тем легче, что в писательской среде многие хорошо знали, что представляет собой Кривицкий. В частности, знаменитый карикатурист Борис Ефимов[415] вспоминал такую историю, рассказанную со слов самого Кривицкого, которого еще в годы войны после публикации очередного очерка вызвал к себе сам Щербаков[416]: «Поговорив о делах, Щербаков неожиданно спросил:
– Скажите, товарищ Кривицкий, из вашего очерка следует, что все двадцать восемь панфиловцев погибли. Кто мог вам поведать о последних словах политрука Клочкова?
– Никто не поведал, – напрямик ответил Кривицкий. – Но я подумал, что он должен был сказать нечто подобное, Александр Сергеевич.
Щербаков долго молча смотрел на Кривицкого и наконец, сказал:
– Вы очень правильно сделали, товарищ Кривицкий».
В другой раз Ефимов, зайдя к Кривицкому и встретив там Твардовского, Дангулова, Гроссмана и еще кого-то из «Красной звезды», застал окончание спора. Заикаясь, Кривицкий завершал: «Так вот, что бы вы тут ни говорили, можете с-сомневаться сколько вам угодно, а вот эта дерьмовая книжонка, – он потряс в воздухе брошюрой о подвиге панфиловцев, – через двадцать пять лет будет п-первоисточником, да, да, п-первоисточником!»
И хотя опубликованы ефимовские мемуары были всего лишь несколько лет назад, причем в Израиле, однако рассказывать свои байки он любил всегда, и Кардин просто не мог не оказаться в числе слушателей – все-таки столичный литературный и окололитературный мир достаточно тесен.
Ответ на кардинскую статью грозно прозвучал с самого верха: 10 ноября 1966 года на заседании Политбюро ЦК КПСС возмутился сам Брежнев: «Подвергается критике в некоторых произведениях, в журналах и других наших изданиях то, что в сердцах нашего народа является самым святым, самым дорогим. Ведь договариваются же некоторые наши писатели (а их публикуют) до того, что якобы не было залпа “Авроры”, что это, мол, был холостой выстрел и т.д., что не было 28 панфиловцев, что их было меньше, чуть ли не выдуман этот факт, что не было Клочкова и не было его призыва, что “за нами Москва и отступать нам некуда”. Договариваются прямо до клеветнических высказываний против Октябрьской революции и других исторических этапов в героической истории нашей партии и нашего советского народа». Говорят, Леонида Ильича кардинское покушение на миф о двадцати восьми обидело еще и потому, что затрагивало одну из любимых песен генсека:
Мы запомним суровую осень, Скрежет танков и отблеск штыков, И в веках будут жить двадцать восемь Самых храбрых твоих сынов, И врагу никогда не добиться, Чтоб склонилась твоя голова, Дорогая моя столица, Золотая моя Москва![417]Само собой, после такого залпа ни о каких разоблачениях исторических мифов говорить уже не приходилось. Вернее, говорили, конечно. И даже писали – в стол. Ибо кто ж такое опубликует? Впрочем, когда началась горбачевская гласность и публиковать можно стало если и не все, то довольно многое, произошел случай, прямо скажем, забавный: не разобравшись, некоторые журналисты начали кампанию в защиту прав «невинно репрессированных героев-панфиловцев» Даниила Кужебергенова и Ивана Добробабина, которые, потрясая сочинениями Александра Кривицкого, требовали вручения им положенных Звезд Героев и прилагаемых к высокой награде льгот. Потом, очевидно, разобрались, но как-то втихую – кампания незаметно увяла. Наконец в 1997 году на страницах того же «Нового мира» историки Никита Петров и Ольга Эдельман в очередной раз (но теперь – с исключительной полнотой) предали огласке все подробности этой истории.
Но думаете, миф от этого пострадал? Закрылся Нелидовский музей? Ничуть не бывало. На уроках патриотического воспитания о двадцати восьми героях-панфиловцах повествуют с прежним пылом… Прав, прав был Кривицкий: стали-таки его опусы первоисточником и, боюсь, будут оставаться и впредь…
Но почему?
Надо сказать, что дело здесь не только в умелой пропаганде. Любой – в том числе и пропагандистский – миф оказывается живучим и эффективным лишь в случае, если он созвучен общественному сознанию, мироощущению, традициям. И значительная часть советских мифов вообще, а военных – в особенности, полностью этому требованию соответствовала.
Во-первых, в эпоху, которую Ортега-и-Гассет[418] нарек «восстанием масс», понятие массовости стало главенствующим (как тут не вспомнить блистательную метафору из «Улялаевщины» Ильи Сельвинского: «Это была мас-с-са – масса через три “эс”!»). Главенствующим не только в политике или социологии, но и для мифа, даже героического: на смену исключительному герою, вроде Тесея или Жанны д’Арк, пришел другой – живущий рядом, обыкновенный, но прекрасно знающий, что «в жизни всегда есть место подвигу», а
Когда страна быть прикажет героем, У нас героем становится любой,как утверждала популярная песня из культового фильма[419]. Именно это качество и отличало всех героев официально пропагандируемых героев Великой Отечественной. Потому что лишь при таком раскладе совершение подвига может быть вменено в обязанность. И двадцать восемь героев-панфиловцев эту свою обязанность выполнили.
Во-вторых, в нашей отечественной культуре издревле – не знаю уж, с каких пор, боюсь, что не с девятого века даже, не с христианского тезиса о Церкви, зиждущейся на крови мучеников, а со времен куда более ранних, языческих, с их кровавыми жертвами, – утвердилось убеждение, что гибель является непременным атрибутом героизма. Об этом еще нелюбимый мною классик Николай Алексеевич Некрасов писал:
Иди и гибни: дело прочно, Когда под ним струится кровь.А любимый мною Булат Окуджава ему вторил:
Нам нужна одна победа, Одна на всех, мы за ценой не постоим![420]Вспоминается в этом ряду и песня военных лет, если не народная, то анонимная (мне, по крайней мере, автора дознаться не удалось) – пели ее на мотив «Любо, братцы любо…»:
А утром вызывают в особенный отдел – Мол, что же ты, собака, вместе с танком не сгорел? А я им отвечаю, а я им говорю, Что, мол, в следующей атаке обязательно сгорю…В начале этой главы я называл Александра Матросова и тех, кто совершил подобный подвиг до него. Всего же за годы Великой Отечественной подвиг, названный матросовским, совершили более трехсот человек. Но вот что любопытно: одного своего Матросова подарила Вторая мировая и американцам – звали его Роджер Янг, он был рядовым пехотного полка и погиб 31 июля 1943 года на Нью-Джорджии, одном из Соломоновых островов; Конгресс наградил его медалью Свободы посмертно. Память его чтут свято. Как и Матросов, он навечно зачислен в списки своей воинской части. Однако пропагандировать и популяризировать подобное самопожертвование никому в Америке и в голову не приходило. Цель солдата – не погибать, а побеждать, стараясь уцелеть. Такая вот установка, такая психология…
Кривицкий почувствовал эту особенность отечественного мифа очень точно. Помните? «Сложили свои головы – все двадцать восемь. Погибли, но не пропустили врага»! Ведь победа, не доставшаяся дорогой ценой, как бы ничего и не стоит…
Но, наверное, обо всей этой истории и писать-то не стоило бы – одним мифом больше, одним меньше, – если бы не странное равнодушие, сопутствующее советскому героическому мифу, живущее рядом с ним. Мы охотно ведем счет на миллионы и спорим, сколько именно этих самых миллионов полегло на той войне, но легко забываем при этом о каждом в отдельности. И хотя по сей день ведут свою благородную работу поисковики – не государство, не армия, но граждане и энтузиасты, низкий им всем поклон! – сколько же еще лежит в нашей земле непогребенных, сколько числятся пропавшими без вести…
И среди них – те, кто и впрямь полег на Волоколамском направлении. Герои-панфиловцы, Кривицким не воспетые. О которых говорил полковник Капров: «В этот день у разъезда Дубосеково в составе 2-го батальона с немецкими танками дралась 4-я[421] рота, и действительно дралась геройски. Из роты погибло свыше 100 человек, а не 28, как об этом писали в газетах». Где полегли они – ведь под Нелидовом нашли и похоронили только шестерых? Как их звали – в отличие от тех двадцати восьми, имена этих никому не известны. Им, мертвым, уже не больно. Но разве не больно за них нам, живым?
Глава 18. Град, родства не помнящий
Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем…
Эжен Потье[422]История с географией
Представьте себе: военачальник-германец из племени скиров по имени Одоакр, в августе 476 года низложив последнего венценосного владыку Западной Римской империи Ромула Августула, сперва в порыве праведной ярости стер с лица земли Вечный город, а затем километрах этак в десяти основал новый – будущую столицу Священной Римской империи германской нации, названную, допустим, Одоакрополь. Боюсь, подобный сюжет покажется чересчур абсурдным даже многочисленному племени поборников альтернативной истории. Однако реальную историю нелепостями не удивишь: нечто подобное имело-таки место, пусть даже гораздо позже, в начале XVIII столетия, и намного севернее – на берегах не Тибра, а совсем другой реки, молодой[423] и короткой, но зато широкой и полноводной.
Позволю себе начать издалека, ибо не рискую вслед за классиком, о коем еще зайдет у нас речь, предположить, будто многие из читателей этих строк родились или блистали на брегах Невы[424].
Ингрия, Ингерманландия, Ижорская земля, Водская пятина – каких только имен не носили в прошлом обширные лесистые территории, раскинувшиеся по берегам Невы и юго-западному Приладожью… Первыми, судя по всему, появились здесь угро-финские племена ижорцев[425]. Было это в те давние времена, когда еще не сформировалась разветвленная Невская дельта, и река единым мощным потоком вливалась в Финский залив, который также был заметно шире и глубже (тогдашние береговые террасы прекрасно прослеживаются по сей день). Еще Нестор-летописец, говоря о пути из варяг в греки, упоминал, что великое озеро Нево широким устьем выходит к Варяжскому морю. Иные палеогеографы утверждают даже, будто еще Рёрих Ютландский, направляясь в 862 году в Ладогу, чтобы там стать Рюриком Русским, поднимался вверх именно по такой Неве… Но вернемся к нашим ижорцам. Впоследствии к ним присоединилось еще одно из прибалтийско-финских племен – водь, осевшее преимущественно по южному берегу Финского залива. Селились тут и корелы – в основном по правому берегу реки. Вслед за ними в Ингрию мало-помалу начали проникать славяне[426].
Начиная с VIII века здесь появляются и викинги-норманны – выходцы из Скандинавии, коих местные финские племена (а вслед за ними – и соседи-славяне) стали называть ruotsi[427]. Раскопки Е.А. Рябинина, проводившиеся в 1973–1985 годах в Старой Ладоге, на левом берегу реки Волхова, позволили методом дендрохронологии датировать возникновение здесь первого средневекового города, основанного скандинавами – поселения, впоследствии получившего название Альдейгьюборг, т.е. Город на Нижней реке; позже, переиначив на свой лад, славяне нарекли его Ладогой, а при Петре I он в 1704 году был переименован в Старую Ладогу. Так вот, бревна для первых построек там были срублены в 753 году – за век с лишним до призвания Рюрика. Альдейгьюборг занял важное место в пределах освоенного викингами пространства, протянувшегося от Балтики до Урала и Черного моря: вся эта огромная территория уже в древнейших памятниках скандинавской литературы получила название Svitjod hin mikla – Великая Швеция.
Вернемся, однако, в Ингерманландские края. Места здешние для земледелия были пригодны не слишком, хотя рожь и ячмень тут все-таки сеяли; зато охота – богатая, река и озеро – щедры на уловы, да и скотина могла пастись привольно, одаряя молоком, сметаной, маслом, сыром. Тем и кормились, и подати платили.
Помимо местного населения, ввиду малочисленности жившего, похоже, более или менее мирно и бесконфликтно, на Ингерманландию претендовали все кому не лень: «исконно своей» почитали ее Господин Великий Новгород и – позже – государи московские; однако шведы и Ливонский орден придерживались тик-в-тик такой же точки зрения. Оно и неудивительно: пусть сам по себе край и не больно-то богат, но оседлавший Неву контролирует Балтийско-Черноморский и Балтийско-Каспийский торговые пути, что сулит уже доходы куда как серьезные[428].
Понятно, что в Ингрии то и дело происходили пограничные стычки, столкновения, конфликты – иногда скорее символические, обозначавшие присутствие и демонстрировавшие силу, а порою и весьма кровопролитные. Так, например, за сорок лет – с 1283 по 1323 год – новгородская летопись отмечает пятнадцать вооруженных столкновений только со шведами. Но тем не менее всерьез осваивать край ни у кого не было ни сил, ни, похоже, желания: это было целиком и полностью отдано на откуп местному населению, вынужденному вдобавок платить подати то тем, то другим, а временами – тем и другим одновременно.
Война крепостей. Действие первое – Ландскруна
В начале XIV века ингерманландское соперничество вылилось в процесс, который можно назвать вялотекущей войной крепостей. Начали ее шведы.
Ярл Торгильс Кнутссон – основатель Выборга, Кексгольма (совр. Приозерск) и Ландскруны.
Памятник работы финского скульптора Вилле Вальгрена был установлен в Выборге в 1908 г.
В первые дни июня 1300 года, сразу же после праздника Святой Троицы, их флотилия[429], поднявшись по Неве, бросила якоря у правого берега возле устья одного из притоков – куда более полноводной, чем сейчас, и потому на значительном протяжении судоходной речки Охты[430] Высадившиеся на берег солдаты и рабочие команды споро взялись за дело. Прежде всего был прокопан широкий и глубокий ров, соединивший Неву с Охтой. На образовавшемся треугольном острове, достигавшем почти километра в длину, незамедлительно началось возведение крепости, названной Ландскруна (то есть Земной венец), – вскоре уже поднялись мощные бревенчатые куртины и восемь квадратных башен, которые тут же стали обносить каменными стенами. Под защитой крепостной артиллерии была в считанные недели выстроена торговая гавань со всеми положенными причалами, портовыми магазинами, складами, судоремонтными мастерскими и так далее. Место было чрезвычайно удобное – ширина Охты близ устья достигала 80 м, а глубина позволяла кораблям приставать прямо к берегу, чтобы швартоваться «борт к борту и штевень к штевню».
Рядом, как всегда происходит в подобных случаях, сам собою начал формироваться город.
Предпринято все это было по воле короля Биргера Магнуссона – внука того ярла Биргера, с которым неподалеку отсюда, только на противоположном берегу, подле впадения в Неву левого притока, Ижоры, вел переговоры князь Александр Ярославич (событие, вошедшее в историю под именем Невской битвы, о которой уже шла речь в главе, посвященной Александру Невскому). Прямым же исполнителем монаршей воли (и похоже, вдохновителем всей затеи) являлся Торгильс Кнутссон.
О происхождении этого талантливого полководца и мудрого государственного деятеля почти ничего не известно – документы впервые упоминают его имя в 1281 году. Шесть лет спустя он был возведен в рыцари, а еще через год стал маршалом, получив высшее из шведских воинских званий. После своего возвышения Торгильс сумел прекратить междоусобицы и добиться того, что в стране – впервые за многие годы – установился гражданский мир. В «Хронике Эрика» говорится:
Торгильс Кнутссон стал править в то время. Был он умен и радушен со всеми. Крестьяне, священники, рыцари, слуги – Все были довольны жизнью в округе. Были там праздники, танцы, турниры. Ни хлеба, ни мяса не жалко для пира. Рыба в достатке водилась в озерах, Мир и покой царил на просторах. Лишь по законам все споры решали. Люди про тяжбы не вспоминали… Жизнь с тех пор потекла спокойно, Как встарь, не терзали Швецию войны.Кнутссон прекрасно понимал значение для Швеции восточных берегов Балтики, Невы и Ладожского озера, а потому организовал ряд походов с целью основания в этих землях новых городов-крепостей, которым со временем предстояло стать крупными торговыми центрами. Так, в 1293 году на берегу Финского залива в устье реки Вуоксы была основана крепость Выборг. Ее стены одели камнем, вследствие чего несколько попыток карелов, финнов, ладожан и новгородцев захватить и разрушить крепость оказались тщетными. Вскоре она стала важным торговым центром Восточной Балтии.
Двумя годами позже на западном берегу Ладожского озера была заложена крепость Кексгольм (современный Приозерск) – в отличие от Выборга, она была основана на месте уже существовавшего финского поселения. На протяжении XIV века Кексгольм неоднократно переходил из рук в руки, становясь то новгородским, то снова шведским.
И вот теперь настал черед Ландскруны.
Подобного посягательства на «свои исконные» земли, естественно, не стерпели новгородцы. Уже к августу великий князь владимирский Андрей Александрович Городецкий, третий сын Александра Невского, собрал ополчение[431] и двинулся на Ландскруну. Прежде всего он попытался под покровом ночи с помощью пущенных по течению огромных плотов-брандеров спалить шведскую флотилию. Затея оказалась неудачной: плоты были остановлены натянутыми в воде цепями и сгорели дотла, лишь послужив освещением сцены. Не исключено, однако, что атака брандеров являлась лишь отвлекающим маневром, поскольку пешее ополчение одновременно с этой акцией предприняло штурм крепости – тоже, впрочем, безуспешный.
Шведский офицер Матиус Кеттильмундсен выехал за крепостные стены и предложил решить дело поединком – увы, его рыцарственной идеи никто не поддержал. Убедившись, что крепость хорошо укреплена и захватить ее будет нелегко, русские сняли осаду и ретировались без боя.
В конце осени флотилия ушла, оставив в крепости гарнизон в 300 человек во главе с комендантом Стеном. Зимовка на Неве была для гарнизона тяжелой – из-за недостатка продовольствия, особенно овощей, многие болели цингой.
Вопреки первоначальным намерениям, по весне шведы не вернулись. Оно и неудивительно: страна переживала далеко не лучшие времена, новый король Биргер Магнуссон безуспешно боролся за власть с магнатами и собственными братьями, вследствие чего ему было не до окраинных городов и крепостей. И вот 18 мая 1301 года новгородское войско, возглавляемое князем Андреем Александровичем, осадило Ландскруну[432]. После ожесточенного, но не слишком долгого сопротивления крепость пала. Большинство ее защитников погибли, а уцелевших новгородцы увели с собой. Новгородская Первая летопись сообщает: «Град взят бысть, овых избиша и исекоша, а иных извязавше поведоша с города, а град запалиша и разгребоша». Разъяренные новгородцы не только спалили город, порт и крепость, но даже в некоем иррациональном порыве срыли, говорят, холм, на котором она была возведена.
Почему новгородцы не сохранили захваченную крепость, занимавшую столь выгодное положение на торговом пути, связывавшем Европу и Балтику с Русью и Византией? Так ведь новый город мог стать серьезным конкурентом Новгороду в его торговых делах, мог перехватить инициативу в торговле с балтийскими городами. Зачем же самим себе конкурентов плодить? Да и шведов, признаться, побаивались – рано или поздно те могли, уладив междоусобицы, вернуться и вновь занять основанный ими город…
Трагично сложилась и судьба основателя Ландскруны Торгильса Кнутссона, лишь на четыре с небольшим года пережившего гибель и разрушение основанной им крепости. Уже в 1302 году, сразу по совершеннолетии и коронации Биргера Магнуссона, начались его размолвки и столкновения с братьями – герцогами Эриком и Вальдемаром. Попытки Торгильса (на дочери которого был женат герцог Вальдемар) примирить их оказались безуспешными. Более того, Биргер даже начал относиться к маршалу с подозрением: оклеветанный маршал был арестован перед Рождеством 1305 года, заточен в башню Стокгольмского замка и 10 января 1306 года казнен на площади. Первоначально его похоронили на неосвященной земле за стенами города, и лишь в мае его близким удалось добиться перенесения останков в Риддархольмскую церковь в Стокгольме, где маршал хотел быть погребен.
Война крепостей. Действие второе – Орешек
В 1323 году московский князь Юрий Данилович заложил на острове Орехове, лежащем при истоке Невы, крепость, названную Орешек. Место было выбрано с умом – расположение фортеции позволяло полностью контролировать выход в Ладожское озеро. Впрочем, именно это обстоятельство заставляет и призадуматься. Создается впечатление, будто тем самым одновременно обозначалась и граница притязаний: торговый путь мы контролируем, лежащие же вниз по Неве земли – Бог с ними, потом как-нибудь разберемся… Однако впечатление это противоречит той ярости, с которой двадцать два года назад новгородцы стерли с лица земли Ландскруну – один из тех парадоксов, о которых нам с вами еще предстоит размышлять. Впрочем, на бумаге шведско-новгородская граница была определена 12 августа того же 1323 года и как раз в нововозведенной крепости, по названию которой мирный договор получил название Ореховецкого; демаркационная линия проходила по реке Сестре и в меридиональном направлении делила пополам остров Котлин.
Возведение Орешка встревожило шведов, однако предпринимать решительных действий они не спешили. Двумя годами позже был убит в Орде Юрий Данилович, на московском княжении его сменил младший брат – Иван I Калита, которому в 1340 году наследовал сын – Иван II Красный. Как и все представители дома Даниловичей после него, вплоть до Ивана IV Грозного, прежде всего он посчитал необходимым показать строптивому, вольнолюбивому и богатому ганзейскому Новгороду, кто в доме хозяин. Вот тут-то, воспользовавшись московско-новгородской распрей, шведы под шумок и без особого, надо сказать, труда овладели Орешком. Ненадолго, правда, – уже в начале 1349 года крепость была у них отнята, причем новгородцы поспешили заменить деревянные стены каменными.
Под их защитой возник на левом берегу Невы городок; как явствует из грамоты 1563 года, сюда съезжались торговые люди из Новгорода, Твери, Москвы, Рязани, Смоленска, Пскова, из Литвы, Ливонии и Швеции.
Чуть раньше того времени, к которому относится вышеупомянутая грамота, в середине сентября 1555 года, шведы попытались было вновь захватить Орешек, но неудачно: после трехнедельной осады ринувшиеся на штурм войска были отброшены. Столь же тщетной оказалась и следующая попытка, предпринятая на излете Ливонской войны, в 1582 году. Хотя во главе осадивших крепость шведов и стоял столь талантливый полководец, как Понтус де ла Гарди, однако в конце концов и ему пришлось отступить.
Наконец в 1611 году шведам удалось-таки взять Орешек. И хотя в 1655 воеводы царя Алексея Михайловича Тишайшего снова овладели крепостью, но по Кардисскому мирному договору 1661 года она была возвращена шведам, которые, переименовав в Нотебург, владели ею сорок лет – до тех пор, пока в ходе Северной войны 11 октября 1702 года она не была взята штурмом войсками генерал-фельдмаршала графа Бориса Петровича Шереметева. О взятии Нотебурга – русские предпочитали называть его Орешком – Петр I писал: «Правда, что зело жёсток сей орех был, однако ж, слава Богу, счастливо разгрызен». Впрочем, при всех идеологически-пропагандистских предпочтениях Петр с дивной последовательностью, всегда его отличавшей, тут же в очередной (и, как мы знаем, предпоследний) раз переименовал крепость – в Шлиссельбург.
Стратегическое значение Шлиссельбург сохранял только в ближайшие годы Северной войны – при овладении Невой он играл роль передовой базы; затем до 1710 обеспечивал правый фланг невской линии, а во время осады Кексгольма (бывшей Корелы и нынешнего Приозерска) служил базой для войск Брюса. Однако после взятия Выборга, а также постройки Петропавловской крепости и Кронштадта роль его с военной (не говоря уже о торговой) точки зрения оказалась полностью исчерпана.
Война крепостей. Действие третье – Ниеншанц
На том месте, где некогда была Ландскруна, в начале XVII века существовало русское сельцо Усть-Охта – полтора десятка дворов торговых людей и принадлежащие им склады; там же размещались и сборщики государевых пошлин.
К тому времени места эти были уже обжиты весьма неплохо, хотя население все еще оставалось достаточно малочисленным. Несколько десятков русских деревень, по пять-восемь дворов каждая (всего 1082 двора и 1516 душ мужеска полу); ижорские, водские, вепсские и собственно финские поселки (общее число их обитателей превышало русское в несколько раз, однако было рассредоточено по большой территории – современный Санкт-Петербург со всеми его пригородами). На Васильевском острове раскинулось поместье семьи де ла Гарди, на Фомином (нынешняя Петроградская сторона) – Биркенхольма, в окрестностях нынешнего Дудергофа – королевского советника Иоганна Скютте…
Инициатор заложения Ниена – Якоб де ла Гарди.
Гравюра Падта Брюгге, 1671 г.
И вот в 1611 году по инициативе Якоба де ла Гарди, блистательного военачальника и мудрого политического деятеля времен короля Густава II Адольфа и наследовавшей ему королевы Кристины, на месте Ландскруны – при слиянии Невы и Охты – были заложены торговый поселок Ниен[433] и крепость Ниеншанц[434]. Пятиугольную цитадель, наибольший поперечник которой достигал километра, окружали валы высотой 18 и шириной 12 метров. Рядом с двухэтажным крепостным замком с башнями была построена небольшая лютеранская церковь для гарнизона. На крепостных стенах толщиной 15 локтей, т.е. около 9 метров, были установлены семьдесят восемь пушек. (Замечу, прагматичные шведы заново насыпать срытого триста лет назад новгородцами холма не стали.) Ниен стремительно рос, впитав в себя и Усть-Охту, и 17 июня 1632 года по ходатайству Якоба де ла Гарди и генерал-губернатора Финляндии Петра Браге король Густав II Адольф даровал ему городские права, торговые привилегии и шестилетнее освобождение жителей от всех гражданских повинностей.
Шведский король Густав II Адольф из династии Ваза, чьим повелением был основан город Ниен.
Гравюра Пауля Понтиуса (по рисунку Антониса ван Дейка), 1632 г.
Некоторое время Ниен спорил за торговое главенство в регионе с Выборгом – соперничество это окончилось, когда 28 сентября 1638 года одиннадцатилетняя королева Кристина (по совету все тех же де ла Гарди и Браге) подписала указ, в частности, гласивший: «Мы, Кристина, сим объявляем, что поскольку славный родитель Наш, блаженной памяти Государь, повелел к украшению и довольству Нашей провинции Ингерманландии устроить новый город на Неве, Мы нашли нужным продолжать дело сие, предоставляя пользоваться ему шведским городовым правом и общими привилегиями. Предоставляем городскому сословию в сказанном Ниене двенадцатилетнюю свободу от малой пошлины, от печных денег, от взимания налогов с пивоварения и винокурения, а также свободу от обыкновенных гражданских повинностей. Сим повелеваем, чтобы всем желающим селиться и строиться там дано было определенное место и земля; и приказываем защищать поселенцев согласно с ныне данными Нами привилегиями и преимуществами… Запрещаем всем причинять им препятствия, вред и ущерб каким бы то ни было образом».
Карта Ниена середины XVII в.
(Обратите внимание: север непривычно расположен внизу!)
Ниен на карте начала XVII в.
Указ королевы Кристины привел к быстрому росту населения Ниена и расширению его торговых связей – с 1640 по 1642 год оно выросло более чем в полтора раза, а к началу пятидесятых годов по приблизительным оценкам достигало 20 000–20 500 человек. С 1640 по 1645 год Ниен ежегодно посещали от 92 до 112 кораблей. В основном это были суда из Швеции и ее балтийских владений, русские ладьи, корабли из городов Северной Германии, Голландии, Дании и Англии; но иногда Ниен посещали и корабли из католических стран: Польши, Франции. Кристина специальным указом велела заботиться об охране этих судов и о свободной торговле в пределах ее владений.
Герб города Ниена – вставший на задние лапы лев с подъятым мечом, стоящий меж двух рек – Волхова и Невы
План города Ниена и крепости Ниеншанц, составленный в 1698 г. Абрахамом Крониортом
20 сентября 1642 года новым указом королева расширила эти права и привилегии, а также даровала Ниену герб – лев, стоящий между двумя реками и держащий в правой лапе меч. А вскоре, 31 августа 1646 года, город получил от королевы дополнительные торговые привилегии и право устраивать ежегодно трехнедельные ярмарки, в которых участвовали многие балтийские и европейские страны, Новгород, Москва и другие города России. Магистрат Ниена с этих пор возглавлялся тремя бургомистрами, в помощь которым придавались синдики и нотариусы. Проведенные реформы и предоставленные городу права позволили Ниену не только догнать Выборг по числу совершаемых сделок и авторитету среди прочих балтийских городов, но и стать крупнейшим торговым центром в пределах Ингерманландии, а вышеупомянутая ежегодная ярмарка обрела известность как самая богатая во всей Восточной Балтии. Его жители имели свыше ста торговых судов, как сказали бы теперь, приписанных к Ниену. Вокруг раскинулось до сорока деревень. С расположенным на левом берегу – там, где сейчас находится Смольный (Воскресенский) собор и монастырь, – русским селом Спасское (самым крупным, откуда дорога вела к Большому Новгородскому тракту) город соединялся регулярной паромной переправой.
Королева Кристина-Августа (1626–1689), предоставившая Ниену права города.
Аллегорический портрет в облике Артемиды-охотницы кисти неизвестного художника XVII в.
В 1656 году царь Алексей Михайлович Тишайший в попытке завладеть Балтийским побережьем развязал войну со Швецией. Третьего июня русская армия окружила и блокировала шведскую крепость Нотебург (русский Орешек), а тысячный отряд под командованием воеводы Петра Потемкина направился к Ниену.
Город не был готов к войне и длительной осаде. Услышав о приближении русских, находившиеся в городе генерал-губернатор Ингерманландии Густав Горн и дерптский президент Карл Мернер покинули Ниен и уплыли в Нарву. Перед отъездом они приказали коменданту Ниеншанца шотландцу Томасу Кинемонду сжечь соляные и хлебные склады, чтобы они не достались противнику. 30 июня 1656 года Ниеншанц был захвачен русскими войсками и подвергся страшному разграблению. В городе было сожжено около 500 домов, захвачено 8 пушек и значительные запасы хлеба. Как сообщают шведские документы, все дома были разграблены, а жители, не успевшие скрыться, убиты, причем не щадили даже женщин и детей.
Однако отряд Потемкина не мог долго находиться в разоренном Ниене, где не осталось ни крова, ни продовольствия, так что русские оставили город и отошли к Нотебургу-Орешку.
А вскоре по условиям Кардисского мира 1661 года, по которому вся Ингерманландия и Юго-Западное Приладожье признавались шведскими владениями, Ниен был возвращен Швеции, быстро возродился и уже к середине семидесятых годов по числу населения сравнялся с крупнейшими городами Финляндии – Выборгом и Або.
По свидетельству современника, в Ниене «было много превосходных пильных заводов и там строились хорошие и красивые корабли. <…> Не один Любек, но и Амстердам стал с Ниеншанцем торги иметь; водяной путь оттуда до Новгорода весьма к тому способствовал; словом, помалу и русское купечество в Ниеншанце вошло и привело сие место в такую славу, что в последние годы один тамошний купец, прозванный Фризиус, Шведскому королю Карлу XII в начале его войны с Петром Великим мог взаймы давать немалые суммы денег, за что после пожалован был дворянством, и вместо прежнего дано ему прозвание Фризенгейм и учинен он судьей в Вилманстранде».
На традиционную трехнедельную августовскую ярмарку по-прежнему съезжались иноземные купцы со всей Северной Европы. Из Новгорода, Тихвина, Ладоги сюда привозили рожь, овес, горох, свинину, говядину, сало, масло, лососину, деготь, смолу, пеньку, лен и лес. Через Новгород сюда поступали и пользовавшиеся большой популярностью в Европе восточные ткани: шелк, плюш, дамаск, а также шкуры, кожи, меха и холсты. А из Северной Европы везли металлы: железо, медь, свинец, изделия из них – якоря, замки, ножи, иглы; везли зеркала, английское и голландское сукно, немецкие шерстяные ткани, бархат и шляпы. Здесь продавались испанские и французские вина и североморская сельдь.
Рынок размещался в центре города. Неподалеку, на берегу Черной речки (правого притока Охты), размещалась городская ратуша, вернее две: Старая, стоявшая фасадом к Охте, и Новая, построенная уже после войны и разорения, в начале шестидесятых годов, развернутая фасадом к городской площади. Перед ратушей располагалась центральная площадь, вытянутая с юга на север; вокруг нее размещались дома самых богатых горожан, а также лавки и кабаки.
Была в Ниене и больница – причем по тому времени отменно организованная; пользовали там не только горожан, но и пациентов со всей Финляндии и даже юго-восточной Швеции.
Шли разговоры и об основании университета…
В городе действовало несколько церквей – шведская и немецкая лютеранские и русская православная: Ниен отличался естественной для многонационального города веротерпимостью. Население состояло преимущественно из шведов, русских, немцев и финнов; но немало было и людей других национальностей[435].
Казалось бы, жизнь прекрасна. Но тут, увы, началась Северная война.
23 апреля генерал-фельдмаршал граф Борис Петрович Шереметев во главе двадцатитысячного корпуса двинулся по правому берегу Невы брать Ниеншанц. Примерно в пятнадцати верстах от Ниеншанца, он выслал вперед двухтысячный отряд, приказав произвести разведку боем. Ночью они атаковали полторы сотни шведских драгун, стоявших вне крепости, причем несколько русских даже забрались на крепостной вал. Однако шведы отступили без потерь, успев даже захватить двух пленных. Собственно говоря, русские в этот момент могли с ходу взять крепость, поскольку шведы растерялись, да и численность гарнизона не превышала семисот (а по другим данным – и вовсе шестисот) человек. Но командир решил не рисковать и велел трубить отбой. 26 апреля к Ниеншанцу подошли основные силы Шереметева, были начаты осадные работы. После приведения в готовность осадных батарей генерал-фельдмаршал предложил шведскому коменданту капитулировать, но тот ответил, что «крепость вручена им от короля для обороны», и отказался сдать ее. 30 апреля началась бомбардировка крепости. К тому времени в лагерь осаждающих прибыл сам царь, именовавший себя бомбардирским капитаном Петром Михайловым. 1 мая шведский гарнизон сдался. Едва это свершилось, Петр первым делом привычно переименовал Ниеншанц в Шлотбург.
А вскоре по его приказу укрепления Ниеншанца-Шлотбурга (а с ними – и все городские постройки) были снесены до основания – лишь четыре высоких мачтовых бревна, врытых в землю, обозначали место, где когда-то стояли крепость и город.
Пожалуй, можно назвать лишь один пример с таким иррациональным, повторяю, остервенением вычеркнутого из бытия города. В 146 году до Р.Х. римляне разрушили ненавистный Карфаген, а землю, на которой он стоял, перепахали и, не пожалев для сей благородной цели весьма дорогого в те времена продукта, засыпали солью, дабы здесь ничего никогда не росло. Соли Петр пожалел. Но города не помиловал.
В 1714 году место, где чуть больше десятилетия назад располагался город Ниен с крепостью Ниеншанц, осмотрел мекленбургский посланник Вебер – взгляду его предстали несколько развалин, глубокие рвы, колодцы, подвальные ямы… Все, что только можно было, – до бревнышка, до кирпичика было давно уже растащено на возведение строений Петербурга.
Война крепостей. Действие четвертое – Санкт-Питербурх и Кроншлот
По неким соображениям, которые нынешние историки вольны трактовать как угодно, Петр I оставил Ниен, так сказать, без внимания, и, спустившись немного по течению, повелел заложить новую крепость на острове с финским названием Енисаари, который шведы именовали Луст-Эйландом (то есть Веселым), а русские – Заячьим, после чего спешно отбыл в Лодейное Поле. 16 мая светлейший князь Александр Данилович Меншиков приступил к строительству. Поначалу именно крепость носила имя Санкт-Питербурх[436], но впоследствии оно перешло к городу, тогда как крепость, по завершении строительства собора во имя святых апостолов Петра и Павла, стала именоваться Петропавловской.
План Санкт-Петербурга в 1705 г.
(составлен Н. Цыловым в 1853 г.)
И наконец, последний акт войны крепостей. Зимой 1703–1704 года на острове Котлин (финский Ретусаари) были установлены первые артиллерийские батареи, из которых вскоре выросла неприступная цитадель главной базы российского Балтийского флота, до 1723 года именовавшаяся Кроншлотом[437], а после – Кронштадтом. Ее орудия полностью контролировали подступы к устью Невы, а потому все расположенные выше по ее течению крепости разом теряли всякое стратегическое значение[438].
Вялотекущая война ингерманландских крепостей завершилась.
Но вскоре на том же ингрийском пространстве началась другая, по сей день длящаяся, – между историческими фактами, правительственной идеологий и патриотическим пылом.
Миф «пустынных волн»
С наибольшей полнотою он выражен в прологе к пушкинскому «Медному всаднику» – как водится, поэтическое творение гения, да еще включенное к тому же в школьную программу, куда эффективней формирует общественное сознание, нежели исторические труды. Впрочем, историки и сами приложили руку к созданию этого мифа – и продолжают по сей день.
Петр I.
Гравюра Уайта, 1698 г.
Помните?
На берегу пустынных волн Стоял он, дум великих полн, И вдаль глядел. Пред ним широко Река неслася; бедный челн По ней стремился одиноко. По мшистым, топким берегам Чернели избы здесь и там, Приют убогого чухонца…Не трудно, разумеется, представить себе ширь Невы с единственной лодчонкой, но и сегодня, выйдя на набережную, нередко можно узреть ту же картину, разве что лодка окажется либо надувной, либо моторной… Оно конечно, стоя на берегу, чухонские избы видеть было можно – причем в немалом количестве: на шведской карте 1676 года здесь насчитывался, повторяю, сорок один населенный пункт. Многие из этих деревушек носили финские названия: Риттова (на месте Александро-Невской лавры), Антолала (на месте Волковского кладбища), Ависта (на Выборгской стороне), Усадиссасаан (на месте нынешнего Зимнего дворца), Каллила (в устье Фонтанки, от нее пошло впоследствии название Калинкино) и т.д. Но рядом находилось также немало немецких мыз и, конечно же, русских сел: Сабирино, Одиново, Кухарево, Максимово, Волково, Купчино, упоминавшееся уже Спасское…
А по соседству с ними красовались усадьбы де ла Гарди и Биркенхольма, богатая мыза немецкого майора Канау (на месте, где высится теперь Михайловский замок; при ней, кстати, был обширный фруктовый сад, на территории которого, – как видите, отнюдь не на землях девственных и неухоженных! – Петр I построил свой Летний дворец, а сам сад не мудрствуя лукаво переименовал опять же в Летний). Тут же располагались имения русских помещиков – всех этих Аминовых, Апполовых, Бутурлиных, Одинцовых, Пересветовых, Рубцовых, что обосновались здесь издавна и после Столбовского мира перешли на шведскую службу, дабы не покидать родных мест. (Кстати, вопреки расхожему мнению, им вовсе не пришлось переходить в лютеранство – никто к тому не принуждал.) Наконец, открывались взору и дома Ниена.
Но – согласно мифу – всего этого будто и не было. И создается впечатление, будто в ходе долгой и кровопролитной Северной войны Россия завоевала… земли безвидные и пустынные; нарисованная же Пушкиным картина, оказывается, не погрешая против истины, являет собой тем не менее лишь импрессионистскую правду момента.
Историческая же правда – совсем иное.
Можно ли назвать «пустынными» воды, по которым больше тысячи лет проходил один из самых известных торговых путей? Воды, которые бороздил торговый флот Ниена, о котором говорилось выше?
Однако у Пушкина – так. И даже больше:
Природой здесь нам суждено В Европу прорубить окно, Ногою твердой стать при море. Сюда по новым им волнам Все флаги в гости будут к нам, И запируем на просторе.Но есть ли смысл уничтожать дверь, чтобы на ее месте прорубать окно? Но разве «все флаги» не направлялись в течение почти столетия к Ниену – особенно во время знаменитых тамошних ярмарок? И следовательно, эти волны при всем желании не назовешь для иноземных купцов «новыми». Просто в русский Петербург поначалу приходилось заманивать тех, кто спокойно хаживал в Ниен: когда в 1703 году в новую столицу пришло первое голландское судно, Петр на радостях отсыпал капитану 500 золотых, а всем матросам – по 30 серебряных талеров. Да, верно: за время навигации 1724 года у Троицкой пристани ошвартовалось уже 270 торговых судов. Но вряд ли в Ниене к тому времени их оказалось бы меньше.
Безусловно, Пушкин не мог не видеть этих противоречий. Не зря же свои знаменитые, всеми бесконечно цитируемые слова об окне в Европу он снабдил авторской сноской, на которую как-то не принято обращать внимание: «Альгаротти[439] где-то сказал: “Pitersbourg est la fenêtre par laquelle la Russie regarde en Europe”[440]». Очень точный нюанс – если не иметь в виду французского, конечно, то через окно смотрят, а не ходят… Все, все прекрасно понимал Пушкин. Но историческая правда вступала здесь в конфликт с идеологией. Существует устное предание, фактами, насколько мне известно, не подтвержденное, однако вполне логичное: увидеть именно «пустынные волны» мягко порекомендовал поэту его «личный цензор», то бишь государь, ибо никакое другое представление не укладывалось в традиционный культ Петра Великого.
Это ему, Петру, чтобы ощущать себя подлинно творцом, свойственно было стремление непременно созидать с нуля, так сказать, из праха и глины, – концепция, много позже нашедшая выражение в предпосланных этой главе в качестве эпиграфа незабвенных словах «Интернационала». Историкам же последующих лет нужно было этой петровской страсти подобрать рациональные объяснения. И они старались. Вовсю.
Казалось бы, почему, захватив Ниеншанц и Ниен, не укрепить заново понесшую серьезный ущерб при бомбардировке цитадель, а северную столицу не перенести в уже существующий город?
Суммируя различные аргументы в книге «Основание Петербурга», доктор исторических наук, профессор Владимир Мавродин писал: «Ниеншанц был мал, “не гораздо крепок от натуры”, то есть не имел серьезных естественных рубежей, в частности, не был огражден водой с севера и северо-востока, а также удален от моря».
Но ведь, как уже было сказано выше, наибольший поперечник Ниеншанца достигал километра, тогда как у Петропавловской крепости – около 750 метров. А ров, превративший мыс в остров, был не уже речки Кронверки, отделяющей Петропавловскую крепость от Петроградской стороны.
Зато расположенный выше по течению, на месте нынешних Большой и Малой Охты, Ниен не ведал вечного бича Петербурга – нагонных наводнений[441]. Ирония судьбы: Петр I умер, простудившись во время одного из таких стихийных бедствий… (Недаром в Священном Писании сказано: «горе строящему город на крови и созидающему крепости неправдою!»[442])
Утверждают, будто «ногою твердой» необходимо было стать именно при море, а не в нескольких километрах от него. Но почему же такая удаленность никоим образом не мешала исправно функционировать ниенскому порту?
Остается признать, что никакими рациональными соображениями петровского решения не объяснишь. Зато невольно приходит на память срытый новгородцами холм, на котором возведена была некогда Ландскруна…
Но и обращаясь к допетровскому периоду, то и дело наталкиваешься на те же противоречия. Вот лишь один пример. Как уже было сказано, русских на территории нынешнего Петербурга с окрестностями проживало «1516 душ мужеска полу». При этом, когда здешние земли по Столбовскому миру отошли к Швеции, не пожелавшие смириться с этим земледельцы переселялись в Россию… тысячами. «Жестокая эксплуатация, сочетавшаяся с национальным и религиозным гнетом, – писал историк А.А. Чухман в 1980 году, – привела к тому, что значительное количество русского населения (почти пятьдесят тысяч) ушло с невских берегов на территорию Русского государства». Дивная арифметика, оперирующая отрицательными величинами, – как иначе из полутора тысяч можно вычесть пятьдесят, да чтобы еще что-то осталось…
Никоим образом не дерзну утверждать, будто при шведах местному населению жилось очень уж хорошо или хотя бы лучше, чем под властью государей московских. И подати, как водится, в три шкуры драли, и повинности всякие налагали – все было. Как всегда и везде. Но вот достаточно красноречивые записи, относящиеся ко временам Ливонской войны: у помещика Семена Неклюдова на Охте «запустело от опричного правежа» свыше десяти десятин пахотной земли; у Федора Феткова деревня Устье пуста; заброшены и одичали все земли «в волости царской и великого князя в устье Невы»; запустели пашенные земли на Фомином острове, где «крестьяне побиты, и деревни сожжены»… Этот разор, между прочим, не от шведов был. Так что все хороши. Между прочим, и суждения об извечной шведской экспансии на ингрийские земли заставляют вспомнить, что процесс этот являл собою улицу с двусторонним движением: осмелюсь напомнить, что первый оборонительный пояс Стокгольма назывался Карельским валом и построен был для защиты города от регулярных набегов «диких карелов», к которым неизменно присоединялись и новгородцы…[443]
Но вот интересная деталь: если вы обратили внимание, гарнизоном, оборонявшим Ниеншанц против войск генерал-фельдмаршала Шереметева, командовал шведский подполковник и русский дворянин Апполов, под началом у которого русских тоже хватало. Причем, если шведов победители великодушно отпустили восвояси, то о судьбе пленных русского происхождения история как-то умалчивает. Зная петровский нрав, им трудно было позавидовать.
Исходя из мифа «пустынных волн», неизменно замалчиваются или елико возможно преуменьшаются значение и масштаб Ниена. В «Энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона», например, не только нет посвященной забытому городу отдельной статьи – он вообще упоминается один-единственный раз, в статье, посвященной генерал-фельдмаршалу Шереметеву: «…оттуда он пошел вниз по правому берегу Невы и взял Ниеншанц». Но и в «Российском энциклопедическом словаре» 2001 года издания за статьей «Ниедре, Янис» непосредственно следует «Ниецкий Рудольф». А Ниена – как не бывало…
В более или менее популярной исторической литературе он, само собой, фигурирует. Но даже городом назвать его немногие решаются, в большинстве, как упоминавшийся уже В.В. Мавродин, например, именуя «погостом», где было всего четыреста домов[444]. Во-первых, замечу, даже четыреста – уже немало. А во-вторых, шведские источники называют число на порядок большее. И то сказать: ведь еще во времена королевы Кристины, в тридцатых годах XVII века, в Ниене обитало до восьми тысяч человек, а дорос он, как вы помните, до двадцати с лишним тысяч[445]. Вряд ли все они в четырехстах домах уместились бы… Зато сельцо Усть-Охту с ее полтутора десятками дворов иные с завидным энтузиазмом именуют «торговым городом». Пусть их…
И лишь из сугубо специальных, а вследствие того мало кому известных, общественного мнения не формирующих исторических трудов можно почерпнуть подлинные факты об этом «умолчанном граде».
Печальный эпилог
Города привычно гордятся своей историей.
В 1968 году в Советском Союзе пышно праздновалось 2750-летие Еревана, причем точкой отсчета послужил 782 год до Р.Х., когда – почти за тридцать лет до основания Рима! – на холме Арин-Берд была возведена урартийская крепость Эребуни[446]. Позволю себе усомниться в генетическом родстве нынешних армян с жителями завоеванного в VI веке до Р.Х. мидянами царства Урарту. И тем не менее Эребуни – первое поселение на месте нынешнего Еревана, и возводить к этой крепости родословную тринадцатой столицы Армении более чем справедливо.
Еще в «Записках о Галльской войне» Юлия Цезаря в связи с подавлением римлянами восстания Верцингеторига упоминается Лютеция, построенная на острове Ситэ посреди Сены. После того как в 16 году по Р.Х. Галлия была превращена в римскую провинцию, Лютеция стала значительным торговым центром. И хотя нынешние французы имеют весьма спорное отношение ко племени паризиев, Лютецию основавших, однако историю свою современный Париж ведет именно от нее.
В 1626 году на острове Манхэттен голландцы основали город Новый Амстердам. Сорок лет спустя он был захвачен англичанами (что впоследствии было закреплено Вестминстерским договором) и в честь Джеймса, герцога Йоркского, переименован в Нью-Йорк. Однако город, уважая собственную историю, годом своего рождения считает не 1674, когда было обретено новое имя, а 1626.
В 2003 году был отмечен юбилей крымской Евпатории – ей исполнилось 2500 лет. Да, конечно, современный город основали там лишь в екатерининские времена, но отсчет от греческой колонии, расположенной на том самом месте, совершенно справедлив и является традицией общепризнанной.
Наконец, в августе 2005 года будет отмечаться тысячелетие Казани – города, кстати, отнюдь не русского, отвоеванного при Иване Грозном у татар, основанного же в X веке (тогда он назывался Великий Булгар) и являвшегося первой столицей Волжско-Камской Булгарии.
Имя подобным примерам – легион.
И только град Петров гордо отрекается от прошлого. В 2003 году помпезно отмечалось его трехсотлетие. Но первым городом, возникшим на этом месте, была основанная в 1300 году Ландскруна, и, по ереванскому примеру, отсчет следовало бы вести от нее, отмечая – тоже, кстати, в мае – 703-ю годовщину.
Но, допустим, просуществовала Ландскруна слишком уж недолго. Тогда, замечу, был, «торговый городок» Усть-Охта, возникший веком позже. Был, наконец, Ниен, и если вести счет от него, в юбилейный день Петербургу исполнилось 392 года. Впрочем, к вольному обращению с юбилеями петербуржцам не привыкать. Старшее поколение наших соотечественников еще помнит, должно быть, что и 250-ю годовщину города праздновали не в положенном (даже по каноническому исчислению) 1953 году, а четырьмя годами позже – в 1957. В пятьдесят третьем страна облачилась во всенародный траур по случаю кончины Отца народов – не до юбилеев тут, натурально, было. Зато в пятьдесят седьмом, когда сквозь чуть прираздвинутый железный занавес на Международный фестиваль молодежи и студентов съехалось немало иностранных туристов, и юбилей Санкт-Петербурга-Петрограда-Ленинграда оказался как нельзя более кстати…
Так или иначе, а российская Северная Пальмира не могла быть основана ни по воле иноземных государей, подобно Ландскруне и Ниену, ни возникнуть сама собой, как Усть-Охта, – и в представлении самого Петра[447] (как, впрочем, и его преемников), и в сознании общественном ей надлежало родиться исключительно на пустом месте по воле великого самодержца всероссийского.
И так оно и стало.
Эпилог. Жемчуга Клио
Не делает мне чести, если я ввел тебя в заблуждение.
Но и тебе следовало понимать меня правильно. Прощай!
Томас Карлейль[448]Разумеется, рассказанным тема не исчерпывается – Клио щедро одаряет нас неиссякаемым запасом сюжетов, и для книги я достаточно произвольно отобрал те, которые почему-то больше зацепили, растревожили что-то в душе. В принципе же любую из частей можно пополнять практически неограниченно.
Можно было бы написать, например, о цесаревиче Алексее Петровиче – с него, кстати, вообще началась для меня тема без вины окаянных. Было это лет сорок назад, но прекрасно помню, как поразила юношу, воспитанного на представлениях, почерпнутых из романа Алексея Толстого и фильма, где наследника престола играл Николай Черкасов, подлинная история этого Петрова отпрыска, рассказанная как-то раз ленинградским (в ту пору, а теперь израильским) историком Михаилом Хейфецом. Ведь миф о царевиче-ретрограде, жаждущем вернуться к неумытой старине, был создан исключительно затем, чтобы оправдать сыноубийство. Поначалу-то Алексей был всем хорош – и в деяниях отцовых, и в делах отечества участвовал активно и прилежно. Так, например, когда осенью 1707 года было предпринято укрепление Москвы на случай нападения Карла XII, надзор за работами был поручен Алексею Петровичу. В августе 1708 года на него же был возложен осмотр продовольственных магазинов в Вязьме. В начале 1709 года царевич представил царю в Сумах пять полков, собранных и устроенных им самим, затем присутствовал в Воронеже при спуске кораблей, а осенью отправился в Киев, чтобы находиться при той части армии, которая предназначалась для действий против Станислава Лещинского[449]. Характеризуя царевича по поручению австрийского двора, Вильчек, в частности, отмечал, что тот любознателен, посещал церкви и монастыри Кракова, присутствовал на диспутах в университетах, покупал много книг, ежедневно употреблял по шесть-семь часов не только на чтение, но и на выписки, и вообще обладал отменными способностями и способен выказать большие успехи, если окружающие не станут чинить ему препятствий. Во время пребывания в Дрездене он занимался геометрией, географией и французским, брал уроки танцев и посещал театральные представления на французском языке. И это – ретроград, мечтающий лишь о жизни по старинке? Он был царевым сотрудником и единомышленником – пока у второй жены российского императора, Екатерины I, не родился собственный сын, Петр, которого отец любовно называл Шишечкой. И чтобы не преграждать этому младенцу пути к трону, Алексею Петровичу пришлось умереть…
Можно было бы рассказать о Петре III и Павле I – невзирая даже на то, что в последнее время говорилось и писалось об этих государях немало, однако и тут далеко не все однозначно просто.
Или, например, о принце Джоне, более известном как король Иоанн Безземельный из династии Плантагенетов (1167–1216). Вот уж на кого английская историография не пожалела черных красок! И даже «Российский энциклопедический словарь» удостоил его единственной уничижительной оценки: «…в 1202–1204 годах потерял значительную часть английских владений во Франции и под давлением баронов, поддержанных рыцарством и городами, подписал в 1215 году Великую хартию вольностей». Позволю себе провести нехитрую аналогию: затевая отмену крепостного права, Александр II затратил немало усилий, чтобы реформа представлялась шагом, предпринятым исключительно под давлением снизу… Дерзну утверждать, что Великая хартия вольностей явилась не поражением, а достижением Иоанна Безземельного.
Или заступиться за оболганного (и в немалой мере – стараниями русского гения) Антонио Сальери, оправданного историей за отсутствием состава преступления, ибо Моцарта, как теперь доказано, никто и не думал убивать, но до сих пор с завидным упорством обвиняемого в этом отравлении общественным мнением.
Еще одна фигура, настоятельно требующая (простите сей привычный архаизм) взяться за перо, – Иван Мазепа, тот самый, на которого был «Донос на гетмана-злодея / Царю Петру от Кочубея». Что ж, благодаря этому доносу Кочубеи стали в России уважаемым княжеским родом[450]. Но повернись все иначе, – и считались бы они в самостийной Украине предателями и изменниками родины. Вопрос о героях вообще непрост. Вот панфиловцы – не двадцать восемь, а те, безвестно павшие, – они герои? Безусловно. А их немецкие ровесники, насмерть стоявшие за Берлин? И такое противоречие – отнюдь не достояние только нашего времени и нашей психологии. О Греко-персидских войнах нам известно исключительно из эллинских источников. Естественно, Ксеркс выступает там тираном и агрессором, каковым и предстает в наших учебниках истории (об этом, если помните, мы уже упоминали в четырнадцатой главе). Но дойди до нас источники персидские, – что сказали бы мы тогда? Вернемся, однако, к гетману. В румынском городе Галац, где находится его могила, 8 мая 2004 года открылся памятник этому «выдающемуся украинцу», чье имя «на протяжении трех столетий служило многим соотечественникам символом борьбы за самостоятельность Украины», и «стороннику европейского выбора народа». Недаром же соратник Мазепы гетман Пилип Орлык (иногда пишут – Филип Орлик) стал автором одной из первых демократических конституций в мире – увы, так никогда и не реализованной… Впрочем, и у нас таких хватало – вспомните, например, так называемую Конституцию Лорис-Меликова[451]. Словом, и о Мазепе написать нестерпимо хочется. Да, он был противником России; да воевал, да потерпел поражение; но все это – не основание числить гетмана в предателях и предавать его имя анафеме. А вот факт – в pendant, так сказать, сказанному выше. Летом 2004 года близ города Батурина Черниговской области археологическая экспедиция обнаружила семьдесят захоронений с останками сорока взрослых и тридцати детей в возрасте от двух до пятнадцати лет (!) – все с простреленными, разбитыми черепами, отрубленными головами и конечностями. Эти останки лежали в ряд, засыпанные углем, пеплом и битым кирпичом. Впрочем, и ранее в оврагах и заброшенных колодцах здесь находили кости убиенных того же времени. Как выяснилось, все они были убиты в 1708 году офицерами и солдатами петровской армии. Из исторических документов следует, что по приказу Петра I в Батурине было бессудно казнено 6000 человек – в отместку за то, что Мазепа заключил договор со шведским королем Карлом XII, чтобы оторвать Украину от Российской империи. Да, любил царь Петр казнить, об этом еще стрельцы порассказать могли бы… Да и жители Ниена.
То же и с возвеличенными облыжно.
В свое время мне очень хотелось написать о Марке Юнии Бруте, этом символе тираноборства, активно востребованном многими поколениями разноязыких революционеров, а на поверку оказавшемся ростовщиком, дравшим за ссуды самый высокий в истории Древнего Рима процент. Так уж вышло, что до сих пор я ограничился стихотворной отпиской:
Его судьба – для всех иных урок. Марк Юний Брут – он был из ближних ближний, Сын императора, воспитанник, сподвижник, Но Кодекс Цезаря он пережить не мог. Ужель ему, давая деньги в рост. Терять свои проценты годовые? – Закон к пяти их сводит не впервые, Но кто ж в законы верует всерьез? Привык он сорок восемь получать – Ужель теперь?.. И душу жгла обида… И тут настали мартовские иды… Чем хуже нож секиры палача? Нет Цезаря. Сражен рукой любимца. Но, кровь смывая, знал Марк Юний Брут: Его тираноборцем назовут, А не ростовщиком-отцеубийцей.Долгое время мне казалось, что тем все и сказано. Теперь я уже так не считаю – интрига там вскрылась сложная, вовлекавшая самые неожиданные фигуры… Кто знает, может, когда-нибудь возьмусь еще и за этот сюжет?
Совсем недавно, 24 ноября 2004 года в Санкт-Петербурге пышно отмечалось 275-летие со дня рождения Александра Суворова и столетие со дня открытия музея великого полководца – первого в России мемориального музея, созданного на народные пожертвования. Но ведь сама-то фигура князя Италийского, графа Рымникского и Священной Римской империи, генералиссимуса русской армии и генерал-фельдмаршала австрийской, прямо скажем, неоднозначна. Да, он стал героем национального мифа. А что за мифом? Говорят, он любил солдат? И при этом, как пишет военный историк Юрий Веремеев, при суточной норме марша в 20 верст (100 верст в неделю) заставил их в 1798 году проделать за десять дней 500 верст – для того лишь, чтобы удивить своими «чудо-богатырями» австрийский двор; или за 36 часов проделать под палящим солнцем марш в 80 верст на Требию – ради никому в России не нужной победы в частном сражении (в результате из двухсот человек в каждой роте осталось в живых по сорок солдат). Полководческий гений? Но все свои победы Суворов одержал над турецкой армией, ногайскими татарами или польскими конфедератами, явно неравнозначными по вооружению и боеспособности, а столкнувшись с наполеоновскими пехотинцами, стал терпеть одно поражение за другим (славный переход через Альпы, увековеченный васнецовскими мозаичными панно на стене музея, фактически являлся беспорядочным бегством, в ходе которого фельдмаршал потерял чуть ли не всю армию). Суворов так и не сумел настигнуть и разбить пугачевские отряды, отчего оказался вынужден уступить лавры победителя генералу И.И. Михельсону. Правда, он великолепно «устроил выселение из Крыма христианских обывателей», но это уже не совсем военные действия.
Стоит вспомнить и капитана III ранга, Героя Советского Союза (1990, посмертно) Александра Ивановича Маринеско (1913–1963). Как сообщает «Военный энциклопедический словарь», «…командуя подводной лодкой „С-13“, он 30 января 1945 г. потопил в районе Данцигской бухты немецкий суперлайнер „Вильгельм Густлов“ (имевший на борту свыше 5000 солдат и офицеров, в том числе около 1300 подводников)».
Каноническое описание этого подвига выглядит в «Истории Великой Отечественной войны» следующим образом. «В жестокий шторм около 23 часа подводная лодка „С-13“ под командованием А.И. Маринеско потопила в Данцигской бухте на глазах кораблей охранения девятипалубный чудо-корабль, последнее слово техники – фашистский лайнер „Вильгельм Густлов“, на борту которого из Кенигсберга уходил цвет фашистского подводного флота – 3700 офицеров, экипажи для 70–80 новейших подводных лодок XXVI серии и до ста командиров-подводников. На лайнер погрузились высокопоставленные чиновники (22 гаулейтера польских и восточно-прусских земель), генералы и высшее командование, а также вспомогательный женский батальон (эсэсовки, надзирательницы в концлагерях) – 400 человек. Подвиг моряков-подводников был назван „атакой века“.
В Германии, как и после Сталинграда, был объявлен трехдневный траур. Командир конвоя был расстрелян по личному приказу Гитлера. Капитан Маринеско был объявлен его личным врагом. Командир дивизиона подводных лодок А. Орел представил Маринеско к званию Героя Советского Союза, а экипаж лодки – к присвоению почетного звания «гвардейский». Ни первого, ни второго сделано не было – из-за дисциплинарного проступка командира накануне выхода в море. Лишь в 1990 году Маринеско посмертно был удостоен заслуженной награды».
Увы, все это – лишь еще одно проявление советского героического мифа. «Потому что, – утверждает уже упоминавшийся в главе о двадцати восьми панфиловцах Дмитрий Назаров, – атакой века потопление „Вильгельма Густлова“ можно считать лишь с одной стороны: никогда еще столь малочисленное подразделение не уничтожало за один раз такого количества людей. Даже в знаменитой бомбардировке Дрездена, когда было убито 25 000 жителей, участвовали несколько тысяч летчиков».
Начнем с того, что заложенный 5 мая 1937 года на гамбургской верфи «Вильгельм Густлов» не был ни «суперлайнером», ни местом отдыха для «элиты рейха». Теплоход водоизмещением 25 484 брутто-регистровых тонн (пятый по тоннажу в Германии) строился обществом «Сила через радость» для активистов германского Рабочего фронта (аналог советского ВЦСПС). С началом Второй мировой он был переоборудован сперва в плавучий госпиталь, а затем – в учебное судно, где разместились курсанты и преподаватели 2-го батальона 2-й учебной дивизии подводного плавания (от них-то и пошел миф). К вечеру 24 января на борту «Густлова» были собраны для эвакуации 918 офицеров и матросов[452], 373 женщины из вспомогательной службы ВМФ (вот они, «эсэсовки, надзирательницы в концлагерях»!) и 162 раненых военнослужащих вермахта; экипаж судна составлял 173 человека.
Но это было до спешной эвакуации гражданского населения из Восточной Пруссии, когда на палубу поднялись беженцы[453], после чего на борту «Вильгельма Густлова» оказалось около 6600 человек: 1400 мужчин, 2000 женщин и 3100 детей, – которые уже ощущали себя почти в безопасности. С этой-то разношерстной «элитой рейха» на борту вечером 30 января 1945 года теплоход и вышел в море, сопровождаемый единственным кораблем охранения – эсминцем «Леве».
Двадцатью днями раньше покинула базу и подводная лодка «С-13» Возвращаться без громкой победы Маринеско было нельзя. В силу причин, вдаваться в которые сейчас не время и не место, он командовал, так сказать, «штрафной подлодкой», и в случае возвращения с неизрасходованным боекомплектом его ждали бы серьезные неприятности. Поэтому победа нужна была позарез – она все спишет.
В 21 часа 10 минут 30 января «С-13» обнаружила «Вильгельма Густлова». Судно шло в одиночку (борясь со штормом, эсминец «Леве» к этому времени отстал на несколько миль), не выполняя противолодочного зигзага, с непогашенными навигационными огнями.
Первая торпеда прошла мимо, после чего лодка в течение двух часов преследовала теплоход. Вторая атака по столь доступной цели да еще из надводного положения просто не могла не увенчаться успехом: в 23.08 три торпеды из четырех (четвертая просто не вышла из аппарата) поразили судно. Теплоход же мог выдержать попадание максимум двух торпед…
С неизбежной паникой среди пассажиров экипаж еще кое-как справился, но спасательных средств на шесть с лишним тысяч человек хватить никак не могло, а неукоснительно соблюдаемое правило «первыми – женщины и дети» на этот раз подвело: на шлюпках и плотах не оказалось положенных по штату гребцов. Подоспевший «Леве», подобрав больше тысячи человек (это эсминец-то!), осел так, что оказался едва способен бороться с волной и вынужден был взять курс на ближайший немецкий порт. А подоспевшим через два с половиной часа спасателям пришлось извлекать из ледяной воды (температура воздуха достигала –18°С) лишь мертвые тела. Всего было спасено 1252 человека. Из которых в живых остались 1216; всего же на «Густлове» погибло не меньше 5300 человек: 406 подводников (в том числе 16 офицеров), 90 членов экипажа, 250 женщин-военнослужащих, а также около 4600 беженцев и раненых, в том числе почти 3000 детей. Эту трагедию прекрасно описал в своем романе «Траектория краба» лауреат Нобелевской премии Гюнтер Грасс.
Надо сказать, Гитлер воспринял сообщение о трагедии «Вильгельма Густлова» без особых эмоций и ни в какой список «личных врагов» Маринеско не внес: в сорок пятом, сами понимаете, не до того было. Да и национального траура в Германии не объявляли, поскольку официально о гибели теплохода вообще не сообщалось. И капитан лайнера Петерсен, и командир сил охранения Леонхардт расстреляны не были и благополучно дожили до конца войны.
Такая вот история, героическим в которой было только поведение моряков – и тонущего теплохода, и эсминца «Леве»…
Или вот инакобывшее.
Тут можно было бы рассказать, покушаясь для разнообразия на классические античные мифы, что в действительности кроется за единоборством Тесея с Минотавром, или с кем и почему воевали ахейские герои под Троей.
А какой сюжет являет собой Куликовская битва, в которой верные вассальному долгу русские полки сражались, между прочим, отнюдь не за свержение татаро-монгольского ига, а за воцарение в Золотой Орде чингизида, законного хана Тохтамыша, вместо подлого узурпатора темника Мамая. Самое же интересное – как просматривается за этой ситуацией фигура кукловода, самаркандского Железного Хромца. (О походах Тамерлана на Русь вообще мало кто знает, и многие удивляются, услышав, что Тимур захватывал такой исконно русский город, как Елец).
Хотелось бы рассказать и о Четвертом крестовом походе, объявленном в 1198 году и состоявшемся в 1202–1204 годах. Вместо освобождения Гроба Господня он ознаменовался печально знаменитым взятием Константинополя 11–13 апреля 1204 года, которое завершилось великими грабежами и резней. Событие это не забыто и не отболело по сей день: не случайно же папа римский Иоанн-Павел II во время визита в Стамбул от лица католической церкви принес извинения жителям города и страны за учиненные восемь столетий назад зверства. Согласно устойчивому историческому мифу этот печальный итог предприятия, изначально преследовавшего совершенно иные цели, приписывают интригам Венеции и ее престарелого дожа Энрико Дандоло (ок. 1108–1205)[454]. Именно он, как утверждает, например, «Российский энциклопедический словарь», «…добился изменения направления Четвертого крестового похода (в Византию вместо Египта)». Разумеется, так оно и было. Но почему же крестоносцы, в ходе первых трех походов взаимодействовавшие с Восточной Римской империей достаточно мирно[455], на этот раз изменили своему правилу? Да, трения случались и раньше, однако столь небывалая резня! Впрочем, моральное оправдание у крестоносцев все-таки было, хотя в большинстве своем историки о нем стыдливо умалчивают. А стоило бы поговорить – и всерьез.
Да и о подлинных причинах трагедии знаменитого каравана «PQ-17» поговорить хотелось бы. Ведь история эта, описанная в «Корабле его величества “Улисс”» Алистера Маклина и «Реквиеме каравану “PQ-17”» Валентина Пикуля и нескольких кино– и телефильмах (в том числе и весьма неплохих), превратилась в миф, не только воспевающий героизм военных и гражданских моряков, но и обвиняющий в тупости лордов Британского Адмиралтейства. На самом же деле все было куда сложнее…
Словом, поле деятельности необозримое, но в одну-то книгу все никак не втиснешь, не зря же говаривал Козьма Прутков, что никто необъятного объять не может. Остается надеяться, что выпадет еще случай к этим (и многим другим) сюжетам вернуться. Посмотрим…
Однако и того, о чем я рассказал, для иллюстрации главных тезисов довольно.
Прежде всего, древние греки не зря отнесли историю к области искусства, ибо сколь угодно достоверные факты так или иначе нуждаются в осмыслении и толковании, а здесь мы неизбежно вступаем в область, граничащую с литературным творчеством. Недаром же так много серьезных историков и археологов оказывались одновременно и блестящими писателями (иной раз случалось и наоборот). Обращаясь к истории, всегда приходится для начала разбираться, с чем сейчас имеешь дело: с подлинной ли реальностью минувшего или с обманчивой (но и заманчивой!) иллюзорностью мифа.
Во-вторых, нужно быть предельно осторожным в любых выводах, чтобы не противопоставить старому мифу новый – слишком уж часто получалось: просто менялся знак, и плохие становились хорошими, герои – злодеями, но сама структура мифа оттого нимало не страдала. Именно так, к сожалению, произошло у нас при переоценке советского периода в начале девяностых годов прошлого века… Сейчас снова намечается очередное перемещение полюсов, хотя к пониманию истории оно, боюсь, ничуть не приблизит.
И наконец, самое главное.
История – это не только общественные процессы, прогрессы, войны и революции. Это всегда люди. Люди, бывшие некогда живыми, а теперь приобщившиеся, как принято говорить, к большинству. Они жили, как хотели, как умели и как могли. И теперь, полагаю, им наши суждения и наш суд глубоко безразличны.
А нам?
Сотню лет назад религиозный мыслитель (справочники нередко добавляют еще и словечко «утопист») Николай Федорович Федоров[456] (1828–1903) в своей «Философии общего дела» сформулировал идею всеобщего воскрешения всех умерших[457] как главной цели человечества. Не знаю. По мне, так оно по отношению к предкам жестоко было бы – из вечного покоя да в нашу реальность, пусть даже реальность грядущую… Но вот посильно воскрешать их в памяти, пытаясь воздать каждому должное, – другое дело. Однако если и с позиции судьи, то лишь по Анатолю Франсу: «В свидетели и судьи дайте людям иронию и сострадание». Эта задача представляется непременным условием существования рода людского. Человек Разумный – он ведь прежде всего Человек Памятливый. Не зря же греки (опять они!) сделали матерью муз именно богиню памяти, Мнемозину. Ибо пока мы помним предков – они подлинно бессмертны.
И наверное, совершенно неважно, что заставляет нас вспоминать и думать: притягательность исторической науки или завораживающее сияние мифов.
Да вот беда: отчего-то я никогда не любил жемчуг (может, по той причине, что мой камень – темный дымчатый раух-топаз…). Оттого, может, и покушаюсь на переливчатые жемчуга Клио. Но больше все-таки потому, что слишком хочется знать, вокруг какого зерна истины эти перлы образовались. Ведь стремление знать истину – первая заповедь всех, кто служит Клио. Правда, иной раз результатом поиска истины оказываются лишь «мифы и заблуждения, которые мы с превеликим трудом сумели выставить против прежних», на что сетовал еще Поль Валери.
Надеюсь, мне удалось избежать этого. Впрочем, кто знает?
1
Т.е. «Руководящий хором». (Здесь и далее – примечания автора.).
(обратно)2
Дион Хризостом (т.е. Златоуст; ок. 40–115 гг. по Р.Х.) – представитель второй софистики, ученик стоика Музония. Из его творческого наследия сохранилось 80 речей (правда, две из них некоторые считают сочинениями Дионова ученика по имени Фаворин).
(обратно)3
Впоследствии выяснилось, что автором этим был некий Жан-Батист Перес. Первый перевод его труда на русский язык увидел свет в Москве столетием позже – в 1912 г.
(обратно)4
Bona parte (итал.) – хорошая часть.
(обратно)5
Морозов Николай Александрович (1854–1946) – российский ученый, почетный член АН СССР (1932 г.). Член кружка «чайковцев», «Земли и воли», исполкома «Народной воли», участник покушений на Александра II. За свою революционную деятельность в 1882 г. был приговорен к вечной каторге и двадцать три года (до 1905 г.) провел сперва в Петропавловской, а затем Шлиссельбургской крепостях. Автор трудов по химии, физике, астрономии, математике, истории, стихов, повестей, переводов, воспоминаний «Повести моей жизни».
(обратно)6
Цинь Ши-хуанди (259–210 до Р.X.) – правитель (в 246–221 гг.) царства Цинь, затем император (с 221 г.) Китая. В 221–207 гг. создал единую централизованную империю Цинь, являлся противником конфуцианства (по его указу была сожжена гуманитарная литература, а заодно и казнены 460 ученых) и сторонником школы фацзя.
(обратно)7
Модестов Василий Иванович (1839–1907) – историк и филолог, в главном своем сочинении – «Введении в римскую историю» (ч. 1–2, 1902–1909) на основании археологических, лингвистических и историко-традиционных данных изложивший древнейшую историю Италии.
(обратно)8
Согласно легенде, один из троянских героев – Эней, царь города Дардана, давшего имя Дарданеллам, – спасся в ночь разрушения ахейцами гордого Илиона и, как повествует «Илиада» Гомера, на двадцати кораблях ушел в море. После многих приключений (каковые лучше всего изложены в поэме Вергилия «Энеида») он прибыл в Италию и основал там этрусское государство; столицу его, Альба-Лонгу, заложил сын Энея, Асканий Юл. Четыре века спустя потомки Юла положили начало Риму. (От Юла пошел род Юлиев, давший, в частности, Юлия Цезаря и Юлия Августа). Не найдя применения своим амбициям на Апеннинском полуострове, внук Энея, Брут, отправился на север, и обосновался на Касситеридах – Оловянных островах, по его имени называемых с тех пор Британскими (имя этого героя писалось Bryt, а латинское у могло читаться и как русское у, и как и). Там он заложил Новую Трою, впоследствии переименованную в Лондон. Так излагает эту историю хронист XII в. Гальфрид Монмутский. Таким образом, когда в 43 г. по Р.X. в Британию вторглись римские легионы, это было не столько завоевание, сколько встреча двух народов, восходящих к общему предку.
(обратно)9
Если обратиться к «Словарю живого великорусского языка» В.И. Даля, то выяснится, что облыгатъ – это и лгать (в частности, невпопад), и оговаривать, и рассказывать о ком-то небылицы, и обвинять в чем-то лживо, и клеветать, и чернить, и обносить, и возводить напраслину, и лукавить, и запираться при вине, и даже вольно или невольно ошибаться. Как вы сможете убедиться, в части, названной «Вознесенные облыжно», к различным персонажам применимы и различные значения слова.
(обратно)10
Диодор Сицилийский (ок. 90–21 гг. до Р.Х.) – древнегреческий историк, автор сорокатомной «Исторической библиотеки», из которой до нас дошли книги 1–5-я и 11–20-я, остальные же, увы, только во фрагментах. В своем сочинении он синхронно излагал историю Древнего Востока, Греции и Рима с легендарных времен до середины I в. до Р.Х.
(обратно)11
Паттерн (от англ. pattern – модель, образец) – объединение сенсорных стимулов как принадлежащих одному классу объектов.
(обратно)12
Кстати, вот еще один исторический миф: слова эти упорно приписываются сэру Исааку Ньютону (правда, как-то раз я встретил и ссылку на каноника Николая Коперника)… Но если даже они и повторяли Бернаровы слова, то все-таки несколькими веками позже.
(обратно)13
Луций Анней Сенека Философ (ок. 4 г. до Р.X. – 65 г. по Р.X.) – римский философ-стоик и трагик, автор двенадцатитомных «Диалогов», трактатов «О благодеяниях» (в семи книгах), «О милосердии» (в трех книгах) и «Изыскания о природе» (в семи книгах), «Нравственных писем к Луцилию» (в 20 книгах), менипповой сатиры «Отыквление божественного Клавдия», трагедий «Безумный Геракл», «Троянки», «Финикиянки», «Медея», «Федра» «Эдип», «Агамемнон», «Фиест» и «Геракл на Этне». И это лишь произведения, целиком или частично дошедшие до наших дней… В первые годы правления Нерона исполнял при нем обязанности, пользуясь современной терминологией, спичрайтера.
(обратно)14
Гай Петроний Арбитр (? – 66 г. по Р.X.) – римский писатель. Прекрасно образованный, он умел пользоваться жизнью и являлся в Риме авторитетом по части хорошего вкуса, его называли arbiter elegantiarum (т.е. арбитром изящества, откуда и прозвище). Был консулом (62 г.) и проконсулом в Вифинии. В качестве знатока придворного этикета и отношений снискал симпатию и доверие Нерона. Принужденный к самоубийству, он вскрыл себе вены и умер, говорят, так же легко и красиво, как жил, отправив перед смертью Нерону письмо, в котором содержался перечень постыдных дел императора. Его перу принадлежат многочисленные стихотворения, а также менипповы сатиры «Сатирикон» и «Пир Тримальхиона», к сожалению, дошедшие до нас лишь в отрывках.
(обратно)15
Публий Корнелий Тацит (ок. 55 – ок. 120) – величайший римский историк, автор «Диалога об ораторах», «Жизнеописания Юлия Агриколы», первого в римской практике этнографического трактата «О местонахождении и происхождении германцев», но главным его трудами являются «История» (из 14 книг, охватывающих период с 69 по 96 гг.; сохранились книги I–IV и частично V) и «Анналы» (16 книг, охватывающих период с 14 по 68 г.; сохранились книги I–IV и частично V, VI, XI и XVI).
(обратно)16
Гай Светоний Транквилл (род. ок. 69) – римский писатель и историк. Из его богатого и разнообразного творчества до наших дней дошли только «Жизнеописания цезарей» (в русском переводе «Жизнь двенадцати цезарей») и – частично – «О славных мужах».
(обратно)17
Кассий Дион Кокцеян (ок. 155–235 гг.) – греческий историк, автор «Римской истории» в 80 книгах, охватывающей период от основания Вечного города до времен императора Александра Севера.
(обратно)18
Помните: «Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть»? (Откровение, 18:13).
(обратно)19
«Quo Vadis» (в русском переводе – «Камо грядеши») – знаменитый исторический роман польского писателя Генриха Сенкевича (1846–1916), описывающий гонения на христиан при Нероне.
(обратно)20
Клавдий Нерон Тиберий (42 г. до Р.Х. – 37 г. по Р.Х.) из династии Юлиев-Клавдиев – римский император с 14 г., пасынок Августа. Опираясь на преторианцев, проводил автократическую политику. Добился улучшения финансового положения Империи.
(обратно)21
Префект (лат. praefectus – начальник, командующий) – звание многих военных и гражданских должностных лиц – от командира лагеря легиона и командующего флотом до командующего финансами или полицией.
(обратно)22
Преторианцы – императорская гвардия, существовавшая со 2 г. по Р.Х. до 312 г. по Р.Х. и расквартированная в надежно укрепленном Преторианском лагере (Castra praetoria) перед Виминальскими воротами Рима.
(обратно)23
Август (до 27 г. до Р.Х. Октавиан; 63 г. до Р.Х. – 14 г. по Р.Х.) – римский император с 27 г. до Р.Х. Внучатый племянник Гая Юлия Цезаря, усыновленный им в завещании. Победой в 31 г. до Р.Х. при мысе Акций над полководцем Марком Антонием и египетской царицей Клеопатрой VII из дома Лагидов завершил гражданские войны (43–31 гг. до Р.Х.), начавшиеся после смерти Цезаря. Август сосредоточил в своих руках власть, сохранив, однако, традиционные республиканские учреждения; этот режим получил название принципата. Он был также Верховным жрецом и Отцом отечества. Империя при нем пришла к процветанию. Позднее термин «август» (лат. «возвеличенный богами») приобрел значение императорского титула.
(обратно)24
Квестор – должностное лицо, помощник консула в финансовых и судебных делах.
(обратно)25
Интерцессия (лат. intercessio, буквально – вмешательство) – в Древнем Риме – право должностных лиц (магистратов) приостанавливать постановления и действия других (равных по рангу или нижестоящих) должностных лиц, причем особое значение имела именно интерцессия трибунов.
(обратно)26
Боудикка (или, иначе, Боадицея) – царица британского племени икенов. В 61 г. она возглавила масштабное антиримское восстание. Ее войска заняли Камулодунум (совр. Колчестер), Лондиниум (совр. Лондон) и Веруламиум (совр. Сент-Олбанс), но в конце концов понесли сокрушительное поражение от легионов Светония Паулина. Боудикка покончила жизнь самоубийством, но имя ее стало символом британского сопротивления, она – героиня многих легенд и художественных произведений и мало уступает в популярности королю Артуру.
(обратно)27
Марк Ульпий Траян (53–117) – римский император с 98 г. из династии Антонинов. В результате войн Траяна Империя достигла максимальных границ: были завоеваны Дакия (к 106 г.), Аравия (106 г.), Великая Армения (114 г.) и Месопотамия (115 г.).
(обратно)28
Принцепс (лат. princeps – первый) – во времена Римской республики – наименование сенаторов, значившихся первыми в списке сената и первыми подававших голос; во времена Империи – титул императора.
(обратно)29
Порча монеты – процесс, в ходе которого разными способами уменьшается содержание в монете драгоценного металла, тогда как номинальная ее стоимость остается прежней.
(обратно)30
Лугудунская Галлия – римская провинция со столицей в Лугудуне (совр. Лион во Франции).
(обратно)31
Пропретор – наместник провинции, назначавшийся сенатом.
(обратно)32
Сервий Сульпиций Гальба (3–69) – римский император с 68 г., провозглашенный легионами после свержения Нерона. Происходил из старинного патрицианского рода, одержал на Рейне победу над германским племенем хаттов, в разное время являлся наместником многих провинций, последней из которых была Испания Тарраконская.
(обратно)33
Гай Цезарь Германик Калигула (12–41) из династии Юлиев-Клавдиев – римский император с 37 г. Его правление отличалось деспотическим произволом, разбазариванием государственных средств, притеснениями населения, конфискациями и ростом налогов. Стремление Калигулы к неограниченной власти и требование чтить его как бога вызывали недовольство сената и преторианцев. Убит участниками третьего по счету заговора трибунов преторианской гвардии.
(обратно)34
Тога, которую юноши носили с 16 лет, была знаком возмужания.
(обратно)35
Urbi et orbi (лат.) – Городу (т.е. Риму) и миру.
(обратно)36
Плутарх из Херонеи (ок. 45 – ок. 127) – греческий философ и биограф. Главное его сочинение – «Сравнительные жизнеописания» выдающихся греков и римлян (50 биографий). Остальные дошедшие до нас многочисленные сочинения объединяются под условным названием «Моралии».
(обратно)37
Гай Плиний Старший (ок. 23–79) – римский писатель и эрудит. Принадлежал к сословию всадников, был прокуратором нескольких провинций. Погиб во время знаменитого извержения Везувия, погубившего Помпеи, Геркуланум и Стабию, когда, командуя римским флотом, стоявшим у Мизена, спешил на помощь пострадавшим и, пользуясь случаем, пытался наблюдать вблизи извержение вулкана. Автор таких трудов, как: «История германских войн» (в 20 книгах) и «От Ауфидия Басса» (в 31 книге) – увы, оба этих труда утрачены, хотя в свое время использовались Тацитом; единственным сохранившимся произведением Плиния Старшего является «Естественная история» (в 37 книгах).
(обратно)38
Палатин – самый знаменитый из семи холмов, на которых был построен Рим и самая древняя обитаемая часть города; высота его достигает около 50 м. В императорское время там располагались дворцы Августа, Тиберия, Калигулы, Нерона, а затем Флавиев.
(обратно)39
Эсквилин – еще один из римских холмов; первоначально там находилось кладбище.
(обратно)40
Римский фут равнялся 29,62 см.
(обратно)41
Римская миля равнялась 1480 м.
(обратно)42
Алферова Марианна Владимировна – петербургская писательница, автор книги «История Древнего Рима», удостоенной в 2003 г. Беляевской премии.
(обратно)43
Между прочим, это первое упоминание о христианах в римской латиноязычной литературе.
(обратно)44
Согласно «Словарю живого великорусского языка» В.И. Даля, прилагательное окаянный происходит от глагола «окаивать», т.е. признавать отверженным, изверженным или достойным проклятия. Таким образом, окаянный – проклятый, нечестивый, изверженный, отчужденный, преданный общему поруганью, недостойный, жалкий; погибший духовно, несчастный; грешник. Как существительное окаянный – злой дух, нечистый, дьявол, сатана. Впрочем, в последних строках главы мы к этому слову еще вернемся.
(обратно)45
Существует и еще одна, на мой взгляд, наиболее вероятная версия: оговор явился следствием интриги Владимира (возможно, и через невольное посредство прямодушного Свенельда).
(обратно)46
Casus belli (лат.) – формальный повод для объявления войны.
(обратно)47
Память об отсутствии у Владимира Святого воинской доблести сохранилась не только в строках летописи, но и в памяти народной, зафиксированной в былинах. Вот показательное сопоставление. Из легенд британского Артурова цикла можно узнать не только о героических деяниях сэра Ланселота, сэра Гаррета, сэра Бедивера, сэра Галахада, сэра Дайндена и прочих, но и подвигах самого короля. А вот в цикле былин, связанных со Владимиром Красно Солнышко, ратоборствуют исключительно Илья Моровлин-Муромец, Добрыня Никитич, Алеша (как ни странно, полное его имя – Александр) Попович, Чурило Пленкович, Ян Усмович (или Усмошвец, т.е. Кожевник от усние – кожа и шью), Рагдай Удалой.
(обратно)48
Гривна – весовая и счетно-денежная единица (но не монета), в описываемое время соответствовавшая 204 г. серебра. Таким образом, ежегодная новгородская дань Киеву – 2000 гривен – равнялась 408 кг серебра. За такое воевать стоило.
(обратно)49
Болеслав I Храбрый (967–1025) – князь польский с 992 г., первый польский король – с 1025 г. Происходил из знаменитой династии Пястов, объединил польские земли, учредил в Гнезно архиепископство, в 1018 г. временно захватил Червенские грады (так в X–XIII вв. называлась группа древнерусских городов-крепостей на Волыни – Червен, Волынь, Сутейск и др.).
(обратно)50
Олаф I Скотконунг (т.е. Сборщик налогов, Мытарь) из рода Инглингов (годы правления – 994–1021). Пытался ввести в стране христианство, однако встретил упорное сопротивление язычников. Около 1000 г. он завоевал часть Норвегии, однако в 1015–1019 гг. в ходе затяжной войны был вытеснен оттуда норвежским королем Олафом II Харальдссоном.
(обратно)51
Костомаров Николай Иванович (1817–1885) – российский историк и писатель, член-корреспондент Петербургской АН (1876). Один из руководителей Кирилло-Мефодиевского общества. Сторонник украинской культурно-национальной автономии. Автор трудов по социально-политической и экономической истории России и Украины («О значении унии в западной России», «Богдан Хмельницкий», «Бунт Стеньки Разина», «Северорусские народоправства», «Смутное время Московского государства», «Последние годы Речи Посполитой», «Об историческом значении русского песенного народного творчества», «Русская история в жизнеописаниях главнейших ее деятелей»), а также исследований и публикаций украинского фольклора и древних актов. В его беллетристическое наследие входят сборники стихов «Украинские баллады» (1839), «Ветка» (1840), исторические пьесы «Савва Чалый», (1838), «Переяславская ночь» (1841), а также повести на украинском и русском языках и автобиография.
(обратно)52
Ярл – скандинавский титул, приблизительно соответствующий графскому.
(обратно)53
Олаф II Святой (ок. 995–1030) – король Норвегии в 1015–1028 гг. Прозванием обязан тому обстоятельству: что завершил введение в стране христианства. Это, однако не помешало ему потерять престол в борьбе с датским королем Кнудом I.
(обратно)54
Константин Добрынич – сын дяди Владимира Святого по матери, кровавого крестителя Новгорода («Путята крестил мечом, а Добрыня – огнем», – гласит новгородская поговорка; упоминаемый в ней Путята – тысяцкий князя Владимира) и по совместительству былинного богатыря Добрыни Никитича. Таким образом, князю Ярославу Константин Добрынич доводился двоюродным дядей.
(обратно)55
Забавно: хотя выражение это представляет собой польскую идиому, всего-навсего означающую «неизвестно где», чуть ли не все отечественные историки и литераторы всерьез ищут на ее основании географические привязки, причем маршрут последнего бегства Святополка получается в итоге не просто замысловатым, но даже фантастическим.
(обратно)56
По другой (и пожалуй, более вероятной) версии – с целью захватить киевский престол.
(обратно)57
Что счастливое – это точно. А вот с нежданным вопрос все-таки открыт. Историки по сей день спорят, скончался ли Владимир I своей смертью. Уверенные, что перейти в мир иной ему помогли, делятся на два лагеря: одни полагают, что отравление князя было делом рук Святополка (одним убийством больше, одним меньше – невелика разница, да и любить ему отчима было, в сущности, не за что); другие же подозревают Ярослава, для которого уход отца со сцены означал выигрыш войны без битвы (и это вполне в характере Хромого). Кто знает, где тут правда?
(обратно)58
В 1833 году «Королевское общество северных антикваров» издало в Копенгагене тиражом в 70 экземпляров «Сагу об Эймунде» на древнеисландском языке и в переводе на латынь. Эймунд – праправнук норвежского короля Харальда I Хорфагера (т.е. Прекрасноволосого; ок. 890–945) и командир отряда варягов, состоявших на службе у Ярослава Мудрого. Естественно, сага сразу же заинтересовала русских историков.
(обратно)59
Перевод Е.А. Рыдзевской.
(обратно)60
Сенковский Осип (Юлиан) Иванович (1800–1858) – писатель, журналист, один из зачинателей российского востоковедения, член-корреспондент Петербургской АН (1828). Редактор и издатель журнала «Библиотека для чтения», в котором под псевдонимом Барон Брамбеус печатал «восточные», светские, бытовые, научно-философские и фантастические повести, а также фельетоны. В критических статьях придерживался консервативных взглядов.
(обратно)61
Янин Валентин Лаврентьевич (р. 1929) – археолог и историк, академик РАН (1991; академик АН СССР с 1990). Автор трудов по славянской археологии, нумизматике и сфрагистике, лауреат Государственной (1970) и Ленинской (1984) премий.
(обратно)62
Оттон I Великий (912–973) из Саксонской династии – с 936 г. – германский король, с 962 г. – император Священной Римской империи, которую он же и основал, завоевав Северную и Среднюю Италию. Оттон укрепил королевскую власть, подчиняя герцогов и опираясь на епископов и аббатов. Одержанная им победа над венграми в битве при Лехе (955 г.) приостановила их наступление на запад.
(обратно)63
М.П. Сотникова. «Итоги изучения русских монет X–XI веков в Государственном Эрмитаже», 1977.
(обратно)64
Отрицать такой вероятности все-таки нельзя. Вот, например, в августе 2002 г., копая картошку на собственном огороде, житель села Недобоевцы Хотинского района Василий Щербатый нашел нательный крест-энколпион XI века. Археологам подобные изделия известны. Они изготовлялись из мелких металлических пластин и состояли из двух соединенных шарниром створок. Пространство, образовавшееся между ними, заполнялось частицами мощей святых. Но крест из Недобоевцев не имеет аналогов: на нем изображены лица невинно убиенных князей Бориса и Глеба (как видите, к нашей истории эта находка некоторое отношение имеет). И кто дерзнет утверждать, что на каком-нибудь другом огороде не сыщется однажды Борисов сребреник или златник?
(обратно)65
Изгнанный из Киева Святополком и Болеславом, он возвратился в Новгород не за тем, чтобы собраться здесь с силами, а чтобы поспешно бежать в Швецию. Новгородцам даже пришлось изрубить княжьи ладьи, а затем ввести поголовную подать (с каждого человека по четыре куны, со старост – по десяти гривен, с бояр – по восемнадцати) и самостоятельно набрать новое войско, чуть ли не силком удерживая князя.
(обратно)66
Карамзин Николай Михайлович (1766–1826) – российский историк, писатель, почетный член Петербургской АН (1818). Создатель двенадцатитомной «Истории государства Российского» (1816–1829), одного из значительных трудов в отечественной историографии. В художественной литературе – основоположник русского сентиментализма («Письма русского путешественника», «Бедная Лиза» и др.). Редактор «Московского журнала» (1791–1792) и «Вестника Европы» (1802–1803).
(обратно)67
Король Швеции Анунд Якуб, чье правление пришлось на 1021–1050 гг., вошел в историю лишь тем, что объединился с норвежским королем Олафом II Харальдсоном (Олафом Святым) в союз против датского короля Кнута II, но в ходе длившейся четыре года войны (1026–1030 гг.) союзники потерпели сокрушительное поражение.
(обратно)68
A propos (франц.) – между прочим, кстати.
(обратно)69
В «Повести временных лет» нелюбовь эта объясняется следующим образом: «Владимир же стал жить с женой своего брата гречанкой, и была она беременна, и родился от нее Святополк. От греховного же корня злым плод бывает: во-первых, была его мать монахиней, а во-вторых, Владимир жил с ней не в браке, а как прелюбодей. Потому-то и не любил Святополка отец его (то бишь Владимир. – А.Б.), что был он от двух отцов».
(обратно)70
Гумилев Лев Николаевич (1912–1992) – историк, географ, доктор исторических (1961) и географических (1974) наук, академик РАЕН (1991). Сын Н.С. Гумилева и А.А. Ахматовой. Подвергался репрессиям в тридцатых-пятидесятых годах прошлого века. Создатель учения о человечестве и этносах как биосоциальных категориях; исследовал биоэнергетическую доминанту этногенеза (назвал ее пассионарностью). Автор многих трудов по истории тюркских, монгольских, славянских и др. народов Евразии.
(обратно)71
Сильвестр II (ок. 940–1003) – собственно, звали этого монаха-бенедиктинца, математика, философа, вообще чрезвычайно разностороннего ученого, а также виднейшего церковно-политического деятеля своего времени Гербертом. Он приобрел известность как преподаватель и руководитель Реймсской школы (в 972–982 гг.), затем – архиепископ Реймсский (с 991 г.) и Равеннский (с 998 г.). Под именем Сильвестра II он взошел в 999 г. на престол св. Петра. Ученость и разносторонность Сильвестра II были столь непомерны, что церковь даже до последнего дня подозревала собственного главу в сношениях с дьяволом.
(обратно)72
Правда, согласно другой версии (тут и впрямь разобраться непросто!), с не слишком любимым Глебом, не прибегая к помощи варягов, разобрались сами муромчане, которым междоусобица развязала руки.
(обратно)73
Голубинский Евгений Евстигнеевич (? – 1912) – заслуженный ординарный профессор Московской духовной академии, действительный член Императорской Академии наук, автор таких трудов по истории церкви, как «Константин и Мефодий, апостолы славянские», «Краткий очерк истории болгарской, сербской и румынской православных церквей», «История русской церкви» и др.
(обратно)74
Притчи 28:1.
(обратно)75
Притчи 28:17.
(обратно)76
2 Мак. 9:9.
(обратно)77
Pendant (франц.) – в параллель, под пару, под стать, наряду и т.п.
(обратно)78
Перевод В. Еритасова.
(обратно)79
Основателем ее был Генрих VII, речь о котором впереди – в пятой главе, посвященной злосчастному Ричарду III.
(обратно)80
Как писал в «Макбете» Шекспир, «…со скипетром тройным, с двойной державой…» – т.е. король Англии и Шотландии («двойная держава»), а также Ирландии («тройной скипетр»).
(обратно)81
Справедливости ради приведу и еще одну его характеристику, принадлежащую перу не только великого писателя, но и великого знатока истории сэра Вальтера Скотта: «Его остроумие, проницательность, педантичность, самомнение и тщеславие, его жадность и мотовство, его привязанность к фаворитам и потуги на мудрость делают его самой полнокровной комической фигурой в реальной истории».
(обратно)82
Тан – титул в средневековой Шотландии, на феодальной иерархической лестнице расположенный ступенькой ниже графа и вровень с графскими сыновьями.
(обратно)83
Но мы, в нарушение хронологии, поговорим об этом позже – в пятой главе, посвященной Ричарду III.
(обратно)84
Сведения по истории Шотландии Р. Холиншед (ум. ок. 1580 г.) в свою очередь преимущественно заимствовал из «Scotorum Historiae a prima gentis origine» (то есть, в переводе с латыни, «История и хроники Шотландии»), – увидевшего свет в 1527 г. труда Гектора Боэция (ок. 1465–1536), шотландского историка, окончившего Парижский университет, а впоследствии ставшего одним из сооснователей Абердинского университета. Его написанные по-латыни хроники в первую очередь имели целью глорификацию (то бишь прославление) шотландской нации. Опираются они в основном на легенды, а потому представляют интерес не столько исторический, сколько беллетристический. Так что уже в самой первооснове шекспировского «Макбета» лежат не исторические факты, а скорее плоды вдохновенного художественного воображения.
(обратно)85
Вот последний известный мне пример. В 2003 году на сцене Кельнской оперы режиссер Роберт Карстен поставил собственную версию и без того чрезвычайно популярной оперы Джузеппе Верди «Макбет», перенеся действие из Шотландии XI века в Румынию семидесятых годов прошлого столетия. Макбет здесь – не названный напрямую, однако однозначно подразумеваемый диктатор Николае Чаушеску, а леди Макбет (в исполнении, кстати, нашей соотечественницы, народной артистки России Елены Зеленской) – этакая холодная бизнес-вумен, ради карьеры готовая без колебаний пойти на любое, даже самое подлое и кровавое преступление. Уже сам факт рождения подобной трактовки свидетельствует о бессмертии мифа, сотворенного бессмертным же гением Шекспира…
(обратно)86
По-английски – MacBeth the Blessed. Ну как тут не вспомнить несчастного Святополка Отважного?!
(обратно)87
Титулование Шекспиром Макбета как тана Кавдорского и Гламисского неточно, поскольку замок Гламис обрел права танства только в 1264 г. В туристических справочниках, кстати, этот замок нередко именуют тем самым, «где злодей Макбет убил старого доброго короля Дункана». Увы, это историческая ошибка, хотя некоторое время Гламис и впрямь принадлежал Макбету. Вот факты: когда в 1034 г. король Малькольм II Мак-Кеннет был смертельно ранен в сражении при Хантерс-Хилле, что неподалеку от Гламиса, он действительно был принесен в замок, где и умер; но его внук и по совместительству убийца Дункан I здесь, судя по всему, вообще не бывал (может, навевало это место не лучшие воспоминания?). Впоследствии Гламис стал охотничьим домиком шотландских королей, да и сейчас является одной из королевских резиденций. Впрочем, право считаться местом, где Дункан был убит Макбетом, оспаривают также замки Коудер-Кастл, Инвернесс, Питгавенн (что близ Элгина) и несколько других. Уже сама множественность «мест преступления» заставляет усомниться в факте его совершения.
(обратно)88
Расположенные к северу от Шотландии Оркнейские острова были захвачены викингами в X веке. В хрониках о Торфинне сказано: «Он был крепок и силен, но очень уродлив; серьезен и жесток, а также очень умен».
(обратно)89
Закон этот распространялся не только на царствующий дом, но и на дома его вассалов.
(обратно)90
Нередко пишут, будто жена Макбета, леди Груох, являлась дочерью короля Шотландии Кеннета II. Это не так – ее отцом был Боэда, сын Кеннета III.
(обратно)91
Брайан Боройме – взойдя на престол в 976 г., этот монарх неуклонно упрочивал лидирующее положение своего государства в ряду ирландских королевств, затем изгнал данов и к 1002 г. стал безраздельным властителем острова. Впоследствии даны еще раз попытались захватить Ирландию, но были наголову разбиты в 1014 г. в битве при Клонтарфе (чуть севернее современного Дублина). Однако в этом жестоком сражении пал и сам Брайан Боройме (тогда же, кстати, погиб и оркнейский ярл Сигурд, отец ярла Торфинна, с которым пришлось иметь дело обоим шотландским королям, о которых идет речь – Дункану I и Макбету). Увы, преемника, способного удержать в узде непокорных ирландцев, не нашлось, и на полтора века в стране воцарился хаос.
(обратно)92
Rex Cumbrorum (лат.) – правитель кимвров.
(обратно)93
Его отец, Эриний из клана Ирвинов, был сенешалем королевских угодий, таном Дула и светским аббатом Данкелда, уступая в ранге только самому королю. В 1004 г. он женился на Беток (или Беатрис), старшей дочери короля Малькольма II Мак-Кеннета, прапраправнучке Кеннета I Мак-Альпина. Этим-то родством по материнской линии их сын Дункан и оправдывал свои притязания на трон.
(обратно)94
Там хранился особый прямоугольный камень (т.н. Камень Сконе), на который вставал в момент коронации всякий шотландский король. Согласно легенде, этот камень был принесен в Дальриаду св. Фергюсом и еще VI–VII веках играл для скоттов очень важную религиозную и ритуальную роль. (Затем в 1296 г. он был увезен английским королем Эдуардом Длинноногим в Лондон, где и хранился – многовековая боль шотландцев! – до тех пор, пока уже в царствование ныне правящей Елизаветы II не был наконец торжественно возвращен; тем самым свершился акт, символизирующий торжество идей политкорректности).
(обратно)95
В 1064 году, уже после гибели Макбета.
(обратно)96
Эрнест и Тревор Дюпюи в своей «Всемирной истории войн» утверждают даже, что до десяти тысяч.
(обратно)97
Утверждение, будто он бежал с поля боя, относится к числу легендарных и ничем не подтверждено; к тому же оно мало вписывается в образ неустрашимого воина, каким встает Макбет в равной степени как со страниц хроник, так и со страниц шекспировской трагедии.
(обратно)98
Согласно хроникам Сконе, это произошло 15 августа 1057 года.
(обратно)99
Если верить преданию, Макбет пал от руки Макдуфа, однако никаких свидетельств, подтверждающих это, не существует; лишь в одном из источников глухо упоминается «смертоносная стрела», которая, согласитесь, оружие отнюдь не рыцарское.
(обратно)100
То есть Грозного. Кстати, он был женат на русской княжне Елизавете Ярославне, дочери нашего знакомца, великого князя киевского Ярослава Мудрого.
(обратно)101
Св. Катберт (635–687) – английский монах и епископ.
(обратно)102
Имеется в виду битва, состоявшаяся 25 сентября 1066 г. при Стамфорд-бридже. Хотя Гарольду Несчастному и удалось застать противника врасплох, тем не менее сражение выдалось небывало жестоким и кровавым. Оно длилось несколько часов, прежде чем норвежская армия уступила. Из трехсот кораблей, отплывших в Англию, в Норвегию вернулись только двадцать четыре. Харальд III Хадрад погиб. Тяжелейшие потери понесли и хускарлы короля Гарольда, – единственная на тот момент в Англии регулярная армия, – а также нортумберлендское и уэссекскское ополчения.
(обратно)103
Скорее всего, он к тому же предполагал, что через такой брак получит пусть и сомнительные, но все-таки права на английский престол – ведь еще вопрос, удержится Вильгельм Завоеватель у власти или нет.
(обратно)104
Там 13 ноября 1093 г. сошлись шотландцы, возглавляемые Малькольмом III, и англичане под командованием короля Вильгельма II. Шотландцы были разгромлены наголову, а сам Малькольм III и его старший сын Эдуард пали на поле боя.
(обратно)105
Барон – в интересующую нас эпоху это слово подразумевало не носителей низших аристократических титулов, как в более поздние времена, а знатнейшие фамилии королевства, пэров Франции.
(обратно)106
А вот полный перечень владений Жиля де Рэ, наглядно свидетельствующий, что он был не только знатен но и несметно богат. По отцовской линии ему достались помимо трех упомянутых выше имения Амбриер, Сент-Обен-де-Фос-Лувен; по материнской он унаследовал Бриоле, Шантосе, Энгранд, Ла-Бенат, Ле-Лору-Ботро, Сенеше, Бурнеф и Ла-Вульт; наконец, благодаря женитьбе он стал обладателем Тиффожа, Пузожа, Шабанэ, Гонфоланка, Савенэ, Ламбера, Грэс-сюр-Мэна и Шато-Морана. Мало кто из сеньоров Франции (и не только Франции!) мог с ним тягаться.
(обратно)107
Хейзинга Йохан (1872–1945) – голландский историк и философ-идеалист, автор трудов по истории культуры Средних веков и Возрождения («Осень средневековья» и др.); основу культуры он видел в игре как высшем проявлении человеческой сущности.
(обратно)108
Справедливости ради замечу, что под пером множества исследователей в кандидатах в прообразы Синей бороды побывали многие: англичане – король Генрих VIII Тюдор и лорд Уильям Даррелл по прозвищу Свирепый; наш соотечественник Иван IV Грозный; португальский аристократ граф Мануэль Гоши; римский дворянин Франческо Ченчи; французский дворянин Бернар де Монрагу, а также едва ли не все мужские представители славного флорентийского рода Медичи. Но все-таки подавляющее большинство историков и литературоведов сходятся на том, что прототипом Синей Бороды послужил именно барон Жиль де Рэ.
(обратно)109
Дофин – начиная с XIV в. – титул наследника французского престола (от названия расположенной на юго-востоке Франции – на территории нынешних департаментов Изер, Дром и Альпы Верхние – исторической провинции Дофине, которую король традиционно предоставлял во владение старшему сыну).
(обратно)110
Впрочем, в истории человечества не сыскать воителя кроткого и смиренного – за исключением, говорят, индийского царя Ашоки, да и тот не родился, но стал миротворцем, пережив душевное потрясение как раз на поле битвы.
(обратно)111
Бертран дю Геклен (1320–1380) – самый знаменитый из французских полководцев XIV в., коннетабль Франции в царствование Карла V; развернув против англичан партизанскую войну, он освободил значительную часть Франции, захваченную британцами после битв при Пуатье и Кресси. Прославился не только воинскими и полководческими подвигами, но и удивительным бескорыстием.
(обратно)112
Современники утверждают, что барон без малейших угрызений вешал пленников, неспособных заплатить подобающего выкупа; справедливости ради замечу, что на эти его поступки, нимало не протестуя, взирала Жанна д’Арк, причисленная впоследствии, 9 мая 1920 года, к лику святых.
(обратно)113
Мишле Жюль (1798–1874) – французский историк романтического направления. Автор «Истории Франции» (доведенной до 1789 г.), «Истории Французской революции», а также многих других трудов.
(обратно)114
Арманьяки – одна из двух сложившихся в царствование Карла VI Безумного феодальных группировок, поддерживающая герцога Людовика Орлеанского и фактически возглавляемая графом д’Арманьяком. Противостояли им возглавляемые герцогом Бургундским бургиньоны, державшие в Столетней войне сторону англичан.
(обратно)115
Начиная с Филиппа II Августа (1179 г.) и вплоть до Карла X (1825 г.), помазание на царство всех французских королей происходило именно там. За эти шесть с половиной веков имели место лишь три исключения: Генрих IV Бурбон, чье помазание совершилось в Шартре; Наполеон Бонапарт, помазанный в Париже, и вовсе не помазанный Людовик XVIII.
(обратно)116
Святой Реми – согласно легенде, прелат, в 496 г. получивший этот сосуд с елеем от спустившейся с небес птицы и помазавший им на царство первого христианского короля салических франков – Хлодвига (ок. 466–511), основателя династии Меровингов и Франкского королевства.
(обратно)117
Или, согласно английским летописцам, в феврале 1432 года.
(обратно)118
Тэн Ипполит (1828–1893) – французский философ, историк и социолог искусства, родоначальник культурно-исторической школы. Автор книг «Критические опыты» (1858), «Философия искусства» (1865–1869), четырехтомной «Истории английской литературы» (1863–1864) и др. В шеститомном труде «Происхождение современной Франции» (1876–1894) выступил как яркий критик Великой французской революции вообще и якобинской диктатуры в особенности.
(обратно)119
Правда, как указывают документы, д’Арки были временно лишены прав состояния, что, впрочем, не лишало их привилегии носить родовой герб.
(обратно)120
Принцесса крови – в категорию принцев и принцесс крови попадали те, у кого лишь один из родителей являлся королевской особой (в отличие от «детей Франции» – законных сыновей и дочерей венценосных супругов). Впрочем, в те времена положение бастардов – внебрачных детей благородных особ было вполне благополучным и достойным. Так, любвеобильный младший брат короля Карла VI, герцог Людовик Орлеанский, был отцом многих внебрачных детей, в том числе и знаменитого полководца Жана Дюнуа, бастарда Орлеанского. Бургундский герцог Филипп Добрый при посредстве двадцати четырех своих любовниц произвел на свет шестнадцать незаконнорожденных детей, граф Клевский являлся отцом шестидесяти трех бастардов, епископ Жан Бургундский – тридцати шести. Португальскую династию Авизов основал бастард Иоанн I, побочный же сын испанского короля Альфонса XI Кастильского по имени Энрико де Трастамаре сам взошел на престол под именем Энрико II. Словом, в XIV – XVI веках взгляды на брак и законнорожденность были заметно шире, нежели впоследствии.
(обратно)121
Турский ливр (франц. livre от лат. libra – фунт) – французская денежно-счетная единица, существовавшая с начала IX в. по 1795 г. и делившаяся на 20 су или 240 денье (существовали турский и парижский ливры, причем со времен короля Филиппа IV Красивого, т.е. с начала XIV в., турский являлся преобладающим). Как реальная монета чеканился единственный раз – в 1656 г. и тогда весил 7,69 г. серебра. В описываемое время равнялся весовому фунту серебра, так что доспех Жанны стоил сто фунтов (т.е. ок. 40 кг) серебра.
(обратно)122
В описываемое время герцоги Орлеанские представляли собой ветвь дома Валуа династии Капетингов. Титул герцога Орлеанского с XIV в. носили младшие принцы французского королевского дома. Карл VI пожаловал герцогство Орлеанское своему брату Людовику (1392); внук последнего стал позднее королем Людовиком XII, а его правнук – Франциском I. Людовик Орлеанский был регентом при душевнобольном Карле VI. Однако на пост регента претендовал также двоюродный брат короля, Иоанн Бесстрашный (или Неустрашимый), герцог Бургундский (в 1404–1419 гг.). В результате этого соперничества в 1407 г. герцог Орлеанский погиб на парижской улице от рук подосланных Иоанном Бесстрашным убийц. Однако триумф бургундца продлился всего двенадцать лет: в 1419 г., когда и столица, и монарх находились в его руках, Иоанн Бесстрашный направился в Монтеро для переговоров с дофином Карлом. Встреча произошла на мосту, и герцог Бургундский был коварно убит приближенными дофина, что и вынудило сына и наследника Иоанна, Филиппа Доброго (правившего в 1419–1467 гг.) перейти на сторону англичан. А это последнее обстоятельство не могло не сказаться на ходе Столетней войны. И только в 1435 г. ценой уступки городов на Сомме (Сент-Кантена, Бове, Перонна и др.) дофину (теперь уже королю Карлу VII) удалось склонить Филиппа Доброго разорвать союз с Англией и заключить договор с Францией, после чего соединенные франко-бургундские войска изгнали англичан из их последнего оплота – Нормандии и ее столицы Руана.
(обратно)123
Надо сказать, за это время появились четыре самозванки, выдававших себя за чудесно спасшуюся Орлеанскую Деву. Всех их арестовывали, судили, одну – некую Перринаик Бретонку – даже казнили. Но к нашей истории они прямого отношения не имеют.
(обратно)124
Замечу, эти годы отнюдь не пропали втуне. В качестве государственного и военного деятеля Карл Орлеанский сегодня прочно забыт. Зато поэт Карл Орлеанский, автор блистательных баллад, рондо и ритурнелей, издается и читается в Европе поныне. Годы, проведенные в плену, Карл поддерживал переписку с Франсуа Вийоном, а позже, в 1457 г., Вийон посетил его двор в Блуа. Двухтомник стихотворений Карла Орлеанского и сегодня можно купить чуть ли не в любом книжном магазине Франции. На английский его прекрасно переводил Роберт Луис Стивенсон.
(обратно)125
Интерсексуал – организм с промежуточным между мужским и женским типом развития, в отличие от гермафродита не имеющий развитых половых желез и вторичных половых признаков; чаще всего является проявлением некоторых наследственных заболеваний.
(обратно)126
С выводами комиссии согласен и директор Республиканского центра репродукции человека и планирования семьи Минздрава Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор Андрей Акопян, писавший: «Случаи гермафродитизма нередки – например, в профессиональном спорте. Порой женщина-спортсменка демонстрирует недюжинные физические возможности, сравнимые с мужскими, становится чемпионкой, а генетические исследования выявляют у нее мужской кариотип. В литературе существуют основанные на патографическом анализе указания, что к числу подобных случаев можно отнести и национальную героиню Франции – Жанну д’Арк, Орлеанскую Деву. Для нее характерны отсутствие матки и влагалища, менструального цикла, волос на лобке и в подмышечных впадинах. Внешне это <…> женственная дама с узкой талией, широким тазом и высокой грудью, с нормальным влечением к мужчинам. Половые железы находятся на обычном для женщины месте, но представлены мужским содержимым. Обмен тестостерона в этом случае нарушен».
(обратно)127
Трудно удержаться от маленького комментария. В XIV–XV веках в Европе гомосексуальные отношения воспринимались совершенно иначе, нежели в Новое время: они считались не извращенной, не низшей, а наоборот, наивысшей формой любви, «ибо лишены телесности», той исконной греховности гетеросексуальных отношений, которую лишь скрывает, но не ликвидирует даже церковный брак. Так что даже питай Жиль де Рэ неистребимую склонность к мальчикам, никто из современников его бы не осудил.
(обратно)128
Золотой экю (франц. ecu d’or – золотой щит) – название самой первой французской золотой монеты, чеканка которой началась еще при короле Людовике IX Святом (1214–1270). Весила она около 4 г. Так что 80 000 золотых экю – это 320 кг (!) золота. Согласитесь, при таких расходах разориться немудрено.
(обратно)129
A propos: эта твердыня вдохновила венгерского писателя и теоретика кино Белу Балажа (1884–1949) на создание либретто для последней оперы его соотечественника, блистательного композитора Белы Бартока (1881–1948) «Замок герцога Синей Бороды» (1948).
(обратно)130
Минориты (от латинского minor – меньший) – меньшие братья, члены одного их подразделений католического монашеского ордена францисканцев.
(обратно)131
Филипп IV Красивый из династии Капетингов (1268–1314) – французский король с 1285 г. Он расширил территорию королевского домена, в 1300 г. захватил было Фландрию (но потерял снова в 1302 г. в результате восстания фландрских городов), поставил в зависимость от французских королей папство, созвал в 1302 г. первые Генеральные штаты, а в 1312 г. добился от папы упразднения ордена тамплиеров.
(обратно)132
Батай Жорж (1897–1965) – французский писатель и философ, отрицавший любые предустановленные нормы человеческого поведения и утверждавший суверенитет воли, «скандальных» форм самоосуществления личности в таких культурно-философских сочинениях, как эссе «Внутренний опыт» (1943), «Литература и зло» (1957), а также в романах и повестях «История глаза» (1928), «Госпожа Эдварда» (1941) или «Моя мать» (посмертно, 1966).
(обратно)133
Сонет XVIII. Перевод С.Я. Маршака.
(обратно)134
Впрочем, в этом отношении судьба Ричарда III для шекспировского творчества скорее типична – впоследствии он так же поступит, например, с Макбетом, о чем я, нарушая хронологию творчества Барда, уже рассказывал в соответствующей главе.
(обратно)135
Это и впрямь так. Следует лишь добавить, что столь долгой и ожесточенной Война Алой и Белой роз в значительной мере оказалась из-за пагубного влияния зародившейся еще в середине XIV в. так называемой системы «ливреи и содержания», которую иные (причем отнюдь не советские) историки именуют еще «ублюдочным феодализмом». Она явилась следствием развития денежной экономики: теперь крупные аристократы платили своим приверженцам (носившим их эмблемы или ливреи) не земельными угодьями, как прежде, а денежным содержанием. В результате такие вассалы не были привязаны к земле, их мало интересовало установление status quo; к тому же они были лишены стимула оставаться в услужении у одного сеньора, и, если представлялась достаточно выгодная возможность – без раздумий и сожалений переходили к другому причем такое поведение общественным мнением не осуждалось, а самими сеньорами никак не преследовалось. Вкупе с представлением, будто политический вес зависит от числа вассалов, эта система лишь раздула политический конфликт между Йорками и Ланкастерами.
(обратно)136
Для удобства вот полный перечень английских королей от воцарения Норманнской династии до воцарения династии Тюдоров.
Норманнская династия (в скобках приведены даты царствований): Вильгельм I (1066–1087) – Вильгельм II (1087–1100) – Генрих I (1100–1135) – Стефан (1135–1154). Династия Плантагенетов: Анжуйский дом: Генрих II (1154–1189) – Ричард I Львиное Сердце (1189–1199) – Иоанн (Джон) Безземельный (1199–1216) – Генрих III (1216–1272) – Эдуард I (1272–1307) – Эдуард II (1307–1327) – Эдуард III (1327–1377) – Ричард II (1377–1399); дом Ланкастеров: Генрих IV (1399–1413) – Генрих V (1413–1422) – Генрих VI (1422–1461); дом Йорков: Эдуард IV (1461–1483) – Эдуард V (1483) – Ричард III (1483–1485). Династия Тюдоров: Генрих VII (1485–1509) <>.
(обратно)137
Так что династия эта фактически французского происхождения, что и привело впоследствии к Столетней войне (но об этом – в предыдущей главе, посвященной Жилю де Рэ и Жанне д’Арк).
(обратно)138
Битва при Уэйкфилде – Ричард Йорк и его сын Эдмунд выступили с армией из замка Сэндэл, своей опорной базы, и были атакованы более крупной ланкастерской армией под командованием Генриха Бофора, герцога Сомерсета, а также лорда Генри Перси, третьего герцога Нортумберленда, базировавшейся в близлежащем замке Понтефракт. Ричард Йорк погиб собственно в сражении, а Эдмунд и многие другие – во время преследования; остатки армии Йорков были рассеяны. Подробности до нас не дошли, но, судя по большинству источников, Ланкастеры прибегли к целому ряду военных хитростей; в том числе провели в Сэндэл около 400 человек своих солдат, переодетых в ливреи приверженцев Йорков.
(обратно)139
Сражение при Тоутоне – Это Вербное воскресенье выдалось холодным и ветреным – когда две армии сошлись чуть южнее Тоутона, на земле лежал снег. Подробностей до нас не дошло, поскольку не сохранилось свидетельств очевидцев, но сражение бушевало почти весь день, причем Йоркам удалось добиться перевеса только после того, как ближе к вечеру прибыли войска герцога Норфолка и ударили Ланкастерам в левый фланг. Армия Ланкастеров смешала ряды, и битва превратилась в бойню. Современные источники оценивают численность обеих армий примерно в тридцать тысяч человек, а потери Йорков и Ланкастеров, соответственно, в восемь и двадцать тысяч (не исключено, что цифры завышены раза в два с лишним). Тем не менее это, вероятно, было самое кровопролитное сражение на английской земле за всю историю страны.
(обратно)140
Битва при Барнете состоялась 14 апреля 1471 г. Армия Эдуарда насчитывала примерно 9000–10 000 человек, Уорвика – приблизительно 12 000–15 000. Сражение началось рано утром, в плотном тумане. Армии пришли в соприкосновение; правый фланг Ланкастеров под командованием графа Оксфорда смял левый флаг Йорков под командованием лорда Гастингса, в то время как правый фланг Йорков под командованием Ричарда, герцога Глостера, сравнительно успешно обходил левый фланг Ланкастеров. Солдаты графа Оксфорда тем временем преследовали разбитый фланг Гастингса. С немалым трудом Оксфорд собрал хотя бы часть своего войска и попытался снова вступить в битву. Поскольку левые фланги противоборствующих армий предпринимали глубокие обходные маневры, фронт сражения развернулся почти под прямым углом к первоначальному. В тумане солдаты графа Оксфорда врезались в тыл центра собственной армии, командовал которым граф Сомерсет, и большинство Ланкастеров подумали, что в их рядах измена. В воцарившейся сумятице граф Уорвик погиб.
(обратно)141
Сражение при Тьюксбери состоялось 4 мая 1471 г. Ланкастерцы находились в меньшинстве (по некоторым источникам, их было около 3000 человек), однако, заняв сильную оборонительную позицию, – между двумя речками, на склоне, обильно поросшем густым подлеском, изрезанном вдоль и поперек тропинками и живой изгородью, – изготовились отражать нападение. Эдуард IV (армия его насчитывала, вероятно, 4000–4500 человек) начал сражение с артподготовки. Граф Сомерсет энергично отреагировал – пройдя незаметной тропинкой, атаковал левый край центра армии Йорков. Какое-то время шло ожесточенное сражение, но потом на подмогу брату прибыл Ричард, герцог Глостер, и с 200 тяжелыми всадниками, которых Эдуард IV оставил в лесу на левом фланге, ударил по войску графа Сомерсета. Центр Ланкастеров, командовали которым лорд Джон Уэнлок, английский наместник в Кале, и Эдуард, принц Уэльский, наступать не стал, и войско графа Сомерсета было смято. Пока Ричард Глостер преследовал обратившийся в бегство отряд Сомерсета, Эдуард IV атаковал центр Ланкастеров; после короткой рукопашной этот отряд тоже был смят и обращен в бегство. Погиб принц Эдуард, а также Джон Куртене, граф Девон, возглавлявший левый фланг Ланкастеров; в общей сложности потери Ланкастеров приближались к 2000 человек Граф Сомерсет был захвачен в плен и впоследствии казнен; вскоре сдалась и королева Маргарет. Фактически разгром при Тьюксбери означал конец сопротивлению Ланкастеров.
(обратно)142
Виппер Р.Ю. История Древнего мира. Васильев А.А. История Средних веков. – М: Республика, 1993.
(обратно)143
Он получил (весьма сомнительные, впрочем) права на престол через свою мать Иоанну Бофорт, внучку Джона Бофорта, брата Генриха IV, которая в первом браке была замужем за Эдмундом Тюдором, графом Ричмондом (отсюда и принятое по отцу династическое имя, показывающее, что времена Ланкастеров и Йорков остались позади), во втором – за графом Стаффордом, в третьем – за графом Стенли.
(обратно)144
В 1598, 1602, 1605, 1612, 1622 и 1623, 1629 и 1634 годах.
(обратно)145
«Richardus Tertius» (лат.) – «Ричард Третий».
(обратно)146
Стоит отметить, что в его «Хроники» вошел материал из более ранней исторической работы «Объединение двух благородных семейств Ланкастеров и Йорков» Эдварда Холла, который, в свою очередь, пользовался «Английской историей» Полидора Вергилия, а также «Историей Ричарда III», принадлежавшей перу Томаса Мора (об этих последних речь еще впереди).
(обратно)147
Битва при Сент-Олбенсе – или, точнее, Первая битва при Сент-Олбенсе 22 мая 1455 г. (Вторая имела место много позже, 17 февраля 1461 г.). Ричард, герцог Йоркский, а также граф Уорвик, двигаясь с трехтысячной армией на Лондон, разгромили здесь графа Сомерсета, под началом которого было 2000 человек. Сомерсет пал в бою.
(обратно)148
Шекспир У. «Ричард III». Акт I, сцена 1. Перевод Мих. Донского.
(обратно)149
Там же. Акт V, сцена 3.
(обратно)150
Шекспир У. «Генрих VI». Акт III, сцена 2. Перевод Мих. Донского.
(обратно)151
Они родились на страницах рукописи некоего Руза. В написанной им фамильной истории графов Уорвиков о Ричарде III, как вы помните, женатом на младшей дочери Уорвика, говорится: «могущественный принц и очень добрый лорд… наказывающий нарушителей закона, в особенности притеснителей общин, и поощряющий тех, кто показал себя добродетельным, заслуживший большую благодарность и любовь всех своих подданных, богатых и бедных, и добрую славу среди всех других народов». Но вот в его же «Истории английских королей», посвященной уже Генриху VII, Руз дал волю воображению. Именно ему обязан Шекспир информацией о том, что Ричард «два года пребывал во чреве матери» и родился горбатым, с сухой рукой, со всеми зубами и длинными, до плеч, волосами.
(обратно)152
Loyate me lic (франц.) – верность делает меня твердым.
(обратно)153
Причем в этом случае можно без труда проследить поэтапное становление мифа. Поначалу все были единодушны: тот пал в бою – и Бог весть, от чьей именно руки. Но в царствование Генриха VII лондонский хронист Фабиан уже пишет, что девятнадцатилетнего принца привели к Эдуарду IV и убили у того на глазах (не называя, правда, убийц поименно). Затем Полидор Вергилий исправляет эту промашку, называя троих соучастников: Георга, герцога Кларенса; Ричарда, герцога Глостера; и лорда Гастингса. Впоследствии Холл в своей хронике добавил к их числу маркиза Дорсета, сына королевы Елизаветы Вудвилл от первого брака. Наконец, Холиншед внес свою лепту, уточнив, что первый – и смертельный – удар был нанесен непосредственно Ричардом III.
(обратно)154
De jure (лат.) – юридически, по закону.
(обратно)155
Незамедлительно по смерти Эдуарда IV маркиз Дорсет захватил арсенал и казнохранилище в Тауэре, а также привел в боеготовность флот на Ла-Манше. Был образован регентский совет, который он возглавили на пару с лордом Райверсом, братом королевы, – все указы названного органа подписывались этими двоими на правах avunculus Regis et frater Regis uterinus (то есть, в переводе с латыни, «дяди короля и единоутробного брата короля»).
(обратно)156
При Эдуарде IV он был сперва лордом-хранителем печати, потом – лордом-канцлером, затем – послом в Бретани. Особа, как видите, высокопоставленная и в прежнее царствование никоим образом не обиженная, так что мотивировался его поступок, похоже, не корыстными интересами, а классическим: «Не могу молчать!» Но так или иначе, а приведенных им фактов оспорить никто не рискнул, хотя они и произвели эффект разорвавшейся бомбы.
(обратно)157
В данном случае, с леди Элеонорой Батлер, дочерью первого графа Шрусбери, с коей означенный Стиллингтон самолично сочетал короля тайным браком.
(обратно)158
Любопытная деталь – даже Мор, недоброжелатель из недоброжелателей, пишет: «Лорд-протектор, несомненно, очень любил его, и смерть лорда Гастингса явилась для него невосполнимой потерей».
(обратно)159
Вот приблизительный перечень. Сын королевы от первого брака Джон де ла Поул, граф Линкольн; дети Эдуарда IV и королевы Елизаветы, в число коих помимо злосчастных «принцев из Тауэра» входили также пять их сестер – Елизавета, Сесилия, Анна, Екатерина и Бриджет. Двое детей Георга, герцога Кларенса – Эдуард, граф Уорвик и Маргарет, графиня Солсбери. Наконец, Джон, внебрачный сын самого Ричарда. И это лишь, так сказать, претенденты первой очереди…
(обратно)160
Зато на ней женился впоследствии Генрих VII.
(обратно)161
Битва при Босуорте состоялась 22 августа 1485 г. Армия сэра Уильяма Стенли странным образом пребывала в отдалении, на северо-западной возвышенности, а лорда Стенли – на юго-востоке; войска Ричарда III и Генриха Тюдора стояли на равнине между Саттон-Чени и Стентоном. Когда Ричард III приказал наступать, весь его левый фланг, которым командовал граф Нортумберленд, отказался двинуться с места. Одновременно армии братьев Стенли пристроились к войску Ланкастеров. В распоряжении Ричарда III оставалась буквально горстка самых верных сторонников; с ними он с криком: «Измена! Измена!» – энергично атаковал центр войска Ланкастеров, явно рассчитывая или пробиться к Генриху и выиграть сражение в единоборстве, или умереть, как подобает королю. Несмотря на столь доблестный порыв, отряд Ричарда III был раздавлен превосходящими силами противника, и Ричард III погиб. Его труп был выставлен на поругание толпы в Лейстере – лишь два дня спустя какие-то монахи отважились предать тело земле.
(обратно)162
В результате в 1489 году объявился самозванец – как выяснилось впоследствии, некий Перкин Уорбек. Он выдавал себя за принца Ричарда, младшего из убитых сыновей Эдуарда IV. Заручившись значительным иностранным признанием и поддержкой, сей претендент предпринял несколько попыток высадиться в Англии и Ирландии, затем принял участие в неудачном восстании в Корнуолле, где был захвачен в плен и – после двух тщетных попыток бегства – казнен по приговору королевского суда в 1499 году. Причем верный своей методе Генрих VII первоначально простил Уорбека, дабы показать, что это всего лишь незначительный самозванец, а потом все-таки отправил на виселицу – на всякий случай.
(обратно)163
Только в 1674 году строительные рабочие на глубине 10 футов (т.е. ок. 3 м) под фундаментом лестницы, ведущей в королевские покои Тауэра, нашли человеческие кости. Их собрали в кучу и долго не знали, что же делать дальше, пока слух о находке не достиг ушей короля Карла II, который предположил, что это и есть останки таинственно исчезнувших два века назад принцев, и приказал сложить кости в мраморный гроб и захоронить в Вестминстерском аббатстве. В 1933 году после долгих просьб общественности и под сильным нажимом властей монастырь разрешил вскрыть этот саркофаг. Проводивший исследование профессор Райт заключил, что останки принадлежат детям – вероятнее всего, мальчикам – в возрасте 10 и 12 лет. Более того, Райт счел достаточно обоснованным предположить, что покойные находились в родстве друг с другом и погибли насильственной смертью. Это заключение согласовывалось с канонической тюдоровской версией, а потому было сразу же принято в качестве окончательного аргумента.
(обратно)164
Причем, надо сказать, делал он это не только с размахом, но и с изощренной фантазией. Так, например, Генрих VII издал эдикт, согласно которому первым днем его царствования являлся не следующий после битвы при Босуорте, т.е. 23 августа 1485 г., а ее канун – 21 августа 1485 г. Таким образом, всех, кто до последнего дня сохранял верность законному государю Ричарду III, он автоматически записал в изменники – со всеми вытекающими последствиями. Каково, а?
(обратно)165
Его роман «Замок Отранто» переведен и на русский язык. Очень рекомендую.
(обратно)166
Джайлс Флетчер (ок. 1549–1611), английский дипломат, бывший в 1588–1589 годах послом в Московии, в своем сочинения «О государстве Русском» так рисует портрет этого государя: «…росту малого, приземист и толстоват, телосложения слабого и склонен к водянке; нос у него ястребиный, поступь нетвердая от некоторой расслабленности в членах; он тяжел и недеятелен, но всегда улыбается, так что почти смеется… Он прост и слабоумен, но весьма любезен и хорош в обращении, тих, милостив, не имеет склонности к войне, мало способен к делам политическим и до крайности суеверен».
(обратно)167
Как отмечает «Российский энциклопедический словарь», «…точное число жен Ивана Грозного неизвестно, однако вероятно, что он был женат семь раз».
(обратно)168
Факт известный, но как бы полузабытый, стыдливо не вспоминаемый. Показательная деталь: даже прекрасный историк Андрей Буровский в своей исключительно интересной книге «Русская Атлантида», вскользь поминая Даниила, называет его великим князем, хотя загляните в тот же «Российский энциклопедический словарь», и прочтете: «Даниил Александрович (1261–1303) – князь московский (с 1276 г.), сын Александра Невского. Получил по завещанию Переяславль-Залесский, присоединил Коломну и тем положил начало росту Московского княжества. Канонизирован Русской православной церковью».
(обратно)169
Лествичное право – то есть лестничное, ступенчатое. Смысл его сводился к следующему: правящему великому князю наследовал не его старший сын, как в последующие времена, а следующий по старшинству брат, затем – следующий, и так до самого младшего. Однако за этим последним наступал черед старшего сына старшего брата – и так далее; на графике подобный переход наследования и впрямь напоминает лестничные ступени. Система, как видите, сложная, запутанная и потому порождавшая, естественно, великое множество споров, распрей и кровопролитий.
(обратно)170
Прародителем Романовых был Андрей Иванович Кобыла (ум. ок. 1350/51), «выехавший из Прусс», как выражаются древние родословные. До начала XVI века они звались Кошкиными, затем – Захарьиными-Кошкиными и Захарьиными-Юрьевыми. Родоначальником собственно Романовых явился боярин Никита Романович (откуда и фамилия – по отцу) Захарьин-Юрьев (ум. 1586 г.). Его сын Федор Никитич Романов (ок. 1554–1633) – будущий патриарх (в 1608–1610 гг. при Тушинском воре и затем с 1619 г.) Филарет, отец первого царя из династии Романовых, избранного в 1613 г. Земским собором Михаила Федоровича (1596–1645), и при нем – фактический правитель страны. Сами Романовы, фактически основавшие совершенно новую династию, предпочитали именовать себя домом Романовых династии Рюриковичей, хотя вся их связь с последними ограничивается браком Ивана Грозного с Анастасией Захарьиной-Юрьевой. Но коли Иван Грозный возводил свой род к императору Августу, так почему бы и нет?
(обратно)171
Или членов Верховной думы, долженствовавшей помогать Федору в управлении государством.
(обратно)172
Впрочем, известный историк Сергей Федорович Платонов (1860–1933; академик РАН с 1920 г. и АН СССР с 1925 г., председатель Археографической комиссии в 1918–1929 гг., автор «Очерков по истории Смуты в Московском государстве XV – XVII вв.»; погиб в сталинских лагерях) в своем «Полном курсе лекций по русской истории» говорит о «…ребенке Дмитрии, рожденном в седьмом браке [курсив мой. – А.Б.] Грозного с Марией Нагой».
(обратно)173
Уже упоминавшийся Д. Флетчер считал его годовой доход равным 100 000 рублей и утверждал, что со своих земель Борис мог бы выставить в поле целую армию.
(обратно)174
Князья Иван Федорович Мстиславский, Шуйские, Воротынские, бояре Колычевы, Головины и некоторые другие.
(обратно)175
Официально право сноситься с иностранными государями было даровано Борису Годунову в 1587 году.
(обратно)176
Как полагает Ключевский, факт избрания Годунова позволял основателю новой династии узаконить этот порядок и превратить Земские соборы (составной частью которых, заметим, являлась de facto Боярская дума) в подлинно представительный институт, чтобы в дальнейшем править, опираясь исключительно на его авторитет. Таким образом мог создаться прецедент, кладущий начало русскому парламентаризму… Но это – так, для любителей альтернативной истории: увы, Годунов упустил столь многообещающий шанс и ничего подобного не сделал.
(обратно)177
Не имея по малолетству возможности добраться до ненавистных князей и бояр, царевич, набираясь опыта на будущее, вместо них с удовольствием пытал и казнил кур, кошек и собак (что, впрочем, никоим образом не помешало впоследствии причислить его к лику святых – замечу, в этом он не первый и не последний, в том числе и среди тех персонажей, о ком у нас с вами уже шла речь…).
(обратно)178
Осуществлять этот надзор было доверено человеку весьма исполнительному, надежному и безоговорочно преданному и государю, и лично Борису Годунову, но, по признанию многих современников, совестливому и глубоко честному – дьяку Михаилу Битяговскому.
(обратно)179
В первую очередь усилиями царицына дяди, боярина Михаила Нагого.
(обратно)180
То есть, по сегодняшней терминологии, эпилептическом.
(обратно)181
Заслуживает внимания и второй вывод комиссии: Нагие безосновательно побудили народ к убийству ни в чем не повинных людей. По окончании работы комиссии дело было отдано на суд патриарха и других духовных лиц. Те обвинили Нагих и «углицких мужиков», но окончательное решение их судеб передали светской власти. В итоге царицу Марию сослали в отдаленный монастырь на реке Выксе (близ Череповца) и там постригли в монахини. Братьев Нагих отправили в ссылку – по разным отдаленным городам. Виновных в учинении беспорядке угличан кого казнили, кого сослали в Пелым, вследствие чего Углич, если верить преданию, порядком опустел.
(обратно)182
Схимонах – монах, пребывающий в монастыре в безвыходном затворе.
(обратно)183
Платонов Сергей Федорович (1860–1933) – историк, академик РАН с 1920 г. и АН СССР с 1925 г. Председатель Археографической комиссии (1918–1929). Автор «Очерков по истории Смуты в Московском государстве XV–XVII вв.» и курса лекций по русской истории; занимался изданием русской публицистики конца XVI–начала XVII вв. Подвергался репрессиям в начале тридцатых годов XX в.
(обратно)184
Треть – столько же, сколько потеряло Московское царство от войн, казней и другой плодотворной деятельности Ивана IV Грозного.
(обратно)185
Однако… Рабом представитель старинного – пусть даже обедневшего и измельчавшего – боярского рода никоим образом не был; татарином – тоже: как уже говорилось, «Сказание о Чете», возводившее род Годуновых к мирзе Чету, поздняя фальсификация. Но и был бы – так что? Вот род Карамзиных, например, восходил к некоему Кара-Мурзе, выходцу из Орды, однако от того меньшим почетом не пользовался. Или род Басмановых…
(обратно)186
Конь Федор Савельевич – русский зодчий второй половины XVI в. легендарный строитель Смоленского кремля (1595–1602) и девятикилометровых стен московского Белого города с 27 башнями и 10 проездными воротами (1585–1593).
(обратно)187
Соловьев Сергей Михайлович (1820–1879) – известный российский историк, академик Петербургской АН (1872). Ректор Московского университета (1871–1877). Автор трудов по истории Новгорода, по эпохам Петра I и Александра I, по внешней политики России, по историографии, главное его сочинение – «История России с древнейших времен» (1851–1879; тт. 1–29).
(обратно)188
«В истории, – писал Карамзин, – красота повествования и сила есть главное», а задача историка – показать, «как искони мятежные страсти волновали гражданское общество и какими способами благотворная власть (курсив мой. – А.Б.) обуздывала их бурное стремление». Что ж, творческий метод первого российского историографа и по сей день отнюдь не чужд многим его преемникам…
(обратно)189
Фильм, вышедший на экраны в 1960 г., вообще был «звездным» – кроме Керка Дугласа там, в частности, блистали и Лоуренс Оливье (в роли Марка Красса), и Питер Устинов.
(обратно)190
Аппиан Александрийский (ок. 100 – ок. 180) – греческий историк. Занимал административный пост в Александрии; а получив римское гражданство, перебрался в Вечный город, где стал сперва императорским адвокатом, а затем императорским прокуратором. Автор «Римской истории» в 24 книгах – обзора истории римского государства, географически расширенного за счет рассказа о провинциях, – в той последовательности, в какой они подпадали под власть Рима. Каждая книга представляет собой законченную историю отдельной части Империи и имеет собственное название (в частности, о Спартаке рассказывается в томе, озаглавленном «Гражданские войны»). Целиком до наших дней дошли книги VI–VIII и XI–XVII, а также вторая половина книги IX. «История» Аппиана особенно ценна тем, что содержит много материала, не встречающегося в трудах других историков, а во многих случаях и вовсе является единственным источником.
(обратно)191
Ланиста – владелец и тренер гладиаторов.
(обратно)192
Это по словам Плутарха. Аппиан же полагает, что «…сначала против него был послан Вариний Глабр, а затем Публий Валерий», Гая Клавдия же не упоминает вовсе. Бог весть, где тут правда, но для нас это разночтение непринципиально.
(обратно)193
Саллюстий (86–35 гг. до Р.Х.) – полностью этого «величайшего историка Рима» (по оценке последнего из римских историков, Тацита) звали Гай Саллюстий Крисп. Он был политическим деятелем – квестором, народным трибуном, претором с проконсульскими полномочиями в провинции Африка, сенатором, сподвижником Гая Юлия Цезаря и создателем знаменитого парка – Садов Саллюстия. После убийства Цезаря он отошел от дел и полностью посвятил себя написанию исторических трудов. Целиком до нас дошли два его сочинения – «Заговор Каталины» и «Югуртианская война». К сожалению, его пятитомная «История», охватывающая период с 78 по 35 г. до Р.Х., уцелела лишь в немногочисленных фрагментах. А жаль: похоже, из нее можно было бы почерпнуть немало интереснейших фактов, относящихся к интересующим нас событиям – как-никак, Саллюстий был младшим современником Спартака и, что для нас особенно важно, в работе своей опирался, в частности, на незавершенные и, увы, утраченные мемуары Суллы…
(обратно)194
Цизальпинская Галлия – историческая область между рекой По и Альпами.
(обратно)195
Первый из них даже сумел уничтожить близ горы Гаргано (Mons Garganus) то ли десяти-, то ли тридцатитысячный отряд Крикса – не то отколовшийся от основных сил Спартака в результате внутренних разногласий и оставшийся на юге, в Апулии, не то сознательно оставленный там Спартаком в силу некоего стратегического плана – в этом источники расходятся. «Сам Крикс и две трети его войска пали в битве», – пишет Аппиан.
(обратно)196
В своей «Истории военного искусства» генерал-майор Е.А. Разин приводит немного отличающиеся данные: длина рва 53 км и глубина 3,5 м. Но так или иначе, а нельзя не согласиться, что это была самая настоящая Линия Маннергейма или Линия Мажино той поры.
(обратно)197
Об Аппиане и Саллюстии уже было сказано. Вот несколько слов об остальных.
Евтропий – римский историк IV века. Участник похода императора Юлиана Отступника против персов (363 г.). Затем при императоре Валенте (364–378 гг.) исполнял обязанности magister memoriae (начальника одной из важнейших придворных служб). По просьбе Валента написал «Очерк истории от основания Города [Рима]» в 10 книгах, описывающий период от Ромула до смерти императора Иовиана (364 г.). Поскольку этот труд доступно и достаточно лаконично излагал минимум исторических знаний, необходимых тем, кто делал карьеру как на военной, так и на гражданской службе, он пользовался огромной популярностью, уже в 380 г. был переведен на греческий язык Пеонием и в более позднее время стал излюбленным школьным учебником.
Веллей Патеркул (ок. 20 г. до Р.Х.–?) – римский историк. Служил в армии, в 1–4 гг. по Р.Х. участвовал в походе на Восток, а затем до 12 г. под знаменами императора Тиберия сражался в Германии и Паннонии. Известен своей «Римской историей» в двух книгах, первая из которых сохранилась лишь частично (начиная со 186 г. до Р.Х.).
Диодор Сицилийский – греческий историк I в. по Р.Х., автор сорокатомной «Библиотеки», описывавшей всемирную историю с мифических времен до Галльской войны Юлия Цезаря (Британская кампания 54 г. до Р.Х.). Целиком сохранились книги I–V и XI–XX, остальные, увы, лишь во фрагментах и выдержках.
Орозий (ум. до 423 г.) – когда вандалы вторглись в Испанию (о чем до сих пор напоминает название автономной области Андалусия, то бишь Вандалусия), молодой священник Орозий в 414 г. бежал в Африку, некоторое время гостил в городе Гиппоне у тамошнего епископа – впоследствии причисленного к лику святых философа Аврелия Августина, на следующий год через Египет перебрался в Палестину, где в Иерусалиме выступил против Пелагия и его учения о благодати, в 416 г. вернулся в Африку и через несколько лет там умер. Нам этот весьма плодовитый латинский христианский писатель интересен принесшим ему наибольшую славу трудом «Семь исторических книг против язычников» – оставим в стороне теологическую составляющую и будем благодарны ему за обильное цитирование не дошедших до нас книг Тита Ливия, Тацита и др.
Плутарх (ок. 45 – ок. 127 гг.) – древнегреческий писатель и историк, чьим главным сочинением являются «Сравнительные жизнеописания» выдающихся греков и римлян (50 биографий). Остальные дошедшие до нас его труды объединены под условным названием «Моралии».
Тит Ливий (59 г. до Р.Х. – 17 г. по Р.Х.) – римский историк родом из Патавии (совр. Падуя), происходил из состоятельной семьи, получил отменное образование в Риме, посвятив себя философии, истории и риторике. В политической жизни заметной роли не играл (к чему и не стремился), хотя был близок к императору Августу. После 27 г. до Р.Х. начал работу над «Историей Рима от основания Города» (то есть с легендарных времен до 9 г. по Р.Х.) в 142 книгах. Из них полностью сохранились до наших дней 35 (некоторые другие сохранились во фрагментах, чаще всего благодаря обильному цитированию – как, например, в труде Орозия).
Луций Анней Флор – римский историк II века, автор двухтомного труда, известного в наши дни как «Выдержки из Тита Ливия», но первоначально называвшегося, судя по всему, «Римские войны». В своей работе Флор опирался, разумеется, не только на Тита Ливия, но и на Саллюстия, Цезаря, Непота, Сенеку Старшего и др. и описал войны, ведшиеся римлянами с основания Города до времен императора Августа, до печально известного сражения в Тевтобургском лесу в 9 г. по Р.Х. когда германцы-херуски во главе с Арминием чуть ли не поголовно уничтожили римские легионы под командованием Квинктилия Вара.
Секст Юлий Фронтин (ок. 30 – ок. 104) – римский писатель и политик, городской претор (70), консул (73), императорский легат в Британии, где построил знаменитую Юлиеву дорогу, затем смотритель водопроводов в Риме (97) и снова консул (98 и 100). Из его разнообразного литературного наследия для нас важны два труда: «Стратегемы» – четырехтомный трактат о военном искусстве, содержащий примеры, иллюстрирующие греческое и римское военное искусство (своего рода учебник для военачальников), и утраченный трактат «О военном искусстве», некоторые фрагменты которого дошли в цитировании другими античными авторами.
(обратно)198
Моммзен Теодор (1817–1903) – немецкий историк, иностранный почетный член Петербургской АН (1893), лауреат Нобелевской премии по литературе (1902). Автор многочисленных трудов по истории Древнего Рима и римскому праву. В главном из них – «Римская история» изложил в основном военно-политическую историю Рима, доведя ее до 46 г. до Р.Х., и дал обзор истории римских провинций.
(обратно)199
Спартокиды – династия боспорских царей, основанная Спартоком I (438–433 гг. до Р.Х.). Наиболее значительными ее представителями были Сатир I (433–388 гг. до Р.Х.), Левкон I (388–348 г. до Р.Х.) и Перисад I (348–310 гг. до Р.Х.) – при них территория и влияние царства распространились на пограничные области скифских, меотских и синдских племен.
(обратно)200
Это земли на юго-западе современной Болгарии, по берегам реки Струма в среднем ее течении, с укрепленным центром на том месте, где находится сейчас город Сандански (до 1949 г. – Свети-Врач). Профессор Велков утверждает, что этот город – единственное место, которое может уверенно считаться родиной Спартака.
(обратно)201
Битва при Херонее – одно из решающих сражений Первой Митридатовой войны, состоявшееся в 86 г. до Р.Х. Во главе армии приблизительно в 30 000 человек Сулла двинулся в Беотию, ища битвы с митридатовским полководцем Архелаем (греком по происхождению), собравшим войско, достигавшее 110 000 человек и 90 колесниц. Впервые в мировой военной практике Сулла использовал не просто традиционный для римской тактики укрепленный лагерь, но продуманную систему полевых укреплений: фланги его армии защищали от атаки митридато-греческой кавалерии рвы, а для защиты фронта от колесниц противника был воздвигнут палисад. Битва началась атакой Митридатовой конницы, часть которой сумела, обогнув палисад, преодолеть ров; построенные в каре легионы без труда отразили нападение. План Суллы оказался безошибочен и в отношении колесниц: лошади, оставшиеся в живых после римских стрел и дротиков, обезумев, кинулись обратно – на фалангу, в ряды которой внесли немалое смятение. Сулла немедленно предпринял контратаку совместными силами пехоты и конницы. Противник в панике отступил, оставив поле боя за римлянами.
(обратно)202
Битва при Орхомене – состоялась годом позже, в 85 г. до Р.Х. Архелай, получивший подкрепления от Митридата и своих греческих союзников, опять приобрел такой же численный перевес над Суллой, как и при Херонее. Хотя Сулла и презирал противника, но весьма здравомысленно относился к планированию войсковых операций: вторично использовав полевые укрепления в помощь наступательной тактике против неповоротливого врага, он сумел окружить и наголову разбить войско Архелая, после чего начал готовиться ко вторжению в Азию.
(обратно)203
Рисорджименто (буквальный перевод итальянского Risorgimento – Возрождение), – национально-освободительное движение против иноземного господства, за объединение раздробленной Италии, а также период, когда это движение происходило, т.е. 1861–1870 гг. Завершилось Рисорджименто присоединением к Итальянскому королевству Рима. Важнейшими событиями Рисорджименто явились две революции – 1848–1849 и 1859–1860 гг. За руководство Рисорджименто боролись республиканско-демократические (лидеры Дж. Мадзини, Дж. Гарибальди и др.) и либеральные (лидеры К. Кавур и др.) течения. Последнее одержало верх, вследствие чего Италия была объединена в форме конституционной монархии.
(обратно)204
Рыбаков Борис Александрович (род. 1908) – археолог и историк, академик АН СССР с 1958 г. и академик РАН с 1991 г.; Герой Социалистического Труда (1978). Основные труды по археологии, истории, культуре славян и Древней Руси. Лауреат Ленинской (1976) и Государственных премий СССР (1949 и 1952).
(обратно)205
По новому стилю.
(обратно)206
Под этим названием были известны на Руси греческие Салоники (или Фессалоники).
(обратно)207
Имя Мефодий он принял лишь при пострижении в монахи.
(обратно)208
Имя Кирилла он принял лишь перед смертью, при принятии схимы.
(обратно)209
Великий логофет – в византийском государственном аппарате чиновник, под контролем которого находилось все гражданское управление.
(обратно)210
Македония – здесь подразумевается историческая область в центральной части Балканского полуострова, в результате Балканских войн 1912–1913 гг. разделенная между Сербией (Вардарская Македония), Грецией (Эгейская Македония) и Болгарией (Пиринский край). Точное местоположение византийской провинции Славинии сегодня неизвестно, хотя большинство историков склонно относить ее к Пиринскому краю.
(обратно)211
Речь идет, разумеется, не о греческом Олимпе – обители Зевса и прочих эллинистических богов, а о горе, расположенной на северо-западе Малой Азии, неподалеку от побережья Мраморного моря.
(обратно)212
Фотий – церковный и политический деятель, дважды занимавший патриарший престол в Константинополе (858–867 и 877–886 гг.). Он активно боролся с павликианством и другими ересями, всячески способствовал распространению христианства среди славян, особенно болгар – именно при нем в Болгарии возникла подчиненная константинопольскому патриарху православная церковь, причем это последнее обстоятельство привело к серьезному конфликту с папой римским. Амбициозный Фотий стремился уравнять патриаршую власть с императорской, вследствие чего был низложен и отправлен в ссылку, где и умер.
(обратно)213
София – по-гречески означает «мудрость».
(обратно)214
Прозвище свое он получил, разумеется, много позже, поскольку в 842 году базилевсу едва исполнилось три года. Фактически вся власть в это время принадлежала триумвирату из уже известного нам великого логофета, евнуха Феоктиста; его соперника – патрикия Варды, регента при малолетнем императоре; наконец, магистра Мануила, дяди императрицы Феодоры, матери Михаила.
(обратно)215
Лев Математик (ум. ок. 869 г.) – один из образованнейших людей своего времени, математик, физик, механик, философ. Впервые применил буквы в качестве математических символов, чем по существу заложил основы алгебры. Инициатор возрождения в Константинополе высшего образования и основатель университета. Стоит отметить, что хотя среди профессоров и был Фотий, однако дисциплины в университете преподавались исключительно светские – грамматика, риторика, философия, арифметика, геометрия, астрономия, литература, музыка. Это было аристократическое учебное заведение, готовившее высших гражданских чиновников и военачальников.
(обратно)216
Название свое университет получил по Магнавру – огромному залу императорского дворца, где проводились занятия.
(обратно)217
Иконоборчество – социально-религиозное движение против иконопочитания, в значительной мере определявшее жизнь Византии в VIII – IX веках. Опираясь на Библию и труды таких отцов церкви как Климент Александрийский или Евсевий Кесарийский, иконоборцы объявляли иконы идолами, а культ икон, соответственно, идолопоклонством. Например, в 730 г. император Лев III запретил культ икон (а заодно пополнил казну, конфисковав церковные и монастырские сокровища).
(обратно)218
Ромеями (то есть римлянами) называли себя подданные Восточной Римской империи, которых мы именуем византийцами.
(обратно)219
Климент I Римский (Clemens Romanus) – по разным источникам первый, второй, третий или даже четвертый (после св. Петра) римский папа; святой муж апостольский, отец и учитель церкви, ученик апостолов Петра и Павла, причисленный к лику святых. С его именем связывается целый ряд произведений («Климентины» и др.), из которых ему несомненно принадлежит только «Первое послание к коринфянам» (в Библии оно приписано апостолу Павлу), где со ссылкой на божественный порядок, установленный в мире, обосновывается необходимость подчинения общины пресвитерам. Согласно легенде, получившей распространение в IV веке, он был сослан императором Траяном в Херсонес Таврический, где продолжал проповедовать христианство, за что и был утоплен в море около 96 г. Правда, знаменитый историк церкви Евсевий Кесарийский (ок. 265–ок. 340) пишет, что Климент Римский мирно скончался в 101 г.
(обратно)220
Трудно сказать, что тут имеется в виду: одни ученые считают, будто руническое письмо, пресловутые «черты и резы», упоминаемые в «Сказании о письменах» Черноризца Храбра; другие – будто запись русского текста при помощи греческого или латинского алфавитов, возможно, пополненных новыми буквосочетаниями, передававшими особые звуки славянского языка (этим последним способом, согласно Храбру, славяне пользовались долгое время).
(обратно)221
Великоморавская держава (иногда называемая также Великоморавским или Богемским княжеством) – второе из недолговечных государств западных славян, стараниями князя Моймира возникшее в 830 г. на юге Моравии – исторической области, располагающейся на территории восточной части современной Чехии. Столица – Велеград (очевидно, в районе современного Брно). В 906 г. разгромленная кочевниками-венграми Великоморавская держава прекратила существование.
(обратно)222
Маштоц Месроп (361–440) – армянский просветитель, ученый-монах, в 405–406 гг. создавший армянский алфавит. Совместно с учениками перевел часть Библии с сирийского языка на армянский. Считается автором книги христианских поучений.
(обратно)223
Вандриес Жозеф (1875–1960) – известный французский лингвист, специалист в области общего языкознания.
(обратно)224
Лихачев Дмитрий Сергеевич (1906–1999) – литературовед и общественный деятель, академик АН СССР с 1970 г. и академик РАН с 1991 г.; Герой Социалистического Труда (1986). В 1928–1932 гг. был репрессирован. Автор фундаментальных исследований «Слова о полку Игореве», литературы и культуры Древней Руси, проблем текстологии, а также книг «Поэтика древнерусской литературы» (три издания, последнее в 1979 г.), «Заметки о русском» (1981) и работ о русской культуре и наследовании ее традиций (сборник «Прошлое – будущему», 1985). Председатель правления Советского фонда культуры (1986–1991); председатель правления Российского международного фонда культуры (1991–1993). Лауреат Государственных премий СССР (1952 и 1969) и Государственной премии РФ (1993).
(обратно)225
В Риме достойными Священного Писания считались только три языка – латынь, греческий и еврейский, поскольку надпись на Кресте Господнем, была, по преданию, трехъязычной; однако с точки зрения ортодоксальной восточной церкви это являлось ересью.
(обратно)226
В 1994 году Православная церковь в Чешских землях и в Словакии канонизировала великоморавского князя Ростислава.
(обратно)227
Легат – посол папы римского, дипломатический представитель престола св. Петра.
(обратно)228
Василий I Македонянин (ок. 836–886) – византийский император с 867 г. Происходивший из крестьян фемы Македония, Василий был любимцем Михаила III Пьяницы, его собутыльником и занимал при базилевсе должность паракимоменона (главного спальничего). В 866 г. был усыновлен Михаилом и объявлен соправителем, а на следующий год организовал заговор, убил Михаила и взошел на трон, положив начало Македонской династии. Вел борьбу против арабов на востоке империи и в Италии. В 878 г. разгромил Тефрику – государство, созданное в Малой Азии еретиками-павликианами. В 879 г. издал «Прохирон» (от греч. procheiros – находящийся под рукой – практическое руководство для судей, нормы гражданского, уголовного и отчасти судебного и церковного права, разработанное на основе кодекса Юстиниана и ставшее одним из источников православного церковного права).
(обратно)229
За время своей деятельности солунские братья подготовили более двухсот пресвитеров-славян.
(обратно)230
Номоканон – сборник византийского канонического (церковного) права, включавший императорские постановления (номос), касавшиеся церкви, и собственные церковные правила (канон).
(обратно)231
Патерик – в православной церковной литературе так назывались сборники жизнеописаний отцов церкви или монахов какого-либо одного монастыря, обычно признанных церковью святыми.
(обратно)232
Оно, напомню, произойдет в 1054 г., когда папа римский Лев IX и патриарх константинопольский Кируларий предадут друг друга анафеме.
(обратно)233
Правда, формальный предлог был вполне богословский – несогласие по одному из пунктов Символа веры, касающемуся исхождения Святого Духа «и от Сына».
(обратно)234
Видя, как усиливается Великоморавская держава, король Людовик Немецкий попытался применить силу, однако князь Ростислав не только отразил его натиск, но даже расширил границы своего княжества вплоть до пределов Болгарии. Тогда Людовик повел переговоры о военном союзе против Моравии с болгарским князем Борисом, что уже в следующем, 864 г. привело к одновременному вторжению в Моравию немецких и болгарских войск. Поэтому Ростислав стремился заранее заручиться поддержкой могущественной соседки Болгарии – Византии: ведь только империя могла разрушить болгарско-немецкий союз.
(обратно)235
Под восточно-христианским влиянием были созданы коптское письмо египетских христиан (II–III вв.), готское письмо (епископом Вульфилой в IV в.) и уже упоминавшееся армянское письмо (Месропом Маштоцем в 405 г.). Славянская письменность продолжила и завершила этот ряд.
(обратно)236
Divide et impera (лат.) – разделяй и властвуй (тезис, впервые сформулированный, говорят, Николо Макиавелли).
(обратно)237
Разумеется, византийское право, основой которого служил «Кодекс Юстиниана», тоже существовало и характеризовалось дуализмом церковного и светского права (нормы их содержались в особых сборниках – «Номоканонах»). Однако оно играло в империи роль второстепенную и оказало некоторое влияние лишь на правовые системы Армении, Грузии и еще некоторых стран, находившихся в зоне византийского влияния.
(обратно)238
Здесь уместно вспомнить, что идеолог нацизма доктор Альфред Розенберг настаивал на открытии церквей на оккупированных территориях СССР, ибо «православие – религия, воспитывающая покорность населения».
(обратно)239
Как пишет в своей книге «Якоря» Лев Скрягин, такие якоря применяются до сих пор – например, на кувейтских и иракских морских судах, построенных из тика, – баггалах, бумах, ганьях, самбуках и баданах. Причем применение якорного камня вызвано не технической отсталостью и не верностью традициям: на твердом грунте ползут даже самые современные якоря, тогда как камни прекрасно держат.
(обратно)240
На основании чего можно предположить, что зачинщиком обмена проклятиями был все-таки он, а не папа Николай I. Хотя кто знает…
(обратно)241
Здесь стоит отметить, что Константин и Мефодий разрабатывали свою азбуку не для мораван, чехов или поляков, а для словен вообще, подразумевая в будущем некое единство мира, называемого нами славянским.
(обратно)242
Именно «словене» – написание «славяне», как доказал в своем блестящем эссе «“Азъ” и “Онъ”» А.А. Щербаков, вместе с понятием «православие» (до того использовалось «правоверие», так еще протопоп Аввакум писал) было введено в обиход в середине XVII в. радением патриарха Никона (1605–1681), прельщенного красотой и стройностью триады «славяне – православие – слава».
(обратно)243
Sapienti sat (лат.) – умному достаточно.
(обратно)244
Яковлев Николай Феофанович (1892–1974) – российский языковед, доктор филологических наук, один из основоположников Московской фонологической школы. Основные труды в области общей фонетики, кавказских языков, теории орфографии. Разработал математическую формулу построения алфавита, внес большой вклад в создание письменностей для ранее бесписьменных языков народов СССР.
(обратно)245
Mille e tre (итал.) – тысяча три; в переносном смысле – великое множество.
(обратно)246
См.: Маранцман В.Г. Литература. Учебник для 9-го класса. – М.: Просвещение, 1994.
(обратно)247
Точнее, мы только теперь обратили на это внимание, поскольку еще арабский путешественник Ибн-Баттута (1304–1377) писал в своих записках: «Все кыпчаки [т.е. половцы. – А.Б.] – христиане».
(обратно)248
Как отмечает уже упоминавшийся Андрей Никитин, «на помощь половцев призывали многие князья, начиная с 1078 года и до 1196-го. Такая помощь отмечена летописью в тридцати случаях. И вот что примечательно. За исключением Давыда Игоревича, нанявшего Боняка с отрядом, как об этом прямо говорит летописец, все остальные князья оказываются родственниками половцев – сыновьями, внуками и мужьями половчанок».
(обратно)249
Ни Мстислав Мстиславич Удалой, князь новгородский, торопецкий и галицкий, ни князь Мстислав Киевский, князь Даниил Волынский, ни владимирские и некоторые другие князья, ни Господин Великий Новгород в коалицию не вошли и против монголов не выступили.
(обратно)250
Юрг – князь суздальский и великий князь Юрий Владимирович, по прозванию Долгорукий.
(обратно)251
Хатунь (тюркск.) – госпожа, женщина.
(обратно)252
В состав великого княжества Черниговского входили собственно Черниговское княжество, а также удельные, подчиненные ему – Северское, Курское и Трубчевское.
(обратно)253
Собственно, оба центра Руси уже стали практически равноправными. В хронологических таблицах историки отмечают любопытное двоевластие: 1157–1159 гг. – параллельное правление великого князя Изяслава Давыдовича в Киеве и великого князя Андрея Юрьевича Боголюбского во Владимире-Суздальском (или Залесском); 1159–1167 гг. – параллельное правление великого князя Ростислава Мстиславича в Киеве и великого князя Андрея Юрьевича Боголюбского во Владимире-Суздальском; 1167–1169 гг. – параллельное правление великого князя Мстислава II Изяславича в Киеве и великого князя Андрея Юрьевича Боголюбского во Владимире-Суздальском.
(обратно)254
Т.е. 1154–1157 гг.
(обратно)255
Ему и самому-то жить оставалось недолго. Невезучее (но, похоже, по заслугам) семейство: отец, Юрий Долгорукий, добившись вожделенного великого княжения киевского, был в 1157 г. отравлен там своими же боярами; младший сын, Глеб Юрьевич, как вы уже знаете, повторил отцову судьбу; в ночь с 29 на 30 июня 1174 г. Андрей Юрьевич был убит в Боголюбове группой заговорщиков из своего ближайшего окружения…
(обратно)256
Факт отнюдь не удивительный: как свидетельствует Ипатьевская летопись, дружба между Игорем Святославичем и Кончаком зародилась еще во время памятного поражения под Киевом войск, собранных Андреем Боголюбским, укрепилась в 1174 году и в дальнейшем только крепла.
(обратно)257
Вежа (старорусск.) – согласно «Словарю живого великорусского языка» В.И. Даля, – намет, шатер, палатка; кочевой шалаш, юрта, кибитка; употреблялось и в значении «кочевое поселение», становище.
(обратно)258
Катапульта (лат. catapulta) – метательная машина, приводимая в действие силами упругости скрученных волокон (сухожилий, ремней и т.п.). Предназначалась для метания по крутой траектории камней, ядер, стрел и др. на дальность 250–850 м. Применялась с V в. до Р.Х. (в Древней Греции и Риме) до XV в. (в Европе).
(обратно)259
Онагр (греч. onagros) – вид крупных катапульт, применявшихся при осаде и обороне крепостей. С помощью онагра метали камни, бочки с зажигательным составом и др.
(обратно)260
Баллиста (лат. ballista) – метательная машина, состоявшая из горизонтальной рамы с желобом и вертикальной рамы с тетивой из скрученных волокон (сухожилий и др.), с помощью которой снаряд (камень, бревно, стрела и др.) выпускался в цель. Дальность метания – 400–800 м, легких стрел – до 1000 м.
(обратно)261
Фрондибола (франц. frondibale) – метательная машина, представляющая собой длинный рычаг, вращающийся между двумя стойками; на одном конце рычага помещается противовес, а на другом – праща. Фрондибола бросала камень-ядро на 100–200 м. Применялась при осаде и обороне крепостей вплоть до XV в.
(обратно)262
Говорю «северских» во множественном числе, поскольку сын Игоря Святославича, Владимир Игоревич, к этому времени уже достаточно вырос, чтобы самостоятельно править в Путивле, так что, хотя Северское княжество и оставалось неделимым, князей там стало двое.
(обратно)263
Подозреваю, что это была не столько цель, сколько формальный предлог и вдохновляющий воинов лозунг: ведь стремившемуся к установлению в Степи единовластия Кончаку освобождение потенциальных соперников было отнюдь не на руку…
(обратно)264
Греческий огонь – зажигательная смесь, вероятно, из смолы, нефти, серы, селитры и других компонентов (рецепт утерян), применявшаяся в VII–XV вв. в морских боях и при осаде крепостей. Бочки и различные сосуды с подожженной смесью (так сказать, зажигательные снаряды) метались при помощи катапульт и баллист. Из пневматических труб огонь метали струей (средневековый аналог огнемета). Вода эту смесь не гасила. Впервые применен византийцами в 673 г., хотя существуют отдельные указания (в частности, в «Илиаде» Гомера) на много более раннее его применение.
(обратно)265
В действительности – в субботу 13 апреля 1185 г., эту дату называют все источники, за исключением враждебной Ольговичам «Киевской повести», автор которой тем самым намекает, что святой Георгий (как вы помните, небесный патрон Игоря Святославича, а его память чтут 23 апреля) отвернулся от Ольговичей, потерпевших в этом походе поражение.
(обратно)266
Рубрук (Rubrouck или Roebroeck) Виллем (род. между 1215 и 1220, ум. 1293) – фламандский путешественник, монах, дипломат. Много путешествовал по Монголии, Палестине, Кавказу и др.
(обратно)267
В своем исследовании, посвященном «Слову о полку Игореве», академик Б.А. Рыбаков доказывал, что Игорь пробыл в плену всего полтора месяца и бежал в июне того же, 1185 г., полагая, что за это время вполне можно было выписать из Новгорода-Северского священника и дождаться возвращения ханов из похода. Этот труд вышел в 1971 г. Однако в более поздней книге «Киевская Русь и русские княжества» (М: 1982) он без объяснения причин изменяет этот срок и сообщает, как и большинство историков, что Игорь находился в плену до лета 1186 г.
(обратно)268
В отличие от творчески переработанной версии, включенной Н.А. Некрасовым в поэму «Кому на Руси жить хорошо».
(обратно)269
Всеволод III Юрьевич Большое Гнездо (1154–1212) – великий князь владимирский (с 1176 г.), младший сын Юрия Долгорукого и, соответственно, брат Андрея Боголюбского, который был на 43 (!) года старше. Подчинил Киев, Чернигов, Рязань, Новгород. В его правление Владимиро-Суздальская Русь достигла наивысшего расцвета. Имел 12 детей (откуда и прозвище).
(обратно)270
Академика Лихачева я цитирую уже в третий раз потому, что он считается наиболее авторитетным исследователем и толкователем «Слова о полку Игореве», основоположником собственной школы, и в этот смысле его оценки (за вычетом работ немногих аутсайдеров и еретиков – низкий им всем поклон!) – самые представительные и самые типичные.
(обратно)271
Сулейменов Олжас Омарович (род. 1936) – казахский поэт, прозаик и сценарист, пишущий на русском языке. Поэма «Земля, поклонись человеку!» (1961) посвящена Ю.А. Гагарину. В поэзии – философичность, эмоциональная напряженность, ритмические поиски: сборники стихов и поэм «Солнечные ночи» (1962), «Глиняная книга» (1969), «Повторяя в полдень» (1973), «Определение берега» (1976). Сборник стихов и прозы «Над белыми реками» (1970); книга историко-филологических эссе «Аз и Я» (1975).
(обратно)272
Помните классическое высказывание Рэя Брэдбери: «Я не предсказываю будущего, я его предупреждаю»?
(обратно)273
Отвергнув поначалу сватовство Харальда III Хардрада, она обеспечила себе память в мировой литературе знаменитой песнью, которую сложил этот норвежский конунг об ее отказе и своих попытках завоевать ее расположение (нам это произведение известно в основном по «Песне о Гаральде и Ярославне» графа А.К. Толстого). Андрей Никитин весьма обоснованно предполагает, что, поскольку впоследствии Елизавета все же вышла за Харальда и разделяла с ним норвежский трон, прототипом плача жены Игоря послужила «песнь», сложенная ею в ответ на балладу Харальда.
(обратно)274
И продолжают, увы, en masse читать по сей день.
(обратно)275
Обдоры – этим позабытым ныне словом назывались обитатели Обдорского края – обширной страны, простирающейся от низовий Оби (отсюда, кстати, и название великой сибирской реки) до северо-восточной части Уральского хребта, именовавшейся раньше Обдорскими горами, как именовался до 1933 г. Обдорском современный город Салехард. В 1501 г. земли эти были покорены воеводами С. Курбским и П. Ушаковым и незамедлительно включены в титул великого князя. Однако в обиходе обдорами нередко расширительно называли всех обитателей зауральского русского востока – так сказать, «наших азиатов».
(обратно)276
На обратном пути из Золотой Орды Александр Невский занемог и в Городце, в келье Федоровского монастыря принял схиму и получил новое имя – Алексий. После того, как той же ночью, 14 ноября 1263 года, князь-инок скончался, гроб с его прахом перевезли во Владимир, где при большом стечении народа погребли в монастыре Рождества Богородицы.
(обратно)277
Похоже, святым мощам на новое место не слишком хотелось: уже в виду лавры тонкий невский лед не выдержал, проломился, и тяжелый серебряный гроб-рака ушел на дно, откуда его потом долго доставали… Правда, событие это сочли символическим – не так ли, мол, уходили под лед Чудского озера немецкие псы-рыцари? Каюсь, уловить здесь символической связи фантазии не хватает.
(обратно)278
Ништадский мир – завершивший Северную войну российско-шведский договор, названный по финскому городу Ништадт, где он был подписан 30 августа 1721 г. По его условиям Швеция признала присоединение к России Лифляндии. Эстляндии, Ингерманландии, части Карелии и некоторых других территорий, а Россия обязалась уплатить Швеции денежную компенсацию и возвратить Финляндию.
(обратно)279
Сценарий этого фильма известный отечественный историк, академик Михаил Николаевич Тихомиров (1893–1965) назвал «издевкой над историей». Что ж, как показывает практика, издевка нередко служит катализатором рождения мифа, а на этих последних Эйзенштейн специализировался всю жизнь: общеизвестно, что миф о «штурме Зимнего» рожден его фильмом «Октябрь», немало вложили в сотворение отечественной исторической мифологии «Броненосец “Потемкин”» и «Иван Грозный»…
(обратно)280
В житии этот отряд называют воинством «короля части Римьскыя от полунощныя страны» – политическая география, прямо скажем, фантастическая!
(обратно)281
Шнека (шведск. snaeka, т.е. «змея»; по всей видимости – от носовой фигуры). – В данном случае – морской парусно-гребной корабль: широко распространенный в скандинавских странах в XII–XIV вв. Внешне он напоминал чуть уменьшенный драккар викингов, был оснащен одной или двумя мачтами, несшими прямые паруса, имел 15–20 пар весел и вмещал в среднем 50–60 человек.
(обратно)282
Какое, однако прозрение: шведским королем de facto Биргер Магнуссон станет только через десять лет (подробнее об этом ниже).
(обратно)283
Разные источники определяют их потери с колоссальным разбросом: минимум – 50 человек, максимум – 4500.
(обратно)284
Правда, не совсем понятно, кто занимался погребением; из текстов вроде бы следует, что сами же панически бежавшие шведы… Странное, прямо скажем, бегство!
(обратно)285
Вот она, патриотическая историография: немецкий город все-таки назывался Дерптом! Как Юрьев он был основан, просуществовал под этим названием в составе русских земель с 1030 по 1224 г., с 1224 по 1893 г. он назывался Дерптом, а потом ненадолго снова стал Юрьевом (с 1893 по 1919 г.) у эстонцев же называется Тарту. Так что в 1262 г. он быть Юрьевом при всем желании не мог. Как тут не вспомнить изданный некогда в ГДР школьный исторический атлас, где на карте Восточной Пруссии XIV века на месте Кенигсберга значился… Калининград!
(обратно)286
Эта последняя цифра возникает в работе историков И.А. Заичкина и И.Н. Почкаева, которые пишут о пятитысячном войске и ста кораблях ярла Биргера.
(обратно)287
Кстати, на протяжении жизни Александра Ярославича такое повторялось четырежды.
(обратно)288
О том, что Господин Великий Новгород входил в Ганзейский союз, вспоминать и писать у нас (за пределами научного обихода) как-то не слишком принято. По счастью, только у нас: когда в 2002 г. у федерального президента Германии Йоханнеса Рау пожелавшего посетить Новгород, журналисты спросили, чем такое желание продиктовано, он ответил, что, помимо интересов общекультурных и политико-экономических, просто не мог не побывать в единственном русском ганзейском городе, тесно связанном в прошлом с Бременом, Гамбургом, Данцигом, Любеком… Даже название районов города – концы (Славенский, Плотницкий и т.д.) – роднили Новгород не с русскими городами, где аналогов им нет, а с европейскими: вспомните лондонские Ист-Энд и Вест-Энд, эдинбургский Анкор-Энд и т.д.
(обратно)289
Это произошло в сентябре 1240 года – пронемецкая партия во главе с посадником Твердилой Иванковичем одержала в городе верх, и рыцари вошли в город, не встречая никакого сопротивления. Впрочем, вставать во Пскове гарнизоном они не стали, а ушли, оставив лишь двух судей-фогтов. Так что «освобождал» Александр Ярославич город не от немцев, а от ориентированных на Запад псковитян. Причем «освобождал» с предельной жесткостью, но это уже, как говорится, совсем другая история.
(обратно)290
Позволю себе привести коротенькую цитату из Игоря Данилевского: «…против кого воюет в основном Александр Ярославич? Именно против чуди, ливов, эстов… Это им – перебитым, потопленным и повешенным – “несть числа”».
(обратно)291
В этом сражении пали и великий магистр ордена Волквин, и возглавлявший отряд крестоносцев из Северной Германии рыцарь Газельдорф.
(обратно)292
«Хроника Эрика» – рифмованная история Швеции середины XIII – начала XIV веков.
(обратно)293
Как сказано в летописи, «овому носа урезаша, и иному очи вынимаша». Распространенная по сей день практика: коли не справился с ситуацией – дух вон! А мог, не мог – не велика разница…
(обратно)294
Status quo ante bellum (лат.) – положение, которое было до войны, т.е. до изменений, вызвавших военных действия или внесенных ими.
(обратно)295
Post hoc, ergo propter hoc (лат.) – после того – значит, вследствие того.
(обратно)296
Обстоятельство, к которому нам еще предстоит вернуться в пятнадцатой главе.
(обратно)297
В 1248 году папа Иннокентий IV призвал князя «дабы ты матерь римскую церковь признал и папе повиновался, чтобы вкусить тебе от неувядаемых плодов вечного блаженства». Направленная по этому поводу Александру грамота содержала просьбу известить братьев Тевтонского ордена в Ливонии, если татарское войско двинется на христиан, чтобы в таком случае «мы смогли безотлагательно поразмыслить, каким образом с помощью Божией сим татарам мужественно сопротивление оказать». Князь отверг папское послание – «от вас учения не приимаем».
(обратно)298
Хакон IV Хаконссон Старый (годы правления 1217–1263) – незаконнорожденный сын короля Хакона III (годы правления 1202–1204), он родился вскоре после смерти отца, на престол взошел тринадцати лет от роду и положил конец эпохе гражданских войн и междоусобных раздоров. Хакон IV предпринял серьезные реформы и подавил мятеж ярла Скули (1240 г.). Позднее он убедил Исландию (1261 г.) и Гренландию (1262 г.) признать сюзеренитет Норвегии. Война с Шотландией (1263 г.) состояла буквально из считанных стычек, а потом был заключен мирный договор, согласно которому расширялся контроль Хакона IV над Шетландскими и Оркнейскими островами, а остров Мэн и Гебриды отходили шотландцам. Вскоре после этого, в декабре 1263 г. он умер на Оркнейских островах.
(обратно)299
Впрочем, это могло быть и наветом: непохоже, чтобы Ярослав Всеволодович, призвавший русских князей признать Батыя «добрым царем», тайно готовил антимонгольское сопротивление.
(обратно)300
Каракорум – имеется в виду не одна из самых высоких в мире горных систем, расположенная в Центральной Азии, в Индии (в штате Джамму и Кашмир) и в Китае, а город – столица империи Чингизидов. По-монгольски он назвался Хара-Хорин и был основан Чингисханом в 1220 г. в верхнем течении реки Орхон. Просуществовал он до XVI в., после чего был заброшен. До наших дней сохранились дворец хана Угедея (сына Чингисхана), ремесленные кварталы и некоторые культовые постройки.
(обратно)301
Это в отношении политическом. В отношении культурном все было иначе: политика Александра Невского и впрямь заставила Русь «лицом повернуться к обдорам». Но справедливости ради замечу, что курс этот впервые наметил еще предок Александра Ярославича, великий князь владимирский Андрей Юрьевич Боголюбский. А если копнуть глубже, то в этом повинно крещение, принятое не от Западной, а от Восточной Римской империи, считавшей себя наследницей и продолжательницей Рима (да что там! – просто Римом), но говорившей по-гречески и впитавшей культурные традиции Персии и других восточных деспотий. Если Римом двигала идея закона (dura lex sed lex), то Византией – воля базилевсов, стоявшая превыше любого закона, будь то человеческого или Божьего; этот-то принцип и восприняла Московская Русь… Но это – тема отдельного (и долгого!) разговора…
(обратно)302
Палицын Авраамий (?–1627) – келарь Троице-Сергиева монастыря в 1608–1619 гг., организатор его обороны в 1618 г., писатель, автор «Сказания» – ценного источника по истории России начала XVII в., в том числе и о Смутном времени.
(обратно)303
Морозов Борис Иванович (1590–1661) – боярин, воспитатель царя Алексея Михайловича и фактический глава его правительства в 1645–1648 гг. Его финансовые реформы вызвали московское восстание 1648 г. Был ненадолго сослан, однако уже в октябре того же года возвращен в Москву и сохранял политическое влияние до конца пятидесятых годов.
(обратно)304
Помните, «лед на ней, однако, был еще тонок и провалился под ним»?
(обратно)305
Сигизмунд III (1566–1632) из шведской династии Ваза – король Речи Посполитой (т.е. король польский и великий князь литовский) с 1587 г., король Швеции в 1592–1599 гг. Был активным деятелем Контрреформации и одним из организаторов интервенции в Россию в начале XVII в.
(обратно)306
Именно белопашцев, но никоим образом не дворян, хотя Надежда Ильичева в свой статье «Жизнь за царя. 300 лет со дня смерти Ивана Сусанина» пишет: «Благодарные Романовы со временем дали потомкам Сусанина дворянское звание». Еще один миф…
(обратно)307
Помните, «по нашему царскому милосердию и по совету и прошению матери нашей, государыни великой старицы инокини Марфы Ивановны»?
(обратно)308
Как считает уже упоминавшийся нами историк-краевед Зонтиков, если бы Богдан Собинин участвовал в спасении царя, об этом неременно шла бы речь в грамоте 1619 г.
(обратно)309
Знаменитое путешествие Екатерины II по Волге, начавшееся 2 мая в Твери и завершившееся 5 июня в Симбирске.
(обратно)310
Бибиков Александр Ильич (1729–1774) – государственный и военный деятель, генерал-аншеф (с 1771 г.). Выдвинулся в ходе Семилетней войны. В 1767 г. – председатель Уложенной комиссии. В 1773 – начале 1774 г. руководил военными действиями по подавлению Пугачевского мятежа.
(обратно)311
Уваров Сергей Семенович (1786–1855) – граф (с 1846 г.), государственный деятель, почетный член (с 1811 г.) и президент (в 1818–1855 гг.) Петербургской АН. В 1833–1849 гг. – министр народного просвещения, инициатор принятия Университетского устава 1835 г.
(обратно)312
Бантыш-Каменский Дмитрий Николаевич (1788–1850) – российский историк и археограф, автор трудов по истории Украины и «Словаря достопамятных людей Русской земли» (тт. 1–8,1836–1847).
(обратно)313
Глинка Сергей Николаевич (1776–1847) – русский писатель, помимо литературных трудов обретший известность патриотической деятельностью во время Отечественной войны 1812 г. Издавал журнал «Русский вестник» (1808–1820 и 1824), автор исторических пьес «Наталья, боярская дочь», «Минин» и др., повестей, стихов, а также труда «Русская история» (ч. 1–14) и мемуары, в том числе «Записок о 1812-м годе» (1836).
(обратно)314
Полевой Николай Алексеевич (1796–1846) – русский писатель, журналист, историк, член-корреспондент Петербургской АН (1831). Издавал журнал «Московский телеграф» (запрещенный в 1834 г.). Один из первых в России идеологов буржуазного прогресса; осуждал дворянскую аристократию за отсутствие национального чувства. Автор исторического романа «Клятва при гробе Господнем» (1832), романтических повестей («Живописец» и «Блаженство безумия»; обе 1833), а также «Истории русского народа» (тт. 1–6, 1829–1833), полемически направленной против Н.М. Карамзина.
(обратно)315
Кавос Катерино Альбертович (1775–1840) – российский композитор и дирижер, выходец из Италии, с 1799 г. работавший в Санкт-Петербурге. Создатель опер «Илья-богатырь» (1806), «Иван Сусанин» (написана в 1812 г., поставлена в 1815 г.), оперы-водевиля «Казак-стихотворец» (1812) и др.
(обратно)316
Либретто Жуковский предполагал писать сам, однако, написав лишь одну сцену, от дальнейшей работы отказался и «сдал», как говорит Глинка, оперу посредственному поэту из числа придворных Николая I, барону Розену. Общий план оперы составил сам Глинка.
(обратно)317
Демут-Малиновский Василий Иванович (1779–1846) – русский скульптор, создавший совместно с С.С. Пименовым ряд значительных произведений монументально-декоративной скульптуры русского классицизма, проникнутых патриотическим гражданственным пафосом (в частности, в Санкт-Петербурге – скульптурное оформление Горного института, 1809–1811; арки Главного штаба, 1827–1828; Михайловского дворца, 1823–1825).
(обратно)318
Городецкий Сергей Митрофанович (1884–1967) – поэт, один из организаторов «Цеха поэтов». В сборнике «Ярь» (1907) обильно использовал темы и образы русского фольклора, автор нескольких поэм (в том числе «Красный Питер», 1922).
(обратно)319
Самосуд Самуил Абрамович (1884–1964) – дирижер, народный артист СССР (1937). Выступал с 1917 г. Способствовал становлению советского оперного искусства: в 1918–1936 гг. – главный дирижер и художественный руководитель Ленинградского Малого оперного театра; в 1936–1943 гг. – Большого театра СССР; в 1943–1950 гг. – художественный руководитель Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. Дирижировал также симфоническими оркестрами. Организатор (1957) и художественный руководитель оперно-симфонического оркестра Всесоюзного радио. Лауреат Государственных премий СССР (1941, 1947 и 1952).
(обратно)320
И это притом, замечу, что прямых потомков у Сусанина не стало уже в XVIII веке! Насчитывавшиеся в 1834 году 228 и в 1905 году 306 потомков Сусанина были уже не прямыми, а косвенными, отдаленной родней по всяким боковым линиям. Что же, коль Иван Грозный, как я уже упоминал, возводил свой род к «кесарю Августу» – так почему бы нынешнему градоначальнику свой к Сусанину не возвести? Впрочем, косвенным потомком он и впрямь являться может.
(обратно)321
О них мы уже говорили, напомню, в главе о несчастном Святополке.
(обратно)322
Перевод В. Еритасова.
(обратно)323
Вюртемберг – немецкое графство (с середины XIII в.), затем – герцогство (с 1495 г.), а в 1805–1918 гг. – королевство со столицей в Штутгарте, входившее в состав Германской империи. После распада империи – затем земля Германии; с конца 1951 г. – часть земли Баден-Вюртемберг.
(обратно)324
Данциг – современный Гданьск в Польше.
(обратно)325
Pour le merite (франц.) – «За заслуги» – высшая воинская награда за личную храбрость в кайзеровской Германии.
(обратно)326
26 октября 1917 г. обер-лейтенант Роммель повел две сотни немецких солдат на штурм этого итальянского горного укрепления, расположенного на высоте 1200 м над уровнем моря. Не потеряв ни единого своего солдата, он взял в плен 9000 вражеских и захватил 80 пушек. Взятие Монте-Матажура являлось одним из эпизодов развернувшегося 24 октября – 12 ноября 1917 г. масштабного сражения при Капоретто (или, как его иногда называют, Двенадцатого сражения на Изонцо).
(обратно)327
У нас (за пределами круга специалистов) он известен пока лишь по написанной в соавторстве с Т.Э. Лоуренсом книге «Лоуренс Аравийский», выпущенной в 2002 году издательством «АСТ».
(обратно)328
Тактика эта, кстати, родилась не в гениальном мозгу Роммеля, а в ходе военных действий на Восточном фронте, когда выяснилось, что единственным орудием, легко справлявшимся со всеми бронированными машинами противника (как советского производства, так и поставляемыми по ленд-лизу союзниками), является 88-мм зенитная пушка 8.8 Flak 36. Ничего еще, если ее снаряды прошивали танк насквозь, в противном же случае снаряд начинал рикошетировать внутри, превращая экипаж в кровавые клочья. Результат такого попадания оказывал столь сильное деморализующее воздействие, что, например, специальном приказом по американской Четвертой танковой дивизии было запрещено вскрывать подбитые танки и пытаться оказать помощь экипажу – это вменялось в обязанность специальной службе и в стороне от передовой. Ошеломительный успех 88-мм зенитной пушки в качестве противотанковой (сперва на Восточном фронте, а потом и в Северной Африке) побудил немецких инженеров разработать на ее основе танковое орудие, которым впоследствии и были оснащены «тигры».
(обратно)329
Дэвид Ирвинг, надо сказать, – фигура донельзя одиозная, противоречивая и скандальная. Он – автор трех десятков книг о Второй мировой войне и Третьем рейхе, ставших бестселлерами и переведенных на разные языки. Он многие годы провел в самых разных и порою весьма труднодоступных архивах. При этом его называют и «уважаемым британским историком», и «выскочкой-самоучкой»; «борцом за попранную правду», «ученым, известным своими расистскими взглядами» (что, кстати, подтверждено даже судебным решением) и просто «антисемитом» (поскольку в одной из книг он взялся начисто отрицать… сам факт холокоста!). Замахиваясь на мифы с тем же рвением, что и на истины, он крушит направо и налево. Ссылаться на него считается в лучшем случае дурным тоном. Однако иногда воспользоваться приводимыми им фактами (особенно, если они не противоречат и данным, полученным другими исследователями) все-таки не грех.
(обратно)330
Тем не менее в своей книге «Вторжение, 1944» генерал Шпейдель, усердно творя роммелевский миф, утверждал прямо противоположное: для фюрера высадка союзников в Нормандии явилась полнейшей неожиданностью, хотя прозорливый Роммель не раз предупреждал его (дивное противоречие!), что именно так все и будет.
(обратно)331
Английский историк Джон Уилер-Беннет в книге «Немезида власти» (Лондон, 1953) приводит неполный список из 158 имен погибших в результате гитлеровского мщения.
(обратно)332
«Крысы пустыни» – прозвище солдат британской 7-й бронетанковой дивизии, противостоявшей Африканскому корпусу Роммеля в составе Армии пустыни фельдмаршала сэра Арчибальда Уэйвелла (подразделение это существует и поныне – 17 000 их участвовало в войне в Ираке). Знатоки утверждают, что в действительности «крыс пустыни» по-русски правильнее называть «тушканчиками», а происхождение этого названия таково. Кто-то из солдат 7-й бронетанковой приручил тушканчика, а один из штаб-офицеров, увидев это, заметил: «Нам следовало бы сделать эту зверюшку своей эмблемой – нам следует научиться жить в песках так же, как она». Правда это или красивая легенда – не знаю. Подозреваю, однако, что если и правда, то не вся. Почему, например, защитников Тобрука называли «тобрукскими крысами»? Сдается, дело еще и в том, что отношение к этим грызунам у нас и у англосаксов разное: нам слышится в нем едва ли не ругательство, нечто если и не отвратительное, то малосимпатичное, они же – в соответствии с данными этологии, высоко ценят ум, смелость, настойчивость и коллективизм сего длиннохвостого племени…
(обратно)333
Шампольон Жан-Франсуа (1790–1832) – французский ученый, иностранный почетный член Петербургской Академии наук (1826), который, изучив трехъязычную надпись на Розеттском камне, разработал основные принципы дешифровки древнеегипетского иероглифического письма и создал первую грамматику древнеегипетского языка.
(обратно)334
Виктория (полное имя Александрина-Виктория; 1819–1901) – королева Соединенного королевства Великобритании и Ирландии (с 1837 г.), императрица Индии (с 1876 г.), дочь герцога Кентского, четвертого сына короля Георга III, последняя из Ганноверской династии. Вступила на трон после смерти своего дяди короля Вильгельма IV. В 1840 г. вышла замуж за принца Альберта Саксен-Кобург-Готского, причем не столько из династических соображений, сколько по любви. Ее беспрецедентно долгое в английской истории царствование связано с укреплением морального авторитета короны. Последний германский император Вильгельм II был ее внуком, российский император Николай II был женат на ее внучке.
(обратно)335
Фридрих-Вильгельм IV (1795–1861) – прусский король из династии Гогенцоллернов (с 1840 г.). В 1857 г. в связи с психическим расстройством отошел от государственных дел.
(обратно)336
Аменхотеп III – фараон из XVIII династии, правивший в 1405–1367 до Р.Х. При нем могущество Египта достигло апогея, были сооружены храм Амона-Ра в Луксоре и заупокойный храм с огромными статуями Аменхотепа III – знаменитыми «колоссами Мемнона».
(обратно)337
Иногда его называют также «Эпосом Пентаура». «Поэма Пентаура» сохранилась на папирусах Британского музея Sallier III, Chester-Beatty III, а оригинал – на стенах храмов в Карнаке и Луксоре (совр. Фивы) и в Абидосе, что в Верхнем Египте.
(обратно)338
343 строки иероглифического текста или около 20 000 знаков по-русски.
(обратно)339
Рамсес II Великий – фараон из XIX династии, сын Сети I. Правил в 1290–1224 гг. до Р.Х., наиболее известен тем, что воевал в Палестине и вел большое храмовое строительство.
(обратно)340
Ра – в египетской мифологии – бог солнца, воплощавшийся в образе сокола (реже – огромного кота) и изображавшийся в виде человека с головой сокола, увенчанной солнечным диском. Центром его культа являлся Гелиополь (египетский Иуну).
(обратно)341
Амон (т.е. «сокрытый», «потаенный») – тоже египетский бог солнца, но под этим именем его почитали в Фивах (египетский Нут-Амон), покровителем которых он считался. Священным животным Амона являлся баран, изображали же этого бога в виде человека с бараньей головой, увенчанной короной с двумя высокими перьями и солнечным диском. В описываемую эпоху он стал общеегипетским богом, его культ слился с культами Ра и Монту и стал государственным.
(обратно)342
Монту – в египетской мифологии – бог войны, изображавшийся в виде человека с головой сокола, увенчанной короной с двумя голубыми перьями и солнечным диском.
(обратно)343
Атум – бог солнца, один из древнейших в египетской мифологии, демиург, изображавшийся человеком с двойной короной на голове и титуловавшийся «владыкой обеих земель», т.е. Верхнего и Нижнего Египта (следовательно, по всем атрибутам – небесный фараон…).
(обратно)344
Сет – в египетской мифологии бог «чужих стран» (пустыни), олицетворение злого начала, убийца Осириса; считался покровителем XIX династии. Изображался человеком с тонким удлиненным туловищем и ослиной головой.
(обратно)345
Аменхотеп IV – фараон XVIII династии, правивший в 1368–1351 гг. до Р.Х., сын Аменхотепа III. Пытаясь сломить могущество фиванского жречества и старой знати, выступил как религиозный реформатор. Он принял имя Эхнатон (т.е. «Угодный Атону»), сделал государственной религией культ бога Атона и перенес столицу в специально для этой цели выстроенный город Ахетатон (современная Тель-эль-Амарна).
(обратно)346
Птах (или Пта) – в египетской мифологии – бог города Мемфис, демиург, создавший восьмерых первых богов, мир, и все в нем существующее; культ Птаха имел не только общеегипетский характер, но и распространился в Нубии, Палестине, на Синае. Изображался в виде человека в одеянии, плотно облегающем и закрывающем его, кроме кистей рук, держащих посох «уас».
(обратно)347
Великая Зелень – Средиземное море.
(обратно)348
Мут («мать») – в египетской мифологии богиня неба, жена Амона и мать Хонсу. Считалась «владычицей озера Ашеру» около Фив, на берегу которого стоял ее храм; изображалась в виде женщины, а ее священным животным являлась корова.
(обратно)349
Другой хронист добавляет, что Артур еще и всю битву «носил на своих плечах крест Господа нашего Иисуса Христа». Правда, текстологи советуют понимать эти слова лишь как ритуальную формулу подчеркивания того обстоятельства, что Артур был христианином.
(обратно)350
Эберс Георг (1837–1898) – немецкий египтолог, чьим именем назван найденный и опубликованный им в 1875 г. древнеегипетский медицинский трактат («Папирус Эберса»), а также писатель, приобретший популярность серией исторических романов («Уарда», «Серапис» и мн. др.).
(обратно)351
Пи-Рамсес-Миамон (или Пер-Рамсес-Мериамон) – город, отстроенный Рамсесом II в Дельте, вероятно, на месте гиксосской столицы – города Авариса.
(обратно)352
4-я Книга Царств, 7:6.
(обратно)353
Грозный Фридрих (это имя он носил, будучи подданным Австро-Венгерской империи, а с момента образования Чехословакии стал именоваться Бедржихом; 1879–1952) – знаменитый чешский хеттолог.
(обратно)354
То есть индоевропейской.
(обратно)355
Справедливости ради следует заметить, что часть бесчисленных хеттских табличек, найденных в 1906–1912 гг. на раскопках в Богазкёе (Турция) была прочитана незамедлительно, поскольку государственные записи хетты вели на дипломатическом языке своего времени – аккадском, записывая его ассиро-вавилонский клинописью, а к началу XX века и этот язык, и это письмо были уже дешифрованы.
(обратно)356
Чтобы подчеркнуть личный героизм фараона, египетские источники об этом отряде не упоминают вовсе.
(обратно)357
Любопытная деталь: корпус Птаха строился в три линии: первую и третью составляли боевые колесницы, тогда как во второй находилась пехота, построенная в десять шеренг; правый фланг боевого порядка обеспечивали колесницы. Это первый зафиксированный мировой военной историей боевой порядок, состоявший из стройно размещенных колесниц и пехоты.
(обратно)358
Хетты потеряли около 2000 человек, то есть примерно 10% личного состава армии, тогда как египтяне – свыше 6000 человек, т.е. почти 30%.
(обратно)359
Овчинникова Анна Георгиевна – петербургская писательница, в частности, автор цитируемой здесь книги «Легенды и мифы Древнего Востока», удостоенной в 2004 г. Беляевской премии.
(обратно)360
Матф. 7:20.
(обратно)361
Нахр-аль-Кельб (арабск.) – Собачья река.
(обратно)362
Фермопилы – собственно, по-русски их правильнее было бы именовать Термопилами, т.е. Горячими воротами (происхождением своим название это обязано бьющим там серным источникам, посвященным Гераклу). Филологическая путаница, увы, не случайна – она является следствием утраты нашим алфавитом буквы ψ (фита), отличавшей заимствованные слова, начинающиеся с дифтонгов, передающихся сочетанием латинских ph и th, от слов, начинающихся с латинского f, которые писались, как и сейчас, через букву Ф (ферт).
(обратно)363
Или, как ее еще называют, Среднюю.
(обратно)364
В сентябре 490 г. до Р.Х. близ селения Марафон на северо-восточное побережье Аттики высадилась шестидесятитысячная персидская армия под командованием военачальников Артаферна и Датиса. Эта акция преследовала цель отвлечь часть афинских сил от обороны города. И действительно, греки выдвинули на Марафонскую равнину соединенное войско – 13 000 афинян и 2000 платейцев (пообещала помощь и Спарта, однако ее контингент задержался почти на две недели из-за религиозного праздника). Едва стало известно, что греки выступили, основная часть персов под командованием Артаферна вернулась на корабли и отплыла к Афинам, так что 13 сентября в битве сошлись приблизительно 20 000 персов, оставшихся, чтобы сковывать афинскую армию, и около 15 000 греков под командованием Каллимаха, в чьем подчинении было десять других военачальников, наиболее уважаемым и наиболее опытным из которых являлся Мильтиад. Разгадав персидский план, этот последний настаивал на немедленной атаке. После горячего военного совета Каллимах проголосовал в пользу его смелого плана и доверил ему командование в битве.
В спешном порядке афиняне и платейцы спустились по склонам, чтобы построиться перед персидским сторожевым охранением (платейцы занимали позицию на левом фланге). Мильтиад удлинил греческую линию так, что фланги опирались на два впадавших в море ручья. Это существенно истончило центр линии (значительно менее двенадцати человек в глубину, принятых в то время для фаланги), тем самым сделав его уязвимым для атаки персидской кавалерии. Однако на крыльях Мильтиад сохранил полную глубину строя. Результатом явилась формация, имевшая мощную ударную силу на флангах, связанных тонкой линией в центре. Греки наступали на персидский лагерь через узкую равнину и берег, пока не оказались на расстоянии полета стрелы (менее 200 метров) от персидских лучников, а затем атаковали; прежде чем укрыться за главным персидским строем, лучники противника успели выпустить лишь по нескольку торопливо нацеленных стрел.
Вероятно, греческий центр приближался несколько медленнее, чем фланги, – или по приказу, или потому, что они были открыты для самого плотного огня персидских лучников. Когда обе линии сошлись в рукопашной, персы были в состоянии сравнительно легко отбросить назад тонкий центр противника. Греческая линия почти сразу стала вогнутой, и тогда две тяжелых боковых фаланги быстро смяли фланги легко вооруженных персов. Теперь крылья греческого строя начали заворачиваться внутрь, сжимая персов в превосходно выполненное двойное окружение. (Авторитеты расходятся во мнениях, было ли это запланированным маневром или произошло случайно; в любом случае, Мильтиад выказал блестящее понимание возможностей и недостатков обеих армий и фундаментальных военных принципов концентрации и экономии сил.)
Сперва персидские фланги, а затем и центр обратились в бегство к берегу и к выстроенным вдоль него кораблям. Похоже, Датис организовал какой-то арьергард, чтобы прикрыть паническую посадку своих потерпевших поражение сил, благодаря чему сумел уйти с большей частью флота и с относительно малыми потерями личного состава. Это было в момент последнего – путаного и отчаянного – сражения уже на самом берегу, когда греки потеряли большую часть из своих 192 убитых, среди которых оказался и Каллимах. Считается, что персы потеряли убитыми 6400 человек.
Мильтиад сразу же повел своих усталых, но торжествующих людей обратно к Афинам. Вперед, в надежде, что известие о победе в должной мере укрепит колеблющихся граждан, чтобы они продержались до прихода армии, он выслал в первый марафонский пробег гонца – как принято считать, Федипеда. К подходу афинской армии персидский флот еще только приближался к берегу. Поняв, что опоздал, Артаферн удалился.
Этим вечером прибыли спартанцы, узнав, к великому огорчению, что сражение они пропустили. Правда, бытует мнение, будто спартанцы просто выжидали – то ли в намерении примкнуть к победителю, то ли стремясь избежать потерь.
(обратно)365
Дарий I (греческая транслитерация персидского имени Дараявауш) – правил в 522–486 гг. до Р.Х.
(обратно)366
Это более или менее реалистичная оценка, на которой сходится большинство современных ученых. Склонный к преувеличениям Отец истории Геродот называл совершенно фантастическую численность персов – 5 280 000 человек.
(обратно)367
По свидетельству того же Геродота, тогда погибло около 300 судов и больше 20 000 человек.
(обратно)368
Согласно Геродоту, флот включал приблизительно 1500 военных кораблей и 3000 транспортов.
(обратно)369
В своей семнадцатитомной «Географии» греческий географ и историк Страбон (ок. 64 г. до Р.Х. – ок. 20 г. по Р.Х.) пишет: «У Фермопил, внутри Теснин, находятся укрепления – Никея; по направлению к Локрийскому морю, над ней – Тейхиунт и Гераклея, прежде называвшаяся Трахином, основанная лакедемонянами; Гераклея находится приблизительно в шести стадиях от древнего Трахина. Далее идет Родунтия – природная крепость».
(обратно)370
Лакедемон – официальное название государства Спарта, расположенного в Лаконии – плодородной области на юго-востоке Пелопоннеса, в долине реки Эврот, между горными хребтами Парнон и Тайгет. По названию местности Спарта и получила два других наименования – Лаконика и Лакедемон.
(обратно)371
Что, впрочем, впоследствии не помешало Фивам перейти под руку Ксеркса.
(обратно)372
Это самый пессимистичный подсчет. По Вайсмюллеру, например, в последнем бою у Фермопил приняло участие около 3000 эллинов, тогда как Боде в своих «Войнах Ксеркса» указывает, что их было 3400 человек. Но для нас эти малозначительные расхождения в подсчетах принципиального значения не имеют. Если, конечно, забыть о ценности каждого человека…
(обратно)373
Страбон (64/63 до Р.Х. – 23/24 по Р.Х.) – древнегреческий путешественник, географ и историк, автор знаменитой «Географии» (в 17 книгах), являющейся итогом географических знаний античности, а также «Исторических записок», которые, к сожалению, до нас не дошли.
(обратно)374
Локрияне (правильнее, локры) – жители Локриды, трех небольших областей Центральной Греции. Локрида Озольская представляла собой узкую полосу на севере Коринфского залива (ее наиболее известные города – Амфисса и Навпакт). Локрида Эпикнемидская и Локрида Опунтская (с городом Опунтом) располагались на берегу Эвбейского залива.
(обратно)375
Разнообразных Фермопил, замечу, в истории великое множество. Вот вам пример из времен Великой Отечественной войны. 26 июня 1941 г. во время нанесения удара по танковой колонне противника на участке дороги Молодечно – Радошковичи северо-западнее Минска попаданием зенитного снаряда у бомбардировщика капитана Николая Францевича Гастелло был пробит бензобак, возник пожар. Предпочитая смерть плену, летчик не покинул самолет, а направил горящую машину на скопление танков, бензоцистерн и автомашин противника, которые взорвались вместе с самолетом. За свой подвиг капитан Гастелло был награжден орденом Ленина и удостоен звания Герой Советского Союза (посмертно). На месте подвига, близ поселка городского типа Радошковичи Молодечненского района Минской области, установлен памятник; в Москве и на территории Ворошиловградского высшего военного авиационного училища штурманов имя Гастелло также увековечено памятниками. Но только там, на обелиске под Радошковичами, поименно названы трое членов экипажа капитана Гастелло: штурман лейтенант Анатолий Акимович Бурденюк, стрелок-радист старший сержант Алексей Александрович Калинин и лейтенант летчик-наблюдатель Григорий Николаевич Скоробогатый. А в разнообразных учебниках истории, справочниках и даже в «Военном энциклопедическом словаре» – всюду речь об одном Гастелло… А разве подвиг остальных троих ниже?
(обратно)376
Сражение у Саламина, острова в Эгейском море, лежащего у берегов Аттики, состоялось 23 сентября 480 г. до Р.Х. Часть соединенного греческого флота (370 триер под командованием Эврибиада, действовавшего по плану афинского стратега Фемистокла) была отослана, чтобы защитить узкий западный пролив, тогда как остальные силы, выстроившись в линию, ожидали подхода неприятеля в восточном проливе – поблизости от места, где он, изгибаясь, слегка сужался. Проходя это место, персидские корабли вынужденно скучились, что неизбежно привело к некоторому смятению. В этот момент греки атаковали. Маневры были теперь невозможны, численное превосходство бесполезно. Преимущество принадлежало более тяжелым, солидно построенным греческим триремам, несущим всю афинскую армию – по крайней мере 6000 человек. Сотни отдельных рукопашных сражений разыгрались на палубах стеснившихся кораблей. В единоборстве греческие гоплиты намного превосходили своих противников. Битва длилась более семи часов. Половина персидского флота, составлявшего в начале сражения до 800 кораблей, была потоплена или захвачена, тогда как греки потеряли только 40 триер. Уцелевшие персы бежали в Фалеронскую бухту, к Пирею.
(обратно)377
Битва при Платеях – близ этого беотийского города, лежащего у подножия Киферона, соединенная эллинская армия под командованием Павсания (около 80 000 человек) встретилась с персидской армией под командованием Мардония (120 000 персов и 50 000 их греческих союзников). Как ни храбро сражались персы, эллинам удалось одержать верх благодаря более тяжелому вооружению пехотинцев-гоплитов и превосходству греческой дисциплины. Когда в бою пал Мардоний, среди персов началась паника и они бежали в свой укрепленный лагерь, который афинские отряды взяли штурмом. Разъяренные греки не щадили никого – как сообщают источники, спаслись только 40 000 персидских воинов, покинувших поле боя в самом начале сражения (не это ли позорное бегство и послужило причиной поражения?), да около 3000 взятых в плен в расчете на выкуп.
(обратно)378
Монголы брали не количеством, а качеством. Главное, что отличало их организационную систему, – это простота. Армия состояла – не считая нескольких вспомогательных подразделений, – исключительно из кавалерии и являлась однородной. Организация ее строилась на основе десятичной системы. Самым крупным независимым подразделением считался тумен – 10 000 человек, что примерно соответствует кавалерийской дивизии. Три тумена обычно составляли «орду» (армию или корпус). В свою очередь, тумен состоял из 10 «тысяч» (полков) по 1000 человек. Полки составлялись из 10 «сотен» (эскадронов) по 100 человек, в каждом из которых было 10 «десятков» (отделений) по 10 человек. Примерно 40% типичной монгольской армии составляла ударная тяжелая кавалерия. Тяжелые кавалеристы носили полный комплект доспехов – как правило, кожаных, но иногда и трофейные кольчуги. Шлем представлял из себя простую каску – вроде византийских или китайских шлемов того же времени. В тяжелой кавалерии лошади обычно также защищались кожаными доспехами, а главным оружием являлись пики.
Легкие кавалеристы (остальные 60% армии) доспехов не носили – кроме, как правило, шлема. Их главным оружием были азиатский лук, копье и аркан. Монгольский лук был лишь чуть-чуть короче английского длинного лука и обладал вполне сопоставимыми с ним убойной силой и скорострельностью. Опустошение, производимое монгольской легкой кавалерией в рядах противника, вполне вписывалось в давнюю, еще скифско-тюркскую традицию. У каждого лучника было по два колчана стрел; значительный их запас находился в сопровождавшем армию обозе. Легкая кавалерия обычно применялась для разведки, прикрытия и поддержки тяжелой кавалерии огнем; в их задачу входило также преследовать и добивать остатки разгромленной армии противника.
Для пущей мобильности у каждого монгольского кавалериста была как минимум одна заводная лошадь; их перегоняли следом за войсковой колонной, что позволяло быстро менять лошадей на марше или даже в бою. Обмен производился по цепочке, чтобы не рисковать безопасностью и выполнением порученной миссии.
И легкие, и тяжелые кавалеристы имели на вооружении боевой топор. У каждого из них была рубашка из плотного необработанного шелка, которую предписывалось надевать перед боем – Чингисхан обнаружил, что такой шелк стрелы пробивали редко, чаще лишь вминали его в рану; и тогда служившие монголам китайские врачи могли извлекать у раненых наконечники стрел, просто потянув за шелк рубашки.
(обратно)379
Свергнув династию Сун и объединив Китай, хан Хубилай (известный также в Европе как Кубла-хан; годы правления 1260–1294) провозгласил себя императором, под тронным именем Шицзу основал династию Юань и перенес столицу в Цзи (с 1421 г. – Бэйцзин, совр. Пекин; 1264 г.)
(обратно)380
Кампании монголы предпочитали вести зимние – тогда маневренность и подвижность войска возрастали, потому что замерзали реки и болота. Излюбленный способ проверить, достаточно ли крепок лед и выдержит ли он конницу, заключался в том, чтобы как-то побудить выйти на лед местное население. В конце 1241 г. в Венгрии монголы оставили без присмотра на восточном берегу Дуная скот – на виду у голодающих беженцев, которых предварительно вытеснили на западный берег. Когда выяснилось, что лед выдерживает и венгров, и скот, монголы решили, что пора начинать дальнейшее наступление.
(обратно)381
Некоторые историки полагают, что два.
(обратно)382
В этом отношении наибольшую активность проявили мавры.
(обратно)383
Поход этот, как и свойственно всем монгольским военным начинаниям, был проведен блестяще. Мусульманские твердыни рушились одна за другой. Пал Багдадский халифат – центр военной и религиозной мощи арабов. Во дворец халифа монголы ввели православного патриарха. В честь хана Хулагу в соборах и при королевских дворах Европы служили мессы. Его даже сравнивали с Константином Великим, сделавшим христианство официальной религией Римской империи.
(обратно)384
Вспомните, скандинавы еще совсем незадолго до описываемых событий называли Русь Гардарикой, т.е. Страной городов!
(обратно)385
Вспомните, уже в походе Александра Невского на Псков и Новгород принимала участие татарская конница хана Менгу-Тимура.
(обратно)386
Стремясь организовать против татар крестовый поход, Даниил принял с благословения папы римского королевский венец и в 1253 или 1254 г. был коронован в Дрогичине как король Галиции (хотя отечественные учебники и по сей день именуют его князем, начисто игнорируя сей факт). Однако сколотить дееспособную коалицию для крестового похода не удалось, не задался и союз с великим князем литовским Миндовгом. В итоге Даниилу пришлось таки во многом уступить татарам. Когда король скончался в 1264 г., летописец, оплакивая его смерть, назвал его «вторым по Соломоне».
(обратно)387
«Стояние на Угре» – военные действия в 1480 г. между ханом Большой Орды Ахматом и великим князем московским Иваном III в связи с его отказом в 1476 г. платить Ахмату ежегодную дань. После неудачной попытки Ахмата форсировать реку Угра (приток Оки) ордынцы в октябре – ноябре не отважились на решительные действия и отступили. Стояние положило конец монголо-татарскому игу; считается, что с этого момента русское государство стало полностью суверенным.
(обратно)388
Никогда не была восстановлена лишь Старая Рязань. Даже несчастный Козельск – и тот со временем возродился.
(обратно)389
Но вспомните, как разоряли, к примеру Киев, свои же, русские, православные, в том числе и один из наших героев – князь Игорь Новгород-Северский; большинство историков считает: то разорение было пострашнее татарского. А как вырезали новгородское население Иван III и его полубезумный внук Иван IV Грозный!
(обратно)390
Откуп – исключительное право, за определенную плату предоставлявшееся государством (в данном случае, Золотой Ордой) частным лицам (откупщикам, в данном случае – князьям), на сбор каких-либо налогов (в данном случае, так называемого «ордынского выхода»), продажу определенных видов товаров (соль, вино и др.).
(обратно)391
Иннокентий IV (ок. 1195–1254) – римский папа с 1243 г. Боролся с императором Священной Римской империи Фридрихом II Штауфеном и Конрадом IV за верховенство над светской властью. Поддерживал Тевтонский орден.
(обратно)392
Ришелье Арман Жан дю Плесси (1585–1642) – кардинал (с 1622 г.), с 1624 г. – глава Королевского совета, фактический правитель Франции. Лишил гугенотов политических прав; провел административные, финансовые и военные реформы; подавлял феодальные мятежи и народные восстания. Вовлек Францию в Тридцатилетнюю войну 1618–1648 гг.
(обратно)393
Анна Австрийская (1601–1666) – французская королева, жена (с 1615 г.) Людовика XIII. В 1643–1651 гг. регентша при их малолетнем сыне Людовике XIV.
(обратно)394
Бэкингем Джордж Вильерс (1592–1628) – герцог, фаворит и министр английских королей Якова I и Карла I Стюартов. Осуждался парламентской оппозицией и пуританами как главный проводник абсолютистской политики. Убит армейским офицером.
(обратно)395
Генрих IV Наваррский (1553–1610) – французский король с 1589 г. (фактически с 1594 г.), первый из династии Бурбонов. Сын Антуана Бурбона, с 1562 г. – король Наварры (Генрих Наваррский). Во время Религиозных войн глава гугенотов. После перехода Генриха IV в 1593 г. в католицизм Париж в 1594 г. признал его королем. Покончил с Религиозными войнами, издав Нантский эдикт (1598 г.), согласно которому католицизм оставался господствующей религией, но гугенотам предоставлялась свобода вероисповедания и богослужения в городах (кроме Парижа и некоторых других), в замках и ряде сельских местностей; они получили определенные политические права. Убит католиком-фанатиком Равальяком.
(обратно)396
Сюлли Максимильен де Бетюн, барон Рони (1560–1641), герцог (с 1606 г.), гугенот, приближенный Генриха IV Наваррского. В 1599–1611 гг. суперинтендант (министр) финансов; укрепил финансовое положение Франции. Автор мемуаров.
(обратно)397
Это чем-то напоминает нашего Бориса Годунова. Помните: «Бог свидетель, никто не будет в моем царстве нищ или беден! – И, тряся ворот сорочки, он прибавил: – И сию последнюю разделю со всеми!» И почему добрые монархи всегда кончают так плохо?
(обратно)398
Дворец, который построил для себя кардинал Ришелье, а по смерти завещал королю; с тех он известен под нынешним названием – Пале-Рояль.
(обратно)399
Пирам и Фисба – вавилонская влюбленная пара. Пришедшая первой на ночное свидание Фисба натолкнулась на львицу и потеряла покрывало. Найдя его, Пирам решил, что возлюбленная его растерзана, и закололся. Возвратившись, Фисба нашла Пирама умирающим и с горя бросилась на его меч. Трогательная эта история, поведанная Овидием в «Метаморфозах», часто использовалась в искусстве.
(обратно)400
Что, кстати, позволило в конце 1941 года перебросить к столице дивизии, снятые с Дальнего Востока и обеспечившие победу в Битве за Москву.
(обратно)401
Курская битва (05.07–23.08.1943 г.). В оборонительных сражениях в июле советские войска Центрального и Воронежского фронтов (генералы армии К.К. Рокоссовский и Н.Ф. Ватутин) отразили крупное наступление немецких войск групп армий «Центр» и «Юг» (генерал-фельдмаршалы Ханс Гюнтер фон Клюге и Эрих фон Манштейн), сорвав попытку противника окружить и уничтожить советские войска на т.н. Курской дуге. В июле – августе войска Центрального, Воронежского. Степного (генерал-полковник И.С. Конев), Западного (генерал-полковник В.Д. Соколовский), Брянского (генерал-полковник М.М. Попов) и Юго-Западного (генерал армии Р.Я. Малиновский) фронтов перешли в контрнаступление, разгромили 30 дивизий противника и освободили Орел (5 августа), Белгород (5 августа), Харьков (23 августа).
(обратно)402
Как явствует из различных источников, к началу войны наши пилоты имели средний налет от 4 до 15,5 часов, а включая полеты в училище – как правило, не более 30 часов.
(обратно)403
Кстати, другими нашими пилотами в этот же день было суммарно заявлено почти сто сбитых «юнкерсов» – их, правда, не засчитали…
(обратно)404
САУ – самоходная артиллерийская установка.
(обратно)405
Это не так удивительно, как может показаться. В конце августа 1943 года, проводя совещание на заводе №112, нарком танковой промышленности (с 1941 г.) генерал-лейтенант инженерно-технической службы Вячеслав Александрович Малышев (1902–1957) отметил, что победа в Курской битве досталась Красной Армии слишком дорогой ценой, поскольку немецкие «тигры» (Panzerkampfwagen VI Ausf E) и «пантеры» вели эффективный огонь с дистанции 1500 м. тогда как советские 76-мм танковые пушки могли поразить противника лишь с дистанции 500–600 м. Более того, 25 апреля 1943 г. в ходе испытаний трофейного «тигра» на полигоне в Кубинке 76-мм бронебойно-трассирующий снаряд пушки Ф–34 не пробил бортовую броню «тигра» даже с дистанции 200 м. А подкалиберный снаряд «тигра» был способен прошить броню Т–34 и с 4000 м.
(обратно)406
В список не включены имена героев, на которых отсутствуют точные данные. А всего за войну так пожертвовали собой около трехсот человек, причем некоторые их них даже остались в живых.
(обратно)407
Битва за Москву (30.09.1941–20.04.1942). В ходе обороны (по 5.12.1941) советские войска Западного (генерал-полковник И.С. Конев, с 10 октября генерал армии Г.К. Жуков), Резервного (Маршал Советского Союза С.М. Буденный), Брянского (генерал-полковник А.И. Еременко, с октября – генерал-майор Г.Ф. Захаров) и Калининского (генерал-полковник И.С. Конев) фронтов в упорных боях остановили наступление немецких войск группы армий «Центр» (генерал-фельдмаршал Федор фон Бок) на рубеже южнее Волжского водохранилища – Дмитров – Яхрома – Красная Поляна (в 27 км от Москвы) – восточнее Истры – западнее Кубинки – Наро-Фоминск – западнее Серпухова – восточнее Алексина – Тула и обескровили противника. 5–6 декабря советские войска перешли в контрнаступление, а 7–10.01.1942 г. развернули общее наступление на всем фронте. В январе – апреле 1942 г. войска левого крыла Северо-Западного (генерал-лейтенант П.А. Курочкин), Калининского, Западного и Брянского (генерал-полковник Я.Т. Черевиченко) фронтов нанесли поражение противнику и отбросили его на 100–250 км. В Московской битве впервые в ходе войны была одержана крупная победа над немецкой армией.
(обратно)408
Панфилов Иван Васильевич (1893–1941), Герой Советского Союза (1942, посмертно), генерал-майор (1940), участник Первой мировой и Гражданской войн, в Советской армии с 1918 г. Прошел все ступени воинской карьеры – от командира взвода до начальника штаба военного округа, военного комиссара Киргизской СССР и, наконец, командира им же сформированной в Киргизии и Казахстане 316-й стрелковой дивизии. Собственно, к нашей истории он отношения не имеет, важно лишь пояснить, что в начале описываемых событий дивизия называлась панфиловской по командующему, а после его гибели в бою в ноябре 1941 г. – в память бывшего командующего, когда она стали называться 8-й гвардейской им. Панфилова (или Панфиловской) стрелковой дивизией.
(обратно)409
В некоторых изданиях этот последний носит двойную фамилию – Клочков-Диев, однако Диев – прозвище, данное ему кем-то из солдат-украинцев за то, что хлопотливый политрук «вечно что-то дие»…
(обратно)410
Преждевременное, замечу, слово: в 8-ю гвардейскую панфиловская 316-я стрелковая дивизия была переименована только 18 ноября, тогда как бой, как вы помните, происходил 16-го.
(обратно)411
В одних документах его фамилия пишется именно так, а других куда обычнее – Карпов; где правда – не знаю.
(обратно)412
ГлавПУРККА – Главное политическое управление Рабоче-крестьянской Красной армии.
(обратно)413
Правда, впоследствии он, ничуть не смущаясь подобным расхождением версий, утверждал, что все подробности боя вызнал, разыскав в госпитале умирающего от ран Ивана Натарова.
(обратно)414
Кардин В. (настоящие имя и отчество Эмиль Владимирович; р. 1921) – критик и литературовед, основной сферой интересов которого являются современный литературный процесс, документальная литература, театр и кинематограф. Автор книг «Сегодня о вчерашнем. Мемуары и современность» (1961), «Верность времени» (1962), «Повести Павла Нилина» (1964), «Пределы достоверности» (1981, в соавторстве с И.С. Янской), «Обретение» (1989) и др.
(обратно)415
Ефимов Борис Ефимович (1900–2002) – график-карикатурист, народный художник СССР (1967), действительный член Академии художеств (1975), Герой Социалистического Труда (1990). Брат М.Е. Кольцова. С 1922 г. сотрудничал в газетах «Правда», «Известия», журнале «Крокодил». Лауреат Государственных премий СССР (1950, 1951 и 1972).
(обратно)416
Щербаков Александр Сергеевич (1901–1945) – политический деятель, генерал-полковник (1943). В 1938–1945 гг. – первый секретарь МК и МГК, кандидат в члены Политбюро, с 1941 г. – одновременно секретарь ЦК ВКП(б) и начальник Совинформбюро; с 1942 г. – начальник Главного политуправления Советской Армии, заместитель наркома обороны СССР.
(обратно)417
«Моя Москва», слова Марка Лисянского (1913–1994), музыка Исаака Дунаевского (1900–1955). Написанное в последних числах ноября 1941 г., стихотворение младшего лейтенанта Лисянского было опубликовано в спаренном, 10/11 номере журнала «Новый мир», вышедшем в начале декабря, и уже в том же месяце, положенное на музыку Дунаевским, оно зазвучало по радио и стало одной из самых популярных песен военных лет.
(обратно)418
Ортега-и-Гассет Хосе (1883–1955) – испанский философ и публицист, представитель философии жизни и философии антропологии. Подлинную реальность, дающую смысл человеческому бытию, усматривал в истории, истолковывая ее в духе экзистенциализма как духовный опыт непосредственного переживания. Один из главных представителей концепций «массового общества», массовой культуры («Восстание масс», 1929–1930) и теории элиты. В эстетике выступил как теоретик модернизма («Дегуманизация искусства», 1925).
(обратно)419
«Легко на сердце от песни веселой» («Марш веселых ребят») из кинофильма «Веселые ребята» (1934); слова Василия Лебедева-Кумача (1898–1949), музыка Исаака Дунаевского (1900–1955), исполнитель Леонид Утесов (1895–1982).
(обратно)420
А цена Битвы за Москву, в которой сражались и гибли панфиловцы, была высокой. На оборонительном ее этапе (с 30 сентября по 5 декабря 1941 г.) советские войска, обороняясь, потеряли – по официальным данным – 900 000 человек, а наступавшие немцы – всего 145 000 военнослужащих. За время первого этапа советского наступления (с 5 декабря 1941 г. по 7 января 1942 г.) мы потеряли 380 000, а немцы – 104 000. В целом же собственно за Битву под Москвой на обоих этапах мы потеряли 1 280 000, а немцы – 250 000. Таковы уж особенности сталинско-жуковской тактики, уходящие корнями не во времена Ивана Грозного даже, но и еще намного глубже…
(обратно)421
Помните, я просил вас обратить внимание, что в политдонесении, на которое ссылался корреспондент Коротеев, называлась пятая рота? А здесь опять разговор о четвертой. Которая же? Очередная путаница…
(обратно)422
Потье Эжен (1816–1887) – французский поэт, участник Парижской Коммуны 1871 г. Создал пролетарский гимн «Интернационал» (июнь 1871; опубликован в 1877 г.; музыка П. Дегейтера, 1888; впервые исполнен лилльским хором рабочих 23 июня 1888 г.; русский перевод А.Я. Коца, 1902 г.; в 1918–1943 гг. – гимн СССР), поэмы «Парижская Коммуна», «Рабочие Америки – рабочим Франции» и «Рабочая партия» (все 1877), выпустил сборники стихов «Юная муза» (1831), «Социально-экономические стихи и социалистические революционные песни» (1884), «Кто же безумен?» (1884) и «Революционные песни» (1887).
(обратно)423
Один из лучших специалистов по послеледниковой истории Прибалтики Д.Д. Квасов считает, что «максимум Ладожской трансгрессии и образование реки Невы» можно датировать «интервалом 2300–1200 лет назад; для получения более точной даты нужны подробные специальные исследования».
(обратно)424
Название это финского происхождения и означает «топь», «трясина», «затопленное место». Раньше (например, в «Повести временных лет») под ним подразумевали и Ладожское озеро.
(обратно)425
Сами себя они называют «изури», и на сегодня их осталось меньше тысячи человек.
(обратно)426
Именно здесь, по мнению финского историка Хейкки Лескинена, сформировались водский, а возможно, также и ижорский языки. Предки води и ижорцев селились и на южном берегу Ладожского озера близ устья Волхова, который они называли Alode-jogi, т.е. Нижняя река; позднее это название преобразовалось в скандинавское Aldeigja, а затем и в славянское Ладога. Отсюда и название озера, окончательно закрепившееся за ним лишь в начале XIII века. На берегах Волхова финские племена соседствовали с славянскими – словенами и кривичами, которые тоже упоминает «Повесть временных лет» и которые поселились здесь не позднее VIII века.
(обратно)427
Ruotsi – от древнешведского rodsman, т.е. – гребец, кормчий. Согласно одной из версий, отсюда происходит этноним росы или русы; впрочем, эта точка зрения остается более чем спорной.
(обратно)428
Тут стоить заметить, что наиболее прибыльным промыслом считалось у ингерманландских жителей лоцманское дело – фарватер широкой и полноводной, но вместе с тем и достаточно капризной, местами порожистой реки был непрост, и знать его надо было до тонкостей. Владельцы же торговых судов платили щедро – и деньгами, и товаром. Плата эта, замечу, с давних времен строго регламентировалась – договором 1270 года, например, лоцманам разрешалось брать с купцов «то, что брали издавна, но не более».
(обратно)429
В «Хронике Эрика» говорится, что в походе участвовало 1100 кораблей; но это, конечно, поэтическое преувеличение, и как минимум – на порядок.
(обратно)430
Правда, многознающий Михаил Иванович Пыляев (1842–1899) в своем «Старом Петербурге» пишет, что Ландскруна была основана «не на месте, где теперь стоит Александро-Невская лавра», однако ни на какие источники при этом не ссылается, и его точку зрения не разделяет никто из историков.
(обратно)431
«Хроника Эрика» утверждает, что русское войско насчитывало 31 000 воинов, но это тоже поэтическое преувеличение.
(обратно)432
Согласно «Хронике Эрика», количество осаждавших превышало численность защитников крепости в 16 раз, и это уже похоже на правду – получается, новгородцев было 4800 человек.
(обратно)433
Ниен (или Ни) – одно из бытовавших тогда названий Невы; отсюда Ниеншанц – Невская крепость. В русском языке за городом закрепилось название Канцы (как за Стокгольмом – Стекольна).
(обратно)434
В 1672 году в своем капитальном труде по истории шведско-московских войн Иоганн Ведекинд писал, что уже в осенние месяцы 1611 года в крепости был размещен гарнизон, насчитывавший 500 человек.
(обратно)435
Показателен тот факт, что среди комендантов Ниеншанца были шотландцы (Томас Киннемонд – с 1647 по 1657 год и Александр Андерссон – с 1661 по 1663 год), швед (Авраам Раньели – с 1658 по 1661 год); русские (Александр Пересветов – с 1665 по 1679 год; Иван Апполов – с 1689 по 1703 год).
(обратно)436
Тут разом три намека. Во-первых, на св. Петра (а вовсе не Петра-императора, поскольку небесным патроном последнего являлся св. Исаакий Далматский, отчего и появился в Петербурге Исаакиевский собор), хранящего ключи от рая так же, как надлежало новой цитадели хранить ключи от выхода в Балтику; город же Петр некоторое время без особых затей хотел назвать Новым Амстердамом, нимало не смущаясь тем, что за океаном таковой уже существует. Во-вторых, когда город уже начал расти, Петр постоянно говорил о нем, как о «своем парадизе», рае то есть, и тут вновь не обойтись без святого Петра. Наконец, в третьих, поскольку престол св. Петра и его наместник на земле пребывают в Риме, это название косвенно намекало не на Новый Амстердам, а на Новый Рим, отбирая тем самым положение Третьего Рима у «порфирносной вдовы» – Москвы.
(обратно)437
И вот еще что интересно: первоначально именно там, на Котлине, и должно было, в соответствии с царским замыслом, возникнуть великому городу, выстроенному, естественно, наподобие зачаровавшего Петрово воображение Амстердама, для чего остров вдоль и поперек замышлено было рассечь каналами – разумеется, более широкими, нежели амстердамские. Двумя годами позже Петр отказался от этой мысли, предпочтя Котлину нынешний Васильевский остров. Впрочем, грезившаяся монаршему воображению Амстердамо-Венеция так и не родилась…
(обратно)438
Да и нужно ли оно было вообще? В.О. Ключевский, например, считал иначе, справедливо утверждая, что с захватом Ревеля (совр. Таллин) и Риги строить новый порт на Балтике не было ни малейшей необходимости. И для новой столицы любой из этих городов также сгодился бы вполне. Как, впрочем, и Ниеншанц…
(обратно)439
Альгаротти Франческо – итальянский литератор и просветитель, автор диссертации о Ньютоновой оптике и просветительской (сегодня мы сказали бы – научно-популярной) книги «Ньютонианство для дам» (имеется в виду, что не только ученые мужи понять смогут).
(обратно)440
Pitersbourg est la fenêtre par laquelle la Russie regarde en Europe (франц.) – Петербург – окно, через которое Россия смотрит в Европу.
(обратно)441
Заметьте, и самое крупное русское село, Спасское, было выстроено на Песках, между нынешними Смольным и Александро-Невской лаврой, куда невские воды почти никогда не доходили. Ниен же пострадал от наводнения лишь единожды, в 1691 году, когда уровень воды поднялся без малого на 6 метров (!). С тех пор подобная катастрофа ни разу не повторялась: в среднем при невских наводнениях уровень воды поднимается на полтора-два метра выше ординара; во время воспетого Пушкиным наводнения 18 ноября 1824 г. вода поднялась на 4,10 м; 23 сентября 1924 г. – на 3,69 м, 18 октября 1967 г. – на 2,34 м. Выводы о правильности выбранного Петром I места расположения города, как говорится, делайте сами…
(обратно)442
Книга пророка Аввакума, гл. 2, ст. 12.
(обратно)443
Так, например, новгородцы как-то задумали украсить храм святой Софии. Хорошо бы новые врата – да не какие-нибудь, а из ряда вон роскошные. Вроде тех, например, что лет тридцать тому назад знатные магдебургские мастера Риквин и Вейсмут изготовили для кафедрального собора славного шведского города Сигтуны. Но не самим же ковать! Посовещавшись, они подговорили карел соединенными усилиями разграбить Сигтуну. «Хроника Эрика» рассказывает:
Свеям урон наносили огромный Набеги карелов, язычников темных. До Мелара вод они доплывали, Будь сильный шторм иль спокойные дали. Шли, не стесняясь, шхерами свеев Гости незваные, злобу лелея. Раз до Сигтуны дошли корабли – Город сожгли и исчезли вдали. Спалили дотла и многих убили. Город с тех пор так и не возродили. Архиепископ Йон там сражен. Весел язычник, в радости он, Что у крещеных так плохи дела. Русским, карелам смелость дала Мысль, что свеям не устоять. Теперь можно смело страну разорять.Сигтуну и впрямь так и не возродили – лишь впоследствии приблизительно на этом месте возник Стокгольм. Но вот беда: искомых церковных врат уже не оказалось – незадолго до новгородско-карельского набега на Сигтуну нагрянули эсты и увезли их в качестве трофея. Такой наглости новгородцы, разумеется, стерпеть не могли – чтобы законную добычу да из-под носа? А как же родная Софийская церковь? Кинулись в погоню. Догнали разбойных эстов. Отобрали врата – они по сей день красуются на западном фасаде Софии Новгородской, украшенные изображениями отнюдь не русских епископов (в сентябре 2002 года эти Магдебургские врата с гордостью демонстрировал федеральному президенту Германии Йоханнесу Рау и его супруге архиепископ Старорусский и Новгородский Лев – представляю, с каким чувством взирала почтенная президентская чета на сей итог разгульного средневекового разбоя…). Эстам, замечу, не повезло вдвойне: в отместку в том же году «епископ вместе со шведским герцогом, тевтонами и готами <…> пристали в Виронии (совр. Вирумаа) <…> и в течение трех дней разоряли ее». Такая вот «вратная эпопея».
(обратно)444
Отрадное исключение составлял прекрасный петербургский писатель и историк Сергей Сергеевич Шульц-младший (1934–2004) – светлая ему память! Он о Ниеншанце писал честно.
(обратно)445
Санкт-Петербург достиг такой численности населения то ли в конце царствования Петра I, то ли уже при Петре II. Зато – в отличие от Ниена, ни таких методов, ни такой цены строительства по счастью, не знавшего, – строился он в буквальном смысле слова «на костях». Разные источники называют соответственно и несхожие цифры: самые скромные утверждают что в период с 1703 до 1710 г. пришлось по одному трупу строителя на душу тогдашнего населения, наиболее пессимистичные – что по пять, если не шесть. Кстати, в качестве строителей Петр Великий впервые в российской истории использовал здесь заключенных.
(обратно)446
До наших дней от нее дошли остатки мощных укреплений, дворца и храма с росписями, хозяйственные постройки и так далее.
(обратно)447
Причем – и тут блистательно прав наш российский гений! – главным мотивом государя было все-таки «назло надменному соседу», градостроительные же соображения стояли в лучшем случае на втором месте.
(обратно)448
Карлейль Томас (1795–1881) – шотландский публицист и историк, выдвинувший концепцию «героев» – великих провиденциальных творцов истории. Некоторое время был учителем и сотрудничал в газете «Эдинбург ревью». Автор книг «Жизнь Шиллера» (1824), «Французская революция» (1837), откуда и позаимствованы слова, вынесенные в эпиграф, «Чартизм» (1839) и «Прошлое и настоящее» (1843).
(обратно)449
Лещинский Станислав (1677–1766) – польский король в 1704–1711 и 1733–1734 гг. Первоначально был избран под нажимом Швеции и не признан шляхтой. Восстановлен на престоле усилиями французской дипломатии (с 1725 г. дочь Лещинского стала женой французского короля Людовика XV). В конце концов был изгнан из страны в ходе Войны за польское наследство (1733–1735).
(обратно)450
«Энциклопедический словарь» Брокгауза и Ефрона, например, отзывается о них весьма достохвально, тогда как Мазепу вообще не счел достойным упоминания…
(обратно)451
Лорис-Меликов Михаил Тариелович, граф (1825–1888) – по определению «Энциклопедического словаря» Брокгауза и Ефрона, «один из замечательнейших государственных и военных деятелей России». Генерал от кавалерии и генерал-адъютант (1877), герой Русско-турецкой войны 1877–1878 гг., временный генерал-губернатор шести губерний, главный начальник Верховной распорядительной комиссии, едва ли не всесильный, наделенный почти диктаторскими полномочиями министр внутренних дел в царствование Александра II (за глаза его даже называли «вице-императором», чему он, замечу, не слишком противился). Именно он настоял на упразднении Третьего отделения, ограничении административной расправы, фактическом расширении круга действий земского и городского самоуправления, ослаблении цензурных ограничений, учреждении комиссии для пересмотра законов о печати, реформы в учебном деле и т.д. Подготовленную им конституцию государь завизировал, и уже была назначена дата ее обсуждения, до которой император не дожил три дня. Окажись конституция принята (чего так боялись революционеры), – и отечественная история могла бы оказаться во многом иной.
(обратно)452
Стоит заметить, что это были вовсе не «экипажи для 70–80 новейших подводных лодок XXVI серии и до ста командиров-подводников»: командиров не было вообще, матросы являлись курсантами, главное же – в канун конца войны лодок XXVI серии для них просто не существовало…
(обратно)453
На борт, правда, пускали только по письменным разрешениям местных ячеек НСДАП, однако эти бумаги – фальшивые, но неотличимые от подлинных – свободно циркулировали на черном рынке.
(обратно)454
Не зря же эмблемой Венеции является лев святого Марка – вывезенный из Константинополя трофей, а в просторечии – предмет вопиющего грабежа. Случай, правда, не уникальный – вспомните врата новгородского храма святой Софии, похищенные из разграбленной и уничтоженной Сигтуны…
(обратно)455
В частности, во время Первого крестового похода 1096–1109 гг., (вождями которого были Готфрид Бульонский, граф Раймунд Тулузский и другие) крестоносцы, после недолгой осады взяв 19 июня 1097 г. принадлежавший тогда туркам город Никею, передали ее византийцам.
(обратно)456
Оказавший кстати, огромное влияние на Константина Эдуардовича Циолковского, с одной стороны, и на американского фантаста Филипа Жозе Фармера, который написал свой «Мир Реки» под впечатлением федоровских идей, с другой.
(обратно)457
По его выражению, «отцов». Блистательный и велемудрый философ и публицист Борис Парамонов несомненно усмотрел бы здесь гомосексуальную ориентацию, хотя скорее всего – это просто традиционная метафора. Не случайно существует устойчивое выражение: «За грехи отцов», – не поминающее при этом матерей, хотя вряд ли все последние были совсем уж без греха.
(обратно)
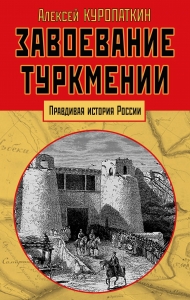

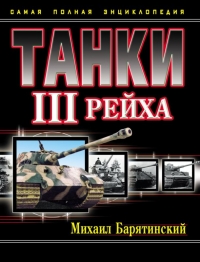
Комментарии к книге «Когда врут учебники истории. Прошлое, которого не было », Андрей Дмитриевич Балабуха
Всего 0 комментариев