Людвиг Витгенштейн Голубая и коричневая книги Предварительные материалы к «Философским исследованиям»
«Голубая и коричневая книги» в России
I. О «Голубой и коричневой книгах»[1].
Оценивая философию позднего Витгенштейна, воспользуемся мнением известного американского философа Р. Рорти:
Академическая философия в наши дни находится в таком же отношении к Витгенштейну, как интеллектуальная жизнь в Германии в первые десятилетия прошлого века находилась к Канту. Кант изменил всё, но никто не был уверен, что именно он сказал; никто не был уверен, что в Канте принимать всерьёз, а что игнорировать. В те дни в Германии мыслить серьёзно значило либо отсортировывать и выбирать из Канта, либо найти некоторый способ повернуться к нему спиной.
В аналогичной ситуации философы находятся теперь, спустя двадцать лет после публикации Философских исследований[2].
Столь высокая оценка — не просто дань уважения философу, который был и остаётся ведущим представителем современной аналитической философии. Философы-аналитики до сих пор по многим вопросам делятся на витгенштейнианцев, т. е. тех, кто разрабатывает оригинальные идеи в духе позднего Витгенштейна, и витгенштейноведов, т. е. тех, кто пытается реконструировать его аутентичную позицию.
Однако и у тех, и у других значительные затруднения в интерпретации вызывает афористичный стиль Философских исследований, главного произведения позднего Л. Витгенштейна[3]. В этой ситуации важное значение имеют те материалы, которые близко примыкают к данной работе и позволяют уточнить её основные идеи. Здесь имеются в виду многочисленные заметки и лекции Витгенштейна, относящиеся к 30–40 гг прошлого века, которые активно публиковались, начиная с 50-х годов, учениками Витгенштейна и исследователями его творчества. Некоторые из этих заметок, представляющие выборки из более обширного рукописного наследия Витгенштейна, были переведены и на русский язык[4]. Помимо заметок и лекций издательствами университета Оксфорда и университета Бергена недавно стала распространяться электронная версия Nachlass — объемного рукописного наследия Витгенштейна, где представлены подготовительные материалы к Философским исследованиям. Nachlass представляет собой корпус неопубликованных работ Витгенштейна (около 20 тыс. страниц), составленный на основе материалов из архивов философа в Австрийской национальной библиотеке и Бодлеанской библиотеке Оксфорда, архива Б. Рассела в Гамильтоне (Онтарио) и каталога фон Вригта в библиотеке Тринити колледжа в Кембридже.
Тем не менее, среди всех этих многочисленных материалов самое важное место безусловно занимают Голубая и коричневая книги. Укажем в пользу этого утверждения несколько причин. Во-первых, помимо Логико-философского трактата[5] и небольшой статьи о логической форме Голубая и коричневая книги — это единственный текст, обращение которого в среде философов, как следует из предисловия Раша Риса, санкционировал сам Витгенштейн. Эту причину можно считать несущественной, однако важность её значительно повышается, если вспомнить, какие затруднения у Витгенштейна вызывала необходимость подготовить какой-либо печатный текст, в том числе и Философские исследования. А в виде Голубой и коричневой книг мы имеем, хоть и несовершенный с точки зрения автора, но всё-таки им же скомпонованный и отредактированный текст, который Витгенштейн рекомендовал для ознакомления со своими взглядами.
Во-вторых, тематическое многообразие Голубой и коричневой книг, где в рамках обсуждения одной и той же проблемы рассматриваются математические и психологические примеры, указывает на то, что сам характер этих примеров условен, и ничто не говорит о сознательном выделении в рамках общей позиции разноплановых разделов, таких как философия математики или философия психологии. Это немаловажно, если учесть, что публикаторы наследия Витгенштейна пытаются тематически организовать его тексты, хотя и не всегда удачно. Однако Голубая и коричневая книги показывают, что такой подход и не может быть удачным, поскольку философию позднего Витгенштейна скорее характеризует общий подход, реализованный в разнородных примерах.
В-третьих, Голубая и коричневая книги позволяют проследить эволюцию философских взглядов Витгенштейна: от Логико-философского трактата, где язык рассматривается с точки зрения внеличностной репрезентации мира, к многообразию языковых игр, укоренённых в формах жизни, где материальная деятельность субъекта является интегральной частью употребления языка. Максимальная степень обобщения в Логико-философском трактате, где уже ничего нельзя сказать помимо того, что может быть сказано ясно, сменяется максимальной степенью экземплификации, где можно сказать всё, пусть и совершенно не ясно. Главное сказать.
И, наконец, в-четвёртых. Публикаторы Голубой и коричневой книг характеризуют их как подготовительные материалы к Философским исследованиям. Но, по большому счёту, всё, что написал Витгенштейн в 30–40 гг. прошлого века, можно считать подготовительными материалами к этой работе. Однако это нельзя вполне отнести к Голубой и коричневой книгам, особенно если судить по текстам самого Витгенштейна, опубликованным в последнее время. Под подготовительными материалами к работам Витгенштейна прежде всего имеют в виду Дневники 1914–1916 гг.[6] которые рассматриваются в качестве таковых к Логико-философскому трактату. Однако по структуре они сильно отличаются от Голубой и коричневой книг. Готовя к публикации Трактат, Витгенштейн просто осуществил выборку заметок из Дневников. И в этом отношении Дневники можно рассматривать как расширенную версию Трактата. Но с Голубой и коричневой книгами дело обстоит совершенно иначе. Они не являются источником для подобной выборки; скорее это можно сказать о Nachlass. Главное достоинство Голубой и коричневой книг в том, что они демонстрируют изменение взгляда на философию как на исследование sui generis. В отличие от Философских исследований, где философии всё-таки отводится роль самостоятельного исследования проблемы значимости языковых выражений с точки зрения преодоления того образа языка, который берёт своё начало с Августина, и создания нового образа, Голубая и коричневая книги имеют совершенно иную задачу. Эта работа посвящена одному: индивидуальность примеров должна обосновывать общность термина, которое раскрывается случаями его употребления. И в этом весь поздний Витгенштейн: термин не имеет общего значения, значение можно уяснить только из частных примеров, согласующихся с их употреблением лингвистическим сообществом. Определяющую роль играет нюанс, и только нюанс служит основным подтверждающим примером. Нюанс и только нюанс. Именно в этом новация Витгенштейна. Но противопоставить в философии поискам общего поиски индивидуального — это героизм, и Голубая и коричневая книги являются главным выражением этого героизма. Найти частное и противопоставить его общему — задача не из лёгких, но Витгенштейну это удаётся. Анализ индивидуального языка в Голубой книге и языковые игры в Коричневой книге суть блестящие этому примеры.
Крайне странно, однако, что у человека, который претендовал на изменение образа философии, в Голубой и коричневой книгах нельзя найти, как он сам понимал философию. Разве что можно сослаться на его мнение, что она представляет собой семейство исследований, которое с большой долей условности может наследовать такую деятельность. Но приведём здесь цитату из его лекций, относящихся к этому же периоду — эти лекции Витгенштейн читал в промежутках между диктовками Голубой книги, — она вполне характеризует общую установку относительно философии, представленную выше в четвёртом пункте:
Мнение Шопенгауэра, что философия есть организм и что книга по философии с начала и до конца есть своего рода противоречие, содержит долю истины. Одно из затруднений с философией заключается в том, что нам недостаёт сводной точки зрения. Мы встречаемся с затруднением того рода, которое бывает с географией страны, карты которой у нас нет или же её карта фрагментарна. Страна, о которой мы говорим, — это язык, а география — его грамматика. Мы вполне можем прогуливаться по этой стране, но когда нас заставляют сделать карту, у нас не получается. Карта будет демонстрировать различные дороги, пересекающие страну, любую из которых, хотя и не две сразу, мы можем проследить, так же как в философии мы должны рассматривать проблемы одну за другой, хотя, фактически, каждая проблема ведёт к многообразию других. Мы должны выжидать, пока вернёмся к исходной точке, до того, как сможем перейти к другому разделу, т. е. до того, как сможем подробно обсудить проблему или перейти к другой. В философии проблемы не столь просты, чтобы нам было достаточно сказать: «Составим приблизительное представление», ибо нам не известна эта страна, за исключением знания связей между дорогами[7].
Найти связь между дорогами — это и есть главная задача Голубой и коричневой книг.
Валерий Суровцев.II. О супе, странниках и прочих соблазнах.
Несмотря на то, что формально перевод Голубой и коричневой книг, представленный в этом издании, в России не первый, на деле отечественный читатель познакомится с этими произведениями впервые. В 1991 году небольшие фрагменты Голубой и коричневой книг были опубликованы А.Ф. Грязновым[8]. Несмотря на то, что подборка была репрезентативной, в полной мере отразить суть текстов Витгенштейна она, по понятным причинам, не могла. В 1999 году Голубая и коричневая книги были изданы целиком в переводе В.П. Руднева[9]. Последствия были неоднозначны: новички, возжелавшие познакомиться с философией Витгенштейна, пришли к выводу, что либо Витгенштейн косноязычен и чуть ли не глуп, либо непроходимыми глупцами являются они сами. Специалисты разделились на два лагеря: не читавшие перевод похвалили его, прочитавшие выразили недоумение[10]. И действительно, сравнение текста В.П. Руднева с оригиналом приводит порою к удивительным результатам:
Перевод В.П. Руднева.
Если в некотором языке слово «но» означает то, что в английском языке означает слово «не», то ясно, что нам не приходит в голову сравнивать значения этих двух слов путем сравнения тех ощущений, которые они создают. Спросите себя, что это будут за значения, которые мы обнаружим в чувствах, вызываемых этими значениями у разных людей в разных обстоятельствах[11].
Оригинал.
If in some language the word «but» meant what «not» means in English, it is clear that we should not compare the meaning of these two words by comparing the sensations which they produce. Ask yourself what means we have of finding out the feelings which they produce in different people and on different occasions[12].
Наш перевод.
Если в некотором языке слово «но» подразумевало бы то, что в английском языке означает слово «не», ясно, что мы не должны сравнивать значения этих двух слов, сравнивая те ощущения, которые они вызывают. Спросите себя, какими средствами мы располагаем для того, чтобы выявить ощущения, которые вызывают эти слова в различных людях и при различных обстоятельствах.
Подобные ляпсусы встречаются практически на каждом развороте. Некоторые из них меняют смысл Витгенштейна с точностью до наоборот. Есть в переводе В.П. Руднева и совсем смешные случаи. Например, такой:
Перевод В.П. Руднева.
Если я говорю: «У этого супа своеобразный запах: примерно такой суп мы ели в детстве», слово «своеобразный» может использоваться просто как интродукция к сравнению, которое за ним следует, как если бы я сказал: «Я скажу вам, как этот суп пахнет…». Если, с другой стороны, я говорю: «У этого супа своеобразный запах!» или «У него крайне своеобразный запах», то «своеобразный» здесь означает выражение типа «необычный», не такой, как всегда, «поразительный»[13].
Оригинал.
If I say: «This soap has a peculiar smell: it is the kind we used as children», the word «peculiar» may be used merely as an introduction to the comparison which follows it, as though I said: «Til tell you what this soap smells like:…» If, on the other hand, I say: «This soap has a peculiar smell!» or «It has a most peculiar smell», «peculiar» here stands for some such expression as «out of the ordinary», «uncommon», «striking»[14].
Наш перевод.
Если я говорю: «У этого мыла своеобразный запах, похожий на запах мыла, которым мы пользовались в детстве», слово «своеобразный» может использоваться просто как введение к следующему за ним сравнению, как если бы я сказал: «Я скажу вам, на что похож запах этого мыла:…». Если, с другой стороны, я говорю: «У этого мыла своеобразный запах!» или «У него крайне своеобразный запах!», то «своеобразный» означает здесь выражение типа «неординарный», «необычный», «поразительный».
Еще один пример из Голубой книги, который можно не глядя занести в топ-лист курьезнейших ляпов в переводческой практике: после того, как одно словосочетание было переведено неправильно и смысл стал затуманиваться, В.П. Руднев сочинил целую поэму:
Перевод В.П Руднева.
Мы можем сказать, что Августин думает о процессе измерения длины: скажем, расстояние между остановками путешествующего странника, который проходит мимо нас и в лице которого мы можем видеть перед собой лишь крошечный кусочек времени. Разрешение этой загадки состоит в сравнении того, что мы подразумеваем под «измерением» (грамматика слова «измерение»), когда применяем его к расстоянию путешествующего странника, с грамматикой этого слова, применённого ко времени[15].
Оригинал.
Augustine, we might say, thinks of the process of measuring a length: say, the distance between two marks on a travelling band which passes us, and of which we see only a tiny bit (the present) in front of us. Solving this puzzle will consist in comparing what we mean by «measurement» (the grammar of the word «measurement») when applied to a distance on a travelling band with the grammar of that word when applied to time[16].
Наш перевод.
Мы можем сказать, что Августин размышляет о процессе измерения длины: скажем, о расстоянии между двумя отметками на ленточном транспортёре, лента которого движется перед нами, и мы можем видеть только маленький её кусочек (настоящее время). Решение этой головоломки будет заключаться в сравнении того, что мы подразумеваем под «измерением» (грамматика слова «измерение»), применённого к расстоянию на ленточном транспортёре, с грамматикой этого слова, применённого ко времени.
Любопытно заметить, что в случае с мылом, превратившимся в суп, текст Витгенштейна сохраняет свой смысл, и подобную переводческую тактику можно рассматривать как своеобразную постмодернистскую игру. В «путешествующем страннике», без сомнения, тоже есть свой сокровенный смысл: вполне вероятно, что какой-нибудь из мистически настроенных русских философов напишет статью «Ангел Силезий и Людвиг Витгенштейн. „Херувимский странник“ и „Голубая книга“», и она будет исполнена смысла. Но все-таки корректнее было бы назвать такой перевод «Фантазиями в манере Витгенштейна» или, если вспомнить мысль Руднева о том, что «перевод должен все время напоминать, что перед читателем текст, написанный на иностранном языке»[17], «Голубой книг и Коричневой книг».
Итак, мы решили реабилитировать Витгенштейна и перевели Голубую и коричневую книги заново. Несмотря на то, что эти тексты не принадлежат к самым сложным произведениям Витгенштейна, мы столкнулись с рядом трудностей.
1. Английский язык Голубой и коричневой книг зачастую коряв и полон германизмов, в частности это относится к синтаксису, на что в своём предисловии указывает и редактор первого английского издания Раш Рис. К этому прибавляется неизбежная рыхлость студенческого конспекта: и Голубая, и Коричневая книги сформировались из записей студентов Витгенштейна.
Соответственно, перед переводчиками и редакторами русского текста (пользуясь случаем, выражаем глубокую благодарность редакторам Евгению Афонасину и Татьяне Пановой, их работе финальный вариант премногим обязан) стояла альтернатива: либо сохранить особенности оригинала и сделать русский текст нарочито корявым, либо сгладить шероховатости, ориентируясь на нормы русского литературного языка, и постараться сделать текст Витгенштейна в первую очередь внятным. Мы решили, что поскольку один корявый перевод уже имеется, то наступать ещё раз на те же грабли особого смысла нет. Таким образом, был выбран второй вариант, хотя, как увидят читатели, незначительные шероховатости всё же остались. Ещё одно замечание: в оригинальном тексте Витгенштейна содержится несколько тёмных мест, неясности в которых — в первую очередь результат чудовищного синтаксиса. В этих случаях мы помещаем рядом с переводом английский оригинал фразы целиком.
2. Голубая и коричневая книги свидетельствуют, что у Витгенштейна было много любимых словечек, которые он вставлял к месту и не к месту. Это относится, в первую очередь, к слову now, аналогу немецкого nun, соответствующему русскому «ну» (именно такой перевод предпочла в Философских исследованиях М.C. Козлова), «теперь» и чуть ли не «вот». Это словечко зачастую ничего не означает, а иногда и нарушает ход мысли Витгенштейна — поэтому в некоторых случаях мы предпочли его не переводить, а в других использовать его только в структурообразующих значениях «теперь» и «итак».
Другая стилистическая особенность английского текста Витгенштейна — чрезвычайно частое использование оборотов I’т inclined to (Я склонен), I’т tempted (Я испытываю соблазн) и других, им синонимичных. В английском языке эти выражения звучат вполне нормально, и, по-хорошему, переводить их следовало бы по-разному, вплоть до усечения, в зависимости от контекста. Однако, увидев их неумеренное использование Витгенштейном, мы испытали сильный соблазн заставить австрийца Витгенштейна быть по-английски все время «соблазненным» и «склоненным».
3. Что касается терминологии, то здесь читатель может обратить внимание на ряд бросающихся в глаза, а иногда и спорных моментов.
A) Самый очевидный и частый случай — это чехарда с английским «use», в переводе которого мы отдаем предпочтение русскому эквиваленту «употреблять», «употребление» вместо «использовать», «использование», несмотря на то, что подобное словоупотребление иногда выглядит нарочитым и даже безграмотным. Такой перевод кажется нам более правомерным, поскольку подчеркивает «языковую» коннотацию этого слова («словоупотребление», а не «словоиспользование»).
B) Слово experience также переводится нами двояко: как «опыт» и чаще как «переживание» или «переживания», что вполне оправданно, так как значение английского experience намного шире русского опыта.
C) Далее, проблематичным может показаться перевод английского proposition как «пропозиция». В Голубой и коричневой книге Витгенштейн использует слово proposition как эквивалент английского sentence или немецкого Satz — «предложение», а иногда употребляет эти два слова как синонимы. Однако при переводе здесь и далее используется прямое заимствование «пропозиция», поскольку в аналитической философии и зачастую у самого Витгенштейна под пропозицией понимается объективное содержание предложения[18].
D) Самым проблематичным может показаться перевод английского picture как «образ» или «изображение».
Аргумент в пользу такого перевода: такие варианты приемлемы, поскольку этот термин Витгенштейн использует не просто в смысле «картинка» (что имеет значение нарисованного изображения), а в смысле немецкого Bild, т. е. образ в широком смысле слова. Здесь может возникнуть смешение с английским image, последнее — это мысленный образ (ср. английское imaginary)[19].
Действительно, в ряде случаев Витгенштейн делает упор именно на противопоставлении картины как картинки или пиктограммы мысленному образу (даже если речь идет об «образе», «находящемся в голове», Витгенштейн пытается расщепить это понятие). Справедливости ради стоит сказать, что наиболее широким спектром значений в русском языке обладает слово «картина», но, к сожалению, его употребление очень ограничено.
Соответственно, возникает ситуация, когда: а) необходимо соблюсти единую терминологию; b) при этом слово «картинка» имеет слишком конкретное значение; с) слово «образ» имеет слишком широкую область значений; d) слово «картина» не всегда употребимо в нужных нам случаях. Мы остановились на слове «образ», хоть и признаем спорность этого варианта перевода. Так или иначе, контекст обычно проясняет суть, а слово image в оригинале встречается достаточно редко, а в переводе, как правило, оговаривается.
4. И, наконец, последнее наше вторжение в текст оригинала, о котором необходимо упомянуть. Для того чтобы текст усваивался лучше, большинство абзацев в Голубой книге и некоторые абзацы в Коричневой книге мы разделили отступами.
Владимир Иткин.Предисловие к первому английскому изданию
Витгенштейн диктовал «Голубую книгу» (хотя сам он её так не называл) группе кембриджских студентов в течение семестра 1933/1934 гг., а затем распечатал копии на ротаторе. «Коричневую книгу» он диктовал двум своим ученикам (Фрэнсису Скиннеру и Алис Эмброуз) в течение 1934–1935 гг. У Витгенштейна хранилось лишь три машинописных копии, сделанные с этих записей, — он показывал их только очень близким друзьям и ученикам. Однако люди, которые брали их на некоторое время, делали собственные копии, и таким образом тексты получили распространение. Если бы Витгенштейн дал название надиктованным им записям, то они могли бы получить заголовок «Философские заметки» или «Философские исследования». Но случилось так, что первая часть ходила в голубых обложках, а вторая — в коричневых. С тех пор их так и называли — «Голубая книга» и «Коричневая книга».
Позднее Витгенштейн послал копию «Голубой книги» лорду Расселу. Надпись на титульном листе гласила:
Дорогой Рассел,
Два года назад, или около того, я обещал послать Вам свою рукопись. То, что я посылаю Вам теперь, — это не та самая рукопись. Я всё ещё вожусь с ней, и Бог знает, опубликую ли я когда-нибудь её или что-нибудь в этом роде. Однако два года назад я прочёл в Кембридже несколько лекций и надиктовал некоторые заметки своим ученикам, с тем чтобы они могли хоть что-то унести с собой домой в руках, если не в головах. И я размножил эти заметки. Я только что закончил исправлять опечатки и другие ошибки в некоторых копиях, и мне пришла в голову мысль, не захотите ли Вы получить один экземпляр? Его я вам и посылаю. Я не настаиваю, чтобы Вы прочитали эти лекции; но если у Вас не найдётся занятия получше и если они доставят Вам хотя бы некоторое удовольствие, я правда буду очень рад. (Я думаю, их очень трудно понять, поскольку многие пункты в них только намечены. Ведь они предназначались лишь для тех, кто слушал эти лекции.) Поэтому я и говорю: если Вы их не прочитаете — в этом вовсе не будет ничего страшного.
Неизменно Ваш, Людвиг Витгенштейн.«Голубая книга» была тем, чем она была, — набором заметок. «Коричневая книга» отличалась от неё, и некоторое время Витгенштейн рассматривал её как набросок чего-то такого, что можно было бы опубликовать. Немецкую её версию он начинал исправлять несколько раз. Последняя правка была внесена в августе 1936 г. Он довёл её, с некоторыми незначительными изменениями и вставками, до начала обсуждения волевых действий (в настоящем издании с. 203). Затем написал размашистым росчерком «Dieser ganze „Versuch einer Umarbeitung“ vom (Anfang) bis hierher ist nichts wert» («Вся эта „попытка доработки“ с начала и до этого места ничего не стоит»). Именно в это время он начал работать над тем, что теперь нам известно (со значительными доработками) как первая часть «Философских исследований».
Я вообще сомневаюсь, что он опубликовал бы «Коричневую книгу» на английском языке. И любой, кто может прочитать её по-немецки, увидит почему. Его английский язык часто неуклюж и полон германизмов. Но мы оставили всё как есть, за исключением нескольких случаев, в которых смысл оказался искажен и исправления, таким образом, были очевидно необходимы. То, что мы печатаем здесь, — это заметки, которые Витгенштейн надиктовал своим ученикам, набросок для личного пользования и ничего более.
Для Витгенштейна философия была методом исследования, но его концепция метода изменялась. Мы можем видеть это на примере того, как он использует, например, понятие «языковые игры». Некогда он ввёл их, чтобы избавиться от идеи необходимой формы языка. По крайней мере, это было одно из значений, которое он им придавал, причём одно из самых ранних. Часто полезно придумывать различные языковые игры. Поначалу Витгенштейн иногда писал «различные формы языка», как если бы это было одно и то же; впрочем, в более поздних версиях этот термин в некоторых случаях подвергался исправлению. В «Голубой книге» он иногда говорит об изобретении различных языковых игр, а иногда об изобретении различных способов обозначения, как если бы одно могло сводиться к другому. И кажется, что он не проводил ясного различия между способностью говорить и пониманием способа обозначения.
Например, Витгенштейн говорит, что под достижением понимания люди подразумевают способность объяснить значения слов. Как если бы «понимание» и «объяснение» каким-то образом были коррелятивны. Но в «Коричневой книге» он подчеркивает, что обучение языковой игре в этом отношении является чем-то первичным. И что нужно не объяснение, но тренировка — сравнимая с дрессировкой животного. Это согласуется с тем, что он подчеркивает в «Исследованиях»: способность говорить и понимать сказанное (знать, что оно означает) не подразумевает, что вы можете высказать его значение; не является это и тем, чему вы научаетесь. В § 32 «Исследований» он также говорит, что «Августин описывает усвоение человеческого языка так, словно ребёнок прибыл в чужую страну и не понимает языка этой страны; т. е. как если бы он уже владел каким-нибудь языком, только не этим». Вы могли бы увидеть, знает ли ребёнок французский язык, спрашивая его, что означают те или иные выражения. Однако, выясняя, может ли ребёнок говорить, вы спрашиваете не об этом. И научаясь говорить, он усваивает не это.
Когда в «Коричневой книге» говорится о различных языковых играх как о «коммуникативных системах» (Systeme menschlicher Verständigung, системах человеческого взаимопонимания), они не понимаются как различные способы обозначения. Так, вводятся понятие понимания и понятие соотношения понимания и языка, которые в «Голубой книге» вообще не выходят на передний план. В «Коричневой книге» Витгенштейн настаивает, например, на том, что «понимание» не является чем-то единым; оно столь же многообразно, сколь многообразны языковые игры. По этой причине утверждается, что, когда мы придумываем различные языковые игры, мы не придумываем части или возможные части какой-либо общей языковой системы.
«Голубая книга» в этом отношении менее ясна. На с. 45 Витгенштейн говорит, что «изучение языковых игр — это изучение примитивных форм языка» или примитивных языков. Но затем он продолжает: «Если мы хотим изучать проблемы истины и лжи, согласованности и несогласованности пропозиций с действительностью, проблемы природы утверждения, предположения и вопроса, нам полезно будет посмотреть на примитивные формы языка, в которых эти формы мышления проявляются без сбивающих с толку, в высшей степени усложнённых процессов мышления, лежащих в их основании. Когда мы смотрим на такие простые формы языка, исчезает ментальный туман, который, по-видимому, обволакивает обычное словоупотребление. Мы видим действия и реакции чистыми и прозрачными. С другой стороны, в этих простых процессах мы узнаём языковые формы, не оторванные от наших более усложнённых форм. Мы видим, что можем построить усложнённые формы из примитивных форм посредством постепенного добавления новых форм».
Это выглядит почти так же, как если бы мы пытались построить нечто подобное анализу нашего обыденного языка. Как если бы мы хотели обнаружить в нашем языке нечто такое, что происходит в нём, когда мы говорим, но что мы не можем увидеть, пока не будет применен этот метод проникновения сквозь туман, который его обволакивает. И как будто «природа утверждения, предположения и вопроса» была здесь той же самой, и мы лишь нашли способ сделать её прозрачной. Тогда как «Коричневая книга» это отвергает. Именно поэтому в «Коричневой книге» (с. 122) Витгенштейн настаивает на том, что «мы рассматриваем языковые игры, которые мы описываем не как неполные части языка, но как языки полноценные». Так, например, некоторые грамматические функции в одном языке могут вообще не иметь никакого аналога в другом языке. И «согласованность или несогласованность с реальностью» может означать разное в различных языках, так что их изучение в одном языке, возможно, покажет не очень многое из того, чем они являются в другом языке. Именно поэтому он спрашивает в «Коричневой книге», означает ли слово «кирпич» в примитивном языке то же самое, что он означает в нашем; это согласуется с его уверенностью в том, что более простой язык не является неполной формой более сложного языка. Обсуждение того, имеем ли мы здесь дело с неполным предложением, является важной частью его описания природы различных языковых игр. Но в «Голубой книге» нет даже предвосхищения этого.
В одной из записных книжек Витгенштейна есть замечание о языковых играх, относящееся вероятно к началу 1934 г. Я подозреваю, что оно может быть датировано более поздним временем, нежели процитированная мной выше ремарка из «Голубой книги» (с. 45 настоящего издания). В любом случае, оно иное. «Wenn ich bestimmte einfache Sprachspiele beschreibe, so geschieht es nicht, um mit ihnen nach und nach die Vorgänge der ausgebildeten Sprache — oder des Denkens — aufzubauen, was nur zu Ungerechtigkeiten führt (Nicod und Russell), — sondern ich stelle die Spiele als solche hin, und lasse sie ihre aufklärende Wirkung auf die besonderen Probleme ausstrahlen». («Когда я описываю простые языковые игры, то делаю это не для того, чтобы постепенно на их основе строить процессы, происходящие в развитом языке — или мышлении, — что привело бы только к неверным выводам (Нико и Рассел). Я просто формулирую игры как таковые и позволяю им оказывать проясняющее воздействие на отдельные проблемы».)
Я думаю, это было бы хорошим описанием метода в первой части «Коричневой книги». Но здесь также указывается и на значительное различие между «Коричневой книгой» и «Исследованиями».
В «Коричневой книге» описание различных языковых игр не связано непосредственно с обсуждением отдельных философских проблем, хотя и предназначено для того, чтобы пролить на них свет. Описание языковых игр проливает свет и на различные аспекты языка, в особенности на те, которые мы часто просто не замечаем в силу тенденциозности, которая ярче всего проявляется в философских проблемах. Это рассуждение, таким образом, показывает, где возникают затруднения, которые рождают эти проблемы.
Например, когда Витгенштейн говорит о слове «мочь» и о связи между ним и «ви́дением того, что является общим», он поднимает вопрос о том, чему вы обучаетесь, когда изучаете язык, или вопрос о том, что вы узнаёте, когда вы узнаёте значение чего-нибудь. Но также он задаётся и вопросом о том, как может быть развит язык — «Является ли это всё ещё чем-то таким, что имеет смысл? Вы сейчас всё ещё говорите, или это — тарабарщина?». И это может привести к вопросу: «Что может быть высказано?», или опять же: «Откуда мы знаем, что перед нами пропозиция», или «Что такое пропозиция?», или «Что такое язык?». Метод, с помощью которого он описывает языковые игры, нацелен на то, чтобы показать: не следует увлекаться постановкой таких вопросов — задающий их заблуждается. Но неприятность заключается в том, что остаётся непонятным, почему люди постоянно эти вопросы задают. И в этом отношении «Исследования» имеют иной характер.
В «Исследованиях» идея о том, что языковые игры не являются этапами в описании более сложного языка, отражена не больше, чем в «Коричневой книге»; скорее, даже меньше, если вообще — хоть как-то. В то же время языковые игры представляют собой этапы на пути к «важному вопросу» о том, что такое язык (§ 65).
Витгенштейн вводит их (и в «Исследованиях», и в «Коричневой книге»), чтобы пролить свет на вопрос об отношении слов к тому, что они обозначают. Но в «Исследованиях» его интересует «философская концепция значения», которую мы находим у Августина, и он показывает, что эта концепция является выражением стремления, которое наиболее явно проявляется в теории логически собственных имён, согласно которой единственно реальными именами являются указательные местоимения «это» и «то». Он называет это «стремлением сублимировать логику нашего языка» (die Logik unserer Sprache zu sublimieren) (§ 38) — отчасти потому, что в сравнении с логически собственными именами «всё остальное, что мы называем „именем“, стало быть, является таковым лишь в неточном, приблизительном смысле». Именно это стремление ведёт людей к тому, чтобы говорить о первичной природе языка или о логически правильной грамматике. Но почему же люди стремятся к этому? Простого ответа нет, но тут Витгенштейн начинает отвечать на этот вопрос, переходя к обсуждению понятий «простое» и «сложное» и к обсуждению идеи логического анализа. (В «Коричневой книге» он не делает этого вообще; и если желание пролить свет на функционирование языка было бы его единственной целью, то в этом не было бы потребности и здесь.)
Вся идея логического анализа языка или логического анализа пропозиций является сомнительной и запутанной. И в изложении своих языковых игр Витгенштейн вообще не пытался дать какой-либо анализ вообще. Если мы называем их «более примитивными» или «более простыми» языками, это не означает, что они обнаруживают нечто подобное элементам, которые должен иметь более сложный язык. (Ср. «Исследования», § 64.) Они являются различными языками, а не элементами или аспектами единого «Языка». Но тогда мы можем спросить, что же в них заставляет нас говорить, что все они являются языками? Что превращает нечто в язык? И за всем обсуждением вплоть до этого места стоит тот самый «важный вопрос» (§ 65) о природе языка или природе пропозиции.
Мы могли бы даже сказать, что всё обсуждение до этого места в «Исследованиях» было попыткой объяснения смысла рассмотрения философских проблем посредством соотнесения их с языковыми играми. Или, возможно, лучше так: это была попытка показать, как использование языковых игр может прояснить, что такое философская проблема.
В то же время в «Коричневой книге» Витгенштейн переходит от примеров различных видов именования к обсуждению различных способов «сравнения с реальностью». Вне сомнения, это всё ещё обсуждение отношений слов к тому, что они обозначают. Но здесь он не пытается выяснить, какое стремление стоит за тем способом смотреть на слова, который приводит к затруднениям в философии.
В «Исследованиях» он переходит затем к обсуждению отношений логики и языка, однако в «Коричневой книге» этого не делает, хоть это и близко связано с тем, что он там говорит. Особенно это относится к тому, что он говорит о глаголе «мочь» в связи с идеей о том, что вообще может быть высказано. («Когда мы говорим, что это всё ещё язык? Когда мы говорим, что это всё ещё пропозиция?») Ибо здесь возникает искушение думать об исчислении и о том, что может быть высказано посредством исчисления. Но Витгенштейн назвал бы это неправильным пониманием как правил языка, так и способов его употребления. Когда мы говорим в обычной ситуации, мы не употребляем ни точно определимых понятий, ни строгих правил. И понятность здесь есть нечто отличное от понятности в исчислении.
Ситуация эта возникла потому, что люди мыслили «то, что может быть сказано» как «то, что разрешено в исчислении» («Ибо какой другой смысл здесь имеет слово „разрешено“?») — по этой причине предполагалось, что логика управляет единством языка: тем, что принадлежит языку, и тем, что ему не принадлежит; тем, что является понятным, и тем, что — нет; тем, что является пропозицией, и тем, что — нет. В «Коричневой книге» Витгенштейн настаивает на том, что язык не имеет ни этого вида единства, ни этого вида понятности. Но в действительности он не обсуждает, почему люди считают, что это так.
Возможно, вы считаете, что он сделал это ранее в «Голубой книге», но я так не думаю. Я не думаю, что он ставит там вопрос о логике и языке, который определённо присутствует в «Коричневой книге», даже если там не вполне проясняется, к какого рода затруднению он приводит. На с. 55 «Голубой книги» он говорит, что «мы не используем язык согласно строгим правилам; и нас не обучили ему посредством строгих правил. Однако мы в наших рассуждениях постоянно сравниваем язык с исчислением, развивающимся согласно строгим правилам». Когда Витгенштейн спрашивает (на с. 56), почему мы это делаем, он отвечает просто: «Ответ заключается в том, что загадка, которую мы пытаемся разрешить, всегда вытекает как раз из этой установки по отношению к языку». Остаётся только гадать, является ли это ответом. Его точка зрения, как он формулирует её, например, на с. 57, заключается в том, что «человек, озадаченный в философском смысле, видит закон в том, как используется слово, и, пытаясь последовательно применять этот закон, приходит к <…> парадоксальным результатам». На первый взгляд это похоже на то, что он скажет позже в «Исследованиях» о стремлении сублимировать логику нашего языка. Но здесь, в «Голубой книге», он не выясняет, что такого есть в употреблении языка или в понимании языка, что заставляет людей мыслить слова таким образом. Предположим, мы решим, что это происходит из-за того, что философы смотрят на язык метафизически. Хорошо, но тогда спросим себя, что заставляет их это делать; Витгенштейн отвечает в «Голубой книге», что это происходит из-за стремления к обобщению, а также потому, что «у философов постоянно перед глазами — метод науки, и они испытывают непреодолимый соблазн спрашивать и отвечать на вопросы так, как это делает наука» (с. 47). Другими словами, Витгенштейн не находит источника метафизики в чём-то специально связанном с языком. Это очень важный пункт, и он означает, что тогда ему ещё не всё было ясно относительно характера философских затруднений, по сравнению с тем временем, когда он писал «Исследования». Но в любом случае, философов (когда они озадачены проблемами языка или понимания) приводит к мысли об идеальном языке или логически правильной грамматике не стремление (или — не столько стремление) спрашивать и отвечать на вопросы тем способом, каким это делает наука. Это происходит по-другому.
В «Голубой книге» Витгенштейн ясно говорит о том, что мы не пользуемся языком в соответствии со строгим правилами и не употребляем слова в соответствии с законами, подобными тем, о которых говорит наука. Но он не вполне проясняет свою позицию относительно понятий «знание значения» или «понимание»; и это означает, что ему всё ещё многое не ясно и в понятии «следование правилу». И по этой причине он не вполне осознаёт ещё ту путаницу, которая возникает, когда люди говорят, что знание языка — это знание того, что может быть высказано.
«На чём базируется сама возможность того, что слова имеют значение?» То есть: что стоит за идеей значения, которую мы находим в теории логически собственных имён и логического анализа? И это аналогично вопросу о том, чтó вы усваиваете, когда усваиваете язык; или усвоением чего является язык. В «Голубой книге» Витгенштейн однозначно даёт понять, что слова имеют значения, которые мы им придаём, и что мысли об исследовании их реальных значений приводят к путанице. Но он ещё не видел ясно различия между усвоением языковой игры и усвоением способа обозначения. И по этой причине он не мог вполне прояснить характер той путаницы, против которой он выступал.
Другими словами, в «Голубой книге» Витгенштейн ещё не видел ясно, в чём заключается вопрос о требованиях языка или понятности языка. Вот почему он может сказать на с. 59, что «с обыденном языком всё в порядке» («ordinary language is all right»). Что подобно высказыванию «это язык, всё в порядке» («it is language, all right»). И это, по-видимому, подразумевает, что он удовлетворяет требованиям. Но когда Витгенштейн говорит нечто подобное, он сам путается в том, что позже прояснил. Мне кажется, что если кто-то, подобно Витгенштейну, говорит, будто бы «создание идеальных языков» и было тем, что он делал, когда изобретал «языковые игры», то это затемняет суть идеальных языков (затемняет то, что пытались сделать те, кто говорил о них). Позже он никогда не высказывался таким образом.
Быть может, та же самая неясность, или нечто ей родственное, заставляет Витгенштейна не раз говорить в «Голубой книге» об «исчислении языка» (например, с. 75 или 104) — хотя он также говорил, что только в очень редких случаях мы используем язык как исчисление. Если вы не проводите различия между языком и способом обозначения, вы едва ли сможете увидеть какую-то разницу между следованием языку и следованием способу обозначения. Но в этом случае вам будет совершенно неясны затруднения, возникающие в связи с отношением между языком и логикой.
Эти затруднения становятся намного более ясными в «Коричневой книге», хотя Витгенштейн явно на них и не указывает. Мы могли бы сказать, что они становятся важнейшей темой в «Исследованиях». Ибо эта тема лежит в основании обсуждения «видения чего-то как чего-то», а также в более ранних разделах. И снова мы находим, что Витгенштейн в «Исследованиях» встраивает эти рассуждения в объяснения философских затруднений тем способом, который он не использовал в «Коричневой книге».
Одно время Витгенштейн интересовался вопросом о том, что значит «опознать нечто как пропозицию» (даже если это нечто может быть совершенно незнакомо) или опознать нечто как язык (например, признать, что здесь нечто написано), независимо от вашего понимания, что именно сказано. Вторая часть «Коричневой книги» движется в этом направлении. И это показывает, что, когда такие «опознания» надлежащим образом увидены, они не должны вести к тому роду вопросов, которые задают философы. Аналогии, которые он проводит между, например, пониманием предложения и пониманием музыкальной темы (или между желанием сказать, что это предложение нечто означает, и желанием сказать, что этот цветовой образец говорит нечто), ясно показывают, что дело обстоит не так, как если бы вы опознали какую-то общую черту (возможно, постижимости) и что вы должны быть способны сообщить нам, что она собой представляет. В этом не больше смысла, чем спросить меня, о чем говорит цветовой образец.
Но почему в этой связи люди хотели говорить, например, о «металогике»? «Коричневая книга» объясняет кое-что, но намекает на большее. Кое-что здесь есть о том, как мы пользуемся языком, и о связи языка и мышления (силе доказательства и силе выражений вообще), которая заставляет всё выглядеть так, как если бы опознание языка как языка совершенно отличалось от опознания качества хода в игре. (Как если бы понимание было чем-то находящимся вне знаков; и как если бы для языка требовалось нечто такое, что не проявляется в системе самих знаков.) И в последних разделах «Исследований» он пытается это описать.
Витгенштейн говорил о «действии со знаками». И кто-нибудь мог бы сказать: «Вы заставляете смотреть на это точно так же, как на действие механизма; как на любой другой механизм. И если это всё, что есть (т. е. только механизм), тогда это — не язык». На это нет краткого ответа. Но это — важный вопрос. Таким же является вопрос о том, что мы подразумеваем, например, под «мышлением знаками». Что это такое? Является ли действительно полезным указание на то, что карандашом делаются отметки на бумаге?
На многое из этого можно было бы ответить, указывая, что действия говорить и писать относятся к типам общения с другими людьми. Именно здесь знаки обретают свою жизнь, именно поэтому язык — это не просто механизм.
Но возражение заключается в том, что некто мог бы корректно использовать знаки в «игре» с другими людьми, даже если бы он был «слеп к значению [meaning-blind]». Витгенштейн использовал это выражение по аналогии с выражениями «страдающий дальтонизмом [colour-blind]» и «лишённый музыкального слуха [tone-deaf]». Если я говорю вам неоднозначное слово, например «board», я могу спросить вас, какое значение вы мыслите, когда его слышите, и вы можете сказать, что мыслите комитет, подобный Угольному управлению [Coal Board], или, возможно, вы думаете всего лишь о доске. Разве мы не можем представить себе человека, который не понял бы этот вопрос? Вы только что произнесли слово, вроде этого, но для него оно ничего не значит. И всё-таки он мог бы «реагировать словами» на предложения и другие выражения, с которыми он сталкивается, а также на ситуации, и реагировать корректно. Или мы не можем это себе представить? Я полагаю, что Витгенштейн не был уверен в этом. Если человек «слеп к значению», разве имеется какая-либо разница в том, как он употребляет язык? Разве постижение значения не выпадает за пределы использования языка?
В последнем вопросе есть нечто ошибочное, какая-то погрешность заключена в самой его постановке. Но, по-видимому, он показывает, что в нашем понимании того, как используется язык, остаются какие-то неясности.
Или, опять же, если мы просто признаём, что знаки связаны с общением между людьми, то что мы скажем, например, о роли «озарения» в математике и обнаружении доказательств?
Пока остаются подобные затруднения, люди всё ещё будут полагать, что должно быть нечто подобное интерпретации. Они всё ещё будут думать, что если это — язык, то он должен обозначать нечто для меня. И так далее. И по этой причине (чтобы попытаться понять, что представляют собой эти затруднения) Витгенштейну было необходимо вникнуть в целостную сложную проблему «видения чего-то как чего-то» так, как он это делал.
И здесь метод должен быть несколько иным. С помощью языковых игр г этим было не справиться.
Раш Рис. Март, 1958 г.Примечание ко второму изданию.
В тексте «Голубой книги», принадлежащем м-ру П. Сраффе, было обнаружено несколько разночтений по сравнению с первым изданием. За исключением изменений, внесенных в первом издании на с. 1 и 17, они отклонены нами, так как не меняют смысла и по большей части имеют отношение лишь к пунктуации или грамматике.
Текст во втором издании не изменен, добавлен только указатель.
1969 г.Голубая книга
Что такое значение слова?
Подступимся к этому вопросу, спрашивая прежде, что такое объяснение значения слова; на что похоже объяснение слова?
Помощь, которую оказывает нам этот вопрос, аналогична тому, как вопрос «Как мы измеряем длину?» помогает нам понять проблему «Что такое длина?».
Вопросы «Что такое длина?», «Что такое значение?», «Что такое число один?» и т. п. вызывают у нас ментальный спазм. Мы чувствуем, что в ответ на них мы не можем указать на нечто, и, однако, мы должны указать на что-то. (Мы сталкиваемся с одним из важных источников философской путаницы: существительное заставляет нас искать вещь, которая ему соответствует.)
Вопрос «Что такое объяснение значения?», если он задан первым, имеет два преимущества. В некотором смысле вы заставляете вопрос «Что такое значение?» спуститься с небес на землю. Ибо, разумеется, чтобы понять значение «значения», вы должны также понимать значение «объяснения значения». Грубо говоря: «Давайте спросим, чем является объяснение значения, тогда то, что объясняется, и будет значением». Изучение грамматики выражения «объяснение значения» научит вас чему-то относительно грамматики слова «значение» и излечит от попыток найти в своём окружении объект, который вы можете назвать «значением».
То, что обычно называют «объяснением значения слова», можно, весьма приблизительно, разделить на вербальные и остенсивные[20] определения. Позже будет видно, в каком смысле это разделение является только лишь приблизительным и предварительным (и то, что это именно так, крайне важно). Вербальное определение, поскольку оно отсылает от одного вербального выражения к другому, в некотором смысле не ведёт дальше. Однако с остенсивным определением мы, по-видимому, делаем гораздо более реальный шаг в направлении освоения значения.
Здесь мы сталкиваемся с затруднением, ведь для многих слов в нашем языке, по-видимому, не бывает остенсивных определений; например, для таких слов, как «один», «число», «не» и т. д.
Вопрос: Должно ли быть понятно само остенсивное определение? — Может ли остенсивное определение быть понято неверно?
Если определение объясняет значение слова, не существенно, конечно, слышали ли вы это слово ранее. Придать значение этому слову — дело остенсивного определения. Так, объясним слово «шорёк»[21], указывая на карандаш и говоря: «Это — шорёк» (вместо «Это — шорёк» я мог бы здесь сказать: «Это называется „шорёк“». Я указываю на это, чтобы раз и навсегда избавиться от идеи, что слова остенсивного определения наделяют определяемое каким-то предикатом; от смешения предложения «Это — красное», приписывающего красный цвет чему-либо, с остенсивным определением «Это называется „красным“»). Так, остенсивное определение «Это — шорёк» может быть интерпретировано различными способами. Я дам несколько таких интерпретаций, используя слова со строго установленным употреблением; это определение можно тогда интерпретировать как означающее:
«Это — карандаш»,
«Это — округлое»,
«Это — деревянное»,
«Это — одно»,
«Это — твёрдое» и т. д., и т. п.
На этот аргумент можно возразить, что каждая из этих интерпретаций предполагает иной словесный язык [word-language). И это возражение имеет значение, если под «интерпретацией» мы подразумеваем только «перевод на словесный язык». — Дадим несколько намеков, проясняющих это. Спросим себя, каков наш критерий, когда мы говорим, что некто интерпретировал остенсивное определение особым образом. Положим, я предлагаю англичанину остенсивное определение: «Это — то, что немцы называют ‘Buch’». Тогда, по крайней мере в большинстве случаев, англичанину в голову придет английское слово «book». Мы можем сказать, что он интерпретировал слово «Buch», как означающее «book». Случай будет иным, если мы, например, укажем на вещь, которую он раньше никогда не видел, и скажем: «Это банджо». Возможно, тогда на ум ему придёт слово «гитара», возможно, вообще никакого слова, но образ какого-то похожего инструмента, а возможно, вообще ничего. Представим затем, что я отдаю ему приказ: «Теперь выбери банджо среди этих предметов». Если он выберет то, что мы называем «банджо», мы можем сказать, что «он придал слову „банджо“ правильную интерпретацию»; если же он выберет какой-то другой инструмент, то скажем, что «он интерпретировал „банджо“ как струнный музыкальный инструмент».
Мы говорим: «Он придал слову „банджо“ ту или иную интерпретацию», и склонны предполагать определённый акт интерпретации помимо акта выбора.
Наша проблема аналогична следующей: Если я отдаю кому-то приказ: «Сорви мне красный цветок с этой клумбы», откуда он знает, какого рода цветок принести, ведь я сообщил ему только слово?
Ответ, который можно предложить первым, состоит в том, что он отправился искать красный цветок, имея в голове красный образ, и сравнивал его с цветами, чтобы увидеть, какой из них имеет цвет этого образа. Такой способ поиска существует, и совершенно не существенно, что используемый нами образ имеет ментальный характер. Фактически процесс может быть следующим: У меня есть таблица, соотносящая имена и цветные квадратики. Когда я слышу приказ: «Сорви мне и т. д.», я веду пальцем по таблице от слова «красный» к соответствующему квадратику и ищу цветок, который имеет тот же цвет, что и квадратик. Но это не единственный способ поиска, и он не является обычным способом. Мы идем, осматриваемся, подходим к цветку и указываем на него без сравнения его с чем-либо. Чтобы видеть, что процесс исполнения этого приказа может иметь такой характер, рассмотрим приказ «Вообразите красное пятно». В этом случае у вас не возникает искушение думать, что перед исполнением приказа вы должны вообразить красное пятно, которое служит вам образцом для того красного пятна, которое вам приказали вообразить.
Теперь вы можете спросить: интерпретируем ли мы слова до исполнения приказа? И вы обнаружите, что в некоторых случаях делаете нечто такое, что можно назвать интерпретированием до исполнения приказа, а в некоторых случаях — нет.
Кажется, что существуют вполне определённые ментальные процессы, связанные с работой языка, процессы, посредством которых только и может функционировать язык. Я имею в виду процессы понимания и подразумевания. Знаки нашего языка кажутся мёртвыми без этих ментальных процессов; и может показаться, что единственная функция знаков состоит в том, чтобы вызывать подобные процессы, и что именно ими мы должны действительно интересоваться. Так, если вас спросят, каково отношение между именем и именуемой им вещью, вы склонитесь к ответу, что это отношение является психологическим, и, вероятно, сказав это, вы подумаете, в частности, о механизме ассоциации. Соблазнительно считать, что действие языка состоит из двух частей: неорганическая часть, оперирование со знаками, и органическая часть, которую мы можем назвать пониманием этих знаков, приданием им значения, их интерпретацией, мышлением. Кажется, что эти последние действия происходят в странного рода посреднике — сознании; и механизм сознания, природу которого мы, по-видимому, не вполне понимаем, способен подвести к результатам, к которым не может привести материальный механизм. Так, например, мысль (которая является таким ментальным процессом) может согласовываться или же не согласовываться с реальностью; я способен мыслить человека, который отсутствует, я способен представить его себе, «иметь его в виду» в замечании, котором я о нём сделал, даже если он находится за тысячу миль отсюда или умер. Можно сказать: «Что за странным должен быть механизм желания, если я могу желать то, чего никогда не случится».
Есть один способ избежать, по крайней мере отчасти, загадочных проявлений процессов мышления, и он заключается в том, чтобы заменить в этих процессах любую работу воображения актами созерцания реальных объектов. Так, может показаться существенным, что, по крайней мере в определённых случаях, когда я слышу слово «красный», понимая его, красный образ как бы находится перед моим мысленным взором. Но почему бы мне не заменить созерцание красного кусочка бумаги воображением красного пятна? Визуальный образ будет только живее. Вообразим человека, который всегда носит в кармане лист бумаги, на котором названия цветов соотнесены с цветовыми пятнами. Вы можете сказать, что носить с собой такую таблицу примеров было бы неудобно и что механизм ассоциации как раз и есть то, что мы всегда используем вместо неё. Но это не относится к делу и во многих случаях даже неверно. Если, например, вам приказано нарисовать определённый оттенок голубого цвета, называемый «берлинская лазурь», вы можете использовать таблицу, которая приведёт вас от выражения «берлинская лазурь» к образцу цвета, который будет служить вам в качестве образца для копирования.
Для наших целей мы вполне могли бы заменить каждый процесс воображения процессом созерцания объекта или рисованием, изображением или моделированием, а каждый процесс внутреннего диалога с самим собой — произнесением вслух или записыванием.
Фреге высмеивал формалистскую концепцию математики, говоря, что формалисты смешивают несущественную вещь, знак, с существенной, значением. Конечно, хочется сказать, что математика не обсуждает чёрточки на листке бумаги. Идею Фреге можно было бы выразить так: пропозиции математики, если бы они были только совокупностями чёрточек, были бы мёртвыми и совершенно неинтересными, тогда как очевидно, что они живут своей жизнью. И то же самое, конечно, можно было бы сказать о любой пропозиции[22][proposition]: лишённая смысла или лишённая мысли, пропозиция была бы совершенно мёртвой и тривиальной вещью. И далее, кажется ясным, что добавление неорганических знаков не может оживить пропозицию. И вывод, который отсюда следует, заключается в том, что к мёртвым знакам, чтобы оживить пропозицию, нужно добавить нечто нематериальное, со свойствами, отличными от всех свойств просто знаков.
Но если бы мы должны были назвать нечто такое, что является жизнью знака, мы должны были бы сказать, что это его употребление.
Если значение знака (грубо говоря, то, что важно в знаке) есть образ, строящийся в нашем сознании, когда мы видим или слышим знак, тогда сначала усвоим метод, который мы только что описали, метод замены этого ментального образа некоторым внешним явно видимым объектом, например, нарисованным или смоделированным изображением. Тогда почему бы записанному знаку плюс этому нарисованному изображению не быть живыми, если в одиночку этот записанный знак был мёртвым? — Фактически, как только вы мыслите замену ментального образа, скажем, нарисованным изображением, и как только этот образ тем самым утрачивает свой загадочный характер, он, по-видимому, вообще перестаёт наделять предложение какой бы то ни было жизнью. (Фактически, для ваших целей вам нужен был именно этот загадочный характер ментального процесса.)
Ошибка, которую мы склонны совершать, может быть выражена так: Мы ищем употребление знака, но мы ищем его так, как если бы оно было объектом, сосуществующим со знаком. (Одна из причин этой ошибки опять-таки заключается в том, что мы ищем «вещь, соответствующую существительному».)
Знак (предложение) получает своё значение из системы знаков, из языка, которому он принадлежит. Грубо говоря: понимание предложения подразумевает понимание языка.
Можно сказать, что предложение живёт как часть системы языка. Однако возникает искушение представить себе то, что даёт предложению жизнь, как нечто, относящееся к загадочной сфере, сопровождающей предложение. Но чем бы оно ни сопровождалось, для нас это будет только другим знаком.
На первый взгляд кажется, что мышлению его особый характер придаёт то, что оно представляет собой вереницу ментальных состояний; и кажется, что в мышлении странными и труднопостижимыми оказываются те процессы, которые происходят при посредничестве сознания, процессы, которые возможны только при этом посредничестве. Напрашивается сравнение этого ментального посредника с протоплазмой клетки, скажем, амёбы. Мы наблюдаем определённые действия амёбы, то, как она захватывает пищу ложноножками, как она делится на похожие друг на друга клетки, каждая из которых растёт и ведёт себя как исходная амёба. Мы говорим: «Что за загадочной природы должна быть протоплазма, чтобы она могла действовать таким образом», и, возможно, мы говорим, что никакой физический механизм не может вести себя таким способом и что механизм амёбы должен быть совершенно иного типа. Точно так же мы склонны говорить, что «механизм сознания должен быть крайне своеобразным, чтобы быть в состоянии делать то, что делает сознание». Но здесь мы совершаем две ошибки. Ибо в мысли и в мышлении нас поражает вовсе не странность тех загадочных результатов, которые мы ещё не способны объяснить (каузально). Другими словами, наша проблема не является научной проблемой; как проблема воспринимается сам факт путаницы.
Предположим, мы пытаемся сконструировать модель сознания как результат психологических исследований, как модель, которая, как мы сказали бы, объясняет деятельность сознания. Эта модель была бы частью психологической теории подобно тому, как механическая модель эфира может быть частью теории электричества. (Такая модель, между прочим, всегда является частью символизма теории. Её преимущество может заключаться в том, что она может усваиваться с первого взгляда и легко удерживаться в сознании. Говорилось, что модель в некотором смысле одевает чистую теорию, что голая теория — это предложения или уравнения. Позднее это должно быть исследовано подробнее.)
Мы можем обнаружить, что такая модель сознания должна быть достаточно сложной и замысловатой, для того чтобы объяснить наблюдаемую ментальную деятельность; и на этом основании мы могли бы назвать сознание странного рода посредником. Но этот аспект сознания нас не интересует. Проблемы, которые он может поставить, — это психологические проблемы, и метод их решения является методом естествознания.
Итак, если нас интересуют не причинные связи, тогда деятельность сознания лежит перед нами открытой. И когда мы обеспокоены природой мышления, загадка, которую мы неверно интерпретируем как загадку о природе посредника, вызвана вводящим в заблуждение использованием нашего языка. Ошибка этого рода снова и снова повторяется в философии; например, когда мы озадачены природой времени, когда время кажется нам загадочной вещью. Мы испытываем сильную склонность считать, что здесь есть нечто скрытое, нечто такое, что мы можем увидеть извне, но внутрь чего мы заглянуть не можем. На самом деле ничего подобного нет. Мы хотим узнать не новые факты о времени. Все факты, которые нас интересуют, открыты нашему вниманию. Но нас вводит в заблуждение употребление существительного «время». Если мы взглянем на грамматику этого слова, мы почувствуем, что стремление человека понять божественность времени не менее поразительно, чем стремление понять божественность отрицания или дизъюнкции.
То есть в заблуждение вводит разговор о мышлении как о «ментальной деятельности». Мы можем сказать, что мышление есть, по существу, деятельность оперирования со знаками. Эта деятельность осуществляется рукой, когда мы мыслим на бумаге, ртом и гортанью, когда мы, думая, говорим; и если мы мыслим посредством воображаемых знаков или образов, то я не могу предоставить вам действующую силу [agent], которая мыслит. Если затем вы говорите, что в таких случаях мыслит сознание, то я обратил бы ваше внимание на тот факт, что вы используете метафору и что в этом случае сознание является действующей силой в смысле, отличном от того, в котором о руке можно говорить как о действующей силе письма.
Если мы вновь говорим о местоположении, о том, где мышление имеет место, мы вправе сказать, что этим местоположением является бумага, на которой мы пишем, или рот, который говорит. И если мы говорим о голове или мозге как о местоположении мысли, то это — употребление выражения «местоположение мышления» в другом смысле. Исследуем, каковы причины называть голову местом мышления. Мы не намереваемся критиковать эту форму выражения или показывать, что она неадекватна. Мы должны сделать следующее: понять его работу, его грамматику, например, увидеть, какое отношение эта грамматика имеет к грамматике выражения «мы мыслим посредством нашего рта» или «мы мыслим посредством карандаша на листе бумаги».
Возможно, главная причина, по которой мы испытываем столь сильную склонность говорить о голове как о местоположении наших мыслей, заключается в следующем: сосуществование слов «мышление» и «мысль» бок о бок со словами, обозначающими (телесные) действия, вроде писания, говорения и т. д., заставляет нас искать действие, отличное от них, но им аналогичное, соответствующее слову «мышление». Когда слова в нашем обыденном языке имеют аналогичные на первый взгляд грамматики, мы склонны пытаться интерпретировать их аналогично; т. е. мы пытаемся сделать так, чтобы аналогии имели силу повсюду. — Мы говорим: «Мысль — это не то же самое, что предложение, ибо английское и французское предложения, которые совершенно различны, могут выражать одну и ту же мысль». И теперь, подобно тому, как предложения находятся где-то, так и мы ищем место для мысли. (Это как если бы мы искали место короля, предусмотренное шахматными правилами, противопоставленное местам различных кусочков дерева, королей из различных наборов.) Мы говорим: «Конечно, мысль есть нечто, а не ничто»; и на это можно ответить только то, что слово «мысль» имеет своё употребление, и это употребление — совершено иного рода, чем употребление слова «предложение».
Но означает ли это, что бессмысленно говорить о местоположении, о том, где находится мысль? Конечно, нет. Эта фраза имеет смысл, если мы придаём ей смысл. Если теперь мы говорим: «Мысль находится в наших головах», что же является смыслом этой фразы, когда она понята здраво? Я полагаю, что определённые психологические процессы соответствуют нашим мыслям таким образом, что, если мы знаем это соответствие, то мы можем, наблюдая эти процессы, обнаружить мысли. Но в каком смысле о психологических процессах можно сказать, что они соответствуют мыслям, и в каком смысле о нас можно сказать, что мы получаем мысли из наблюдения за мозгом?
Я полагаю, мы представляем себе соответствие, которое бы подтверждалось экспериментально. Представим себе такой грубый эксперимент. Он состоит в наблюдении за мозгом в то время, когда субъект мыслит. И теперь вы можете считать, что причина, по которой мои объяснения продолжают оставаться ошибочными, состоит в том, что экспериментатор, конечно, получает доступ к мыслям субъекта только опосредованно, когда их сообщает субъект, выражая их тем или иным способом. Но отбросим это затруднение, предположив, что субъект одновременно является экспериментатором, который смотрит на свой собственный мозг, скажем, с помощью зеркала. (Грубость этого описания никоим образом не уменьшает силу аргумента.)
Теперь скажите: субъект-экспериментатор наблюдает одну вещь или две? (Не говорите, что он наблюдает одну и ту же вещь как изнутри, так и снаружи; ибо это не устраняет затруднения. Позже мы поговорим об этих изнутри и снаружи[23].) Субъект-экспериментатор наблюдает корреляцию двух явлений. Одно из них он, возможно, назовёт мыслью. Она может состоять из вереницы образов, органических ощущений или, с другой стороны, из вереницы различных визуальных, тактильных и мускульных переживаний, которые у него есть, когда он записывает или произносит предложение. — Другое переживание — это переживание видения работы своего мозга. Оба эти феномена могут быть корректно названы «выражениями мысли», и вопрос «где находится сама мысль?» лучше, дабы предотвратить путаницу, отбросить как бессмысленный. Если, однако, мы всё же используем выражение «мысль находится в голове», то придаём этому выражению его значение описанием переживания, которое подтверждало бы гипотезу, что мысль находится в наших головах, описанием переживания, которое мы хотим назвать «наблюдением мысли в нашем мозге».
Мы легко забываем, что слово «местоположение» используется во многих других смыслах и что существует много иных видов высказываний о вещи, которые в отдельном случае, согласно общему употреблению, мы можем назвать конкретизациями местоположения этой вещи. Так, о визуальном пространстве говорилось, что его место находится в нашей голове; и я думаю, что мы так склонны говорить отчасти из-за неправильного понимания грамматики.
Я могу сказать: «В моем поле зрения я вижу образ дерева справа от образа башни» или «Я вижу образ дерева посредине поля зрения». Но тогда хочется спросить: «А где вы видите поле зрения?». И если под «где» подразумевается вопрос о местоположении в том смысле, в котором мы конкретизируем местоположение образа дерева, тогда я обратил бы ваше внимание на тот факт, что вы еще не придали этому вопросу смысл; т. е. что вы продолжаете действовать по грамматической аналогии, не разработав эту аналогию в деталях.
Говоря, что идея о том, что наше поле зрения находится в нашем мозге, вырастает из-за неправильного понимания грамматики, я не имел в виду, что мы не могли бы придать смысл такой конкретизации местоположения. Мы могли бы, например, легко вообразить переживание, которое мы описали бы посредством такого высказывания. Вообразите, что мы смотрели на группу вещей в этой комнате, и, пока мы смотрели, в наш мозг был вставлен зонд, и обнаружилось, что если кончик зонда достигает определённой точки в нашем мозге, то отдельная небольшая часть нашего поля зрения тем самым стирается. Этим способом мы могли бы соотнести точки нашего мозга с точками визуального образа, и это позволило бы нам сказать, что поле зрения помещается в таком-то и таком-то месте нашего мозга. И если теперь нам задали бы вопрос: «Где вы видите образ этой книги?», ответ (как и выше) мог бы быть: «Справа от этого карандаша» или «В левой части моего поля зрения» или, опять же, «В трех дюймах позади моего левого глаза».
Но что, если кто-то сказал: «Я могу заверить вас, что чувствую визуальный образ в двух дюймах позади своей переносицы»? Что мы должны ему ответить? Скажем ли мы, что он говорит неправду или что не может быть такого чувства? Что, если он спрашивает нас: «Вы что, знаете все существующие ощущения? Откуда же вы знаете, что такого ощущения нет?».
Что, если лозоискатель говорит нам, что, когда он держит лозу, он чувствует, что вода находится на глубине пяти футов под землей? Или что он чувствует, что сплав меди и золота находится на глубине пяти футов под землей? Предположим, что на наши сомнения он ответил: «Вы можете прикинуть длину, когда её видите. Почему бы мне не обладать иным способом её оценки?».
Если мы поймём идею такого оценивания, нам станет ясна природа наших сомнений относительно высказываний лозоискателя и человека, который сказал, что чувствует визуальный образ позади своей переносицы.
Есть высказывания: «Длина этого карандаша пять дюймов» и «Я чувствую, что длина этого карандаша пять дюймов», и мы должны понять связь грамматики первого высказывания с грамматикой второго. На высказывание «Я чувствую по моей руке, что вода находится на глубине трёх футов под землёй» мы ответили бы нечто вроде: «Я не знаю, что это означает». Но лозоискатель сказал бы: «Конечно же, вы знаете, что я имею в виду. Вы же знаете, что означает „на глубине трёх футов под землёй“, и вы знаете, что означает „я чувствую“!» На это я бы ответил ему: я знаю, что слово означает в определённых контекстах. Так, я понимаю фразу «на глубине трёх футов под землёй», скажем, в следующих связках: «Измерение показало, что вода протекает на глубине трёх футов под землёй», «Если мы выроем яму глубиной три фута, то достигнем воды», «Глубина, на которой находится вода, на глаз примерно три фута». Но употребление выражения «Я чувствую по своей руке, что вода находится на глубине трёх футов под землёй» мне ещё не объяснено.
Мы могли бы спросить лозоискателя: «Как ты освоил значение слова „три фута“? Мы предполагаем, что через демонстрацию этой длины, через её измерение и тому подобное. Обучали ли тебя также говорить об ощущении того, что вода находится на глубине трёх футов под землёй, об ощущении, скажем, в твоих руках? Ибо, если это не так, что заставляет тебя связывать словосочетание „три фута“ с ощущением в твоей руке?» Предположим, что мы прикидывали длину на глаз, но никогда её не измеряли. Как мы могли бы оценить длину в три дюйма посредством её измерения? То есть как могли бы мы интерпретировать переживание измерения в дюймах? Вопрос в следующем: какова связь между, скажем, тактильным ощущением и переживанием измерения вещи посредством лозы в один ярд. Эта связь покажет нам, что подразумевается под «чувствовать, что длина вещи шесть дюймов». Предположим, лозоискатель сказал: «Меня никогда не учили соотносить глубину воды под землёй с ощущениями в моей руке, но когда у меня есть определённое ощущение напряжения в моих руках, слова „три фута“ всплывают в моём сознании». Мы бы ответили: «Это очень хорошее объяснение того, что ты подразумеваешь под „ощущением глубины в три фута“, и высказывание, что ты чувствуешь это, будет подразумевать не более и не менее, чем объяснение, которое ты ему дал. И если опыт показывает, что действительная глубина воды всегда согласуется со словами „n футов“, которые приходят тебе на ум, твоё переживание будет очень полезным для определения глубины воды». — Но вы видите, что значение слов «Я чувствую, что вода находится на глубине n футов» должно быть объяснено; оно не было известно, когда было известно значение слов «n футов» в обычном смысле (т. е. в обыденных контекстах). — Мы не говорим, что человек, который сообщает нам, что он ощущает визуальный образ в двух дюймах позади своей переносицы, лжёт или несёт вздор. Но мы говорим, что не понимаем значения такой фразы. Она объединяет хорошо известные слова, но объединяет их таким способом, который мы ещё не понимаем. Грамматику этой фразы нам ещё нужно объяснить.
Важность исследования ответа лозоискателя обусловлена тем фактом, что мы часто думаем, что придали значение выказыванию P одним лишь утверждением: «Я чувствую (или я убеждён), что Р имеет место». (Позднее[24] мы обсудим утверждение профессора Харди, что теорема Гольдбаха — это пропозиция, поскольку он может убедиться, что она истинна.) Мы уже сказали, что простым объяснением значения слов «три фута», как мы это обычно делаем, мы ещё не объяснили смысл фразы «чувство, что вода находится в трёх футах и т. д.». Мы не чувствовали бы этих затруднений, если бы лозоискатель сказал, что он научился оценивать глубину воды, скажем, докапываясь до воды всякий раз, когда он испытывал бы особое ощущение, и этим способом соотнося такие ощущения с измерением глубины. Мы должны исследовать отношение процесса научения оцениванию с актом оценивания. Важность этого исследования заключается в том, что оно приложимо к отношению между обучением значению слова и его употреблением. Или, в более общем смысле, что оно показывает различные возможные отношения между заданным правилом и его применением.
Рассмотрим процесс оценивания длины на глаз. Чрезвычайно важно, чтобы вы осознали, что существует огромное количество различных процессов, которые мы называем «оцениванием на глаз».
Рассмотрим следующие случаи:
(1) Некто спрашивает: «Как вы оцениваете высоту этого здания?». Я отвечаю: «Оно имеет четыре этажа; я полагаю, каждый этаж около пятнадцати футов высоты; поэтому, оно должно быть около шестидесяти футов в высоту».
(2) В другом случае: «Я приблизительно знаю, как выглядит расстояние в один ярд; поэтому оно должно быть около четырех ярдов длиной».
(3) Или опять же: «Я могу представить себе высокого человека, достигающего приблизительно этой точки; поэтому она должна находиться приблизительно в шести футах над землёй».
(4) Или: «Я не знаю; это просто выглядит на ярд».
Этот последний случай способен нас озадачить. Если вы спрашиваете: «Что произошло в том случае, когда человек оценивал длину?», корректный ответ может быть: «Он смотрел на вещь и говорил: „Это похоже на один ярд длиной“». Быть может, это всё, что произошло.
До этого мы говорили, что нас не озадачил бы ответ лозоискателя, если бы он рассказал нам, что он научился оценивать глубину. Обучение оцениванию, вообще говоря, может быть рассмотрено в различных отношениях к акту оценивания: или как причина феномена оценки, или как обеспечение нас правилом (таблицей, схемой или чем-то в этом роде), которое мы используем при оценке.
Предположим, я обучаю кого-то употреблению слова «жёлтый», раз за разом указывая на жёлтое пятно и произнося это слово. В другой раз я предлагаю ему применить то, что он освоил, отдавая ему приказ: «Выбрать жёлтый мяч из этого мешка». Что происходило, пока он исполнял мой приказ? Я говорю: «Возможно, как раз следующее: он услышал мои слова и взял жёлтый мяч из мешка». Теперь вы, быть может, склонитесь к мысли, что это, возможно, ещё не всё; и то, что вы могли бы предположить, заключается в том, что он воображал нечто жёлтое, когда понимал приказ, а затем выбрал мяч в соответствии со своим образом. Чтобы видеть необязательность этого, вспомните, что я мог бы отдать ему приказ: «Вообрази жёлтое пятно». Неужели вы и теперь склонны предполагать, что он сперва должен представить себе жёлтое пятно, тем самым понимая мой приказ, а затем представить себе ещё одно жёлтое пятно под пару первому? (Я говорю не то, что это невозможно, а только то, что если следовать данному пути, то непосредственно видно, что это не обязательно. Между прочим, это иллюстрирует метод философии.)
Если нас научили значению слова «жёлтый», дав некоторого рода остенсивное определение (правило употребления слова), это обучение можно рассмотреть двумя различными способами.
А. Обучение — это натаскивание [drill]. Подобное натаскивание вынуждает нас ассоциировать жёлтый образ, жёлтые вещи со словом «жёлтый». Так, когда я отдавал приказ: «Выбери жёлтый мяч из этого мешка», слово «жёлтый» могло вызвать жёлтый образ или ощущение узнавания, когда взгляд человека падает на жёлтый мяч. Можно сказать, что в этом случае обучение натаскиванием выстроило психический механизм. Это, однако, лишь гипотеза или даже метафора. Мы могли бы сравнить обучение с установлением контакта между выключателем и лампочкой. Тогда соответствием нарушившейся связи или потерянного контакта будет то, что мы называем забыванием объяснения или значения слова. (Мы должны будем позже поговорить о значении выражения «забывание значения слова»[25].)
Поскольку обучение вызывает ассоциацию, ощущение узнавания и т. д., и т. п., оно является причиной феномена понимания, исполнения и т. д.; но то, что процесс обучения необходим, чтобы вызвать эти результаты, — это только гипотеза. В этом смысле вполне возможно, что все процессы понимания, исполнения и т. д. могли бы происходить, даже если бы человек никогда не обучался языку. (Сейчас это кажется крайне парадоксальным.)
В. Обучение может снабдить нас правилом, которое само вовлечено в процесс понимания, исполнения и т. д.; «вовлечено», однако, означает, что выражение данного правила составляет часть этих процессов.
Мы должны различать то, что можно назвать «процессом, протекающим в соответствии с правилом» и «процессом, включающим правило» (в вышеуказанном смысле).
Рассмотрим пример. Некто обучает меня возводить в квадрат кардинальные [cardinal] числа; он выписывает ряд
1 2 3 4
и просит меня возвести их в квадрат. (В этом случае я снова заменю некий процесс, происходящий «в уме», процессом вычисления на бумаге.) Предположим, под первым рядом чисел я затем записываю:
1 4 9 16.
То, что я записал, согласуется с общим правилом возведения в квадрат; но оно, очевидно, также согласуется с любым количеством других правил; и то, что я записал, согласуется с одним из этих правил не в большей степени, чем с другим. В том смысле, в котором мы до этого говорили о правилах, вовлечённых в процесс, ни одно правило не было в него вовлечено. Предположим, что для того, чтобы получить свой результат, я вычислял 1×1, 2×2, 3×3, 4×4 (т. е. в данном случае записывал вычисления); это снова соответствовало бы любому количеству правил. Предположим, с другой стороны, что для того, чтобы получить свой результат, я записывал то, что вы можете назвать «правилом возведения в квадрат», скажем, алгебраически. В этом случае данное правило было вовлечено в том смысле, в котором не было ни одно другое правило.
Мы будем говорить, что правило вовлечено в понимание, исполнение приказа и т. д., если, как я предпочёл бы выразиться, символ правила образует часть вычисления. (Поскольку нас не интересует, где имеют место процессы мышления и вычисления, мы можем вообразить для наших целей, что вычисления ведутся всецело на бумаге. Мы не зацикливаемся на различии: внутреннем ли, внешнем ли.)
Характерным примером случая В был бы такой, при котором обучение снабжало бы нас таблицей, которую бы мы действительно употребляли в понимании, исполнении приказов и т. д. Если нас учат играть в шахматы, нас могут обучать правилам. Если затем мы играем в шахматы, эти правила не нужно вовлекать в акт игры. Но они могут быть и вовлечены. Вообразим, например, что правила представлены в форме таблицы; в одном столбце нарисованы контуры шахматных фигур; в параллельном столбце мы находим диаграммы, демонстрирующие «свободу» (допустимые ходы) фигур. Предположим теперь, что партия разыгрывается так, что в игру вовлечен переход от контуров фигур к возможным ходам, когда кто-нибудь проводит пальцем по таблице, а затем делает один из этих ходов.
Обучение как гипотетическая история наших последующих действий (понимания, исполнения приказа, оценивания длины и т. д.) пропущено в нашем обсуждении. Правило, которое было выучено и впоследствии применялось, интересует нас лишь постольку, поскольку оно включено в применение. Правило, постольку поскольку оно нас интересует, не действует на расстоянии.
Предположим, я указал на лист бумаги и сказал кому-то: «Этот цвет я называю „красным“». После этого я отдаю ему приказ: «Теперь нарисуй мне красное пятно». Я затем спрашиваю его: «Почему, выполняя мой приказ, ты нарисовал именно этот цвет?». Его ответ может быть таким: «Этот цвет (указывает на образец, который я ему дал) был назван красным, и пятно, которое я нарисовал, имеет, как видишь, цвет этого образца». Теперь он предоставил мне причину, почему он выполнил приказ именно так, как он это сделал. Объяснение причины того, что некто сделал или сказал, подразумевает демонстрацию пути, который ведёт к этому действию. В некоторых случаях это подразумевает сообщение пути, которым кто-то шёл сам; в других случаях это подразумевает описание пути, который туда ведёт и согласуется с определёнными принятыми правилами. Так, когда спрашивают: «Почему ты выполнил мой приказ, использовав именно этот цвет?», человек мог бы описать способ, к которому он действительно прибегнул, чтобы добиться этого особого оттенка цвета. Это мог бы быть случай, когда, услышав слово «красный», он брал данный ему образец с биркой «красный» и копировал этот образец, рисуя пятно. С другой стороны, он мог бы рисовать его «автоматически» или ориентируясь на образ, сохранившийся в памяти, но когда его попросили привести причину, он всё ещё мог бы указывать на образец и демонстрировать, что этот образец под стать пятну, которое он нарисовал. В этом последнем случае приведённая причина была бы вторичной, т. е. оправданием post hoc.
Итак, если некто считает, что не могло бы быть понимания и исполнения приказа без предыдущего обучения, он считает, что обучение предоставляет причину [reason] делать то, что он делает; как предоставляют дорогу, по которой ходят. Считается, что если приказ понят и исполнен, то должна быть причина для его исполнения нами так, как мы это делаем; в действительности цепь причин уходит назад в бесконечность. Это как если бы некто сказал: «Где бы ты ни был, ты должен добраться туда откуда-то ещё, а в это предыдущее место из какого-то другого места, и так далее ad infinitum». (Если же, с другой стороны, вы сказали: «Где бы ты ни был, ты мог бы добраться туда из другого места, расположенного на расстоянии 10 ярдов, а к этому другому месту из третьего, расположенного ещё в 10 ярдах, и так далее ad infinitum», если бы вы сказали это, вы подчеркнули бы бесконечную возможность сделать шаг. Таким образом, идея бесконечной цепи причин вырастает из путаницы, сходной со следующим: линия определенной длины состоит из бесконечного числа частей, поскольку она бесконечно делима, т. е. поскольку возможности её деления нет конца.)
Если, с другой стороны, вы осознаёте, что цепь действительных причин имеет начало, вы больше не будет противиться идее случая, где у того способа, которым вы исполнили приказ, нет причины. Однако в этом пункте нас подстерегает другая путаница, путаница между причиной и поводом [cause]. В заблуждение вводит двусмысленное использование слова «почему». Так, когда цепь причин заканчивается и всё же стоит вопрос «почему?», мы склонны привести повод вместо причины. Если, например, на вопрос «Почему вы нарисовали именно этот цвет, когда я говорил вам нарисовать пятно красного цвета?» — вы даёте ответ: «Мне показали образец этого цвета и в то же самое время произнесли слово „красный“, поэтому, когда я слышу слово „красный“, этот цвет всегда приходит мне на ум», то вы привели повод вашего действия, а не причину.
Пропозиция, утверждающая, что ваше действие имеет такой-то и такой-то повод, представляет собой гипотезу. Гипотеза хорошо обоснована, если кто-то обладает некоторым числом переживаний, которые, грубо говоря, согласованно показывают, что ваше действие является регулярным следствием определённых условий, которые мы затем называем поводом этого действия. Для того чтобы знать причину, которая побудила вас на определённое высказывание, для действия определённым образом и т. д., не нужно никакого числа согласующихся переживаний, а изложение вашей причины не является гипотезой. Различие между грамматикой слов «причина» и «повод» вполне сходно с различием между грамматикой слов «мотив» и «повод». О поводе можно сказать, что его можно не знать, но лишь предполагать. С другой стороны, обсуждая мотив, часто говорят: «Конечно, я должен знать, почему я это сделал». Когда я говорю: «Мы можем только предполагать повод, но мы знаем мотив», то это высказывание, как будет видно позднее, является грамматическим высказыванием. «Можем» отсылает к логической возможности.
Двойное употребление слова «почему», спрашивающего о поводе и о мотиве, вкупе с идеей, что мы можем знать, а не только предполагать наши мотивы, приводит к путанице, что мотив является поводом, который нам непосредственно известно, поводом, «видимым изнутри», или переживаемым поводом. — Объяснение причины подобно объяснению вычислений, посредством которых вы достигаете определённого результата.
Вернёмся к высказыванию о том, что мышление, по существу, состоит в оперировании знаками. Моя идея состоит в том, что, если мы говорим, что «мышление — это психическая деятельность», то это может ввести нас в заблуждение. Вопрос о том, какого рода деятельностью является мышление, аналогичен вопросу: «Где осуществляется мышление?». Мы можем ответить: на бумаге, в нашей голове, в сознании. Ни одно из этих высказываний о местоположении не даёт определённого местоположения мышления. Употребления всех этих уточнений корректны, но сходство их лингвистической формы не должно привести нас к ложному представлению об их грамматике. Как, например, когда вы говорите: «Ясно, что действительное место мысли находится в нашей голове». То же самое относится к идее мышления как деятельности. Говорить, что мышление есть деятельность нашей пишущей руки, нашей гортани, нашей головы и нашего сознания, корректно, поскольку мы понимаем грамматику этих высказываний. И, далее, крайне важно осознать, каким образом вследствие вводящей в заблуждение грамматики наших выражений мы приходим к мысли, что одно из этих высказываний даёт реальное место деятельности мышления.
Слова о том, что мышление есть нечто подобное деятельности руки, вызывают возражение. Мышление, хочется сказать, есть часть нашего «индивидуального опыта». Оно не материально, но является событием индивидуального сознания. Это возражение высказано в вопросе: «Может ли машина мыслить?». Я выскажусь об этом позднее[26], а теперь только сошлюсь на аналогичный вопрос: «Может ли машина испытывать зубную боль?». Вы, конечно, будете склонны сказать: «Машина не может испытывать зубной боли». Все, что мне остаётся, так это обратить ваше внимание на то, как вы употребили слово «может», и спросить вас: «Вы хотите сказать, что весь наш прошлый опыт показывает, что машина никогда не испытывала зубной боли?». Невозможность, о которой вы говорите, — это логическая невозможность. Вопрос в следующем: Каково отношение между мышлением (или зубной болью) и субъектом, который мыслит, испытывает зубную боль и т. д.? Но сейчас я не буду больше говорить об этом.
Если мы говорим, что мышление есть по существу оперирование со знаками, то первый вопрос, который вы можете задать, таков: «Что такое знаки?». — Вместо того чтобы давать какой-либо общий ответ на этот вопрос, я предложу вам внимательно посмотреть на отдельные случаи, которые мы называем «оперированием знаками». Рассмотрим простой пример оперирования словами. Я отдаю кому-то приказ: «Принесите мне от лавочника шесть яблок». Я опишу способ придания употребления такому приказу: Слова «шесть яблок» записаны на листке бумаги, бумага вручается лавочнику, лавочник сравнивает слово «яблоко» с бирками на различных полках. Он находит, что надпись согласуется с одной из бирок, считает от 1 до числа, записанного на листке бумаги, и при произнесении каждой цифры берет по фрукту с полки и кладёт в сумку. — Перед нами случай употребления слов. Впредь я ещё не раз буду обращать ваше внимание на то, что я называю языковыми играми. Они представляют собой более простые способы употребления знаков, чем те, которые мы используем в нашем крайне усложненном повседневном языке. Языковые игры — это формы языка, с помощью которых ребёнок начинает осваивать употребление слов. Изучение языковых игр — это изучение примитивных форм языка или примитивных языков. Если мы хотим изучать проблемы истины и лжи, согласованности и несогласованности пропозиций с действительностью, природы утверждения, предположения и вопроса, нам будет полезно посмотреть на примитивные формы языка, в которых эти формы мышления проявляются без сбивающей с толку структуры в высшей степени усложнённых процессов мышления. Когда мы смотрим на такие простые формы языка, исчезает ментальный туман, который, как кажется, обволакивает обычное словоупотребление. Мы видим действия и реакции четкими и прозрачными. С другой стороны, в этих простых процессах мы сознаём языковые формы, не оторванные от наших более сложных форм. Мы видим, что можем построить сложные формы из примитивных форм посредством постепенного добавления новых форм.
То, что мешает нам принять такое направление исследования, — это наше стремление к обобщению.
Это стремление к обобщению является результатом нескольких тенденций, связанных с определёнными философскими заблуждениями.
(a) Существует тенденция искать нечто общее во всех сущностях, которые мы обычно подводим под общий термин. — Мы склонны считать, что должно быть нечто общее, например, во всех играх, и что это общее свойство является оправданием для применения общего термина «игра» к различным играм; тогда как игры образуют семью, члены которой имеют семейное сходство. Некоторые из них имеют одинаковые носы, другие — одинаковые брови, третьи — похожую походку; и эти сходства частично совпадают. Идея того, что общее понятие является общим свойством его отдельных примеров, связывается с другими примитивными, слишком простыми идеями структуры языка. Это сравнимо с идеей, что свойства являются ингредиентами вещей, обладающих этими свойствами; например, что прекрасное является ингредиентом всех красивых вещей, примерно так же, как алкоголь является ингредиентом пива и вина, и что мы, поэтому, могли бы иметь красоту в чистом виде, не замутнённое чем-то, что является красивым.
(b) Существует тенденция, укоренённая в наших обычных формах выражения, считать, что человек, научившийся понимать общий термин, скажем, термин «лист», тем самым, овладел общим образом листа, в противоположность образам отдельных листьев. Ему демонстрировали различные листья, когда он осваивал значение слова «лист»; и эта демонстрация отдельных листьев была лишь средством наконец завершить формирование «в нём» идеи, которая, как мы воображаем, есть своего рода общий образ. Мы говорим, что он видит то, что является общим во всех этих листьях; и это верно, если мы имеем в виду, что, отвечая на вопрос, он может сообщить нам определённые общие черты или свойства листьев. Однако мы склонны считать, что общая идея листа есть нечто подобное визуальному образу, причем образу, который содержит только то, что является общим для всех листьев (фотомонтаж Гальтона). Это опять-таки связано с идеей, что значением слова является образ или идея, соотнесённая с этим словом. (Это приблизительно означает, что мы рассматриваем слова так, как если бы все они были именами собственными; и тогда мы путаем носителя имени со значением имени.)
(с) И вновь, идея того, что происходит, когда мы постигаем общую идею «листа», «растения» и т. д., связана со смешением ментального состояния, означающего состояние гипотетического ментального механизма, и ментального состояния, означающего состояние сознания (зубную боль и т. д.).
(d) Наше стремление к обобщению имеет и другой источник — увлечение методом науки. Я имею в виду метод сведения объяснения природных явлений к наименьшему возможному числу примитивных естественных законов; а в математике — унификация трактовки различных тем посредством обобщения. У философов перед глазами постоянно находится метод науки, и они испытывают непреодолимый соблазн задавать вопросы и отвечать на них так, как это делает наука. Эта тенденция есть подлинный источник метафизики, и она заводит философа в полную темноту. Я хочу сказать здесь, что нашей работой никогда не должно быть сведение чего-то к чему-то или объяснение чего-то. Философия на самом деле является «чисто дескриптивной». (Обдумайте вопросы типа: «Существуют ли чувственные данные?», и спросите себя: «Какой метод определяет этот вопрос? Интроспекция?».)
Вместо «стремления к обобщению» я мог бы также сказать «пренебрежительное отношение к частному случаю». Если, например, некто пытается объяснить понятие числа и говорит нам, что такое-то и такое-то определение не работает или является неудачным, поскольку оно применяется, скажем, к конечным кардинальным числам, я бы ответил, что тот факт, что он может дать такое ограниченное определение, делает это определение крайне важным для нас. (Элегантность — это не то, к чему мы стремимся.) Ибо почему сходство между конечными и трансфинитными числами должно быть для нас более интересно, чем их различие? Или, скорее, мне не следовало говорить: «Почему это должно быть для нас более интересно?» — Это не так, и это характеризует наш способ мышления.
Установка на более общее и более частное в логике связана с употреблением слова «вид», что приводит к путанице. Мы говорим о видах чисел, видах пропозиций, видах доказательств; а также о видах яблок, видах бумаги и т. д. В одном смысле вид определяют свойства вроде сладости, твёрдости и т. д. В другом смысле различные виды — это различные грамматические структуры. Трактат по помологии может быть назван неполным, если существуют виды яблок, о которых он не упоминает. Здесь у нас есть стандарт полноты в природе. Предположим, с другой стороны, что существует игра, похожая на игру в шахматы, но более простая, без пешек. Назвали бы мы эту игру неполной? Или назвали бы мы игру более полной, чем шахматы, если бы она каким-то образом походила на шахматы, но содержала новые элементы? Презрение в логике к тому, что кажется менее общим случаем, возникает из идеи, что он является неполным. На самом деле, говорить об арифметике кардинальных чисел как о чем-то частном в противоположность чему-то более общему — это недоразумение. Арифметика кардинальных чисел не выглядит неполной, так же как и арифметика конечных кардинальных чисел. (Между логическими формами нет таких тонких различий, как между вкусом яблок разных сортов.)
Изучая грамматику, например, слов «желание», «мышление», «понимание», «значение», мы едва ли удовлетворились бы лишь описанием различных случаев желания, мышления и т. д. Если бы кто-то сказал: «Это, разумеется, не всё, что называют „желанием“», — мы бы ответили: «Конечно, нет, но, если вам угодно, вы можете сконструировать более сложные случаи». И, наконец, не существует одного определённого класса особенностей, которые характеризуют все случаи желания (по крайней мере, в обычном употреблении этого слова). Если, с другой стороны, вы хотите дать определение желания, т. е. очертить четкую границу, тогда вы вольны очерчивать её так, как вам угодно; и эта граница никогда полностью не совпадёт с реальным употреблением, поскольку это употребление не имеет чёткой границы.
Философское исследование сковывала идея о том, что для понимания значения общего термина нужно найти общий элемент во всех его употреблениях; ибо она не только не вела ни к какому результату, но также заставляла философа отбросить как не относящиеся к делу конкретные случаи, которые одни только и могли помочь ему понять употребление общего термина. Когда Сократ задаёт вопрос: «Что такое знание?», — он не рассматривает перечисление случаев знания даже как предварительный ответ[27]. Если бы я хотел понять, какого рода вещью является арифметика, я, действительно, был бы вполне удовлетворён исследованием случая арифметики конечных кардинальных чисел. Ибо
(a) это привело бы меня ко все более сложным случаям,
(b) арифметика конечных кардинальных чисел не является неполной, она не содержит пробелов, которые заполнялись бы потом остальной частью арифметики.
Что происходит, если с 4 до 4.30 A ожидает в своей комнате прихода В? В одном смысле, в котором употребляется фраза «ожидать чего-то с 4 до 4.30», она однозначно отсылает не к одному процессу или состоянию сознания, протекающему в этом интервале, но к огромному количеству различных действий и состояний сознания. Если я, например, ожидаю В к чаю, то может происходить следующее: В четыре часа я смотрю в свой ежедневник и вижу имя «В» напротив сегодняшней даты; я готовлю чай на двоих; я задумываюсь на мгновение о том, «курит ли В?», и достаю сигареты; ближе к 4.30 я начинаю чувствовать нетерпение; я представляю себе, как будет выглядеть В, когда он войдёт в мою комнату. Всё это называется «ожиданием В с 4 до 4.30». И вариации этого процесса, который мы все описываем одними и теми же словами, бесконечны. Если спросить, что общего между различными процессами ожидания кого-то к чаю, ответ будет заключаться в том, что нет единственной особенности, общей для всех них, хотя есть много пересекающихся общих особенностей. Эти случаи ожидания образуют семью; они обладают семейным сходством, которое нечётко определено.
Существует совершенно иное употребление слова «ожидание» — если мы используем его для обозначения особого ощущения. Такое употребление слов вроде «желание», «ожидание» и т. д. легко приходит в голову. Существует очевидная связь между этим употреблением и употреблением, описанным выше. Нет сомнения, что во многих случаях, когда мы кого-то ожидаем в первом смысле, некоторые, или все, описанные действия сопровождаются особым ощущением, напряжённостью; и естественно употребить слово «ожидание» для обозначения этого переживания напряжённости.
Теперь возникает вопрос: как следует называть это ощущение — «ощущением ожидания» или «ощущением ожидания, что В придёт»? В первом случае утверждение, что вы находитесь в состоянии ожидания, надо сказать, неполно описывает ситуацию ожидания того, что произойдет то-то и то-то. Второй случай часто опрометчиво предлагается в качестве объяснения употребления фразы «ожидание того, что произойдет то-то и то-то», и вы можете даже считать, что с этим объяснением вы в безопасности, поскольку с любым последующим вопросом можно разделаться, сказав, что ощущение ожидания не подаётся определению.
Итак, нет никаких возражений касательно того, чтобы называть определённое ощущение «ожиданием, что В придёт». Для употребления такого выражения даже могут быть хорошие практические причины. Отметим только: если мы объяснили значение фразы «ожидание, что В придёт» таким образом, то нельзя точно так же объяснить фразу, образованную от этой заменой «В» другим именем. Можно сказать, что фраза «ожидание, что В придёт» не является значением функции «ожидание, что x придёт». Чтобы понять это, сравним наш случай со случаем функции «Я ем х». Мы понимаем пропозицию «Я ем стул», хотя нас никогда специально не обучали значению выражения «поедание стула».
Роль, которую в нашем нынешнем случае играет имя «В» в выражении «Я ожидаю В» можно сравнить с той ролью, которую играет имя «Брайт» в выражении «болезнь Брайта»[28]. Сравним грамматику этого словосочетания, когда оно обозначает особый вид болезни, с грамматикой выражения «болезнь Брайта», когда оно подразумевает болезнь, которой болеет сам Брайт. Я определю различие, сказав, что слово «Брайт» в первом случае является индексом в сложном имени «болезнь Брайта»; во втором случае я назову его аргументом функции «болезнь x’а». Можно сказать, что индекс отсылает к чему-то, и эта отсылка может быть объяснена всевозможными способами. Таким образом, назвать ощущение «ожиданием, что В придёт» значит назвать его сложным именем, и «В», возможно, отсылает к человеку, приходу которого регулярно предшествовало это ощущение.
Опять-таки мы можем использовать фразу «ожидание, что В придёт» не в качестве имени, но как характеристику определённых ощущений. Мы можем, например, объяснить, что об определённой напряжённости говорится как об ожидании, что В придёт, если она ослабляется с его приходом. Если мы так употребляем эту фразу, то будет правильным сказать, что мы не знаем, чего мы ожидаем, пока наше ожидание не кончится (ср. Рассел)[29]. Но никто не может быть уверен, что это единственный способ или даже наиболее распространённый вариант употребления слова «ожидать». Если я спрашиваю у кого-нибудь: «Кого вы ждёте?» — и, получив ответ, снова спрашиваю: «Вы уверены, что не ожидаете кого-то другого?», — то в большинстве случаев этот вопрос был бы расценен как абсурдный, и ответ был бы чем-то вроде: «Разумеется, я должен знать, кого я жду».
Можно охарактеризовать значение, которое Рассел придаёт слову «желание», говоря, что оно означает для него разновидность голода. — Гипотеза в том, что определённое ощущение голода будет ослабляться при употреблении соответствующей пищи. Употребляя слово «желание» так, как это делает Рассел, бессмысленно говорить: «Я желал яблоко, но удовлетворился грушей»[30]. Но мы иногда говорим так, употребляя слово «желание» в другом смысле. В этом смысле мы можем сказать, что напряжённость желания ослабилась без исполнения желания; и также, что желание исполнилось без ослабления напряжённости. То есть я могу в этом смысле достичь удовлетворения без удовлетворения моего желания.
Кто-то, возможно, скажет, что различия, о которых мы говорим, просто сводятся к тому, что в одних случаях мы знаем, чего хотим, а в других — нет. Конечно, бывают случаи, при которых мы говорим: «Я чувствую страстное желание, хотя и не знаю, чего я хочу», или опять-таки: «Я чувствую страх, но не боюсь чего-то конкретного».
Итак, мы можем описать эти случаи, говоря, что у нас бывают определённые ощущения, не отсылающие к объектам. Словосочетание «не отсылающие к объектам» вводит грамматическое различие. Если, характеризуя такие ощущения, мы используем глаголы вроде «бояться», «желать» [«fearing», «longing»] и т. д., эти глаголы будут непереходными; «Я боюсь» будет аналогично «Я плачу». Мы можем плакать о чём-либо, но то, о чём мы плачем, не является составной частью процесса плача; т. е. мы могли бы описать всё, что происходит, когда мы плачем, не упоминая то, о чём мы плачем.
Предположим теперь, что я предложил вам употреблять выражение «Я чувствую страх [I feel fear]» и подобные ему только так, чтобы они были переходными. Всегда, когда мы раньше говорили: «Я ощущаю страх [I have a sensation of fear]» (непереходная форма), мы теперь будем говорить: «Я боюсь чего-то, но не знаю чего». Есть ли возражение по поводу данной терминологии?
Мы можем сказать: «Возражения нет, разве что теперь мы используем глагол „знать“ несколько странным образом». Рассмотрим этот случай: у нас есть общее неопределенное чувство страха. Позднее у нас возникает переживание, которое заставляет нас сказать: «Теперь я знаю, чего я боялся. Я боялся, что произойдёт то-то и то-то». Правильно ли описывать мое прежнее ощущение при помощи непереходного глагола, или мне следует сказать, что у моего страха был объект, хотя я и не знал, что он собой представлял? Можно использовать обе эти формы описания. Чтобы понять это, исследуем следующий пример: Можно найти практический смысл в том, чтобы называть определённое состояние разрушения зуба, не сопровождающееся тем, что мы называем зубной болью, «бессознательной зубной болью», и использовать это выражение в том случае, когда мы испытываем зубную боль, но об этом не знаем. Именно в таком смысле психоанализ говорит о бессознательных мыслях, волевых актах и т. д. Разве ошибочно в этом смысле говорить, что я испытываю зубную боль, но не знаю этого? В этом нет ничего ошибочного, так как это просто новая терминология, и её в любое время можно перевести на обычный язык. С другой стороны, она, очевидно, заставляет использовать слово «знать» по-новому. Если вы хотите исследовать, как употребляется это выражение, полезно спросить себя: «На что в этом случае похож процесс получения знания?», «Что мы называем „получением знания“ или „узнаванием“?».
В соответствии с нашим новым соглашением не будет ошибочным сказать: «Я испытываю бессознательную зубную боль». Ибо что ещё можно требовать от нашего способа обозначения, кроме того, что он проводит различие между испорченным зубом, который не вызывает у нас зубной боли, и зубом, который её вызывает? Но новое выражение вводит нас в заблуждение, вызывая образы и аналогии, которые мешают нам следовать нашему соглашению. И эти образы крайне трудно отбросить, если мы не остаёмся всё время начеку; особенно трудно, когда, философствуя, мы обдумываем то, что говорим о вещах. Так, выражение «бессознательная зубная боль» может или привести вас к ошибочной мысли, что сделано открытие огромной важности, открытие, которое в некотором смысле сбивает нас с толку, или же вы будете поставлены в тупик этим выражением (философское замешательство) и, наверное, зададите вопрос вроде: «Как возможна бессознательная зубная боль?». Вы, вероятно, тогда будете склонны отрицать возможность бессознательной зубной боли; но учёный скажет вам, что существование такой вещи — это доказанный факт, и он скажет это, как человек, разрушающий общий предрассудок. Он скажет: «Конечно, это довольно просто; есть некоторые вещи, о которых вы не знаете, и также может быть зубная боль, о которой вы не знаете. Это просто новое открытие». Вы не будете удовлетворены, но вы не будете знать, что ответить. Эта ситуация постоянно возникает между учёным и философом.
В таком случае мы можем прояснить дело, сказав: «Посмотрим, как слова „бессознательный“, „знать“ и т. д. употребляются в этом случае и как они употребляются в других случаях». Насколько далеко идёт аналогия между этими словоупотреблениями? Мы также попытаемся сконструировать новые способы обозначений, чтобы разрушить чары тех, к которым мы привыкли.
Мы говорили, что один из способов изучения грамматики (употребления) слова «знать» заключается в том, чтобы спросить себя, что в исследуемом нами особом случае мы назовём «получением знания». Есть искушение считать, что этот вопрос не вполне уместен, если вообще уместен, применительно к вопросу: «Каково значение слова „знать“?». Мы, по-видимому, уходим в сторону, когда задаём вопрос: «На что похоже в данном случае „получать знание“?». Но этот вопрос на самом деле является вопросом о грамматике слова «знать», и это становится яснее, если мы задаем его в форме: «Что мы называем „получением знания“?». Частью грамматики слова «стул», является то, что это мы называем «сидеть на стуле», частью грамматики слова «значение», является то, что это мы называем «объяснением значения»; точно так же объяснить мой критерий того, что другой человек испытывает зубную боль, значит дать грамматическое объяснение словосочетания «зубная боль» и в этом смысле объяснение, затрагивающее значение словосочетания «зубная боль».
Когда нас обучали употреблению фразы «Такой-то испытывает зубную боль», нам указали определённые виды поведения тех, о которых сообщили, что у них болят зубы. В качестве примера таких видов поведения возьмём случай, когда вы держитесь за щёку. Предположим, что в результате наблюдения я обнаружил, что в определённых случаях, каждый раз, когда эти первые критерии говорили мне, что человек испытывает зубную боль, у этого человека на щеке появлялось красное пятно. Предположим, я теперь говорю кому-то: «Я вижу, что А испытывает зубную боль, у него на щеке красное пятно». Он может спросить меня: «Откуда вы знаете, что A испытывает зубную боль, когда видите красное пятно?». Тогда я указал бы, что определённые явления всегда сопровождались появлением красного пятна.
Теперь кто-то может продолжить и спросить: «Откуда вы знаете, что он испытывает зубную боль, когда держится за щёку?». Ответом на это может быть: «Я говорю, что он испытывает зубную боль, когда он держится за щёку, потому что сам держусь за щёку, когда испытываю зубную боль». Но что если мы продолжим спрашивать: «А почему вы предполагаете, что зубная боль соответствует тому, что он держится за щёку, только потому, что ваша зубная боль соответствует тому, что вы держитесь за щёку?». Вы окажетесь в затруднении перед этим вопросом и обнаружите, что здесь мы наконец-то дошли до предела, т. е. подошли к соглашениям. (Если в качестве ответа на последний вопрос вы предположите, что всегда, когда вы видели людей, держащихся за щёку, и спрашивали у них, что случилось, они отвечали: «Я испытываю зубную боль», то помните, что этот случай лишь соотносит то, что вы держитесь за щёку, с произнесением определённых слов.)
Введём два антитетических термина, которые позволят избежать некоторой элементарной путаницы. На вопрос: «Откуда вы знаете, что то-то и то-то имеет место?» — мы иногда отвечаем, указывая «критерии», а иногда — указывая «симптомы». Если медицина называет ангиной воспаление, вызванное особыми бациллами, и в конкретном случае мы спрашиваем: «Почему вы говорите, что у этого человека ангина?», — то ответ: «Я обнаружил такие-то бациллы у него в крови», — даст нам критерий, или то, что мы можем назвать определяющим критерием ангины. Если, с другой стороны, ответом было: «У него воспалённое горло», — это может дать нам симптом ангины. Я называю «симптомом» феномен, о котором опыт сообщает нам, что он тем или иным образом сопутствует феномену, который является нашим определяющим критерием. Тогда утверждение «У человека ангина, если у него в крови обнаружены эти бациллы» является тавтологией или неточным способом установления определения слова «ангина». Но сказать: «У человека ангина всегда, когда у него воспалено горло» — значит выдвинуть гипотезу.
На практике, если бы у вас спросили, какой феномен является определяющим критерием, а какой — симптомом, вы в большинстве случаев были бы не способны ответить на этот вопрос, кроме как создавая произвольное решение ad hoc. Определение слова, когда одно явление принимается за определяющий критерий, может быть практичным, но нас легко убедить определять слово посредством того, что в соответствии с нашим прежним употреблением было симптомом. Врачи будут употреблять названия болезней, даже не выбирая, какие явления нужно принимать в качестве критериев, а какие — в качестве симптомов; и здесь не нужно сожалеть об утрате ясности. Ибо помните, что обычно мы не используем язык согласно строгим правилам; нас также не обучали ему посредством строгих правил. В наших рассуждениях, с другой стороны, мы постоянно сравниваем язык с исчислением, осуществляющимся согласно строгим правилам.
Это весьма односторонний взгляд на язык. На практике мы очень редко используем язык как такое исчисление. Ибо мы не только не думаем о правилах употребления (определениях и т. д.) в процессе использования языка, но и в большинстве случаев не в состоянии этого сделать, когда нас просят привести такие правила. Мы не способны ясно описать понятия, которые используем; и не потому, что мы не знаем их действительного определения, но потому, что их действительного «определения» нет. Предположим, что должно было бы быть нечто, подобное предположению о том, что всегда, когда дети играют с мячом, они играют в игру в соответствии со строгими правилами.
Когда мы говорим о языке как о системе обозначений, используемой в строгом исчислении, тогда то, что мы имеем в виду, может быть найдено в науке и математике. Наше обычное употребление языка сообразуется с этим стандартом точности лишь в редких случаях. Почему же тогда, философствуя, мы постоянно сравниваем наше употребление слов с тем, которое вытекает из точных правил? Ответ заключается в том, что замешательство, которое мы пытаемся устранить, всегда возникает как раз из этой установки по отношению к языку.
Рассмотрим в качестве примера вопрос: «Что такое время?», как задавал его святой Августин и другие. На первый взгляд, это вопрос об определении, но тогда немедленно встаёт вопрос: «Что мы достигнем определением, ведь оно приведёт нас лишь к другим неопределённым терминам?». И почему нужно приходить в замешательство из-за отсутствия определения времени, а не отсутствия, скажем, определения «стула»? Почему бы нам не приходить в замешательство во всех случаях, когда мы не можем дать определение? Итак, определение часто проясняет грамматику слова. Фактически именно грамматика слова «время» приводит нас в замешательство. Мы всего лишь выражаем это замешательство, задавая слегка вводящий в заблуждение вопрос — вопрос «Что такое…?». Этот вопрос есть выражение неясности, ментального дискомфорта, и он сравним с вопросом «Почему?», который так часто задают дети. Это тоже является выражением ментального дискомфорта и необязательно спрашивает о поводе или причине. (Герц, «Принципы механики».) Итак, замешательство по поводу грамматики слова «время» проистекает из того, что можно назвать видимыми противоречиями в этой грамматике.
Святого Августина в его рассуждениях о времени приводило в замешательство следующее «противоречие»: Как возможно измерить время? Ибо прошлое нельзя измерить, поскольку оно уже прошло; будущее нельзя измерить, потому что оно ещё не наступило. Настоящее же не может быть измерено, поскольку не имеет протяжённости.
Противоречие, которое здесь, по-видимому, возникает, можно было бы назвать конфликтом между двумя различными употреблениями слова, в данном случае слова «измерить». Мы можем сказать, что Августин размышляет о процессе измерения длины: скажем, расстояние между двумя отметками на ленточном транспортёре, лента которого движется перед нами, и мы можем видеть только маленький её кусочек (настоящее время). Решение этой головоломки будет заключаться в сравнении того, что мы подразумеваем под «измерением» (грамматика слова «измерение»), применённого к расстоянию на ленточном транспортёре, с грамматикой этого слова, применённого ко времени. Проблема может показаться простой, но её невероятная сложность обусловлена очарованием, под которое мы попадаем, увлекаясь аналогией между двумя сходными структурами нашего языка. (Здесь полезно вспомнить, что иногда ребёнок никак не может поверить, что одно слово может иметь два значения.)
Теперь ясно, что данная проблема о понятии времени требует ответа в форме строгого правила. Головоломка как раз и относится к правилам. — Возьмём другой пример: вопрос Сократа «Что такое знание?». Здесь случай ещё яснее, поскольку обсуждение начинается с примера точного определения, дающегося учеником, а затем по аналогии спрашивается определение слова «знание». Когда проблема поставлена, кажется, что есть нечто ошибочное в обычном употреблении слова «знание». Кажется, что мы не знаем, что оно означает, и поэтому, возможно, мы не имеем права его употреблять. Нам следовало ответить: «Нет одного точного употребления слова „знание“; но мы можем создать несколько таких употреблений, которые будут согласовываться более или менее с тем, как действительно употребляются слова».
Человек, находящийся в философском замешательстве, видит закон в том, как употребляется слово, и, пытаясь последовательно применять этот закон, приходит к случаям, где он приводит к парадоксальным результатам. Очень часто обсуждение такого замешательства проходит таким образом: первым задаётся вопрос: «Что такое время?». Этот вопрос выявляет, что нам требуется определение. Мы ошибочно думаем, что определение устранит неприятное ощущение (как при некоторых случаях расстройства желудка, когда мы чувствуем такой голод, который не может быть утолён едой). Затем при ответе на вопрос даётся неверное определение, скажем: «Время есть движение небесных тел». Следующий шаг заключается в том, чтобы увидеть, что данное определение неудовлетворительно. Но это означает только то, что мы не употребляем слово «время» как синоним словосочетания «движение небесных тел». Как бы там ни было, говоря, что первое определение ошибочно, мы теперь склонны думать, что должны заменить его другим, правильным определением.
Сравним с этим случай определения числа. Объяснение того, что число — это то же самое, что и цифра, отвечает прежнему стремлению к определению. И крайне трудно удержаться от вопроса: «Хорошо, а если число не является цифрой, то что же оно такое?».
Философия, как мы используем это слово, — это борьба против очарования, которое оказывают на нас формы выражения.
Я хочу, чтобы вы помнили, что слова имеют те значения, которые мы им придали; и мы придаём им значения посредством объяснений. Возможно, я дал определение слова и употреблял это слово в соответствии с ним, или те, кто обучил меня употреблению этого слова, могли дать мне объяснение. Или же мы можем посредством объяснения слова, подразумевать объяснение, которое, если нас спросят, мы готовы дать. То есть если мы готовы дать какое-то объяснение; в большинстве случаев мы не готовы. Тогда множество слов в этом смысле не имеют строгого значения. Но это не дефект. Думать, что это дефект, — всё равно что считать свет моей настольной лампы не настоящим, поскольку он не имеет чётких границ.
Философы очень часто говорят об исследовании, анализе значения слов. Но давайте не будем забывать, что слово не получило свое значение с помощью силы, независимой от нас, поэтому возможно своего рода научное исследование того, что слово действительно означает. У слова есть значение, которое ему кто-то дал.
Есть слова с несколькими четко определёнными значениями. Эти значения легко свести в таблицу. А есть слова, о которых можно сказать, что они употребляются тысячью различными способами, постепенно сливающимися друг с другом. Неудивительно, что мы не можем свести в таблицу строгие правила их употребления.
Ошибочно говорить, что в философии мы рассматриваем идеальный язык как противоположный нашему обыденному языку. Ибо это создаёт впечатление, как будто мы считаем, что могли бы улучшить обыденный язык. Но с обыденным языком всё в порядке. Всегда, когда мы создаем «идеальные языки», это делается не для того, чтобы заменить ими наш обыденный язык, но только для того, чтобы устранить некоторую тревогу в сознании тех, кто полагает, что получил точное употребление общеизвестного слова. Именно поэтому наш метод должен не просто перечислять реальные употребления слов, но, скорее, преднамеренно изобретать новые, и некоторые из них из-за того, что они кажутся абсурдными.
Когда мы говорим, что посредством нашего метода мы пытаемся нейтрализовать вводящее в заблуждение действие некоторых аналогий, важно, чтобы вы понимали, что идея вводящей в заблуждение аналогии не является чем-то определенным. Невозможно чётко отграничить случаи, о которых мы сказали бы, что человек был введён в заблуждение аналогией. Употребление выражений, построенных по аналогичным образцам, подчёркивает аналогию между случаями, часто далёкими друг от друга. И благодаря этому данные выражения могут быть крайне полезными. В большинстве случаев невозможно показать точный момент, когда аналогия начинает вводить нас в заблуждение. Каждый особый способ обозначения подчёркивает некоторую отдельную точку зрения. Если, например, мы называем наши исследования «философией», это название, с одной стороны, выглядит уместным, а с другой стороны, оно определённо вводит людей в заблуждение. (Можно сказать, что предмет, с которым мы имеем дело, является одним из преемников предмета, который обычно именовался «философией».) Случаи, о которых мы особенно хотим сказать, что некто введён в заблуждение формой выражения, — это случаи, о которых мы сказали бы: «Он не говорил бы так, как говорит, если бы осознавал это различие в грамматике таких-то слов или если бы осознавал эту другую возможность выражения» и т. д. Так, о некоторых философствующих математиках мы можем сказать, что они явно не осознают различия между многими разными употреблениями слова «доказательство» и что у них нет ясности относительно различия между употреблениями слова «вид», когда они говорят о видах чисел, видах доказательств, как если бы слово «вид» подразумевало здесь то же самое, что и в контексте фразы «виды яблок». Или мы можем сказать, что они не осознают различных значений слова «открытие», когда в одном случае мы говорим об открытии способа построения пятиугольника, а в другом случае — об открытии Южного полюса.
Теперь, когда мы различили переходную и непереходную формы употребления таких слов, как «желать», «бояться», «ожидать» и т. д., мы говорили, что, возможно, кто-то попытается облегчить наши затруднения, сказав: «Различие между двумя случаями заключается просто в том, что в одном случае мы знаем, чего желаем, а в другом — нет». Тот, кто так говорит, я полагаю, явно не видит, что различие, которое он пытается объяснить, вновь появляется, когда мы внимательно рассматриваем употребление слова «знать» в этих двух случаях. Выражение «различие заключается просто в том…» создаёт впечатление, будто мы проанализировали этот случай и нашли простое объяснение, как бывает, когда мы указываем, что два вещества с совершенно разными названиями почти не различаются по составу.
Мы сказали в этом случае, что могли бы употреблять оба выражения: «Мы чувствуем желание» (где «желание» используется в непереходной форме) и «Мы чувствуем желание и не знаем, чего мы желаем». Возможно, это покажется странным, если сказать, что мы можем правильно употреблять обе эти кажущиеся противоречащими друг другу формы выражения; но такие случаи очень часты.
Чтобы пояснить это, давайте воспользуемся следующим примером. Мы говорим, что уравнение х2 = -1 имеет решение ±√-1. Было время, когда говорили, что это уравнение не имеет решения. Теперь это утверждение, независимо от того, согласны мы или не согласны с тем, кто сообщил нам решение, безусловно не может трактоваться многозначно. Но мы легко можем придать ему эту многозначность, сказав, что уравнение х2 + ах + b = 0 не имеет решения, но приближает а к самому близкому решению, которое есть β. Аналогично мы можем сказать: «Прямая линия всегда пересекает окружность иногда в действительных, иногда в комплексных точках» или «Прямая линия либо пересекает окружность, либо не пересекает и на а отстоит от возможной точки пересечения [A straight line either intersects a circle, or it doesn’t and is a far from doing so]». Эти два высказывания означают в точности одно и то же. Они будут более или менее удовлетворительными, в зависимости от того, с какой стороны человек захочет смотреть на это. Он может захотеть сделать различие между пересечением и отсутствием пересечения как можно более незаметным. Или, с другой стороны, он может захотеть подчеркнуть это различие; оба стремления могут быть объяснены его конкретными практическими целями. Но это совершенно не может быть причиной того, что он предпочитает одну форму выражения другой. То, какую форму он предпочтёт, и есть ли у него вообще предпочтения, часто зависит от общих, глубоко укоренённых, наклонностей его мышления.
(Следует ли нам говорить, что бывают случаи, когда один человек презирает другого и не знает этого; или нам следует описывать такие случаи, говоря, что он не презирает его, но ненамеренно ведёт себя по отношению к нему так — говорит с ним определённым тоном и т. д., — как обычно бывает, когда испытываешь презрение? Обе формы выражения правильны; но они могут выдавать различные наклонности сознания.)
Вернемся к изучению грамматики выражений «хотеть», «ожидать», «стремиться» и т. д. и рассмотрим те наиболее важные случаи, в которых выражение «Я хочу, чтобы произошло то-то и то-то» является непосредственным описанием сознательного процесса. То есть тот случай, когда мы были бы склонны ответить на вопрос «Вы уверены, что это именно то, чего вы хотите?» словами: «Конечно, я должен знать, чего я хочу». Теперь сравним этот ответ с ответом, который большинство из нас дало бы на вопрос: «Вы знаете азбуку?». Имеет ли эмоциональное утверждение о том, что вы её знаете, смысл, аналогичный смыслу предыдущего утверждения? Оба утверждения в некотором отношении игнорируют этот вопрос. Но предыдущим утверждением вы не хотите сказать: «Конечно, я знаю такую простую вещь, как эта», а скорее: «Вопрос, который вы задали мне, не имеет смысла». Мы можем сказать: в этом случае мы применяем неправильный метод игнорирования вопроса. «Конечно, я знаю» можно здесь заменить на «Конечно, нет никакого сомнения», а это интерпретируется как означающее: «В этом случае не имеет смысла говорить о сомнении». В этом смысле ответ «Конечно, я знаю, чего я хочу» может быть интерпретирован как грамматическое высказывание.
Это похоже на то, когда мы спрашиваем: «У этой комнаты есть длина?», — и кто-то отвечает: «Конечно, есть». Он мог бы ответить: «Что за глупый вопрос». С другой стороны, высказывание «У комнаты есть длина» может использоваться как грамматическое высказывание. И тогда это означает, что предложение формы «Длина комнаты футов» имеет смысл.
Огромное множество философских затруднений связано с тем смыслом выражений «хотеть», «мыслить» и т. д., который мы сейчас рассматриваем. Всё это можно суммировать в вопросе: «Как возможно мыслить то, чего нет?».
Это прекрасный пример философского вопроса. Он спрашивает: «Как возможно…?», и хотя это приводит нас в замешательство, мы всё же должны признать, что нет ничего легче, чем мыслить то, чего нет. Я имею в виду, что это снова показывает нам, что наше затруднение не вырастает из нашей неспособности вообразить, как осуществляется мышление чего-либо; точно так же, как философское затруднение относительно измерения времени не вырастало из нашей неспособности понять, как действительно измеряется время. Я говорю это, потому что иногда всё выглядит почти так, как если бы наше затруднение было затруднением точно вспомнить то, что происходило, когда мы мыслили нечто, затруднением интроспекции или чем-то в этом роде; тогда как на самом деле оно возникает, когда мы смотрим на факты через вводящую в заблуждение форму выражения.
«Как возможно мыслить то, чего нет? Если я мыслю, что в Королевском колледже пожар, когда пожара там нет, то факта того, что пожар там есть, не существует. Тогда как я могу его мыслить? Как мы можем повесить вора, которого не существует?». Наш ответ можно было бы облечь в следующую форму: «Я не могу повесить его, когда он не существует, но я могу искать его, когда он не существует».
Здесь мы введены в заблуждение существительными «объект мысли» и «факт» и различными значениями слова «существует».
Обсуждение факта как «комплекса объектов» вытекает из этого смешения (ср. Логико-философский трактат). Предположим, мы спросили: «Как возможно вообразить то, чего не существует?». Ответ, по-видимому, следующий: «Если мы это делаем, мы воображаем несуществующие комбинации существующих элементов». Кентавр не существует, но голова, торс и руки человека и ноги коня существуют. «Но разве мы не можем вообразить объект, совершенно отличный от любого существующего объекта?» — Мы были бы склонны ответить: «Нет; элементы, индивиды должны существовать. Если бы краснота, округлость и сладость не существовали, мы не могли бы вообразить их».
Но что вы подразумеваете под выражением «краснота существует»? Мои часы существуют, если они не разломаны на куски, если они не разрушены. Что мы назвали бы «разрушением красноты»? Мы могли бы иметь в виду разрушение всех красных объектов; но разве это приведёт к невозможности вообразить красный объект? Предположим, на это кто-то ответил: «Но, конечно, красные объекты должны были существовать, и вы должны были их видеть, раз вы способны их вообразить». Но откуда вы знаете, что это так? Предположим, я сказал: «Нажатие на глазное яблоко приводит к появлению красных кругов». Разве не таким способом вы впервые познакомились с красным? А почему это не могло быть просто воображением красного пятна? (Затруднение, которое вы можете здесь почувствовать, нужно обсудить при случае позднее[31].)
Теперь мы склонны сказать следующее: «Так как факт — который если бы существовал, то сообщил бы нашей мысли истинность, — существует не всегда, он вовсе не является тем фактом, который мы мыслим [We may now be inclined to say: „As the fact which would make our thought true if it existed does not always exist, it is not the fact which we think“]». Но это зависит только от того, как я хочу использовать слово «факт». Почему бы мне не сказать: «Я убеждён в факте, что в колледже пожар»? Это просто неуклюжее выражение для того, чтобы сказать: «Я убеждён, что в колледже пожар». Высказывание «Это не тот факт, в котором мы убеждены» само является результатом путаницы. Мы думаем, что говорим нечто вроде: «Мы едим не сахарный тростник, а сахар», «В галерее висит не мистер Смит, а его портрет».
Следующий шаг, который мы склонны сделать, заключается в том, чтобы считать, что поскольку объект нашей мысли не является фактом, он является тенью факта. Для этой тени есть разные имена, например, «пропозиция», «смысл предложения».
Но это не устранит наших затруднений. Ибо вопрос теперь в следующем: «Как может нечто быть тенью факта, который не существует?».
Я могу выразить наше затруднение в другой форме, говоря: «Откуда мы можем знать, тенью чего является тень?». Тень была бы чем-то вроде портрета; и, следовательно, я могу иначе сформулировать нашу проблему, спросив: «Что делает портрет портретом мистера N?». Первым приходит в голову следующий ответ: «Сходство между портретом и мистером N». Этот ответ фактически показывает, что мы имели в виду, когда говорили о тени факта. Достаточно ясно, однако, что не на сходстве базируется наша идея портрета; ибо суть этой идеи заключается в том, что из нее должно быть понятно, хороший это портрет или плохой. Другими словами, необходимо, чтобы тень была способна представлять вещи такими, какими они в действительности не являются.
Очевидным и правильным ответом на вопрос «Что делает портрет портретом такого-то?» будет тот факт, что это определённое намерение [intention]. Но если мы хотим знать, что означает «намерение сделать так, чтобы этот портрет был портретом такого-то», — то давайте рассмотрим, что действительно происходит, когда мы намереваемся сделать это. Вспомним случай, когда мы говорили о том, что происходит, когда мы ожидаем чьёго-то прихода с 4.00 до 4.30. Намерение сделать так, чтобы картина была портретом такого-то (например, со стороны художника), не является ни особым состоянием сознания, ни особым ментальным процессом. Но есть огромное количество комбинаций действий и состояний сознания, которые нам следовало бы назвать «намерение сделать так, чтобы…». Может случиться, что ему заказали написать портрет N, и он сидел перед N, совершая определённые действия, которые мы называем «копирование лица N». На это можно возразить, сказав, что сущность копирования заключается в намерении копировать. На это я ответил бы, что существует огромное количество различных процессов, которые мы называем «копированием чего-нибудь». Приведем пример. Я нарисовал эллипс на листе бумаги и прошу вас скопировать его. Что характеризует процесс копирования? Ясно ведь, не тот факт, что вы рисуете похожий эллипс. Вы могли бы попытаться скопировать его, но не преуспеть; или вы могли бы нарисовать эллипс с совершенно иным намерением, а выглядело бы это так, будто вы скопировали. Так что же вы делаете, когда пытаетесь копировать эллипс? Вы смотрите на него, рисуете что-то на листе бумаги, возможно, измеряете то, что нарисовали, возможно, ругаетесь, если находите, что нарисованное не соответствует образцу; или, возможно, вы говорите: «Я собираюсь скопировать этот эллипс», и просто рисуете похожий эллипс. Существует бесконечное разнообразие действий и слов, отдаленно похожих друг на друга, которое мы называем «попыткой копировать».
Предположим, мы сказали, что «образ [picture][32] — это портрет конкретного объекта, который получается из этого объекта особым способом». Теперь легко описать то, что мы назвали бы процессом получения образа из объекта (грубо говоря, процессом проекции). Но есть особое затруднение, касающееся признания того, что любой такой процесс есть то, что мы называем «намеренной репрезентацией». Ибо, какой бы процесс (деятельность) проекции мы ни описывали, существует способ другой интерпретации этой проекции. Поэтому некоторые склонны говорить, что такой процесс никогда не может быть сам по себе намерением. Ибо мы всегда могли бы подразумевать противоположное намерение через другую интерпретацию процесса проекции. Вообразим такой случай: Мы отдаём кому-то приказ идти в определённом направлении, указав его или нарисовав стрелку, указывающую в этом направлении. Предположим, что рисование стрелок — это язык, на котором мы обычно отдаём такой приказ. Разве не может этот приказ интерпретироваться таким образом, чтобы означать, что получающий его человек должен идти в направлении, противоположном направлению стрелки? Это, очевидно, можно было бы сделать добавлением к нашей стрелке некоторых символов, которые мы можем назвать «интерпретацией». Легко вообразить случай, когда, например, для того, чтобы кого-то обмануть, мы можем договориться, чтобы приказ выполнялся в смысле, противоположном его обычному смыслу. Символом, добавляющим интерпретацию к нашей изначальной стрелке, может быть, например, другая стрелка. Всегда, когда мы интерпретируем символ тем или иным образом, интерпретация — это новый символ, добавленный к старому.
Теперь мы можем сказать, что всякий раз, когда мы отдаем кому-либо приказ указанием на стрелку и не делаем это «механически» (не думая), мы тем или иным образом подразумеваем стрелку. И этот процесс подразумевания, какого бы рода он ни был, может быть представлен другой стрелкой (указывающей в том же или в противоположном первой стрелке направлении). В этой создаваемой нами картине «подразумевания и говорения» необходимо, чтобы мы представили процессы говорения и подразумевания имеющими место в двух различных сферах.
Тогда будет ли правильным сказать, что ни одна стрелка не могла бы иметь значения, поскольку каждую из них можно было подразумевать противоположным образом? — Предположим, мы записываем схему произнесения и подразумевания посредством столбика стрелок одна под другой.
Тогда, если эта схема вообще сможет служить нашей цели, она должна показывать нам, какой из этих трёх уровней является уровнем значения. Я могу, например, создать схему с тремя уровнями, и нижний уровень всегда будет уровнем значения. Но какую бы схему или модель вы ни применили, у нее будет нижний уровень, где уже не будет никакой интерпретации. Сказать в этом случае, что каждая стрелка всё ещё может быть интерпретирована, означало бы только то, что я всегда могу создать другую модель произнесения и подразумевания, у которой будет на один уровень больше, чем у той модели, которую я использую.
Сформулируем это следующим образом: — То, что некто хочет сказать, сводится к следующему: «Каждый знак поддаётся интерпретации, но значение не должно поддаваться интерпретации. Оно является последней интерпретацией». Теперь я предполагаю, что вы рассматриваете подразумевание [meaning] как процесс, сопровождающий произнесение, и что оно переводимо в последующий знак и в этом смысле эквивалентно ему. Далее, следовательно, вы должны сказать мне, что вы рассматриваете в качестве критерия отграничения знака от значения [meaning]. Если вы так поступаете, например, говоря, что значение — это стрелка, которую вы воображаете как противоположную любой другой стрелке, которую вы можете нарисовать или создать каким-либо иным способом, то вы тем самым говорите, что не будете называть никакую последующую стрелку интерпретацией той, которую вы вообразили.
Всё это станет яснее, если мы рассмотрим, что происходит на самом деле, когда мы говорим нечто и подразумеваем то, что говорим. — Спросим себя: если мы говорим кому-то «Я был бы рад тебя видеть» и это подразумеваем, то осуществляется ли наряду с этими словами некий сознательный процесс, который можно было бы перевести в произнесённые слова? Вряд ли дело когда-либо будет обстоять таким образом.
Но представим себе пример, где это всё-таки происходит. Предположим, у меня была привычка сопровождать каждое английское предложение, которое я произносил вслух, немецким предложением, произносимым про себя. Если затем, по той или иной причине, вы назовёте предложение, произносимое про себя, значением предложения, произносимого вслух, то процесс подразумевания, сопровождающий процесс произнесения, был бы процессом, который можно было бы перевести во внешние знаки. Или перед каждым произносимым нами вслух предложением мы проговариваем для себя его значение (каким бы оно ни было) как бы со стороны. Пример, по крайней мере сходный с нужным нам случаем, был бы следующим: мы нечто произносим и в то же самое время видим образ перед нашим мысленным взором, который является подразумеванием и согласуется или не согласуется с тем, что мы говорим. Эти и подобные им случаи существуют, но они вовсе не являются тем, что, как правило, происходит, когда мы нечто говорим и это же подразумеваем или подразумеваем что-то другое. Есть, конечно, реальные случаи, при которых то, что мы называем подразумеванием, есть определённый сознательный процесс, сопровождающий, предшествующий или следующий за словесным выражением и сам являющийся своего рода словесным выражением или переводимым в таковое. Типичным примером этого являются реплики «в сторону» на сцене.
К тому, чтобы считать подразумевание того, что мы говорим, процессом по существу того же самого рода, который мы описали, нас склоняет аналогия между формами выражения:
«сказать нечто»,
«подразумевать нечто»,
которые, по-видимому, относятся к двум параллельным процессам.
Процесс, который сопровождает наши слова и который можно назвать «процессом их подразумевания», — это модуляция голоса, с которой мы произносим слова; или один из таких процессов, как смена выражения лица. Эти процессы сопровождают произнесённые слова не так, как немецкое предложение может сопровождать английское предложение или написание предложения сопровождает произнесение предложения, но в том смысле, в котором мелодия сопровождает слова песни. Эта мелодия соответствует «чувству», с которым мы произносим предложение. И я хочу указать, что это чувство является выражением, с которым произносится предложение, или чем-то подобным этому выражению.
Вернёмся к нашему вопросу: «Что такое объект мысли?» (например, когда мы говорим: «Я думаю, что в Королевском колледже пожар»).
Вопрос, как мы его сформулировали, уже выражает некоторую путаницу. Это демонстрируется тем простым фактом, что звучит он почти как вопрос физики, вроде вопроса: «Каковы основные элементы материи?». (Это типично метафизический вопрос; характерная черта метафизического вопроса состоит в том, что мы выражаем неясность, касающуюся грамматики слов, в форме научного вопроса.)
Один из источников нашего вопроса заключается в двояком употреблении пропозициональной функции «Я думаю х». Мы говорим: «Я думаю, что произойдёт то-то и то-то» или «то-то и то-то имеет место», а также «Я думаю как раз о том же, о чем и он»; и мы говорим: «Я жду его», а также «Я жду, что он придет». Сравним «Я жду его» с «Я убиваю его». Мы не можем убить его, если его здесь нет. Именно так возникает вопрос: «Как мы можем ожидать что-то, что не имеет места?», «Как мы можем ожидать факт, который не существует?».
Выход из этого затруднения, по-видимому, следующий: то, что мы ожидаем, — это не факт, но тень факта; так сказать, следующая за фактом вещь. Мы говорили, что это только отодвигает вопрос на шаг назад. У этой идеи тени есть несколько источников. Один из них следующий: мы говорим: «Конечно, два предложения из различных языков могут иметь один и тот же смысл»; и мы утверждаем: «Следовательно, смысл — это не то же самое, что предложение», и задаём вопрос: «Что такое смысл?». И мы делаем «его» некой призрачной [shadowy] сущностью, одной из многих, которые мы создаем, когда хотим придать значение существительным, не соотносящимся ни с какими материальными объектами.
Другой источник идеи о призрачной сущности, являющейся объектом нашей мысли, следующий: мы воображаем, что тень является образом, о намерении которого нельзя спросить, т. е. образом, который мы не интерпретируем для того, чтобы понять его, но понимаем, не интерпретируя. Итак, есть образы, о которых мы должны сказать, что интерпретируем их, т. е. переводим их в образы иного рода, для того чтобы их понять; и есть образы, о которых мы должны сказать, что понимаем их непосредственно без какой-либо дальнейшей интерпретации. Если вы видите телеграмму, написанную шифром, и знаете ключ к этому шифру, то вы, в большинстве случаев, не будете говорить, что понимаете телеграмму до того, как перевели её на обычный язык. Конечно, вы только заменили один вид символов другим; и, тем не менее, если теперь вы читаете телеграмму на своем языке, то не будет никакого дальнейшего процесса интерпретации. — Или же вы сможете в определённых случаях вновь перевести эту телеграмму, например, в образ; но тогда вы опять только замените один набор символов другим.
Тень, как мы её мыслим, есть своего рода образ; фактически, нечто очень похожее на образ, который предстаёт перед нашим мысленным взором; и это опять-таки что-то похожее на нарисованное изображение в обычном смысле. Источник идеи тени определённо заключается в том факте, что в некоторых случаях проговаривание, выслушивание или прочтение предложения преподносит нашему мысленному взору образы, которые более или менее точно соответствуют предложению и которые, поэтому, в некотором смысле являются переводами этого предложения на изобразительный язык. — Но для образа, который мы воображаем как тень, чрезвычайно существенно быть тем, что я буду называть «образом по сходству». Я не подразумеваю под этим, что это такой образ, который похож на то, что с его помощью намеревались репрезентировать, но то, что это такой образ, который является корректным только тогда, когда он похож на то, что он репрезентирует. Для этого рода образа можно употребить слово «копия». Грубо говоря, копии — это хорошие образы, даже если и можно легко ошибиться относительно того, что они репрезентируют.
Плоская проекция одного полушария нашего земного шара не является образом по сходству или копией в этом смысле. Вполне возможно, что я изобразил чьё-то лицо, проецируя его на кусочке бумаги каким-нибудь необычным способом, но в точном соответствии с принятыми правилами проекции, таким образом, что никто при обычных условиях не назвал бы эту проекцию «хорошим изображением того-то», поскольку оно ничуть не походило бы на него.
Если мы храним в сознании возможность образа, который, хоть и корректен, не имеет сходства со своим объектом, то вставка тени между предложением и реальностью теряет всякий смысл. Ибо теперь само предложение может служить в качестве такой тени. Предложение есть как такой образ, который не имеет ни малейшего сходства с тем, что он изображает. Если мы сомневаемся относительно того, как предложение «В Королевском колледже пожар» может быть образом пожара в Королевском колледже, нам нужно только спросить себя: «Как мы должны объяснить, что значит это предложение?». Такое объяснение может состоять из остенсивных определений. Нам следовало бы сказать, например: «Это — Королевский колледж» (указывая на здание), «Это — пожар» (указывая на пожар). Это демонстрирует вам то, как могут быть связаны слова и вещи.
Идея о том, что то, что мы хотим, чтобы произошло, должно быть представлено как тень в нашем желании, глубоко коренится в наших формах выражения. Но, фактически, мы могли бы сказать, что это только очередная полная нелепость по сравнению с той, которую мы на самом деле хотели бы высказать. Если бы это не было слишком нелепо, мы сказали бы, что факт, который мы желаем, должен быть представлен в нашем желании. Ибо как мы можем желать, чтобы произошло как раз это, если как раз это не представлено в нашем желании? Будет вполне правильно сказать: одна тень здесь не поможет, ибо она останавливается, не доходя до объекта, а мы хотим, чтобы желание заключало в себе сам объект. — Мы хотим, чтобы желание того, чтобы мистер Смит вошёл в эту комнату, желало именно м-ра Смита, а не его суррогат, желало, чтобы вошёл, а не суррогат вхождения, и в мою комнату, а не в её суррогат. Но это именно то, о чём мы говорили.
Нашу путаницу можно было бы описать следующим образом: совершенно в соответствии с нашей обычной формой выражения мы считаем желаемый нами факт вещью, которой здесь ещё нет и на которую, следовательно, мы не можем указать. Теперь, для того чтобы понять грамматику нашего выражения «объект нашего желания», давайте просто рассмотрим ответ, который мы даём на вопрос: «Что является объектом вашего желания?». Ответ на этот вопрос, конечно, следующий: «Я желаю, чтобы произошло то-то». А каков был бы ответ, если бы мы продолжали спрашивать: «А что является объектом этого желания?». Он мог бы заключаться только в повторении нашего предыдущего выражения желания, а то и в переводе его в какую-нибудь другую форму выражения. Мы могли бы, например, изложить то, что мы желаем, другими словами или проиллюстрировать наше желание изображением и т. д. Итак, когда мы находимся под впечатлением, что то, что мы называем объектом нашего желания, есть, скажем, человек, который ещё не вошел в нашу комнату и который, следовательно, ещё не может быть виден, мы воображаем, что любое объяснение того, что же это такое, что мы желаем, — будет лишь наилучшим приближением к объяснению, которое показало бы нам действительный факт, который, как мы опасаемся, ещё не может быть показан, поскольку человек ещё не вошёл. — Это как если бы я сказал кому-то: «Я ожидаю м-ра Смита», а он спросил бы меня: «Кто это м-р Смит?», и я ответил бы: «Я не могу показать его вам сейчас, поскольку его здесь нет. Всё, что я могу показать вам, — это его изображение». Тогда всё выглядит так, как если бы я никогда не мог полностью объяснить то, что я желаю, пока этого не произойдёт на самом деле. Но, конечно, это заблуждение. Истина в том, что мне не обязательно быть в состоянии дать лучшее объяснение тому, что я желал, после того, как желание исполнилось, нежели до этого; ибо я вполне мог бы показать м-ра Смита своему другу, а также показать ему, что означает «войти», и показать ему, что представляет собой моя комната, до того, как м-р Смит войдёт в мою комнату.
Наше затруднение можно было бы сформулировать следующим образом: мы думаем о вещах, но каким образом эти вещи проникают в наши мысли? Мы думаем о м-ре Смите; но м-ру Смиту не обязательно присутствовать. Его изображение не годится; ибо откуда мы можем знать, кого оно представляет? Фактически никакой его суррогат не подойдёт. Тогда каким образом он сам может быть объектом наших мыслей? (Здесь я употребляю выражение «объект нашей мысли» иным образом, нежели раньше. Теперь я подразумеваю вещь, о которой я мыслю, а не ту, которую я мыслю.)
Мы сказали, что связь между нашим мышлением или высказыванием о человеке и самим человеком возникла, когда для того, чтобы объяснить значение словосочетания «м-р Смит», мы указали на него, сказав: «Это м-р Смит». И в этой связи нет ничего таинственного. Я имею в виду, что нет никакого странного ментального действия, которое каким-то образом вызывает м-ра Смита в нашем сознании, когда его на самом деле здесь нет. Сложно увидеть, что это та самая связь, из-за своеобразной формы выражения обыденного языка, которая создаёт впечатление, что связь между нашей мыслью (или выражением нашей мысли) и вещью, которую мы мыслим, должна уцелеть на протяжении акта мышления.
«Разве не странно, что в Европе мы были бы способны подразумевать того, кто находится в Америке?» — Если бы кто-то сказал: «Наполеон был коронован в 1804 году», — а мы спросили бы его: «Ты подразумевал человека, который выиграл битву при Аустерлице?», — то он мог бы сказать: «Да, я подразумевал его». И использование глагола «подразумевать» в прошедшем времени может создать впечатление, что в сознании человека, когда он сказал, что Наполеон был коронован в 1804 году, должна была присутствовать идея того, что Наполеон выиграл битву при Аустерлице.
Кто-то говорит: «М-р N придёт повидать меня сегодня днём». Я спрашиваю: «Ты имеешь в виду его?», — указывая на кого-нибудь из присутствующих, и он отвечает: «Да». В этом разговоре была установлена связь между словосочетанием «м-р N» и м-ром N. Но мы склонны считать, что, в то время как мой друг говорил: «М-р N придёт повидать меня» и подразумевал именно то, что он говорил, его сознание создало эту связь.
Отчасти именно это заставляет нас думать о подразумевании или мышлении как об особой ментальной деятельности; причем слово «ментальная» показывает, что мы не должны надеяться понять то, как это происходит.
То, что мы сказали о мышлении, может быть также применено к воображению. Кто-то говорит, что воображает пожар в Королевском колледже. Мы спрашиваем его: «Откуда ты знаешь, что то, где ты воображаешь пожар, является Королевским колледжем? Разве это не может быть другое здание, очень похожее на него? В самом деле, разве твоё воображение столь абсолютно точно, что не может быть дюжины зданий, изображением которых может быть твой образ?». — И всё же вы говорите: «Вне всякого сомнения, я воображаю Королевский колледж, а не какое-то другое здание». Но разве произнесение этого не создаёт ту самую связь, которая нам нужна? Ибо произнесение этого подобно написанию слов «Портрет м-ра такого-то» под картиной. Могло бы случиться так, что пока вы воображали пожар в Королевском колледже, вы произнесли слова «В Королевском колледже пожар». Но в значительном числе случаев вы, безусловно, не произносите пояснительных слов в своем сознании, когда у вас есть образ. И примите во внимание, что, даже если вы это делаете, вы не проходите весь путь от своего образа до Королевского колледжа, но только до слов «Королевский колледж». Связь между этими словами и Королевским колледжем, возможно, была создана в другое время.
Ошибка, которую мы склонны совершать во всех наших рассуждениях на эту тему, заключается в том, чтобы считать, что разного рода образы и переживания, которые в некотором смысле тесно связаны друг с другом, должны присутствовать в нашем сознании в одно и то же время. Если мы напеваем мелодию, которую знаем наизусть, или читаем алфавит, то ноты или буквы кажутся связанными друг с другом, и каждая будто тянет за собой следующую; как если бы они были ниткой жемчуга в шкатулке, и, вытаскивая одну жемчужину, я вытаскивал бы и другую, следующую за ней.
Нет сомнения, что, при наличии визуального образа нити бусин, вытягиваемых из шкатулки через отверстие в крышке, мы были бы склонны сказать: «Все эти бусины должны были быть вместе в шкатулке до этого». Но легко увидеть, что, говоря так, мы формулируем гипотезу. У меня был бы тот же самый образ, если бы бусины одна за другой образовывались в отверстии крышки. Мы легко упускаем из виду различие между констатацией сознательного ментального события и формулированием гипотезы о том, что можно назвать механизмом сознания. Тем более что такие гипотезы или образы работы нашего сознания воплощены во многих формах выражения нашего повседневного языка. Прошедшее время глагола «подразумевать» в предложении «Я подразумевал человека, который выиграл битву при Аустерлице» является частью такого образа, причем сознание понимается как место, в котором содержится, хранится то, что мы помним перед тем, как выразить это. Если я насвистываю мелодию, которую хорошо знаю, и меня прерывают посредине, и если потом кто-то спрашивает меня: «Ты знал, как продолжать?», — то я отвечу: «Да, я знал». Какого рода процессом является это знание того, как продолжать? Может показаться, что должно было присутствовать всё продолжение мелодии, поскольку я знал, как продолжать.
Задайте себе следующий вопрос: «Сколько времени уходит на то, чтобы знать, как продолжать?». Или же это мгновенный процесс? Не совершаем ли мы ошибки, подобной той, когда смешиваем существование граммофонной записи мелодии с существованием этой мелодии? И не предполагаем ли мы, что всегда, когда исполняется мелодия, должна быть своего рода её граммофонная запись, с которой она проигрывается?
Рассмотрим следующий пример. В моем присутствии стреляет пушка, и я говорю: «Этот грохот был не таким громким, как я ожидал». Кто-то спрашивает меня: «Как такое возможно? Неужели грохот в твоем воображении был громче, чем настоящий?». Я должен признаться, что ничего подобного не было. Теперь он говорит: «Тогда ты на самом деле ожидал не более громкого грохота, но, возможно, его тень. А как ты узнал, что это была тень более громкого грохота?». Давайте рассмотрим, что в таком случае могло произойти на самом деле? Возможно, ожидая выстрела, я открыл рот, взялся за что-нибудь, чтобы сохранить равновесие, и, возможно, сказал: «Это будет ужасно». Затем, после взрыва: «Вообще-то это было не так уж и громко». — Некоторое напряжение в моём теле ослабло. Но какова связь между этим напряжением, открытым ртом и т. п., и действительно более громким грохотом? Возможно, эта связь возникла из-за услышанного грохота и упомянутых переживаний.
Исследуем выражения вроде «наличие идеи в чьём-то сознании», «анализирование идеи перед чьим-то мысленным взором». Чтобы не быть введёнными в заблуждение этими выражениями, рассмотрим, что действительно происходит, когда, например в процессе написания письма, вы подыскиваете слова, которые верно выражают идею, находящуюся «перед вашим мысленным взором». Сказать, что мы пытаемся выразить идею, находящуюся перед нашим мысленным взором, значит использовать метафору, которая весьма естественно приходит на ум и с которой всё в порядке до тех пор, пока она не вводит нас в заблуждение в процессе философствования. Ибо, когда мы вспоминаем, что происходит в таких случаях на самом деле, мы обнаруживаем большое разнообразие процессов, более или менее родственных друг другу. — Мы можем склониться к тому, чтобы сказать, что во всех таких случаях нас, по меньшей мере, направляет нечто, находящееся перед нашим мысленным взором. Но тогда слова «направляет» и «нечто, находящееся перед нашим мысленным взором» употребляются в столь же многих смыслах, как и слова «идея» и «выражение идеи».
Фраза «выражать идею, находящуюся перед нашим мысленным взором» предполагает, что то, что мы пытаемся выразить в словах, уже выражено, только на ином языке; что это выражение находится перед нашим мысленным взором; и что то, что мы делаем, — это перевод с ментального языка на вербальный. В большинстве случаев, которые мы называем «выражением идеи» и т. д., происходит нечто совершенно иное. Вообразим то, что происходит в случаях вроде следующего. Я подыскиваю слово. Предлагается несколько слов, и я их отвергаю. Наконец предложено одно, и я говорю: «Именно это я и имел в виду!».
(Мы были бы склонны сказать, что доказательство невозможности трисекции угла с помощью линейки и циркуля анализирует нашу идею трисекции угла. Но это доказательство даёт нам новую идею трисекции, идею, которой у нас не было, пока её не создало доказательство. Доказательство вело нас дорогой, которой мы были склонны идти; но оно увело нас прочь от того места, где мы были, и как раз не показало нам ясно то место, где мы находились всё время.)
Вернёмся теперь к тому пункту, где мы говорили, что мы ничего не приобретаем в результате предположения, что тень должна располагаться между выражением нашей мысли и той реальностью, с которой связана наша мысль. Мы говорили, что если нам требуется образ реальности, то предложение само является таким образом (хотя и не образом по сходству).
Во всём этом я пытался избавиться от искушения считать, что «должен» существовать, как его называют, ментальный процесс мышления, упования, желания, убеждения и т. д., независимый от процесса выражения мысли, упования, желания и т. д. И я хочу дать вам следующее приблизительное правило: если вы приведены в замешательство природой мысли, убеждения, знания и тому подобного, замените мысль на выражение мысли и т. д. Затруднение, которое заключается в этой замене, и, в то же самое время, вся его сущность, таковы: выражение убеждения, мысли и т. д. — это всего лишь предложение; а предложение имеет смысл, только будучи элементом языковой системы; как одно выражение в рамках исчисления. Теперь мы склонны представить себе это исчисление, так сказать, постоянным фоном каждого произносимого нами предложения и пытаемся думать, что, хотя предложение, записанное на листе бумаги или кем-то произнесённое, находится в изоляции, в ментальном акте мышления присутствует всё исчисление целиком. Кажется, что ментальный акт таинственным образом преобразует то, что не может быть преобразовано никаким актом манипуляции символами. Теперь, когда исчезает искушение считать, что в каком-то смысле должно присутствовать всё исчисление, то больше нет смысла постулировать существование особого рода ментального акта бок о бок с нашим выражением. Это, конечно, не означает, что мы показали, что особые акты сознания не сопровождают выражения наших мыслей! Мы только больше не говорим, что они должны сопровождать их.
«Но выражение наших мыслей всегда может обманывать, ибо мы можем говорить одно, а подразумевать другое». Вообразим, какое множество различных вещей происходит, когда мы говорим одно, а подразумеваем другое! — Проведите следующий эксперимент: произнесите предложение: «В этой комнате жарко», подразумевая: «Холодно». Внимательно наблюдайте, что вы делаете.
Мы могли бы легко вообразить существ, которые свои личные мысли выражают посредством «реплик в сторону» и которые управляют своим обманом, говоря вслух одно, а следом произнося реплику в сторону, означающую противоположное.
«Но подразумевание, мышление и т. д. — это индивидуальные переживания. Они не являются действиями, подобными письму, речи и т. д.». — Но почему бы не существовать особым индивидуальным переживаниям процесса письма — мускульным, визуальным, тактильным ощущениям процесса письма или процесса речи?
Проведите следующий эксперимент. Произнесите и наделите значением [mean] предложение, например: «Вероятно, завтра будет дождь». Теперь вновь помыслите то же самое, подразумевая то, что вы только что подразумевали, но не произнося ничего (ни вслух, ни про себя). Если мышление о том, что завтра будет дождь, сопровождалось произнесением того, что завтра будет дождь, тогда проделайте только первое действие и опустите второе. — Если бы мышление и произнесение соотносились как слова и мелодия песни, мы могли бы опускать слова и мыслить точно так же, как в случае, когда мы напеваем мелодию без слов.
Но разве, по крайней мере, нельзя говорить и при этом опускать мышление? Конечно, но понаблюдайте, что именно вы делаете, когда говорите, не мысля. Заметьте прежде всего, что процесс, который мы могли бы назвать «произнесением и подразумеванием того, что вы говорите», необязательно отличается от процесса бездумного произнесения тем, что происходит в то время, когда вы говорите. Эти процессы вполне может различать то, что происходит до или после того, когда вы говорите.
Предположим, я преднамеренно пытался говорить, не мысля; что бы я делал фактически? Я мог бы прочитывать предложение из книги, пытаясь читать его автоматически, т. е. пытаясь удержать себя от сопровождения предложения образами и ощущениями, которые в противном случае оно бы вызвало. Чтобы сделать это, мне пришлось бы сконцентрировать свое внимание на чём-то другом, пока я произносил предложение, например, больно ущипнуть себя, пока я его произносил. — Сформулируем это следующим образом: произнесение предложения без мышления заключается во включении речи и отключении определённых, сопровождающих речь элементов. Теперь спросим себя: состоит ли мышление предложения без его произнесения в обратном (включении того, что мы в предыдущем случае отключили и vice versa); т. е. состоит ли теперь мышление предложения без его произнесения просто в сохранении того, что сопровождало слова, но без слов? Попытайтесь помыслить мысль предложения без этого предложения и посмотрите, происходит ли именно это.
Подведём итог: если мы тщательно исследуем случаи употребления таких слов, как «мышление», «подразумевание», «желание» и т. д., то прохождение через этот процесс избавит нас от соблазна искать особый акт мышления, независимый от акта выражения наших мыслей и скрытый в каком-то особом посреднике. Теперь установленные формы выражения нам больше не мешают признавать, что переживание мышления может быть просто переживанием произнесения или может состоять из этого переживания плюс других, сопровождающих его переживаний. (Полезно также исследовать следующий случай: предположим, что умножение является частью предложения; спросим себя, на что похоже, когда произносят пример умножения 7 × 5 = 35, мысля его, и, с другой стороны, произносят его, не мысля.) Тщательное исследование грамматики слова ослабляет позицию определённых фиксированных стандартов нашего выражения, которые мешали нам смотреть на факты непредубеждёнными глазами. Наше исследование пытается устранить это предубеждение, заставляющее нас думать, что факты должны сообразовываться с определёнными образами, встроенными в наш язык.
«Значение» — это одно из тех слов, о которых можно сказать, что они выполняют в нашем языке работу по случаю. Как раз такие слова являются причиной большинства философских затруднений. Представим себе некую организацию: большинство её членов имеют определённые постоянные функции, которые можно легко прописать, например, в уставе организации. С другой стороны, есть некоторые члены, выполняющие работу по случаю, которая, тем не менее, может быть крайне важной. — Причина большинства затруднений в философии заключается в том, что мы склонны описывать употребление важных слов, выполняющих работу по случаю, как если бы они были словами с постоянными функциями.
Причина, по которой я откладывал разговор об индивидуальном переживании, заключалась в том, что размышление на эту тему воскрешает призрак философских затруднений, которые грозят разрушить все понятия нашего здравого смысла относительно того, что обычно мы назвали бы объектами нашего опыта. И если мы были поражены этими проблемами, нам могло показаться, что всё, что мы сказали о знаках и о различных объектах, упоминаемых в наших примерах, должно подвергнуться коренному изменению.
Ситуация, в известной мере, типична для философского исследования; и кто-то некогда описал ее, сказав, что ни одна философская проблема не может быть решена, пока не решены все философские проблемы; и это означает, что до тех пор, пока все они не решены, каждое новое затруднение ставит под сомнение все предшествующие результаты. Если мы должны говорить о философии в столь общих терминах, то на это утверждение мы можем дать лишь приблизительный ответ. Он заключается в том, что каждая вновь возникающая проблема может поставить под вопрос ту позицию, которую в окончательной картине должны занимать наши предыдущие частные результаты. Тогда говорят о необходимости другой интерпретации этих предыдущих результатов; а мы сказали бы: их нужно поместить в иное окружение.
Представим себе, что мы должны привести в порядок книги в библиотеке. Когда мы начинаем, книги лежат на полу в полном беспорядке. Итак, есть много способов их сортировки и размещения. Можно было бы брать книгу за книгой и каждую ставить на полку на подобающее ей место. С другой стороны, мы могли бы взять несколько книг с пола и поставить их в ряд на полку просто для того, что обозначить, что эти книги должны располагаться вместе в такой очередности. В процессе приведения библиотеки в порядок весь ряд книг переместится в другое место. Но было бы ошибочным сказать, что по этой причине размещение их вместе на полке не являлось шагом в направлении конечного результата. Фактически, в этом случае достаточно очевидно, что располагать вместе книги, составляющие комплект, было определённым достижением, даже если весь их ряд должен быть перемещён. Но некоторые из величайших философских достижений можно было бы сравнить лишь с собиранием определённых книг, которые, как казалось, должны были стоять вместе, и расстановкой их по разным полкам; в плане их расположения изменилось в лучшем случае то, что они больше не стоят бок о бок. Наблюдатель, который не осознает трудности задачи, вполне мог бы в таком случае подумать, что не достигнуто вообще ничего. — Сложность в философии заключается в том, чтобы сказать ровно столько, сколько мы знаем. Например, увидеть, что, когда мы поставили две книги вместе в нужном порядке, мы тем самым ещё не поставили их на окончательное место.
Когда мы мыслим об отношении окружающих нас объектов к нашим индивидуальным переживаниям этих объектов, мы иногда склонны говорить, что эти индивидуальные переживания и есть тот материал, из которого состоит реальность. Как возникает эта склонность, станет ясно позднее.
Когда мы мыслим таким образом, мы, по-видимому, утрачиваем твёрдый контроль над окружающими нас объектами. И вместо этого мы остаёмся с множеством разрозненных индивидуальных переживаний различных индивидуумов. Эти индивидуальные переживания вновь кажутся смутными и находящимися в постоянном изменении. И кажется, что наш язык не создан для того, чтобы их описывать. Мы склонны думать, что для того, чтобы прояснить такие материи по-философски, наш обыденный язык слишком груб, что нам необходим более тонкий язык.
Кажется, что мы совершили открытие, которое я мог бы описать, сказав, что почва, на которой мы стояли и которая казалась твёрдой и надёжной, оказалась болотистой и опасной. — То есть это происходит, когда мы философствуем; ибо, как только мы возвращаемся к позиции здравого смысла, эта общая неуверенность исчезает.
Эту странную ситуацию можно как-то прояснить, рассмотрев пример; фактически мы имеем дело со своего рода иносказанием, иллюстрирующим затруднение, в котором мы оказались, а также демонстрирующим, как из него выйти; популяризаторами науки нам было сказано, что пол, на котором мы стоим, не является твёрдым, каким он представляется здравому смыслу, поскольку было открыто, что дерево состоит из частиц, наполняющих пространство в столь малой степени, что его можно назвать почти пустым. Вполне возможно, что это приводит нас к недоумению, ибо, в некотором отношении, мы знаем, что пол является твёрдым или что если он не твёрдый, то это возможно из-за того, что дерево прогнило, но не из-за того, что оно состоит из электронов. Сказать на этом основании, что пол не является твёрдым, значит неправильно использовать язык. Ибо даже если бы частицы были такими же большими, как песчинки, и столь же плотно прилегали друг к другу, как песчинки в куче песка, пол не был бы твёрдым, если бы он состоял из них в том смысле, в котором груда песка состоит из песчинок. Наше затруднение основывалось на неверном понимании; образ экономно наполненного пространства применялся ошибочно. Ибо этот образ структуры материи предназначался для объяснения самого феномена твёрдости.
Подобно тому, как в данном примере слово «твёрдость» употреблялось ошибочно, а мы, как представлялось, показали, что на самом деле ничто не является твёрдым, точно таким же образом, формулируя наши головоломки относительно общей смутности чувственных переживаний и относительно потока всех феноменов, мы употребляем слова «поток» и «смутность» ошибочно, в типично метафизической манере, а именно, без антитезы; тогда как в их правильном и повседневном употреблении смутность противопоставлена ясности, поток — неподвижности, неточность — точности, а проблема — решению. Можно сказать, что само слово «проблема» применяется неверно при использовании для наших философских затруднений. Эти затруднения, пока они рассматриваются как проблемы, провоцируют и кажутся неразрешимыми.
У меня возникает искушение сказать, что реально только моё собственное переживание: «Я знаю, что я вижу, слышу, чувствую боль и т. д., а не кто-то другой. Этого я не могу знать, потому что я — это я, а он — это он».
С другой стороны, мне совестно говорить кому-то, что моё переживание является единственно реальным переживанием; и я знаю, что он ответит: он мог бы сказать в точности то же самое о своём переживании. Кажется, что это ведет к глупой игре слов. Мне также говорят: «Если ты жалеешь того, кто испытывает боль, ты, конечно, должен, по меньшей мере, верить в то, что и он испытывает боль». Но как я могу хотя бы верить в это? Каким образом эти слова могут иметь для меня смысл? Каким образом я мог бы хотя бы подойти к идее переживания другого, если невозможны какие-либо его свидетельства?
Но не было ли это странным вопросом? Разве я не могу поверить, что кто-то другой испытывает боль? Разве в это так уж трудно поверить? — Будет ли ответом сказать, что вещи таковы, какими они кажутся здравому смыслу? — Опять-таки, нет нужды говорить, что мы не чувствуем этих затруднений в обыденной жизни. Да и неверно сказать, что мы чувствуем их, когда тщательно исследуем наши переживания посредством интроспекции или проводим над ними научные исследования. Но так получается, что, когда мы смотрим на них определенным образом, наше выражение склонно запутаться. Создаётся впечатление, что мы располагаем или неправильными кусочками, или недостаточным их количеством, чтобы собрать паззл. Но они все здесь перед нами, только в перемешанном виде. Есть и другая аналогия между паззлом и нашим случаем: бесполезно применять силу, чтобы собрать фрагменты нашего паззла. Всё, что нам следует делать, это рассматривать их внимательно и упорядочивать.
Есть пропозиции, о которых мы можем сказать, что они описывают факты материального мира (внешнего мира). Грубо говоря, они сообщают о физических объектах: телах, жидкостях и т. д. Я не имею в виду естественнонаучные законы в частности, но любые пропозиции типа «Тюльпаны в нашем саду в полном цвету» или «Смит придёт в любой момент». С другой стороны, есть пропозиции, описывающие индивидуальные переживания, когда, например, субъект в психологическом эксперименте описывает свои чувственные переживания; например, свои визуальные переживания, независимо от того, какие тела действительно находятся перед его глазами, и (обратите внимание!) независимо от любых процессов, которые можно наблюдать на сетчатке его глаза, в его нервах, в мозгу или в других частях его тела. (То есть независимо как от физических, так и от психологических факторов.)
На первый взгляд, может показаться (но почему, это может проясниться только позднее), что здесь мы имеем две разновидности миров, миров, построенных из различных материалов; ментальный мир и физический мир. Ментальный мир мы, фактически, склонны воображать как газообразный или, скорее, эфирный. Но позвольте мне напомнить вам здесь о той странной роли, которую играют в философии газообразное и эфирное, — когда мы осознаем, что существительные употребляются не как то, что мы обычно называем именем объекта, и когда нам, следовательно, не остаётся ничего иного, кроме как сказать, что это имя эфирного объекта. Я имею в виду, что мы уже знаем об идее «эфирных объектов» как об отговорке, когда мы сбиты с толку грамматикой определённых слов и когда мы знаем только то, что они не употребляются в качестве названий материальных объектов. Это намёк на то, как будет разрешаться проблема двух субстанций, сознания и материи.
Иногда нам кажется, будто явления индивидуального переживания в некотором смысле представляют собой явления высших слоев атмосферы в их противопоставлении материальным явлениям, которые происходят на земле. Есть точка зрения, согласно которой эти явления в высших слоях возникают тогда, когда материальные явления достигают определённой степени сложности. Например, ментальные феномены, чувственные переживания, воля и т. д. появляются тогда, когда развился тип животного тела определённой сложности. По-видимому, в этом есть какая-то очевидная истина, ибо амёба определённо не разговаривает, не пишет и не ведёт дискуссий, тогда как мы это делаем. С другой стороны, здесь возникает проблема, которую можно было бы выразить вопросом: «Может ли машина мыслить?» (или действия этой машины будут описываться и предсказываться с помощью законов физики или же, возможно, только с помощью законов иного рода, применяемых к поведению организмов). И беспокойство, выраженное в этом вопросе, на самом деле не в том, что нам ещё не известна машина, которая могла бы выполнять определённую работу. Этот вопрос не аналогичен вопросу, который кто-нибудь мог задать сто лет назад: «Может ли машина сжижать газ?». Проблема, скорее, в том, что предложение «Машина мыслит (воспринимает, желает)» кажется чем-то бессмысленным. Как если бы мы спросили: «Есть ли у числа 3 цвет?» («Какого цвета оно могло бы быть, если у него, очевидно, нет ни одного из известных нам цветов?»). Ибо, в одном аспекте проблемы, индивидуальное переживание, вовсе не являясь продуктом физических, химических, физиологических процессов, кажется самой основой всего, что мы говорим в каком-либо смысле о таких процессах. Рассматривая это так, мы склонны использовать нашу идею строительного материала ещё и другим вводящим в заблуждение образом и говорить, что весь мир, ментальный и физический, сделан только из одного материала.
Если мы смотрим на всё, что мы знаем, и можем сказать о мире как о покоящемся на личном опыте, тогда то, что мы знаем, по-видимому, теряет значительную часть своей ценности, надёжности и основательности. Мы тогда склонны говорить, что все это «субъективно»; причём слово «субъективно» употребляется в уничижительном смысле, как когда мы говорим, что мнение является всего лишь субъективным, делом вкуса. Итак, то, что этот аспект, по-видимому, мог бы поколебать авторитет опыта и знания, указывает на тот факт, что здесь наш язык склоняет нас к тому, чтобы провести какую-нибудь вводящую в заблуждение аналогию. Это должно напомнить нам случай, когда популяризаторы науки, как показалось, продемонстрировали нам, что пол, на котором мы стоим, на самом деле не является твёрдым, потому что он состоит из электронов.
Мы наталкиваемся на затруднение, вызванное нашим способом выражения.
Другое такое затруднение, близкородственное первому, выражено в предложении: «Я могу знать только то, что у меня есть индивидуальные переживания, но не то, что они есть у кого-то другого». — Назовём ли мы тогда излишней гипотезу, что у кого-то другого есть индивидуальные переживания? — Но является ли это вообще гипотезой? Ибо как я могу даже выдвигать гипотезу, если она выходит за пределы всякого возможного переживания? Как могла бы подобная гипотеза подкрепляться значением? (Разве не похожа она на бумажные деньги, не подкреплённые золотом?) — Не поможет и то, если нам скажут, что, хоть мы не знаем, испытывает ли другой человек боль, мы, несомненно, верим в это, когда, например, его жалеем. Конечно, мы не могли бы жалеть его, если бы не верили, что он испытывает боль; но разве это философская, метафизическая вера? Разве реалист жалеет меня в большей степени, чем идеалист или солипсист? — Фактически, солипсист спрашивает: «Как мы можем верить в то, что другой испытывает боль, что значит верить в это? Как может выражение такого предположения иметь смысл?».
Итак, ответ философа здравого смысла — а это (обратите внимание!) не здравомыслящий человек, который далёк как от реализма, так и от идеализма, — ответ философа здравого смысла заключается в том, что, конечно, нет никаких трудностей в идее предположения, мышления, воображения, что у кого-то есть то же, что у меня. С реалистом проблема всегда в том, что он не решает, но пропускает трудности, которые видят его оппоненты, хотя они также не преуспевают в их решении. Для нас ответ реалиста только показывает трудность; ибо тот, кто рассуждает так, просто не замечает различия между разными употреблениями слов «иметь», «воображать». «У А золотой зуб» означает, что зуб находится во рту А. Это может объяснить тот факт, что я не способен видеть этот зуб. Итак, случай с его зубной болью, о которой я говорю, что я не способен её чувствовать, поскольку она у него во рту, не аналогичен случаю с золотым зубом. Причиной нашего беспокойства является эта мнимая аналогия и опять-таки отсутствие аналогии между этими случаями. И именно эту причиняющую беспокойство особенность грамматики не замечает реалист. Можно помыслить, что я чувствую зубную боль во рту другого человека; и человек, который говорит, что он не может чувствовать зубную боль другого, не отрицает это. Мы будем видеть ясно грамматическую трудность, с которой мы столкнулись, только если приблизимся к идее ощущения боли в теле другого человека. Ибо, в противном случае, в замешательстве от этой проблемы, мы будем склонны смешать нашу метафизическую пропозицию «Я не могу чувствовать его боль» с пропозицией опыта «Мы не можем (как правило, не можем) испытывать боль в зубе другого человека». В этой пропозиции словосочетание «не можем» употреблено таким же образом, как и в пропозиции «Железный гвоздь не может оцарапать стекло» (мы могли бы записать это в форме «Опыт учит, что железный гвоздь не царапает стекло», покончив, таким образом, с «не может»). Чтобы увидеть, что возможно, чтобы один человек мог испытывать боль в теле другого человека, нужно изучить, какого рода факты мы называем критериями нахождения боли в определённом месте. Легко вообразить следующий случай: когда я вижу кисти свих рук, я не всегда осознаю их связь с остальным телом. То есть я часто вижу, как двигается моя кисть, но не вижу остальной руки, которая связывает её с торсом. Причём вовсе не обязательно в этот момент выяснять существование руки каким-то другим способом. Поэтому моя кисть может, насколько я знаю, быть соединена с телом стоящего рядом со мной человека (или же вообще не к человеческому телу). Предположим, я чувствую боль, которую, основываясь на одной боли (например, с закрытыми глазами) я бы назвал болью в кисти своей левой руки. Кто-нибудь просит меня, чтобы я прикоснулся к больному месту правой рукой. Я делаю это и, обернувшись, обнаруживаю, что прикоснулся к кисти своего соседа (подразумевая, что кисть соединена с торсом соседа).
Спросите себя: «Откуда мы знаем, куда указывать, когда нас просят указать на больное место?». Можно ли указание такого рода сравнить с указанием на чёрное пятно на листе бумаги, когда кто-нибудь говорит: «Укажите на чёрное пятно на этом листе»? Предположим, кто-то сказал: «Вы указали на это место, потому что вы знали до того, как указать, что болит здесь»; спросите себя: «Что значит знать, что болит здесь?». Слово «здесь» отсылает к местоположению; — но в каком пространстве, т. е. в каком смысле «местоположение»? Знаем ли мы место боли в евклидовом пространстве, так что, когда мы знаем, где у нас болит, мы знаем, насколько далеко от двух стен этой комнаты и от пола? Когда у меня болит кончик пальца и я касаюсь им своего зуба, является ли теперь моя боль как зубной болью, так и болью в моём пальце? Конечно, в некотором смысле можно сказать, что местоположение этой боли в зубе. Является ли причиной, по которой в этом случае ошибочно говорить, что у меня болит зуб, то обстоятельство, что для того, чтобы быть в зубе, боль должна быть удалена на одну шестнадцатую дюйма от кончика моего пальца? Вспомните, что слово «где» может относиться к местоположению во многих разных смыслах. (С этим словом разыгрывается много различных грамматических игр, более или менее похожих друг на друга. Обдумайте различные употребления цифры «1».) Я могу знать, где находится вещь, и затем указать на неё на основании этого знания. Знание говорит мне, куда указывать. Мы рассматриваем это знание как условие преднамеренного указания на объект. Так, можно сказать: «Я могу указать на пятно, которое вы имеете в виду, потому что я его вижу», «Я могу направить вас к этому месту, потому что я знаю, где оно находится; сначала поверни направо и т. д.». Итак, кто-то склонен сказать: «Я должен знать, где находится вещь, до того, как смогу указать на неё». Возможно, вам меньше понравится следующее высказывание: «Я должен знать, где находится вещь, до того, как смогу посмотреть на неё». Иногда, конечно, говорить так правильно. Но мы склонны считать, что существует особое психическое состояние или событие, знание места, которое должно предшествовать каждому преднамеренному акту указания, движения к чему-либо и т. д. Обдумаем аналогичный случай: «Подчиниться приказу можно только после того, как он понят».
Если я указываю на больное место на своей руке, в каком смысле обо мне можно было бы сказать, что я знал, где болит, до того, как я указал на это место? До того, как указать, я мог бы сказать: «Болит в моей левой руке». Предположим, моя рука была покрыта сеткой линий, пронумерованных таким образом, чтобы я мог указать любое место на её поверхности. Разве я обязательно должен быть в состоянии описать больное место посредством этих координат до того, как я смог указать на него? Я хочу сказать, что акт указания предопределяет место боли. Этот акт указания, между прочим, не нужно путать с актом поиска больного места с помощью прощупывания. Фактически, эти два акта могут привести к различным результатам.
Можно обдумать значительное число случаев, о которых мы сказали бы, что некто испытывает боль в теле другого человека, или, например, в предмете мебели, или в каком-то пустом месте. Конечно, мы не должны забывать, что боль в отдельной части нашего тела, например, в верхнем зубе, имеет особое тактильное и кинестетическое окружение. Поднимая свою руку вверх на небольшое расстояние, мы касаемся своего глаза; и словосочетание «небольшое расстояние» указывает здесь на тактильное или на кинестетическое расстояние или на то и другое сразу. (Легко вообразить, что тактильное и кинестетическое расстояния соотнесены по-другому, нежели обычно. Расстояние от нашего рта до нашего глаза может показаться очень значительным «мышцам нашей руки», когда мы передвигаем наш палец ото рта к глазу. Подумайте, насколько большим вы воображаете дупло в вашем зубе, когда его сверлит и зондирует дантист.)
Когда я сказал, что, если мы немного поднимем свою руку, то прикоснёмся к своему глазу, я имел в виду только тактильные свидетельства. То есть критерий того, что мой палец прикасается к моему глазу, должен был заключаться только в том, что у меня было особое ощущение, которое позволило бы мне сказать, что я прикоснулся к своему глазу, даже если для этого у меня не было визуальных свидетельств и даже если, глядя в зеркало, я видел, что мой палец не касается моего глаза, а касается, например, моего лба. Так же как «небольшое расстояние», на которое я указывал, имело тактильный и кинестетический характер, точно так же были тактильными и те места, о которых я говорил, что «они лежат на незначительном расстоянии». Сказать, что мой палец в тактильном и кинестетическом пространстве движется от моего зуба к моему глазу, тогда означает, что у меня есть такие тактильные и кинестетические переживания, которые обычно бывают, когда мы говорим, что «мой палец движется от моего зуба к моему глазу». Но то, что мы рассматриваем как свидетельство этой последней пропозиции, ни в коем случае, как все мы знаем, не является только тактильным и кинестетическим. Фактически, если бы у меня были тактильные и кинестетические ощущения, на которые можно сослаться, то я всё ещё мог бы отрицать пропозицию «мой палец движется… и т. д.» из-за того, что я видел. Эта пропозиция есть пропозиция о физических объектах. (И здесь не нужно думать, что выражение «физические объекты» подразумевает различение объектов одного рода от другого.) Грамматика пропозиций, которые мы называем пропозициями о физических объектах, допускает разнообразие свидетельств для каждой из них. Грамматику пропозиции «мой палец движется и т. д.» характеризует то, что я рассматриваю пропозиции «Я вижу, что он движется», «Я чувствую, что он движется», «Он видит, что он движется», «Он говорит мне, что он движется» и т. д. как её свидетельства. Итак, если я говорю: «Я вижу, что моя рука движется», это, на первый взгляд, по-видимому, предполагает, что я согласен с пропозицией «Моя рука движется». Но если я рассматриваю пропозицию «Я вижу, что моя рука движется» как одно из свидетельств пропозиции «Моя рука движется», то истинность последней, конечно, не предполагается в истинности первой. Следовательно, выражение «Это выглядит так, как если бы моя рука двигалась» можно предложить вместо «Я вижу, что моя рука движется». Но это выражение, хотя оно указывает на то, что моя рука может казаться движущейся без реального движения, всё ещё может предполагать, что в конце концов должна быть рука, чтобы она могла казаться движущейся; тогда как мы легко могли бы вообразить случаи, в которых пропозиция, описывающая визуальное свидетельство, является истинной и в то же самое время другие свидетельства заставляют нас сказать, что у меня нет руки. Наш обычный способ выражения это скрывает. В обыденном языке нам мешает необходимость описывать, например, тактильное ощущение посредством терминов для физических объектов, таких как «глаз», «палец» и т. д., когда то, что мы хотим сказать, не влечёт существования глаза, пальца и т. д. Нам приходится употреблять иносказательные описания наших ощущений. Это, конечно, не означает то, что обыденный язык недостаточен для наших специальных целей, но то, что он несколько нескладный и иногда вводит в заблуждение. Причина этой особенности нашего языка состоит, конечно, в регулярном совпадении определённых чувственных переживаний. Так, когда я чувствую, что моя рука движется, я в большинстве случаев также могу видеть, что она движется. И если я касаюсь её своей кистью, эта кисть также чувствует движение и т. д. (Человек, чья нога была ампутирована, будет описывать особую боль как боль в своей ноге.) В этих случаях мы чувствуем сильную потребность в выражениях вроде: «Ощущение перемещается от моей тактильной щеки к моему тактильному глазу». Я сказал всё это из-за того, что, если вы осознаёте тактильное и кинестетическое окружение боли, вам будет сложно вообразить, что кто-то может испытывать зубную боль где-то ещё, а не только в собственных зубах. Но если мы воображаем именно такой случай, это просто подразумевает, что мы воображаем корреляцию между визуальным, тактильным, кинестетическим и т. д. переживаниями, отличающуюся от обычной корреляции. Так, мы можем вообразить человека, чувствующего зубную боль плюс те тактильные и кинестетические переживания, которые обычно связаны с тем, что он видит, как его рука переходит от его зуба к его носу, к его глазам и т. д., но у которого всё это соотнесено с визуальными переживаниями его руки, движущейся по этим точкам на лице другого человека. Или, опять же, мы можем вообразить человека, испытывающего кинестетическое ощущение движения своей руки и тактильное ощущение в своих пальцах и на своём лице, что его пальцы движутся по его лицу, тогда как его кинестетические и визуальные ощущения должны были бы описываться как ощущения движения его пальцев по колену. Если мы испытывали ощущение зубной боли плюс определённые тактильные и кинестетические ощущения, обычно характеризующие прикосновение к больному зубу и к соседним частям лица, и если эти ощущения сопровождались наблюдением за тем, как моя рука прикасается к краю стола и движется по нему, мы почувствовали бы сомнение, называть это переживание переживанием зубной боли в столе или же нет. Если, с другой стороны, описанные тактильные и кинестетические ощущения были соотнесены с визуальным переживанием прикосновения моей руки к зубу и другим частям лица другого человека, то я, без сомнения, назвал бы это переживанием «зубной боли в зубе другого человека».
Я сказал, что человек, который настаивает на невозможности чувствовать боль другого человека, тем самым не хочет отрицать, что один человек мог бы чувствовать боль в теле другого человека. Фактически он мог бы сказать: «Я могу испытывать боль в зубе другого человека, но не его зубную боль».
Таким образом, пропозиции «У А есть золотой зуб [A has a gold tooth]» и «У А болит зуб [A has toothache]» не используются аналогично. Их грамматика различна там, где она, как может показаться на первый взгляд, не различается.
Относительно употребления слова «воображать» можно сказать: «Разумеется, есть вполне определённый акт воображения того, что другой человек испытывает боль». Конечно, мы не отрицаем ни это, ни какое-либо другое высказывание о фактах. Но давайте посмотрим: если мы создаем образ боли другого человека, применяем ли мы его так же, как мы применяем образ, например, подбитого глаза, когда мы воображаем, что у другого человека подбит глаз? Заменим ещё раз воображение в обычном смысле созданием нарисованного образа. (Для некоторых существ это было бы вполне обычным способом воображения.) Пусть тогда человек этим способом воображает, что у A подбит глаз. Весьма важным применением этого изображения будет сравнение его с реальным глазом, чтобы увидеть, является ли изображение верным. Когда мы живо воображаем, что некто страдает от боли, часто в наш образ входит то, что можно назвать тенью боли, ощущаемой в том месте, которое соответствует месту, в котором, как мы говорим, ощущается его боль. Но смысл, в котором образ является образом, определён тем, как он сравнивается с реальностью. Мы могли бы назвать это методом проекции. Теперь обдумайте сравнение образа зубной боли А с его зубной болью. Как бы вы их сравнили? Если вы говорите, что сравниваете их «опосредованно», через его телесное поведение, я отвечу, что это подразумевает, что вы не сравниваете их, так как вы сравниваете образ его поведения с его поведением.
Опять-таки, когда вы говорите: «Я признаю, что вы не можете знать, когда А испытывает боль, — вы можете это только предполагать», вы не видите затруднения, которое связано с различными употреблениями слов «предполагать» и «знать». На какого рода невозможность вы ссылались, когда говорили, что не можете знать? Не думали ли вы о случае, аналогичном тому, когда нельзя знать, есть ли у другого человека во рту золотой зуб, поскольку его рот закрыт? Здесь то, что вы не знали, вы, тем не менее, могли бы вообразить известным; имеет смысл сказать, что вы видели этот зуб, даже если это не так; или, скорее, имеет смысл сказать, что вы не видите его зуб, и, поэтому, имеет смысл также сказать, что вы его видели. Когда, с другой стороны, вы признаёте, что человек не может знать, испытывает ли боль другой человек, вы не хотите сказать, что люди действительно не знают этого, но что не имеет смысла говорить, что они знают (и, следовательно, не имеет смысла говорить, что они не знают). Если, следовательно, в этом случае вы употребляете термин «предполагать» или «верить», то вы не используете его как противоположный термину «знать». То есть вы не настаиваете, что знание было целью, которой вы не смогли достичь, и что вы должны оспаривать предположение; скорее, в этой игре нет цели. Если бы кто-то сказал: «Вы не можете пересчитать все ряды кардинальных чисел», то он постулировал бы факт, относящийся не к человеческой недолговечности, но к принятой нами конвенции. Это наше высказывание не сравнимо — хотя всегда ошибочно сравнивается — с высказыванием: «Человеческое существо не способно переплыть Атлантику»; но оно аналогично высказыванию вроде: «В гонках на выносливость нет цели». И это одна из вещей, смутно ощущаемых тем, кто не удовлетворен объяснением, что, хотя вы не можете знать… вы можете предполагать…
Если мы рассержены на кого-то за то, что он вышел на улицу в холодный день, будучи простуженным, мы иногда говорим: «Я не буду болеть вместо тебя [I wont feel your cold]». И это может означать: «Я не буду переживать, если ты подхватишь простуду». Этой пропозиции обучаются на опыте. Ибо мы можем вообразить, так сказать, радиосвязь между двумя телами, заставляющую одного человека чувствовать боль в своей голове, когда другой подвергает свою голову воздействию холодного воздуха. В этом случае можно возразить, что боль является моей, потому что она ощущается в моей голове; но, предположим, я и кто-то другой имеют общую часть тела, скажем, кисть. Вообразим, что нервы и сухожилия моей руки и руки А связаны с этой кистью. Теперь вообразим, что эту кисть ужалила оса. Мы оба орём, искажаем лица, даём одно и то же описание боли и т. д. Должны ли мы теперь сказать, что обладаем одной и той же болью или разными болями? Если в таком случае вы говорите: «Мы ощущаем боль в том же самом месте, в том же самом теле, наши описания созвучны, но всё равно моя боль не может быть его болью», то в качестве довода, я полагаю, вы будете склонны сказать: «Потому что моя боль — это моя боль, а его боль — это его боль». И здесь вы делаете грамматическое высказывание об употреблении такой фразы, как «та же самая боль». Вы говорите, что не хотели бы использовать фразу «он испытывает мою боль» или «мы оба испытываем ту же самую боль», и вместо этого, возможно, вы предпочтёте применить такую фразу: «Его боль в точности такая же, как моя боль». (Нет никакого основания говорить, что двое не могли бы иметь ту же самую боль, потому что одного из них можно подвергнуть анестезии или убить, тогда как другой всё ещё чувствует боль.) Конечно, если мы исключим фразу «Я испытываю его зубную боль» из нашего языка, мы тем самым также исключим фразу «Я испытываю (или чувствую) свою зубную боль». Другая форма нашего метафизического высказывания является следующей: «Чувственные данные человека являются сугубо индивидуальными». И этот способ выражения ещё больше вводит в заблуждение, поскольку он всё-таки выглядит более похожим на пропозицию опыта; философ, который это говорит, может вполне считать, что он выражает своего рода научную истину.
Мы употребляем выражение «две книги имеют тот же самый цвет», но вполне могли бы сказать: «Они не могут иметь тот же самый цвет, потому что, в конечном счёте, эта книга — своего собственного цвета, и другая тоже имеет свой собственный цвет». Это также было бы установлением грамматического правила — между прочим, правила не согласующегося с нашим обычным словоупотреблением. Причина, по которой эти два различных словоупотребления вообще нуждаются в обдумывании, заключается в следующем: мы сравниваем случай, касающийся чувственных данных, со случаем, касающихся физических тел, и в последнем случае проводим различие между выражениями «Это тот же самый стул, который я видел час назад» и «Это не тот же самый стул, но стул, в точности похожий на тот». Здесь имеет смысл сказать, и это будет пропозицией опыта: «А и В не могли видеть тот же самый стул, поскольку А был в Лондоне, а В — в Кембридже; они видели два стула точь в точь похожих друг на друга». (Здесь будет полезным, если вы рассмотрите различные критерии того, что мы называем «тождеством этих объектов». Как мы применяем высказывания «Это тот же самый день…», «Это то же самое слово…», «Это тот же самый случай…» и т. д.?)
В этих рассуждениях мы делали то, что делаем всегда, когда встречаем слово «может» в метафизической пропозиции. Мы показываем, что эта пропозиция скрывает грамматическое правило. Мы, так сказать, разрушаем внешнее сходство между метафизической пропозицией и пропозицией опыта, и мы пытаемся найти форму выражения, которая удовлетворила бы определённую страсть метафизика, которую не удовлетворяет наш обыденный язык и которая, поскольку она не удовлетворена, создаёт метафизическое замешательство. Опять-таки, когда в метафизическом смысле я говорю: «Я всегда должен знать, когда испытываю боль», — это просто делает слово «знать» избыточным; и вместо «Я знаю, что испытываю боль» я могу просто сказать: «Я испытываю боль». Другое дело, конечно, если мы придаём смысл фразе «бессознательная боль», фиксируя опытные критерии для случая, при котором человек испытывает боль, не зная этого, и если затем мы говорим (верно или ошибочно), что, по сути дела, никто никогда не испытывал боли, о которой он бы не знал.
Когда мы говорим: «Я не могу чувствовать его боль», сама собой напрашивается идея непреодолимого барьера. Сразу обдумаем сходный случай: «Зеленый и голубой цвета не могут быть в одном и том же месте одновременно». Здесь напрашивающийся образ физической невозможности, вероятно, не является образом барьера; скорее, мы чувствуем, что эти два цвета разминулись. Каков источник этой идеи? — Мы говорим, что три человека не могут сидеть бок о бок на этой скамейке; им не хватает пространства. Случай с цветами не аналогичен этому случаю; но он в чём-то аналогичен высказыванию: «3 × 18 дюймов не дадут трех футов». Это является грамматическим правилом и устанавливает логическую невозможность. Пропозиция: «Три человека не могут сидеть бок о бок на скамейке длиной в один ярд» устанавливает физическую невозможность; и этот пример ясно показывает, почему смешиваются две невозможности. (Сравним пропозицию: «Он на 6 дюймов выше меня», с пропозицией: «6 футов на 6 дюймов больше, чем 5 футов 6 дюймов». Эти пропозиции абсолютно различны, но выглядят очень похоже.) Причина того, почему в этих случаях возникает идея физической невозможности, заключается в том, что, с одной стороны, мы отклоняем употребление отдельной формы выражения, а с другой стороны, мы испытываем сильный соблазн использовать её, поскольку (а) она вполне звучит по-английски, по-немецки, и т. д., звучит нормально[33], и (b) есть близкородственные формы выражения, используемые в других разделах нашего языка. Мы отклоняем употребление фразы «Они находятся в том же самом месте»; с другой стороны, эта фраза напрашивается по аналогии с другими фразами, так что мы, в определённом смысле, через силу должны отказаться от этой формы выражения. Вот почему нам кажется, что мы отвергаем универсально ложную пропозицию. Мы создаем образ, подобный образу с двумя разминувшимися цветами или подобный образу барьера, который позволяет одному человеку подойти к переживанию другого человека не ближе, чем к точке наблюдения за его поведением; но, присмотревшись, мы обнаруживаем, что не можем применить образ, который создали.
Наши колебания между логической и физической невозможностью заставляют нас утверждать нечто вроде следующего: «Если то, что я чувствую, всегда является только моей болью, что же может означать предположение, что кто-то другой испытывает боль?». В таких случаях нужно всегда смотреть, как эти слова действительно употребляются в нашем языке. Во всех таких случаях мы мыслим об употреблении, отличном от того, которое диктует словам наш обыденный язык. Об употреблении, которое — с другой стороны — по какой-то причине в этом случае очень напрашивается. Когда в грамматике наших слов что-то кажется странным, то это происходит потому, что мы попеременно испытываем склонность употреблять их несколькими различными способами. И особенно трудно обнаружить, что утверждение, которое высказывает метафизик, выражает недовольство нашей грамматикой, когда слова этого утверждения могут также употребляться для установления факта опыта. Так, когда он говорит: «Только моя боль является реальной», — это предложение может подразумевать, что другие люди только притворяются. А когда он говорит: «Это дерево не существует, когда его никто не видит», — это может подразумевать: «Это дерево исчезает, когда мы поворачиваемся к нему спиной». Человек, который говорит: «Только моя боль является реальной», не подразумевает под данными словами, что он выяснил это при помощи общих критериев — т. е. критериев, которые определяют обычное значение наших слов, — что другие, которые говорили, что они испытывают боль, обманывали. Но о том, что он протестует против употребления этого выражения в связи с данными критериями. То есть он возражает против употребления этого слова определённым способом, которым оно обычно употребляется. С другой стороны, он не осознает, что возражает против конвенции. Он видит способ разделения страны, отличный от способа, используемого на обычной карте. Он чувствует склонность, скажем, использовать слово «Девоншир» не применительно к графству с его условными границами, но применительно к региону, ограниченному иначе. Он мог бы выразить это, говоря: «Разве не абсурдно назначать это графством, проводя границы здесь?». Он говорит следующее: «Это и есть реальный Девоншир». Мы могли бы ответить: «То, что ты хочешь, есть лишь новая система обозначений, а посредством новой системы обозначений факты географии не изменяются». Тем не менее, верно, что нас может неодолимо прельщать или отталкивать система обозначений. (Мы легко забываем, как много система обозначений, форма выражения может для нас значить, и что её изменение не всегда столь легко, как это часто бывает в математике или в науках. Перемена одежды или имени может означать очень мало, а может и очень много.)
Я попытаюсь прояснить проблему, обсуждаемую реалистами, идеалистами и солипсистами, продемонстрировав вам проблему, близко относящуюся к первой. Она заключается в следующем: «Можем ли мы иметь бессознательные мысли, бессознательные чувства и т. д.?». Идее существования бессознательных мыслей противятся многие. Другие же говорят, что ошибочно предполагать существование только сознательных мыслей и что психоанализ открыл «бессознательные мысли». Несогласные с бессознательными мыслями не видят, что они возражают не против заново открытых психологических реакций, а против способа, которым они описываются. Психоаналитики, с другой стороны, введены в заблуждение своим собственным способом выражения, поскольку считают, что они сделали гораздо большее, нежели открытие новых психологических реакций; что они в некотором смысле открыли сознательные мысли, которые были неосознанны. Первые могли бы выдвинуть своё возражение, говоря: «Мы не хотим использовать выражение „бессознательные мысли“; мы хотим зарезервировать слово "мысль" для того, что вы называете „сознательными мыслями“». Но, выражаясь таким образом, они ошибочно формулируют свой довод: «Могут существовать только сознательные мысли, а бессознательные не могут». Ибо если бы они не хотели говорить о «бессознательных мыслях», то не должны были бы также использовать фразу «сознательные мысли».
Но разве неправильно сказать, что человек, который говорит как о сознательных, так и о бессознательных мыслях, таким образом всегда употребляет слово «мысль» в двух случаях по-разному [in two different ways]? — Используем ли мы молоток в двух случаях по-разному, когда забиваем гвоздь и когда вколачиваем колышек в отверстие? Используем ли мы его в двух случаях по-разному, когда вколачиваем один колышек в одно отверстие и, наоборот, другой — в другое? Или же когда в одном случае мы что-то куда-то вколачиваем, а в другом, скажем, нечто выколачиваем — здесь речь идет лишь о различных использованиях? Или всё это есть один способ использования молотка, а другой — это только когда им пользуются в качестве пресс-папье? — В каких случаях мы должны говорить, что слово употребляют в двух случаях по-разному, а в каких — что одинаково? Просто сказать, что слово употребляется в двух (или более) случаях по-разному, еще не значит подать идею о том, как его употреблять. Таким образом, мы лишь уточняем способ рассмотрения данного употребления, предоставляя двухчастную (или более) схему его описания. Было бы правильным сказать: «С помощью этого молотка я делаю две вещи: забиваю один гвоздь в эту доску, а другой — в ту». Но я мог бы также сказать: «С помощью этого молотка я делаю только одну вещь: забиваю один гвоздь в эту доску, а другой — в ту». Дискутировать о том, употребляется ли слово в одном значении или в двух, можно двумя способами: (а) Два человека могут обсуждать, употребляется ли слово «cleave» только в значении разрубания или также в значении соединения[34]; это обсуждение касается некоторых случаев фактического словоупотребления; (b) Они могут обсуждать, используется ли слово «altus», обозначающее как «глубокий», так и «высокий», в двух случаях по-разному. Этот вопрос аналогичен вопросу, употребляется ли слово «мысль» в одном или двух значениях, когда мы говорим о сознательной и бессознательной мысли. Человек, который говорит: «Конечно, это два различные употребления», уже решил использовать двухчастную схему, и в том, что он сказал, это решение нашло отражение.
Когда солипсист говорит, что реальны лишь его собственные переживания, ему бесполезно отвечать: «Зачем же ты говоришь нам все это, если не веришь, что мы действительно это слышим?». Или, во всяком случае, отвечая ему таким образом, мы не должны считать, что ответили на его затруднение. Философская проблема не подразумевает ответов, относящихся к здравому смыслу. Защитить здравый смысл от нападок философов мы сможем только в случае, если выведем их из замешательства, т. е. исцелим философов от соблазна нападок на здравый смысл; однако отнюдь не путем повторного формулирования опорных точек здравого смысла. Философ — это не тот, кто идет наперекор своим ощущениям и не видит того, что видит каждый; с другой стороны, его несогласие со здравым смыслом не является и несогласием ученого с невежественными взглядами человека с улицы. То есть его несогласие не основано на более глубоком знании факта. Мы, следовательно, должны заняться поиском источника его замешательства. И мы обнаруживаем, что замешательство и ментальный дискомфорт имеют место не только тогда, когда не удовлетворено наше любопытство относительно определенных фактов или когда мы не можем обнаружить закон природы, согласующийся со всем нашим опытом, но также и тогда, когда нас не удовлетворяет система обозначений — возможно, из-за различных ассоциаций, которые она вызывает. Наш обыденный язык, который из всех возможных способов обозначения представляет собой тот, что пропитывает всю нашу жизнь, непреклонно удерживает наше сознание, так сказать, в одном положении, и в этом положении иногда чувствуется стеснённость, сопровождающаяся стремлением занять другие положения. Так, нам иногда хочется такого способа обозначения, который подчёркивает различие более резко, делает его более очевидным, нежели это делает обыденный язык или язык, который в отдельных случаях использует более подходящие формы выражения, чем наш обыденный язык. Наша ментальная стеснённость ослабевает, когда нам показывают способ обозначения, который удовлетворяет этим нашим нуждам. Эти нужды могут быть в высшей степени разнообразными.
Итак, человек, которого мы называем солипсистом и который говорит, что только его собственные переживания реальны, тем самым не выражает несогласия с нами относительно конкретного фактического вопроса; он не говорит, что мы прикидываемся, когда жалуемся на боли, он сочувствует нам в той же мере, что и любой другой; и в то же самое время он хочет ограничить употребление эпитета «реальный» тем, что мы назвали бы его переживаниями; и, возможно, он вообще не хочет называть наши переживания «переживаниями» (опять-таки не выражая несогласия с нами в отношении любых фактических вопросов). Потому что он говорил бы, что это непостижимо, когда переживания — иные, нежели его собственные, — реальны. Следовательно, он должен использовать способ обозначения, согласно которому фразы типа «А действительно испытывает зубную боль» (где А это не он) бессмысленны, — способ обозначения, правила которого исключают эту фразу, как шахматные правила исключают, чтобы пешка ходила как конь. То, что предлагает солипсист, приводит к употреблению фраз типа: «Существует реальная зубная боль», вместо «[солипсист] Смит испытывает зубную боль». И почему бы нам не предоставить ему этот способ обозначения? Мне нет нужды говорить, что во избежание путаницы ему в этом случае лучше вообще не употреблять слово «реальный» как противоположное слову «фальшивый»; это только лишь означает, что мы должны будем обеспечить различие «реальный»/«фальшивый» каким-то другим способом. Солипсист, который говорит «только я чувствую реальную боль», «только я реально вижу (или слышу)», не высказывает свое убеждение; вот почему он так уверен в том, что говорит. Он испытывает неодолимый соблазн употреблять определённую форму выражения; но мы ещё должны понять, почему он это делает.
Фраза «только я реально вижу» тесно связана с идеей, выраженной в утверждении «мы никогда не знаем, что реально видит другой человек, когда смотрит на вещь» или в утверждении «мы никогда не можем знать, называет ли он „голубой“ ту же самую вещь, которую мы называем „голубой“». Фактически, мы можем привести довод: «Я никогда не могу узнать, что он видит, или видит ли вообще, ибо всё, что у меня есть, это различного рода знаки, которые он мне подаёт; следовательно, если я скажу, что он видит, то проку в этой гипотезе не будет никакого; только я, видя сам, знаю, что значит видение; я просто обучился слову „видение“, чтобы подразумевать то, что я делаю». Это, конечно, неверно, ибо я определенно обучался различным и намного более сложным употреблениям слова «видеть», нежели те, что я здесь представил. Проясним соображения, которыми я руководствовался, когда так говорил, примером из несколько иной области. Рассмотрим следующий аргумент: «Как мы можем желать, чтобы эта бумага была красной, если она не является красной? Не означает ли это, что я хочу того, что вообще не существует? Следовательно, моё желание может содержать только нечто сходное с краснотой бумаги. Не должны ли мы, поэтому, употреблять иное слово вместо „красный“, когда говорим о желании, чтобы нечто было красным? Мысленный образ желания, конечно, показывает нам нечто менее определённое, нечто более туманное, чем реальность бумаги, являющейся красной. Поэтому вместо „Я хочу, чтобы эта бумага была красной“ я сказал бы нечто вроде „Я хочу, чтобы эта бумага была бледно-красной“ [pale red]». Но если бы он сказал, как говорят обычно: «Я хочу, чтобы эта бумага была бледно-красной», мы, чтобы выполнить его желание, должны были бы выкрасить её в бледно-красный цвет — и это было бы не то, чего он хотел. С другой стороны, нет возражения против предложенной им формы выражения, так как мы знаем, что он употребляет фразу: «Я хочу, чтобы эта бумага была бы бледно-x», всегда подразумевая то, что мы обычно выражаем посредством: «Я хочу, чтобы эта бумага была цвета x». То, что он сказал, действительно говорит в пользу его способа обозначения — настолько, насколько вообще можно говорить в пользу способа обозначения. Но он не сообщил нам новой истины и не показал нам, что сказанное нами ранее было ложью. (Всё это связывает нашу нынешнюю проблему с проблемой отрицания. Я только дам вам намёк и скажу, что был бы возможен способ обозначения, при котором, сформулируем грубо, качество всегда имеет два имени, одно — для случая, когда о чём-то говорится, что оно этим качеством обладает, другое — для случая, когда о чём-то говорится, что оно им не обладает. Отрицанием «Эта бумага красная [red]» могло бы тогда быть «Эта бумага не красная [rode]». Такой способ обозначения действительно исполнил бы некоторые наши пожелания, отвергаемые нашим обыденным языком и вызывающие спазм философского замешательства, когда речь заходит об идее отрицания.)
Замешательство, которое мы выражаем, говоря: «Я не могу знать, что он видит, когда он (правдиво) говорит, что видит голубое пятно», вырастает из идеи о том, что «знание того, что он видит» подразумевает «видение того, что видит также и он»; однако не в том смысле, что это совершается нами, когда мы оба имеем перед глазами один и тот же объект; но в том смысле, что этот усмотренный объект был бы тогда объектом, скажем, в его голове или в нём. Суть заключается в том, что этот же самый объект может находиться и перед моими и перед его глазами, но при этом я не могу втиснуть свою голову в его (или своё сознание в его, что приводит к тому же самому) так, чтобы реальный и непосредственный объект его видения стал реальным и непосредственным объектом и моего видения тоже. Под «я не знаю, что он видит» мы на самом деле подразумеваем «я не знаю, на что он смотрит», где выражение «на что он смотрит» скрыто, и он не может показать мне, на что он смотрит, — это открыто его внутреннему взору. Таким образом, чтобы выйти из замешательства, исследуем грамматические различия между высказываниями «я не знаю, что он видит» и «я не знаю, на что он смотрит» — как эти высказывания действительно употребляются в нашем языке.
Иногда наиболее удовлетворительным выражением нашего солипсизма кажется следующее: «Когда нечто видится (реально видится), оно видится всегда мной».
Что нас в этом выражении поражает, так это фраза «всегда мной». Всегда кем? — Странно, конечно, но я не имею в виду «всегда Л.В.». Это ведёт нас к рассмотрению критериев идентификации личности. При каких обстоятельствах мы говорим: «Это тот же самый человек, которого я видел час назад»? Наше действительное употребление фразы «тот же самый человек» и имени человека основывается на том факте, что многие характеристики, которые мы используем в качестве критериев тождества, совпадают в значительном большинстве случаев. Меня, как правило, узнают по внешнему виду моего тела. Моё тело меняет свое обличье лишь постепенно, и изменения достаточно незначительны, точно так же и мой голос, характерные привычки и т. д. изменяются медленно, и диапазон изменений невелик. Мы склонны употреблять личные имена так, как мы это делаем, только вследствие вышеперечисленного. Это будет видно лучше, если мы вообразим нереальные случаи, способные показать нам, какие иные «геометрии» мы были бы склонны использовать, если бы факты были иными. Вообразим, например, что все существующие человеческие тела выглядят похоже; что, с другой стороны, различные наборы характеристик, так сказать, меняют среди этих тел место жительства. Таким набором характеристик может быть, скажем, мягкость характера в совокупности с высоким голосом и медлительностью движений, или холерический темперамент, глубокий голос, порывистые движения и т. п. Хоть и была бы при подобных обстоятельствах такая возможность давать этим телам имена, однако мы бы, вероятно, стремились сделать это в той же мере, как если бы должны были дать имена стульям в нашей столовой. С другой стороны, быть может, было бы полезно давать имена наборам характеристик, и употребление этих имён приблизительно соотносилось бы тогда с собственными именами в нашем нынешнем языке.
Или вообразим, что для человеческих существ были бы характерны два состояния. А именно, предположим, что очертания человека, рост и особенности поведения периодически претерпевают полное изменение. Для человека, которому свойственны два таких состояния, это было бы обычным явлением, и он внезапно переходил бы из одного в другое. Весьма правдоподобно, что в таком обществе мы были бы склонны нарекать каждого человека двумя именами и, вероятно, говорить о двух личностях в его теле. Так, были ли д-р Джекил и м-р Хайд двумя личностями, или же это была одна и та же личность, которая просто изменялась? Мы можем говорить что угодно. Никто не вынуждает нас говорить о двойственной личности.
Есть много употреблений слова «личность», которые мы склонны принять; все они более или менее родственны. То же самое имеет место, когда мы определяем тождество личности через её воспоминания. Вообразим человека, чьи воспоминания о чётных днях его жизни охватывают события всех этих дней, полностью минуя то, что происходило в нечётные дни. С другой стороны, когда наступает нечётный день, он вспоминает то, что происходило в предыдущие нечётные дни, но его память, однако же, минует чётные дни, не ощущая прерывности. Если угодно, мы можем также предположить, что он меняет внешний вид и характеристики в чётные и нечётные дни. Обязаны ли мы сказать, что в данном случае две личности обитают в одном и том же теле? То есть правильно ли сказать, что обитают, и ошибочно ли сказать, что не обитают, или vice versa? Ни то, ни другое. Ибо обычное употребление слова «личность» заключается в том, что можно назвать составным употреблением, подходящим при обычных обстоятельствах. Если я предполагаю, как я и делаю, что эти обстоятельства изменяются, то тем самым изменяется и использование термина «личность» или «индивидуальность»; и если я хочу сохранить этот термин и использовать его по аналогии с первым употреблением, я свободен выбирать между многими употреблениями, т. е. между многими различными видами аналогии. В таком случае можно сказать, что термин «индивидуальность» не получает одного законного наследника. (Рассуждения такого рода важны в философии математики. Рассмотрим употребление слов «доказательство», «формула» и других. Рассмотрим вопрос: «Почему то, что мы здесь делаем, должно называться „философией“? Почему то, что мы здесь делаем, должно рассматриваться как единственный законный наследник различных типов деятельности, которые назывались так в прошлом?».)
Теперь спросим себя, на какого рода тождество личности мы ссылаемся, говоря: «Когда нечто видится, оно всегда видится мной». Я хочу, чтобы все эти случаи видения имели нечто общее — что именно? В качестве ответа я должен признать, что это не внешний вид моего тела. Когда я смотрю, я не всегда вижу часть своего тела. И не существенно, что моё тело, если оно видится среди других видимых мной вещей, должно всегда выглядеть тем же самым. Фактически, я не забочусь о том, насколько оно изменяется. И то же самое я чувствую в отношении всех свойств моего тела, характеристик моего поведения и даже относительно моих воспоминаний. — Когда я размышляю об этом несколько дольше, я вижу, что то, что я хотел сказать, было следующим: «Всегда, когда нечто видится, видится что-то». То есть то, о чём я говорил, как о том, что остаётся на протяжении всех переживаний видения, не является какой-то особой сущностью «я», но представляет собой переживание видения себя. Это может стать яснее, если мы вообразим человека, который высказывает наше солипсисткое утверждение, указывая на свои глаза, пока говорит «я». (Возможно, потому что он хочет быть точным и хочет выразиться определённо, что глаза принадлежат рту, который говорит «я», и рукам, указывающим на его собственное тело.) Но на что он указывает? На именно эти глаза, отождествляемые с физическими объектами? (Чтобы понять это предложение, вы должны помнить, что грамматика слов, которые, как мы считаем, обозначают физические объекты, характеризуется способом словоупотребления вроде следующего: «то же самое то-то и то-то» или «идентичное с тем-то и тем-то», где «то-то и то-то» обозначает физический объект.) До этого мы говорили, что он вообще не хотел указывать на отдельный физический объект. Идея о том, что он высказал значимое утверждение, вырастает из путаницы, соответствующей путанице между тем, что мы будем называть «геометрический глаз» и «физический глаз». Объясню употребление этих терминов. Если человек пытается выполнить приказ: «Укажи на свой глаз», он может совершить много различных действий, и существует много различных факторов [criteria], которые он принимает во внимание, чтобы указать на свой глаз. Если эти факторы, как это обычно бывает, перекликаются, я могу использовать их поочередно и в различных комбинациях, чтобы показать себе, что я коснулся своего глаза. Если они не совпадают, я буду должен провести различие между разными смыслами фразы «Я касаюсь своего глаза» или «Я передвигаю свой палец в направлении своего глаза». Если, например, мои глаза закрыты, я всё-таки могу иметь характерное кинестетическое переживание в своей руке, которое я назвал бы кинестетическим переживанием приближения своей руки к своему глазу. То, в чём я преуспел, поступая так, я опознал посредством особого тактильного ощущения прикосновения к своему глазу. Но если бы мой глаз находился за стеклянной пластинкой, укрепленной таким образом, чтобы это предохраняло меня от прилагаемого к моему глазу давления, оказываемого моим пальцем, всё ещё оставался бы фактор мускульного ощущения, который заставлял бы меня говорить о том, что сейчас мой палец находится перед моим глазом. Что касается визуальных факторов, то есть два фактора, которые я могу принять во внимание. Есть обычное переживание видения того, что моя рука поднимается и приближается к моему глазу, и это переживание, конечно, отличается от видения того, как встречаются две вещи, скажем два кончика пальцев. С другой стороны, в качестве фактора, свидетельствующего о том, что мой палец движется к моему глазу, я могу использовать то, что я наблюдаю, когда смотрю в зеркало и вижу свой палец вблизи от своего глаза. Если то место моего тела, которое, как мы говорим, «видит», согласно второму фактору должно определяться движением моего пальца в направлении к моему глазу, тогда возможно, что то, что я могу видеть в соответствии с другим фактором, — это кончик моего носа или часть моего лба; или таким способом я могу указать на место, лежащее вне моего тела. Если я хочу, чтобы человек указал на свой глаз (или свои глаза) в соответствии с одним лишь вторым фактором, я буду выражать своё желание, говоря: «Укажи на свой геометрический глаз (или глаза)». Грамматика словосочетания «геометрический глаз» находится в том же отношении к грамматике словосочетания «физический глаз», в каком грамматика выражения «визуальные чувственные данные дерева» находится к грамматике выражения «физическое дерево». И в том, и в другом случае всё смешается, если сказать: «Один является объектом иного рода, чем другой»; ибо те, кто говорит, что чувственные данные есть объект иного рода, нежели физический объект, введены в заблуждение грамматикой слова «род», так же как те, кто говорит, что число — это объект иного рода, чем цифра. Они считают, что утверждают нечто вроде: «Железнодорожный состав, железнодорожная станция и железнодорожный локомотив суть объекты различного рода», тогда как их высказывание аналогично следующему: «Железнодорожный состав, железнодорожная катастрофа и железнодорожное право суть объекты различного рода».
То, что заставляет меня сказать: «Если нечто видится, то это всегда видится мной», я мог бы также выразить, говоря: «Всякий раз, когда нечто видится, это то, что видится», сопровождая слово «то» жестом, охватывающим лежащее в моём поле зрения (но не подразумевая под «то» отдельный объект, который мне случилось увидеть в этот момент). Можно сказать: «Я указываю на поле зрения как таковое, а не на что-нибудь в нём». И это только лишь служит выявлению бессмысленности предыдущего выражения.
Теперь исключим из нашего выражения «всегда». В этом случае я всё ещё могу выразить свой солипсизм, говоря: «Только то, что вижу (или: вижу сейчас) я, видится реально». И здесь я склонен сказать: «Хоть под словом „я“ я не подразумеваю Л.В., это будет так, если другие понимают „я“ как подразумевающее Л.В., и если как раз сейчас я действительно есть Л.В.». Я также мог бы выступить с заявлением, сказав: «Я есть сосуд жизни»; но заметим, существенно то, что никто, кому бы я это ни сказал, был бы не в состоянии понять меня. Существенно то, что другой был бы не в состоянии понять, «что я реально подразумеваю», хотя на практике он мог бы сделать то, чего хочу я, уступая мне исключительное положение в своем способе обозначения. Но я хочу, чтобы понять меня было бы для него логически невозможно, и сказать, что он меня понимает, было бы, так сказать, бессмысленно, а не ложно. Таким образом, моё выражение — одно из многих, которые используются по разным случаям философами и которые, как предполагается, наделяют чем-то человека, который их произносит, хотя, в сущности, они вообще не способны наделить чем-либо кого-либо. Итак, если передача значения в выражении подразумевает сопровождение определённых переживаний или их продуцирование, то наше выражение может иметь всякого рода значения, и я ничего не хочу говорить о них. Но мы, по сути дела, введены в заблуждение, когда считаем, что наше выражение имеет значение в том же смысле, в котором значение имеет неметафизическое выражение; ибо мы ошибочно сравниваем наш случай со случаем, когда другой человек не может понять то, что мы говорим, потому что ему недостаёт определённой информации. (Это замечание станет яснее, если мы поймем связь между грамматикой, смыслом и бессмыслицей.)
Для нас значение фразы характеризуется употреблением, которое мы для неё создаём. Значение не является ментальным сопровождением выражения. Следовательно, фразы «Я думаю, что подразумеваю под этим нечто» или «Я уверен, что подразумеваю под этим нечто», которые мы так часто слышим в философских дискуссиях для оправдания употребления выражения, для нас вообще не имеют оправдания. Мы спрашиваем: «Что вы имеете в виду?», т. е. «Как вы употребляете это выражение?». Если некто обучал меня слову «скамейка» и говорил, что он иногда или всегда проводит под ним черту следующим образом: «скамейка», и что это для него нечто значит, я сказал бы: «Я не знаю, какого рода идею вы соотносите с этой чертой, но она не интересует меня, если вы не покажете, что употребление черты имеет место в определённого рода исчислении, в котором вы хотите использовать слово „скамейка“». — Я хочу играть в шахматы, и некто оделяет белого короля бумажной короной, оставляя использование этой фигуры неизменной, но он говорит мне, что эта корона для него в игре имеет значение, которое он не может выразить в правиле. Я говорю: «Поскольку корона не изменяет употребление фигуры, постольку она не имеет того, что я называю значением».
Иногда можно услышать, что такая фраза, как «это здесь» — в то время, как я произношу её, я указываю на часть моего поля зрения, — имеет для меня своего рода примитивное значение, хоть и не может передать информацию кому-либо еще.
Когда я говорю: «Только это видится», я забываю о том, что предложение может показаться нам вполне естественным, без того, чтобы иметь какое-то употребление в нашем исчислении языка.
Обдумаем закон тождества «а = а» и то, как мы иногда настойчиво пытаемся овладеть его смыслом, сделать его зримым, глядя на объект и повторяя про себя предложение вроде: «Это дерево есть то же самое, что это дерево». Жесты и образы, посредством которых я, по-видимому, придаю этому предложению смысл, очень похожи на те, которые я использую в случае «Только это реально видится». (Чтобы прояснять философские проблемы, полезно осознать кажущиеся несущественными детали отдельной ситуации, в которой мы склонны сделать некоторое метафизическое утверждение. Так, наблюдая неизменное окружение, мы готовы сказать: «Только это реально видится», тогда как мы едва ли с этим согласимся, когда смотрим вокруг во время прогулки.)
Как мы говорили, нет возражений против того, чтобы принять символизм, в котором определённый человек всегда или время от времени занимает исключительное место. И, следовательно, если я произношу предложение: «Только я реально вижу», возможно, что мои соратники вслед за этим упорядочат свою систему обозначений так, чтобы она совпадала с моей, говоря «реально видится то-то и то-то» вместо «Л.В. видит то-то и то-то» и т. д. Однако ошибочно считать, что я могу оправдать этот выбор системы обозначений. Когда я искренне говорил, что вижу только я, то также был склонен сказать, что под «я» я на самом деле не подразумевал Л.В., хотя для пользы своих соратников я мог бы сказать: «Сейчас тот, кто реально видит, — это Л.В.», пусть это и не то, что я имею в виду в действительности. Я мог бы сказать, что под «я» я подразумеваю нечто такое, что как раз сейчас обитает в Л.В., нечто такое, что другие видеть не могут. (Я подразумевал своё сознание, но указать на него мог только посредством указания на своё тело.) Нет ничего ошибочного в предположении, что другие предоставили бы мне исключительное место в своём способе обозначения; но оправдание, которое я хочу этому дать, — что это тело сейчас является местом того, что реально живёт, — бессмысленно. Ибо, по общему признанию, здесь не утверждается ничего, что в обычном смысле является предметом опыта. (И не думайте, что здесь мы имеем дело с пропозицией опыта, которую могу знать только я, поскольку только я нахожусь в положении, позволяющем обладать особым переживанием.) Идея о том, что реальное я живёт в моём теле, связана с особой грамматикой слова «я», и эта грамматика ответственна за возникновение недоразумений. Есть два различных случая употребления слова «я» (или «моё»), которые я мог бы назвать «употреблением в качестве объекта» и «употреблением в качестве субъекта». Примеры первого вида употребления следующие: «Моя рука сломана», «Я вырос на шесть дюймов», «У меня на лбу шишка», «Ветер растрепал мои волосы». Примеры второго вида таковы: «Я вижу то-то и то-то», «Я слышу то-то и то-то», «Я пытаюсь поднять свою руку», «Я думаю, будет дождь», «Я испытываю зубную боль». Можно указать на различия между этими двумя категориями примеров, говоря, что случаи первой категории включают опознание отдельной личности, и в этих случаях есть возможность ошибки, или, как я скорее бы выразился: возможность ошибки предусматривается. Возможность проигрыша предусматривается при игре в кегли. С другой стороны, это не одна из тех азартных игр, где шарик мог бы не появиться, если я положил пенни в прорезь. Возможно, в результате чрезвычайного происшествия я бы чувствовал боль в своей руке, видел подле себя сломанную руку, считая, что она моя, тогда как на самом деле это рука моего соседа. И я мог бы, смотря в зеркало, перепутать шишку на его лбу с шишкой на моём. С другой стороны, нет проблемы с опознанием человека, когда я говорю, что испытываю зубную боль. Спрашивать «Ты уверен, что это именно ты испытываешь боль?» было бы бессмысленно. Итак, если в этом случае никакой ошибки быть не может, то так происходит потому, что ход, который мы, быть может, склонны считать ошибочным, «плохим ходом», вообще не является ходом в этой игре. (В шахматах мы проводим различие между хорошими и плохими ходами, и мы называем ход ошибочным, когда слоном ходят как ферзём. Но продвижение пешки в короли не является ошибкой.) Теперь способ формулировки нашей идеи становится очевидным: невозможно, чтобы, утверждая: «Я испытываю зубную боль», я перепутал бы себя с другим человеком, это всё равно что по ошибке стонать, перепутав себя с кем-то другим. Иными словами, фраза «я испытываю боль» является высказыванием о конкретном человеке в той же мере, что и стон. «Но, конечно, слово „я“ в устах человека указывает на человека, который его произносит; оно указывает на меня самого; и очень часто человек, который произносит его, на самом деле указывает на себя пальцем». Но указывать на себя было совершенно излишне. С таким же успехом он мог бы просто поднять свою руку. Было бы ошибочно говорить, что, когда кто-то указывает на солнце своей рукой, он указывает как на солнце, так и на себя, потому что указывает именно он; с другой стороны, он может, указывая, привлечь внимание как к солнцу, так и к себе.
Слово «я» не означает то же самое, что Л.В., даже если я и есть Л.В., и не означает то же самое, что означает и выражение «человек, который сейчас говорит». Но отсюда не следует, что «Л.В.» и «я» означают разные вещи. Имеется в виду только то, что данные слова являются различными инструментами в нашем языке.
Подумайте о словах как об инструментах, характеризующихся их использованием, а затем обдумайте, как используются молоток, долото, угольник, клееварка и клей? (К тому же, всё, что мы здесь говорим, может быть понято только в том случае, если понято, что с предложениями нашего языка разыгрывается огромное разнообразие игр: отдание и выполнение приказов, вопросы и ответы на них, описание события, рассказывание-вымышленной истории, рассказывание анекдота, описание непосредственных переживаний, выдвижение предположений о событиях в физическом мире, формулирование научных гипотез и теорий, приветствие и т. д.) Уста, произносящие «я», или рука, поднимающаяся с тем, чтобы показать, что я прошу слова, или я, испытывающий зубную боль, в связи с этим ни на что не указывают. Если, с другой стороны, я хочу указать на место моей боли, я просто указываю. И здесь вновь вспомним различие между тем, указываем ли мы на больное место, руководствуясь зрением, или же, с другой стороны, указываем на шрам после того, как поискали его на своем теле («Вот здесь мне сделали прививку»). — Человек, который кричит от боли или говорит, что испытывает боль, не выбирает рот, которым он это говорит.
Всё это позволяет утверждать, что человек, о котором мы говорим: «У него болит», согласно правилам этой игры представляет собой человека, который кричит, кривит своё лицо и т. д. Место боли — как мы говорили — может находиться в теле другого человека. Если, говоря «я», я указываю на своё собственное тело, то моделирую употребление слова «я» в соответствии с употреблением указательных местоимений «этот человек» или «он». (Этот способ сделать два выражения сходными в чем-то аналогичен способу, который иногда применяется в математике, скажем, при доказательстве, что сумма трёх углов треугольника равна 180°.
Мы говорим, что «α = α’, β = β’ и γ = γ». Первые два равенства относятся к совершенно иной разновидности, нежели третье.) «Я [I]» в выражении «У меня болит [I have pain]» не является указательным местоимением.
Сравните два случая: 1. «Откуда вы знаете, что у него боли?» — «Потому что я слышу его стон». 2. «Откуда вы знаете, что у вас боли?» — «Потому что я их чувствую». Но «Я их чувствую» означает то же самое, что и «У меня они есть». Следовательно, это вообще не было объяснением. Однако то, что в своём ответе я склонен подчеркнуть слово «чувствую», а не слово «я», показывает, что посредством «я» я не хочу выделить одного человека (среди разных людей).
Различие между пропозициями «У меня болит» и «У него болит» — это не различие между «У Л.В. болит» и «У Смита болит». Скорее, оно соответствует различию между стоном и высказыванием, что кто-то стонет. — «Но, конечно, слово „я“ в „У меня болит“ используется для того, чтобы отличить меня от другого человека, потому что посредством знака „я“ я отличаю высказывание, что у меня болит, от высказывания, что болит у кого-то другого». Вообразим язык, в котором вместо «Я никого не обнаружил в этой комнате [I found nobody in the room]» говорят: «Я обнаружил в этой комнате м-ра Никого [I found Mr. Nobody in the room]». Представим себе, какие философские проблемы порождает такая конвенция. Некоторые философы, воспитанные на таком языке, вероятно, чувствовали бы, что им не нравится сходство выражений «м-р Никто» и «м-р Смит». Когда мы чувствуем, что хотим упразднить «я» в «У меня болит», можно сказать, что мы стремимся создать вербальное выражение боли, сходное с выражением боли посредством стона. — Мы склонны забывать, что только конкретное словоупотребление придаёт слову его значение. Обдумаем наш старый пример употребления слов: кого-то послали к лавочнику с клочком бумаги, на котором написано «пять яблок». Употребление слова на практике есть его значение. Представим, что такая ситуация была бы обычной: на окружающих нас объектах налеплены ярлыки со словами, значения которых помогали бы нашей речи указывать бы на объекты. Некоторые из этих слов были бы собственными именами объектов, другие — родовыми именами (такими как стол, стул и т. д.), другие, опять же, — именами цветов, именами форм и т. д. То есть ярлык имел бы для нас значение лишь постольку, поскольку мы создавали бы его конкретное употребление. Теперь мы могли бы легко представить себе, что на нас производит впечатление только то, что мы видим на вещи ярлык, и забываем, что значимыми эти ярлыки делает их употребление. Точно так же мы иногда убеждены, что наименовали нечто, сделав указующий жест и произнеся слова типа «Это есть…» (формула остенсивного определения). Мы говорим, что называем нечто «зубной болью», и считаем, что это словосочетание получило определённую функцию в осуществляемых нами с языком действиях, когда при определённых обстоятельствах мы указываем на свою щёку и говорим: «Это — зубная боль». (Наша идея заключается в том, что когда мы указываем, а другой «знает лишь, на что мы указываем», он знает употребление слова. Здесь мы имеем в виду особый случай, когда то, «на что мы указываем», являет собою, к примеру, человека, а «знать, на что я указываю» означает видеть, на кого из присутствующих я указываю.)
Тогда мы чувствуем, что в случаях, когда «я» требуется использовать в качестве субъекта, мы этого не делаем, поскольку узнаём отдельного человека посредством его телесных характеристик; и это создает иллюзию, что мы употребляем это слово, чтобы указать на нечто бестелесное, однако обитающее в нашем теле. Фактически, это и кажется нам реальным ego, тем самым, о котором было сказано: «Cogito ergo sum». — «Тогда что же — сознания нет, есть только тело?». Ответ: «Слово „сознание“ имеет значение, т. е. оно употребляется в нашем языке; но сказать это — ещё не значит указать, какую разновидность употребления мы для него создали».
Фактически, можно сказать, что в этом исследовании мы имеем дело с грамматикой тех слов, которые описывают то, что называется «ментальной деятельностью»: видение, слышание, чувствование и т. д. То же самое можно сказать и в случаях, когда мы имеем дело с грамматикой «фраз, описывающих чувственные данные».
Философы говорят, что существование чувственных данных — это философское мнение или убеждение. Но слова о том, что я верю в существование чувственных данных, приводят к утверждению, что я верю в то, что объект может оказаться перед нашими глазами, даже когда его нет. Когда используется словосочетание «чувственные данные», должны быть ясны особенности его грамматики. Ибо это выражение было введено для того, чтобы после выражений, указывающих на «реальность» смоделировать выражения, указывающие на «облик» [appearance]. Говорилось, например, что если две вещи кажутся равными, то должны быть два чего-то-там, которые являются равными. Что, конечно, не подразумевает ничего иного, кроме того, что мы решили использовать выражение «облики этих двух вещей являются равными» как синоним выражения «эти две вещи кажутся равными». Достаточно странно, что введение этой новой фразеологии приводило людей к ошибочной мысли, что они открыли новые сущности, новые элементы структуры мира, как если бы высказывание «Я убеждён, что чувственные данные существуют» было похоже на высказывание «Я убеждён, что материя состоит из электронов». Когда мы говорим о равенстве обликов или равенстве чувственных данных, мы вводим новое употребление слова «равный». Представляется возможным, чтобы длины A и В казались нам равными, чтобы длины B и C казались равными, но при этом A и C не казались равными. И в новой системе обозначений мы должны будем сказать, что хотя облик (чувственно данное) A равен облику B, а облик В равен облику С, облик A не равен облику С; и тут всё в порядке, если вас не смущает, что «равно» используется нетранзитивно.
Опасность, которой мы подвергаемся, когда принимаем систему обозначений, связанную с чувственными данными, состоит в забвении различия между грамматикой высказывания о чувственных данных и грамматикой внешне похожего высказывания о физических объектах. (С этой точки зрения можно продолжать говорить о неправильном понимании, которое находит своё выражение в предложениях типа: «Мы никогда не можем видеть точный круг», «Все наши чувственные данные смутны». К тому же это приводит к сравнению грамматики выражений «положение», «движение» и «размер» в евклидовом и в визуальном пространстве. Например, в визуальном пространстве есть абсолютное положение, абсолютное движение и абсолютный размер.)
Мы можем использовать такие выражения, как «указание на облик тела» или «указание на визуальное чувственно данное». Грубо говоря, указания такого рода сводятся к тому же самому, что и, скажем, наведение прицела орудия. Так, мы можем указать и сказать: «Это направление, в котором я вижу своё отражение в зеркале». Можно также использовать выражение типа «облик или чувственно данное того, что мой палец указывает на чувственно данное дерева» и т. п. Однако от таких случаев указания мы должны отличать случаи, когда указывается в сторону, откуда, как кажется, идёт звук, или когда с закрытыми глазами указывают на своей лоб и т. д.
Когда в духе солипсизма я говорю: «Это то, что реально видится», я указываю на то, что находится впереди меня, и существенно то, что я указываю визуально. Если бы я указывал на то, что находится сбоку от меня или позади меня — т. е. на вещи, которые я не вижу, — в этом случае указание было бы для меня бессмысленным; это не было бы указанием в том смысле, в котором я хочу указать. Но это означает, что когда я указываю на то, что находится впереди меня, говоря: «Это то, что реально видится», я, хотя и произвожу указующий жест, не указываю на одну вещь в противоположность другой. Это как если бы я ехал в машине и чувствовал нетерпение, и интуитивно давил бы на нечто перед собой, как будто бы мог подтолкнуть машину изнутри.
В том случае, когда имеет смысл говорить «я вижу это» или «это видится», указывая на то, что я вижу, то имеет смысл также говорить «я вижу это» или «это видится», указывая на нечто такое, что я не вижу. Высказав свое солипсистское утверждение, я указал, но лишил указание его смысла, неразрывно связав то, что указывает, и то, на что указывается. Я сконструировал часы со всеми их колесиками и т. д., прикрепил стрелку к циферблату и заставил его вращаться вместе с ней. И точно так же солипсистское «только это реально видится» напоминает нам тавтологию.
Конечно, одной из причин, почему мы склонны высказывать наше псевдоутверждение, является его сходство с высказыванием «я вижу только это» или «это область, которую вижу я», где я указываю на определённые объекты вокруг себя в противоположность другим объектам или указываю в определённом направлении физического пространства (не визуального пространства) в противоположность другим направлениям физического пространства. И если, указывая в этом смысле, я говорю «это то, что реально видится», то мне могут ответить: «Это то, что видишь ты, Л.В., но нет никаких возражений против того, чтобы принять способ обозначения, согласно которому то, что мы называли „вещи, которые видит Л.В.“, называлось бы „вещами, которые реально видятся“». Если, однако, я уверен, что указанием на то, у чего в моей грамматике нет соответствия, я могу сообщить нечто самому себе (если не другим), то я совершаю ошибку, сходную с ошибочным убеждением, будто предложение «Я нахожусь здесь» имеет смысл для меня (и, к слову, всегда является истинным) при условиях, отличных от тех весьма специфических условий, при которых оно имеет смысл. Например, при условиях, когда другой человек узнаёт мой голос и понимает, откуда он слышится. Это опять-таки важный случай, когда вы можете усвоить, что слово имеет значение при конкретном использовании, которое мы для него создаём. Мы подобны людям, которые считают, что кусочки дерева, более или менее похожие на шахматные фигуры или на шашки и расставленные на шахматной доске, составляют игру, даже если ничего не было сказано относительно того, как они должны использоваться.
Высказывание «Это приближается ко мне» имеет смысл даже тогда, когда, говоря в физическом смысле, ничто не приближается к моему телу; и точно так же имеет смысл сказать: «Это находится здесь» или «Это достигло меня», когда ничто не достигло моего тела. И, с другой стороны, «Я нахожусь здесь» имеет смысл, если мой голос опознаётся и слышится из определённого места общего пространства. В предложении «Это находится здесь» «здесь» представляло собой здесь в визуальном пространстве. Грубо говоря, это — геометрический глаз. Предложение «Я нахожусь здесь», чтобы быть осмысленным, должно привлекать внимание к некоему месту в общем пространстве. (Есть несколько путей использования этого предложения.) Философ, который считает, что имеет смысл говорить себе «Я нахожусь здесь», заимствует вербальное выражение из предложения, в котором «здесь» является местом в общем пространстве, а мыслит «здесь» как здесь в визуальном пространстве. Следовательно, на самом деле он говорит нечто вроде: «Здесь есть здесь».
Я мог бы, однако, попытаться выразить свой солипсизм иным способом. Представим, что я и другие рисуют образы или создают описания того, что видит каждый из нас. Эти описания лежат передо мной. Я указываю на своё описание и говорю: «Только это реально видится (или виделось)». То есть я склонен сказать: «Только за этим описанием стоит реальность (или визуальная реальность)». Остальные описания я мог бы назвать «пустыми описаниями». Я мог бы также выразить свою мысль иначе, говоря: «Только это описание получено из реальности; только оно сравнивалось с реальностью». Теперь слова о том, что этот образ или это описание является проекцией, скажем, этой группы объектов — деревьев, на которые я смотрю, — или что оно получено из этих объектов, имеют ясное значение. Но мы должны всмотреться в грамматику фразы: «Это описание получено из моих чувственных данных». То, о чём мы говорим, касается сомнений вроде: «Я никогда не знаю, что другой в действительности подразумевает под „коричневым“ или что он в действительности видит, когда он (правдиво) говорит, что он видит коричневый объект». — Мы можем предложить тому, кто это говорит, использовать два разных слова вместо одного слова «коричневый»; одно слово — для его особого впечатления, другое слово — с тем значением, которое помимо него самого могут также понять другие люди. Если он обдумает это предложение, то увидит, что есть нечто ошибочное в его концепции значения и функции слова «коричневый» и других слов. Он ищет оправдание своему описанию там, где его нет. (Точно так же, как в случае, когда человек убеждён, что цепь причин должна быть бесконечной. Обдумайте оправдание с помощью общей формулы преобразования математических операций; и обдумайте вопрос: принуждает ли нас эта формула употреблять её в этом частном случае, что мы и делаем?) Высказывание «Я получаю описание из визуальной реальности» не может подразумевать ничего аналогичного высказыванию: «Я получаю описание из того, что я здесь вижу». Я могу, например, видеть таблицу, в которой окрашенный квадрат соотнесён со словом «коричневый», а также где-то видеть пятно того же самого цвета; и я могу сказать: «Эта таблица показывает мне, что я должен употреблять слово „коричневый“ для описания этого пятна». Так я могу получить слово, которое требуется для моего описания. Но было бы бессмысленным утверждать, что я получаю слово «коричневый» из особого полученного мной цветового впечатления.
Спросим теперь: «Может ли человеческое тело испытывать боль?». Кто-то склонен сказать: «Как тело может испытывать боль? Само тело — это нечто мёртвое; тело не является сознанием!». И здесь, опять-таки, мы как будто всматривались в природу боли и видели, что в её природе заключено то, что материальный объект не может её испытывать. И мы как будто бы видели, что то, что испытывает боль, должно быть сущностью иной природы, чем природа материального объекта; что, фактически, оно должно иметь ментальную природу. Но сказать, что ego является ментальным, аналогично тому, что сказать о числе 3, что оно ментально или имеет нематериальную природу, когда мы осознаём, что цифра «3» не используется в качестве знака физического объекта.
С другой стороны, мы вполне можем принять выражение «это тело чувствует боль» и затем, как водится, будем говорить это, чтобы пойти к доктору, прилечь и даже вспомнить, что, когда в последний раз это тело испытывало боли, они прекратились в тот же день. «Но разве эта форма выражения не являлась по крайней мере косвенной?». Будет ли выражение употребляться косвенным образом, когда мы говорим «Напишите „3“ вместо „x“ в этой формуле» вместо «Подставь 3 на место x»? (Или, с другой стороны, является ли прямым только первое из этих двух выражений, как считают некоторые философы?) Одно выражение является таким же прямым, как и другое. Значение выражения всецело зависит от того, как мы собираемся его употребить. Не нужно представлять себе значение как некую сверхъестественную связь, которую мышление создаёт между словом и вещью, как будто эта связь содержит все способы употребления слова подобно тому, как можно было бы сказать, что семя содержит дерево.
Ядро нашей пропозиции — то, что испытывает боль, или видит, или мыслит, имеет метальную природу, — заключается лишь в том, что «я» в «Я испытываю боли» не обозначает конкретное тело, ибо мы не можем на место «я» подставить описание тела.
Коричневая книга
I
Августин, описывая то, как он осваивал язык, рассказывает, что его обучали говорить посредством заучивания имён вещей[35]. Ясно, что любой говорящий так имеет в виду способ, с помощью которого ребёнок изучает такие слова, как «человек», «сахар», «стол» и т. д. Первоначально он не думает о таких словах, как «сегодня», «не», «но», «возможно».
Предположим, что человек описывает шахматную игру, не упоминая о существовании и ходах пешек. Его описание игры как естественного явления будет неполным. С другой стороны, мы можем сказать, что он полностью описал более простую игру. В этом смысле мы можем сказать, что описание освоения языка, данное Августином, было корректным для языка более простого, чем наш.
Представим себе такой язык:
(1). Его функция заключается в коммуникации между строителем А и его подручным В, который должен подавать А строительные камни. В нашем распоряжении есть бруски, кирпичи, плиты, балки, колонны. Язык состоит из слов «брусок», «кирпич», «плита», «балка», «колонна». А выкрикивает одно из этих слов, на что В приносит камень определённой формы. Вообразим общество, в котором эта система языка единственная. Ребёнок усваивает этот язык от взрослых, тренируясь в употреблении слов. Я употребляю слово «тренируют [trained]» строго аналогично тому, как мы говорим, что животное дрессируют [trained] выполнять определённые действия. Это осуществляется посредством примеров, поощрения, наказания и т. п. Часть этой тренировки заключается в том, что мы указываем на строительный камень, обращаем на него внимание ребёнка и произносим слово. Я буду называть эту процедуру демонстративным обучением словам. В реальном употреблении данного языка один человек выкрикивает эти слова в качестве приказов, другой действует в соответствии с ними. Но усвоение и обучение этому языку будет включать следующую процедуру: ребёнок просто «именует» вещи, т. е. он произносит слова этого языка, когда учитель указывает на вещи. Фактически упражнение будет ещё более простым: ребёнок повторяет слова, которые произносит учитель.
(Примечание. Возражение: Слово «кирпич» в языке (1) не имеет значения, которым оно обладает в нашем языке. — Последнее истинно, если подразумевает, что в нашем языке есть употребления слова «кирпич», отличные от наших употреблений этого слова в языке (1). Но разве мы иногда не употребляем выражение «Кирпич!» именно таким образом? Или мы должны сказать, что при нашем его употреблении оно является сжатым предложением, сокращением для «Принеси мне кирпич»? Разве не правильно сказать, что, если мы говорим «Кирпич!», мы подразумеваем «Принеси мне кирпич»? Почему я должен переводить выражение «Кирпич!» в выражение «Принеси мне кирпич»? И если они являются синонимами, почему бы мне не сказать: если он говорит «Кирпич!», то подразумевает «Кирпич!»…? Или, если вы не настаиваете на том, что, когда он говорит вслух «Кирпич!», то на самом деле про себя говорит «Принеси мне кирпич», почему бы ему не подразумевать просто «Кирпич!», если он способен подразумевать «Принеси мне кирпич»? Но по какой причине мы могли бы это утверждать? Предположим, некто спросил: если человек отдает приказ «Принеси мне кирпич», должен ли он подразумевать его как три слова, и не может ли он подразумевать его как одно составное слово, синонимичное слову «Кирпич!»? Напрашивается ответ: он подразумевает вес три слова, если в своем языке он использует это предложение в противоположность другим предложениям, в которых используются эти слова, таких, например, как: «Убери эти два кирпича». Но что если я спрошу: «Каким образом его предложение противопоставлено этим другим предложениям? Должен ли он был мыслить их одновременно, незадолго до или незадолго после, или достаточно того, что он должен был усвоить их одновременно и т. д.?». Когда мы задаём себе этот вопрос, то кажется, что безразлично, какая из этих альтернатив имеет место. И мы склонны считать, что реально к делу относится только то, что противопоставления должны существовать в системе языка, которую он использует, и что им нет необходимости в каком либо смысле присутствовать в его сознании, когда он произносит своё предложение. Теперь сравним этот вывод с нашим первоначальным вопросом. Когда мы задавали его, мы, по-видимому, задавали вопрос о состоянии сознания человека, который произносит предложение, тогда как идея о подразумевании, к которой мы пришли в конце, не была идеей о состоянии сознания. Иногда мы мыслим значение знаков как состояние сознания использующего их человека, иногда — как роль, которую эти знаки играют в системе языка. Связь между этими двумя идеями заключается в том, что ментальные переживания, сопровождающие употребление знака, несомненно вызваны нашим употреблением знака в отдельной системе языка. Уильям Джеймс говорит о специфических ощущениях, сопровождающих употребление таких слов, как «и», «если», «или». И несомненно, что по крайней мере определённые жесты часто связаны с такими словами. Так, жест собирания связан со словом «и», а жест отвержения — со словом «не». Очевидно, что бывают визуальные и мускульные ощущения, связанные с этими жестами. С другой стороны, достаточно ясно, что эти жесты не сопровождают каждое употребление слов «не» и «и». Если в некотором языке «но» подразумевало бы то, что в английском языке означает слово «не», ясно, что мы не должны сравнивать значения этих двух слов, сравнивая те ощущения, которые они вызывают. Спросите себя, какими средствами мы располагаем для того, чтобы выявить ощущения, которые вызывают эти слова в различных людях и при различных обстоятельствах. Спросите себя: «Когда я говорил: „Дайте мне яблоко и грушу и покиньте комнату“, чувствовал ли я одно и то же, когда произносил два раза слово „и“?» Но мы не отрицаем, что люди, которые употребляют слово «но» так, как в английском языке используется слово «не», вообще говоря, будут испытывать ощущения, сопровождающие слово «но», сходные с ощущениями, которые испытывают англичане, когда используют слово «не». И слово «но» в двух языках будет, в общем, сопровождаться различными множествами переживаний.)
(2). Рассмотрим теперь расширение языка (1). Подручный строителя наизусть знает последовательность слов от одного до десяти. На отданный приказ: «Пять плит!» он идёт туда, где содержатся плиты, произносит слова от одного до пяти, берёт с каждым словом плиту и несёт их строителю. Здесь обе стороны используют язык, произнося слова. Зауживание числительных наизусть будет одной из существенных черт этого языка. Употреблению числительных снова будут обучать демонстративно. Но одному и тому же слову, например «три», будут обучать указанием на плиты, кирпичи или колонны и т. д. С другой стороны, различным числительным будут обучать с помощью указания группы камней одних и тех же очертаний.
(Замечание. Мы подчеркнули важность заучивания ряда числительных наизусть, потому что в освоении языка (1) не было характеристики, сравнимой с этой. И это показывает нам, что, вводя числительные, мы ввели в наш язык инструмент совершенно иного вида. Видовое различие становится намного чётче, когда мы обдумываем такой простой пример, чем когда смотрим на наш обычный язык с неисчислимыми видами слов, которые выглядят более или менее похожими, когда стоят в словаре.
— Что общего имеется у демонстративных объяснений числительных с демонстративными объяснениями слов «плита», «колонна» и т. д. за исключением жестикуляции и произнесения слов? Жестикуляция используется в этих двух случаях по-разному. Разница эта становится расплывчатой, если говорят: «В одном случае мы указываем на очертание, в другом — на число». Различие становится очевидным и ясным только когда мы обдумываем законченный пример (т. е. пример языка, полностью разработанного в деталях).)
(3). Введём новый инструмент коммуникации — имя собственное. Оно присваивается отдельному объекту (отдельному строительному камню) с помощью указания на объект и произнесения имени. Если А выкрикивает имя, В приносит объект. Демонстративное обучение имени собственному вновь отличается от демонстративного обучения в случаях (1) и (2).
(Замечание. Это различие, однако, не связано ни с актом указания и произнесения слова, ни с каким-либо сопровождающим его ментальном актом (подразумеванием?), но с той ролью, которую демонстрация (указание и произнесение) играет во всей тренировке и в употреблении слова, создаваемом в практике коммуникации посредством этого языка. Могут посчитать, что это различие можно было бы описать, говоря, что в различных случаях мы указываем на различные виды объектов. Но, предположим, я указываю рукой на голубой свитер. Как указание на его цвет отличается от указания на его очертания? — Мы склонны говорить, что различие состоит в том, что в этих двух случаях мы подразумеваем нечто различное. И «подразумевание» должно быть здесь своего рода процессом, осуществляющимся в ходе указания. К этой точке зрения нас, в частности, склоняет то, что человек, будучи спрошен, указывал ли он на цвет или на очертания, по крайней мере в большинстве случаев, способен на это ответить и не сомневаться в правильности своего ответа. Если, с другой стороны, мы ищем два таких характерных ментальных акта, как подразумевание цвета и подразумевание очертания, и т. д., то мы не сможем найти ни одного, по крайней мере ни одного такого, какой должен всегда сопровождать указание на цвет или, соответственно, указание на очертание. У нас есть лишь приблизительная идея того, что значит сосредотачивать внимание на цвете в противовес очертанию или vice versa. Различие, можно сказать, не включено в акт демонстрации, но, скорее, включено в окружение этого акта при употреблении языка.)
(4). На приказ «Эта плита!» В приносит плиту, которую указывает A. На приказ «Плита туда!» он приносит плиту в указанное место. Обучаются ли слову «туда» демонстративно? И да, и нет! Когда человека тренируют употреблять «туда», обучающий, тренируя его, будет производить указующий жест и произносить слово «туда». Но должны ли мы сказать, что он тем самым дает месту имя «туда»? Вспомним, что указующий жест в этом случае являются частью самой практики коммуникации.
(Замечание. Предполагалось, что такие слова, как «туда», «здесь», «сейчас», «это» являются «подлинными собственными именами» в противоположность тому, что мы называем собственными именами в обыденной жизни, и которые, согласно точке зрения, на которую я сослался, лишь в грубом приближении могут быть названы так. Широко распространена тенденция рассматривать то, что в обыденной жизни называют собственными именами, лишь как грубое приближение к тому, что могло бы быть названо так в идеале. Сравним это с идеей Рассела об «индивиде»[36]. Он говорит об индивидах как о предельных конституентах реальности, но считает, что трудно сказать, какого рода вещи являются индивидами. Идея в том, что это должен обнаружить дальнейший анализ. Мы же, напротив, ввели идею имени собственного в языке, согласно которой оно относилось к тому, что в обыденной жизни мы называем «объектами», «вещами» («строительными камнями»). — «Что означает слово „точность“? Это ли действительная точность, если предполагалось, что вы придёте на чай в 4.30, и вы приходите, когда надёжные часы бьют 4.30? Или точность имела бы место лишь в том случае, если бы вы начали открывать дверь в момент, когда начинают бить часы? Но как должен определяться этот момент и как должно определяться „начало открывания двери“? Правильнее было бы сказать: „Трудно сказать, что есть действительная точность, ибо всё, что мы знаем, суть лишь грубые приблизительные величины“?»).
(5). Вопросы и ответы. А спрашивает: «Сколько плит?», В считает их и отвечает числительным.
Системы коммуникации, такие как (1), (2), (3), (4), (5), мы будем называть «языковыми играми». Они более или менее родственны тому, что в обыденном языке мы называем играми. Детей обучают их родному языку посредством таких игр, здесь же игры даже носят развлекательный характер. Мы, однако, рассматриваем описываемые нами языковые игры не как неполные части языка, но как языки, завершённые в себе, как целостные системы человеческого общения. Чтобы удержать в сознании эту точку зрения, часто полезно воображать, что такой простой язык является целостной системой коммуникации племени, находящегося на примитивном уровне развития общества. Подумайте о примитивной арифметике таких племён.
Когда ребёнок или взрослый осваивает то, что можно назвать специальными техническими языками, например, использование чертежей и диаграмм, начертательную геометрию, химическую символику и т. д., он осваивает больше языковых игр. (Замечание. Образ языка взрослого, который у нас складывается, представляет собой образ расплывчатой языковой массы, где его родной язык окружён дискретными и имеющими более или менее четкие границы языковыми играми, техническими языками.)
(6). Спрашивание об именах: мы вводим новые формы строительных камней. В указывает на один из них и спрашивает: «Что это такое?»; A отвечает: «Это… [This is…]». Позднее A выкрикивает это новое слово, скажем, «арка», и В приносит камень. Слова «Это…» вместе с указующим жестом мы будем называть остенсивным объяснением или остенсивным определением. В действительности, в случае (6) родовое имя [generic name] было объяснено как имя для определённого очертания. Но мы можем задать аналогичный вопрос о собственном имени отдельного объекта, об имени цвета, числительного, направления.
(Замечание: Наше употребление выражений вроде «имена чисел», «имена цветов», «имена материалов», «имена наций» может проистекать из двух источников. Первый: мы можем представить, что функции имён собственных, числительных, слов для цветов и т. д. имеют значительно больше сходств, нежели это есть на самом деле. Если мы принимаем это, то мы склонны считать, что функция любого слова более или менее похожа на функцию имени собственного человека или на функцию таких родовых имён, как «стол», «стул», «дверь» и т. д. Второй источник можно обозначить так: если мы видим, насколько фундаментально отличаются функции таких слов, как «стол», «стул» и т. д., от функций имён собственных и насколько отличаются от этих обеих функций, скажем, функции имён цветов, то мы видим, почему мы не должны говорить об именах чисел или именах направлений, например, так: «Числа и направления — это только иные формы объектов», но скорее должны подчёркивать аналогию, которая заключается в отсутствии аналогии между функциями слов «стул» и «Джек», с одной стороны, и «восток» и «Джек», с другой.)
(7). У В есть таблица, в которой записанные знаки расположены напротив изображений объектов (скажем, стола, стула, чайной чашки и т. д.). А записывает один из знаков, В ищет его в таблице, смотрит на расположенное напротив изображение или перемещает палец со знака на изображение, а затем приносит объект, воплощенный в изображении.
Рассмотрим теперь другие виды знаков, введённые нами. Прежде всего, проведём различие между предложениями и словами. Предложением [sentence][37] я буду называть каждый завершённый знак в языковой игре, а составляющие его знаки — словами. (Это всего лишь огрубленное и общее замечание о том, как я буду использовать слова «пропозиция [proposition]» и «слово».) Пропозиция может состоять только из одного слова. В (1) знаки «Кирпич!» и «Колонна!» являются предложениями. В (2) предложение состоит из двух слов. В соответствии с ролью, которую пропозиции играют в языковой игре, мы различаем приказы, вопросы, объяснения, описания и т. д.
(8). Если в языковой игре, сходной с (1), А выкрикивает приказ: «Плита, колонна, кирпич!», которому повинуется В, принося плиту, колонну и кирпич, мы можем говорить здесь о трёх пропозициях или только об одной. Если, с другой стороны,
(9). словесный приказ показывает В порядок, в котором нужно нести строительные камни, мы скажем, что А выкрикивает пропозицию, состоящую из трёх слов. Если команда в этом случае принимает форму — «Плита, затем колонна, затем кирпич!», мы сказали бы, что она состоит из четырёх слов (не из пяти). Среди слов мы видим группы слов со сходными функциями. Мы можем легко видеть сходство в употреблении слов «один», «два», «три» и т. д. и сходство в употреблении слов «плита», «колонна», «кирпич» и т. д., и таким образом мы различаем части речи. В (8) все слова пропозиции относятся к одной и той же части речи.
(10). Порядок, в котором В должен приносить камни в (9), может быть указан с помощью использования порядковых числительных следующим образом: «Второй — колонну; первой — плиту; третьим — кирпич!» Здесь мы имеем случай, когда то, что в одной языковой игре было функцией порядка слов, в другой является функцией отдельных слов.
Подобные размышления показывают нам бесконечное разнообразие функций слов в пропозициях, и любопытно сравнить то, что мы видим в наших примерах, с простыми и строгими правилами, которые логики придают конструкции пропозиций. Если мы сгруппируем слова вместе на основании сходства их функций, различив таким образом части речи, легко видеть, что можно применить самые разные способы классификации.
На самом деле мы легко могли бы представить себе причину того, чтобы не зачислять в одну категорию слово «один» и слова «два», «три» и т. д., например, так:
(11). Рассмотрим такой вариант нашей языковой игры (2). Вместо выкриков: «Одна плита!», «Один блок!» и т. д., А просто выкрикивает: «Плита!», «Блок!» и т. д., использование остальных числительных такое же, как описано в (2). Предположим, что для человека, привыкшего к коммуникации в форме (11), было введено употребление слова «один», как описано в (2). Мы можем легко вообразить, что он отказался бы объединять «один» в одну категорию с цифрами «2», «3», и т. д.
(Замечание. Обдумайте причины за и против того, чтобы причислить «О» к той же категории, к которой относятся другие цифры. «Являются ли чёрное и белое цветами?» В каких случаях вы были бы склонны ответить да, а в каких — нет? — Можно многими способами сравнивать слова с персонажами шахматной игры. Обдумайте несколько вариантов различения разных видов фигур при игре в шахматы (например, пешки и «командиры»).
Вспомним фразу «два или больше».)
Для нас естественно называть жесты, вроде тех, что применялись в (4), или изображения, как в (7), элементами или инструментами языка. (Иногда мы говорим о языке жестов.) Изображения (7) и другие инструменты языка, имеющие сходные функции, я буду называть образцами [patterns]. (Как и другие наши объяснения, это объяснение расплывчато, и расплывчато намеренно.) Мы можем сказать, что слова и образцы имеют разного рода функции. Когда мы используем образец, мы что-то сравниваем с ним, например, стул с изображением стула. Мы не сравнивали плиту со словом «плита». Вводя разделение «слово/образец», мы не стремились к тому, чтобы установить окончательную логическую двойственность. Мы только выделяем два характерных вида инструментов из всего разнообразия инструментов нашего языка. Мы будем называть «один», «два», «три» и т. д. словами. Если бы вместо этих знаков мы использовали «―», «――», «―――», «――――», мы могли бы назвать их образцами. Предположим, что в языке числительными были бы «один», «один один», «один один один» и т. д.; должны мы в этом случае назвать «один» словом или образцом?
Один и тот же элемент в одном месте может использоваться как слово, а в другом — как образец. Окружность может быть именем для эллипса или, с другой стороны, образцом, с которым должен сравниваться эллипс посредством особого метода проекции.
Рассмотрим также следующие две системы выражения:
(12). А отдает В приказ, состоящий из двух написанных символов, первый — это неправильной формы пятно определённого цвета, скажем, зелёного, второй — нарисованный контур геометрической фигуры, скажем, круга. В приносит объект такой формы и такого цвета, скажем, круглый зелёный объект.
(13). А отдает В приказ, состоящий из одного символа — геометрической фигуры, закрашенной определённым цветом — скажем, зеленого круга. В приносит ему зелёный круглый объект. В (12) одни образцы соответствовали нашим именам цветов, другие — нашим именам очертаний. Символы в (13) не могут рассматриваться как комбинации двух таких элементов. Слово в одинарных кавычках может быть названо образцом. Так, в предложении «Он сказал „Иди к чёрту“» «Иди к чёрту» является образцом того, что он сказал. Сравним два случая: а) некто говорит: «Я просвистел…» (насвистывает мелодию); некто записывает: «Я просвистел ». Звукоподражательное слово вроде «шуршание» может быть названо образцом. Мы называем огромное разнообразие процессов «сравниванием объекта с образцом». В имя «образец» мы включаем множество видов символов. В (7) В сравнивает изображение в таблице с объектом перед собой. Но в чем заключается сравнивание изображения с объектом? Предположим, таблица показывала: а) изображение молотка, клещей, пилы и зубила; b) с другой стороны, двадцать различных видов бабочек. Попробуем представить себе, в чём могло бы состоять сравнение в этих двух случаях, и отметим различия. Сравним с этими третий случай с), где изображения на таблице представляют строительные камни, изображенные в масштабе, а сравнение должно производиться при помощи линейки и циркуля. Предположим, что задача В заключается в том, чтобы принести отрез ткани цвета определённого образца. Как должны сравниваться цвет образца и цвет ткани?
Представим себе ряд различных случаев:
(14). A показывает образец В, на основании которого В идёт и приносит ткань «по памяти».
(15). А дает В образец, В переводит взгляд с образца на рулоны ткани на полках, из которых он должен выбрать.
(16). В кладёт образец на каждый рулон ткани и выбирает тот, который он не может отличить от образца, для которого различие между образцом и материей кажется стёртым.
(17). С другой стороны, представим себе, что приказ был: «Принеси ткань чуть более тёмную, чем этот образец». В (14) я говорил, что В приносит ткань «по памяти», где «по памяти» употребляется в повседневной форме выражения. Но то, что может происходить при таком случае сравнения «по памяти», в высшей степени разнообразно. Вообразим несколько примеров:
(14а). Когда В идёт за тканью, перед его мысленным взором стоит образ из памяти [a memory image]. Он поочерёдно смотрит на ткани и вызывает образ. Он проделывает этот процесс, скажем, с пятью рулонами, в одних случаях говоря себе: «Слишком тёмный», в других: «Слишком светлый». На пятом рулоне он останавливается и говорит: «Именно этот», и берёт его с полки.
(14b). Перед мысленным взором В нет никаких образов из памяти. Он смотрит на четыре рулона, каждый раз качая головой, чувствуя своего рода ментальное напряжение. Когда он подходит к пятому рулону, напряжение ослабевает, он кивает головой и снимает рулон.
(14с). В идёт к полке без образов из памяти, по очереди смотрит на пять рулонов и снимает с полки пятый рулон.
«Но в этом не может заключаться всё сравнение».
Когда мы называли эти три предшествующих случая случаями сравнения по памяти, мы чувствовали, что их описание в некотором смысле неудовлетворительно или неполно. Мы склонны считать, что описание игнорировало существенные черты такого процесса и открывало нам только второстепенные. Существенные черты, видимо, состояли бы в том, что можно назвать специфическим переживанием сравнения и узнавания. Занимательно то, что при внимательном взгляде на случаи сравнения весьма легко видеть массу действий и состояний сознания, каждое из которых в большей или меньшей степени характеризует акт сравнения. Фактически, это так, говорим ли мы о сравнении по памяти или о сравнении посредством образца, находящегося перед нашими глазами. Мы знаем массу таких процессов, процессов, обнаруживающих массу различных сходств. Когда мы хотим сравнить цвет лоскутков, мы совмещаем их или держим их друг рядом с другом в течение большего или меньшего времени, смотрим на них поочерёдно или одновременно, помещаем под различное освещение и говорим о разных вещах, пока делаем это, удерживаем образы из памяти, удерживаем ощущения напряжённости и расслабленности, удовлетворённости и неудовлетворённости, различные ощущения переутомления в наших глазах или вокруг них, сопровождающие длительное созерцание одного и того же объекта, и всевозможные комбинации этих и многих других переживаний. Чем больше таких случаев мы наблюдаем и чем ближе мы их рассматриваем, тем больше сомнений мы испытываем относительно возможности нахождения одной особой характеристики переживания сравнения. Фактически, если бы после того, как вы внимательно рассмотрели некоторое число случаев такого рода, я бы признал, что существует особое ментальное переживание, которое вы могли бы назвать переживанием сравнения и по отношению к которому, если вы настаиваете, я согласился бы применять слово «сравнение» только для случаев, при которых встречается это особое ощущение, вы тогда почувствовали бы, что допущение такого особого переживания утратило смысл, поскольку это переживание было бы рядоположено с массой других переживаний, которые после внимательного рассмотрения нами этих случаев кажутся тем, что действительно создаёт то, что связывает все эти случаи сравнения. Ибо подразумевалось, что «особое переживание», которое мы искали, должно было сыграть роль, которую сыграли те многочисленные переживания, что были обнаружены нами в ходе внимательного рассмотрения: мы никогда не хотели, чтобы особое переживание было всего лишь одним из многих более или менее характерных переживаний. (Можно сказать, что существует два способа рассмотрения данной проблемы: один, так сказать, в непосредственном соприкосновении с ней, второй — как бы с некоторого расстояния и через посредство особой атмосферы.) Фактически, мы обнаружили, что употребление, которое мы в реальности создали для слова «сравнение», отличается от того, которого у нас имелись основания ожидать, когда мы смотрели на это слово издалека. Мы находим, что все случаи сравнения связывает огромное количество пересекающихся сходств, и поскольку мы это видим, больше нет нужды говорить, что должна существовать одна особенность, общая для всех них. Корабль к пристани пришвартован канатом, и канат состоит из волокон, но свою прочность он получает не из какого-то одного волокна, тянущегося из одного конца в другой, но из того, что он состоит из массы переплетающихся волокон.
«В случае (14с) В, конечно, ведёт себя совершенно автоматически. Если то, что было описано, это всё, что реально происходило, то он не знал, почему он выбрал тот рулон, который выбрал. У него не было причины выбирать именно его. Если он выбрал правильный рулон, он сделал это так, как могла бы сделать машина». Наш первый ответ состоит в следующем: мы не отрицали, что в случае (14с) В обладал тем, что мы назвали бы личным переживанием, ибо мы не говорили, что он не видел рулонов ткани, из которых он выбирал, или же ту ткань, которую он выбрал, не говорили мы и то, что у него не было мускульных или тактильных ощущений или чего-то подобного, пока он это делал. Что же это за причина, которая оправдала бы его выбор и сделала бы его неавтоматическим? (То есть какой мы ее представляем?)Я полагаю, мы сказали бы, что противоположность автоматическому сравнению (так сказать, идеальный случай сознательного сравнения) заключается в обладании четким образом из памяти, стоящим перед умственным взором, или в видении реального образца вкупе со специфическим чувством неспособности провести определённое различие между этими образцами и выбранной материей. Я полагаю, что это особое ощущение и есть причина выбора, его оправдание. Могут сказать, что это специфическое чувство связывает два переживания: видение образца — с одной стороны, и ткани — с другой. Но если это так, что связывает это специфическое переживание с каждым из них? Мы не отрицаем, что подобное переживание может иметь место. Но если смотреть на него так, как мы только что делали, различие между автоматическим и неавтоматическим больше не покажется ясно очерченным и окончательным, каким оно казалось первоначально. Мы не имеем в виду, что это различие утрачивает свою практическую ценность в конкретных случаях, например, если нас спросят при определённых обстоятельствах: «Вы взяли этот рулон с полки автоматически или вы думали об этом?», — мы можем оправдать свои действия, говоря, что мы не действовали автоматически, приведя в качестве объяснения то, что мы внимательно осматривали материю, пытаясь вызвать в памяти образец, выражая сомнения и принимая решения. В отдельном случае это можно принять за различие автоматического и неавтоматического. Однако в другом случае мы можем провести различие между автоматическим и неавтоматическим проявлением [appearance] образа из памяти и т. д.
Если наш случай (14с) продолжает вас беспокоить, вы, возможно, захотите спросить: «Но почему он принёс именно этот рулон материи? Как он опознаёт его в качестве правильного рулона? Посредством чего?». — Если вы спрашиваете «Почему?», вы спрашиваете о причине или о поводе? Если о причине, то достаточно легко придумать физиологическую или психологическую гипотезу, которая объяснит этот выбор при заданных условиях. Проверять такие гипотезы — это задача экспериментальных наук. Если, с другой стороны, вы спрашиваете о поводе, ответ следующий: «Для выбора нет необходимости в поводе. Повод — это шаг, предшествующий шагу выбора. Но почему каждый шаг должен предваряться другим шагом?».
«Но тогда В на самом деле не узнал материю как правильную». Вам не нужно рассматривать (14с) среди случаев узнавания, но если вы стали осознавать факт, что процессы, которые мы называем процессами узнавания, образуют обширную семью с пересекающимися сходствами, то вы, вероятно, не будете возражать против того, чтобы включить в эту семью также и (14с). «Но разве в этом случае В не утрачивает критерий, с помощью которого он может узнавать ткань? В (14а), например, у него был образ из памяти, и он узнал искомую им ткань через её согласованность с этим образом». — Но имел ли он также перед собой образ этой согласованности, образ, с которым он мог бы сравнить согласованность между образцом и рулоном, чтобы увидеть, является ли этот рулон правильным? И, с другой стороны, разве ему не могли предоставить такой образ? Предположим, например, что А хотел, чтобы В помнил, что требуемым является рулон в точности такой же, как образец, а не (как, возможно, в других случаях) ткань немного более тёмная, чем образец. Разве в этом случае А не мог бы дать В пример требуемой согласованности, дав ему два лоскута одного и того же цвета (например, в качестве своего рода напоминания)? Разве любая такая связь между приказом и его исполнением непременно является окончательной? И если вы говорите, что в (14b) он, по крайней мере, испытал чувство ослабления напряжения, посредством которого узнавал правильную ткань, должен ли он был иметь перед собой образ этого своего ослабления, чтобы узнать его в качестве того, посредством чего должна была узнаваться правильная материя?
«Но предположим, что В приносит рулон, как в (14с), и, после сравнения его с образцом, обнаруживается, что это неправильный рулон?» — Но разве этого не могло бы случиться также и во всех других случаях? Предположим, было обнаружено, что в (14а) рулон, который приносил Б, не совпадает с образцом. Должны ли мы в одном из подобных случаев говорить, что изменился образ в его памяти, в другом — что изменился образец или материя, а в третьем — что изменилось освещение? Нетрудно придумать случаи или вообразить обстоятельства, при которых каждое из этих суждений было бы возможно. — «Но всё равно, разве нет существенного различия между случаями (14а) и (14с)?» — Разумеется! Именно это указано в описании этих случаев.
В (1) B учился приносить строительный камень, слыша выкрикиваемое слово «колонна!». Мы могли бы вообразить, что в этом случае происходит следующее: В сознании B выкрикиваемое слово вызывает образ, скажем, колонны; как мы сказали бы, эта ассоциация явилась результатом тренировки. В берёт тот строительный камень, который согласуется с его образом. — Но является ли то, что происходит, необходимым? Если тренировкой можно достичь того, чтобы идея или образ возникали в сознании B автоматически, почему бы тренировкой не достичь автоматизма действий В без вмешательства образа? Это привело бы только к незначительному изменению механизма ассоциации. Имейте в виду, что образ, который вызывается словом, не достигается посредством рационального процесса (но если это так, то это отодвигает наш аргумент ещё дальше), но что этот случай строго сравним со случаем механизма, в котором давят на кнопку и появляется индикаторная панель. Фактически, механизм такого рода может использоваться вместо механизма ассоциации.
Ментальные образы цветов, очертаний, звуков и т. д., и т. п., которые играют роль в языковой коммуникации, мы помещаем в одну категорию с действительно видимыми пятнами цвета и слышимыми звуками.
(18). Цель тренировки в использовании таблиц (как в (7)) может заключаться не только в обучении использованию одной отдельно взятой таблицы; можно, напротив, дать возможность ученику самому использовать или конструировать таблицы с новыми соответствиями записанных знаков и изображений. Предположим, что первая таблица, в использовании которой натренировали человека, содержала четыре слова «молоток», «клещи», «пила», «зубило» и соответствующие изображения. Мы можем теперь добавить изображение другого объекта, расположенного перед учеником, скажем, рубанка и соотнести с ним слово «рубанок». Мы создадим соответствие между этим новым изображением и словом — соответствие, по возможности похожее на соответствие в предыдущей таблице. Так, мы можем добавить новое слово и изображение на тот же лист и поместить новое слово под предыдущими словами, а новое изображение под предыдущим изображением. Ученика теперь будут поощрять в использовании нового изображения и нового слова без специальной тренировки, которой мы его подвергли, когда обучали пользоваться первой таблицей. Эти акты поощрения будут разнотипными, и многие из них будут возможны, только если ученик на них реагирует и реагирует определённым способом. Вообразим жесты, звуки и прочие варианты поощрения, которые вы используете, обучая собаку команде «Апорт!», Вообразим, с другой стороны, что вы пытаетесь обучить апортировке кошку. Поскольку кошка не будет отвечать на ваши поощрения, о большинстве актов поощрения, осуществляемых вами при обучении собаки, здесь не может быть и речи.
(19). Ученика можно также натренировать, чтобы он давал вещам имена своего собственного изобретения и приносил объекты, когда эти имена выкрикиваются. Например, ему предоставляется таблица, на которой он находит изображения расположенных вокруг него объектов на одной стороне, и пустые места на другой, и он разыгрывает игру, записывая знаки собственного изобретения напротив изображений и реагируя так же, как раньше, когда эти знаки используются как приказы.
Или же —
(20). игра может состоять в том, что В конструирует таблицу и выполняет приказы, данные в терминах этой таблицы. Когда обучают использованию таблицы, и таблица состоит, скажем, из двух вертикальных столбцов: левого, содержащего имена, и правого, содержащего изображения, и соотношение имен и изображений заключается в том, что они расположены на одной горизонтальной линии, тогда важной чертой тренировки может быть то, что ученика заставляют водить пальцем слева направо, как бы тренируя в начертании ряда горизонтальных линий, расположенных друг под другом. Такая тренировка может помочь осуществить переход от первой таблицы к новому элементу.
В соответствии с обычным употреблением, таблицы, остенсивные определения и сходные инструменты я буду называть правилами. Употребление одного правила можно объяснить с помощью следующего правила.
(21). Рассмотрим пример. Мы вводим различные способы прочтения таблицы. Каждая таблица состоит из двух столбцов со словами и изображениями, как было описано выше. В некоторых случаях они должны прочитываться горизонтально, слева направо, т. е. согласно схеме:
В других случаях — согласно таким схемам, как:
или:
Схемы такого типа можно присоединить к нашим таблицам в качестве правил для их чтения. Можно ли эти правила снова объяснить посредством последующих правил? Конечно. С другой стороны, объяснено ли правило полностью, если не дано правило для его использования?
Мы вводим в наши языковые игры бесконечный ряд цифр. Но как это делается? Очевидно, что аналогия между этим процессом и процессом введения ряда из двадцати цифр отличается от аналогии между введением ряда из двадцати цифр и введением ряда из десяти цифр. Предположим, что наша игра была похожа на (2), но разыгрывалась с бесконечным рядом цифр. Различие между этой игрой и игрой (2) было бы не только в том, что используется больше цифр. Иными словами, если, разыгрывая эту игру, мы реально использовали, скажем, 155 цифр, то разыгрываемая нами игра не была бы игрой, которую можно было бы описать, говоря, что мы играли в игру (2), но только с 155-тью, а не с 10 цифрами. Но в чём состоит различие? (Различаться, казалось, должен был фактически лишь дух, в котором бы разыгрывались игры.) Различие между играми может быть связано, скажем, с числом используемых фишек, с числом квадратов на игровой доске или с тем фактом, что в одном случае мы используем квадраты, а в другом шестиугольники, и т. п. Но различие между конечной и бесконечной игрой, по-видимому, не связано с материальными средствами; ибо мы склонны утверждать, что бесконечность не может быть в них выражена, т. е. что мы можем постигнуть её только в наших мыслях и что, следовательно, в этих мыслях конечная игра должна отличаться от бесконечной. (Забавно, что эти мысли можно выразить знаками.)
Рассмотрим две игры. Обе разыгрываются с карточками, имеющими номера, и наибольший номер берёт взятку.
(22). Одна игра разыгрывается с фиксированным числом таких карточек, скажем, с 32-мя. В другой игре при определённых обстоятельствах мы получим разрешение увеличивать количество карточек до желаемого нами числа, нарезая листики бумаги и проставляя на них номера. Мы будем называть первую из этих игр ограниченной, а вторую — неограниченной. Предположим, разыгрывалась партия второй игры, и число реально использованных карг было 32. В чём в этом случае заключается различие между разыгрыванием партии а) неограниченной игры и разыгрыванием партии b) ограниченной игры?
Здесь нет различия между партией ограниченной игры с 32 карточками и партией ограниченной игры с большим количеством карточек. Число используемых карточек, как мы сказали, было тем же самым. Но тут будут различия другого рода, например, ограниченная игра разыгрывается со стандартной пачкой карточек, в неограниченной же игре нам предоставляется большое количество пустых карточек и карандашей. Неограниченная игра открывается вопросом: «Как далеко мы пойдем?» Если игроки посмотрят на правила этой игры в книге правил, они найдут фразу «и так далее» или «и так далее ad infinitum» в конце определённых рядов правил. Таким образом, различие между двумя партиями а) и b) состоит в используемых нами средствах, хоть и заведомо не в таких, как карточки, с помощью которых они разыгрываются. Но это различие между играми кажется скорее тривиальным, нежели существенным. Мы чувствуем, что где-то здесь должно быть значительное и существенное различие. Но если вы внимательно посмотрите на то, что происходит, когда разыгрываются эти партии, то обнаружите, что можете заметить лишь множество различий в мелочах, каждое из которых выглядит несущественным. Например, обращение с карточками и ходы могут в обоих случаях быть идентичными. Когда разыгрывается партия а), игроков можно рассматривать как создающих всё большее количество карт, и таким образом отбросить эту идею. Но на что было бы похоже рассмотрение игроков подобным образом? Это мог бы быть процесс, когда про себя или вслух говорят: «Я сомневаюсь, должен ли я сделать ещё одну карточку». Опять-таки, никакого подобного соображения могло и не приходить игрокам в голову. Возможно, что всё различие в событиях партии ограниченной игры и партии неограниченной игры связано с тем, что было сказано до того, как начиналась игра, например: «Давайте разыграем ограниченную игру».
«Но разве не будет правильным сказать, что партии двух различных игр принадлежат двум различным системам?» Конечно. Однако факты, на которые мы ссылаемся, говоря, что они принадлежат различным системам, гораздо более сложны, чем мы могли бы от них ожидать.
Сравним теперь языковые игры, о которых мы сказали бы, что они разыгрываются с ограниченным множеством цифр, с другими, о которых мы сказали бы, что они разыгрываются с бесконечным рядом цифр.
(23). Как в (2), А приказывает В принести ему определенное число строительных камней. Цифры суть знаки «1», «2», … «9», каждый написан на карточке. У А есть множество этих карточек, и он отдаёт В приказ, показывая ему одну из этого множества и выкрикивая одно из слов «плита», «колонна» и т. д.
(24). Как в (23), только здесь нет множества пронумерованных карточек. Ряд цифр 1 … 9 заучивается наизусть. Цифры выкрикиваются по порядку, и ребёнок осваивает их в устной форме.
(25). Используются счёты. А отсчитывает на счётах число и даёт их В, В идёт с ними туда, где лежат плиты и т. д.
(26). В должен сосчитать плиты в штабеле. Он делает это с помощью счёт, счёты имеют двадцать костяшек. В штабеле никогда не бывает больше 20 плит. В откладывает на счётах количество плит в штабеле и показывает счёты А.
(27). Как в (26). Счёты имеют 20 маленьких костяшек и одну большую. Если штабель содержит более 20 плит, передвигается большая костяшка. (Поэтому большая костяшка некоторым образом соответствует слову «много».)
(28). Как в (26). Если штабель содержит n плит, при n больше 20, но меньше 40, то В передвигает n минус 20 костяшек и показывает A результат на счётах, одновременно хлопая в ладоши.
(29). A и В используют цифры десятеричной системы до 20 (записанные или произнесённые). Ребёнок, осваивающий этот язык, учит эти числа наизусть, как в (2).
(30). Некоторое племя владеет языком вида (2). Цифры используются те же, что и в нашей десятеричной системе. Не заметно, чтобы хотя бы одна из используемых цифр играла преимущественную роль последней цифры так, как это происходило в некоторых из указанных выше игр (27), (28). (Возникает искушение продолжить это предложение, говоря: «хотя есть, конечно, наибольшая актуально используемая цифра».) Дети этого племени осваивают цифры следующим образом: Их учат знакам от 1 до 20, как в (2), и учат считать ряд бусин не более 20, приказывая: «Сосчитай их». Когда при счёте ученик достигает цифры 20, делается поощряющий жест, означающий «Продолжай», в ответ на который ребёнок говорит (по крайней мере, в большинстве случаев): «21». Аналогично, детей заставляют считать до 22 и до больших цифр, и ни одно отдельное число не играет в этих упражнениях роль преимущественного числа. Последняя стадия тренировки состоит в том, что ребёнку приказывают сосчитать группу объектов, чуть более 20-ти, без соответствующего жеста, используемого для того, чтобы помочь ребёнку при счёте свыше цифры 20. Если ребёнок не отвечает на этот поощряющий жест, его отделяют от остальных и рассматривают как слабоумного [lunatic].
(31). Другое племя. Его язык такой же, как в (30). Согласно наблюдениям наибольшая используемая цифра — 159. В жизни этого племени цифра 159 играет особую роль. Предположим, я говорю: «Они рассматривают это число как наибольшее», — но что это означает? Можем ли мы ответить: «Они только говорят, что оно наибольшее»? — Они, конечно, произносят слова, но откуда мы знаем, что они под ними подразумевают? Критерием того, что они подразумевают, были бы случаи, при которых это слово мы были бы склонны переводить нашим словом «наибольшее», т. е. та роль, которую, как мы могли бы сказать на основании нашего наблюдения, это слово играет в жизни племени. Фактически, мы можем легко вообразить цифру 159, используемую в этих случаях в связи с такими жестами и формами поведения, которая заставляла бы нас сказать, что эта цифра играет роль непреодолимой границы, даже если племя не имеет слова, соответствующего нашему слову «наибольшее», и критерий для цифры 159 как наибольшей не состоял бы ни в чём таком, что было сказано о самой цифре.
(32). Племя имеет две системы счёта. Люди учатся считать при помощи алфавита от А до Z, а также при помощи десятеричной системы, как в (30). Если человек должен считать объекты при помощи первой системы, ему приказывают считать «закрытым способом», во втором случае «открытым способом»; и в племени слова «закрытый» и «открытый» употребляются также, когда речь идет о закрытой и открытой двери.
(Замечания. Случай (23) очевидным образом ограничен количеством карточек. По поводу (24): отметим аналогию, а также отсутствие аналогии между ограниченным запасом карточек (23) и слов в нашей памяти (24). Заметим, что ограничение в (26), с одной стороны, заключается в приспособлении (счёты с 20 костяшками) и его использовании в нашей игре, а с другой стороны (совершенно иным образом), в том факте, что в реальной практике разыгрывания игры должны сосчитываться не более 20 объектов. В (27) этот последний вид ограничения отсутствовал, но большая костяшка скорее подчеркивала ограничение наших средств. Является ли (28) ограниченной или неограниченной игрой? Описанная нами практика даёт границу 40. Мы склонны считать, что игра, «имея эту границу», может продолжаться до бесконечности, но вспомним, что мы могли бы также интерпретировать предшествующие игры как начальную стадию развития системы. В (29) систематический аспект используемых цифр даже более заметен, чем в (28). Могут сказать, что в этой игре не было ограничений, навязанных её приспособлениями, если таковым не считать замечание, что числа до 20 заучиваются наизусть. Это предполагает идею, что ребёнка не обучают «понимать» систему, которую мы видим в десятеричной записи. О племени в (30) мы определённо должны сказать, что его членов тренируют конструировать цифры [construct numerals] неограниченно, что арифметика их языка не является конечной, что их ряды чисел не имеют конца. (Как раз в том случае, когда цифры строятся «неограниченно», мы говорим, что люди обладают бесконечным рядом чисел.) Пример (31) может показать вам, что можно вообразить массу разнообразных случаев, о которых мы склонны были бы сказать, что арифметика племени имеет дело с конечными рядами чисел, даже несмотря на тот факт, что способ, с помощью которого детей тренируют употреблять цифры, не предполагает верхней границы. В случае (32) термины «закрытая» и «открытая» (которые можно с помощью незначительного изменения примера заменить терминами «ограниченная» и «неограниченная») вводятся в язык самого племени. В употреблении слова «открытая», которое было введено в эту простую и ясно очерченную игру, нет ничего таинственного. Но это слово соответствует нашему слову «бесконечная», и игры, разыгрываемые в последнем случае, отличаются от (31) только гораздо большей усложнённостью. Другими словами, наше использование слова «бесконечная» столь же непосредственное, как и использование слова «открытая» в (32), и наша идея о том, что его значение является «трансцендентным», покоится на непонимании.)
Грубо говоря, мы могли бы сказать, что неограниченные случаи характеризуются следующим: они разыгрываются не с определённым запасом цифр, но вместо этого — с системой для конструирования цифр (неограниченно). Когда мы говорим, что некто обеспечен системой для конструирования цифр, мы, в общем, думаем об одной из трех вещей: а) о том, что его тренировали образом, подобным тому, что описан в (30), где, как нас учит опыт, ему дается возможность пройти тесты типа тех, что там были упомянуты; b) о создании в сознании или в мозге того же человека предрасположенности реагировать таким образом; с) о предоставлении ему общего правила для конструирования цифр.
Что мы называем правилом? Рассмотрим следующий пример:
(33). В передвигается в соответствии с правилами, которые ему даёт A. В предоставлена следующая таблица:
А отдаёт приказ, составляя буквы из таблицы, скажем: «aacaddd». В смотрит на стрелки, соответствующие каждой букве, и соответственным образом движется; согласно нашему примеру так:
Таблицу (33) мы должны назвать правилом (или же «выражением правила». Почему я даю эти синонимичные выражения, выяснится позже.) Мы не склонны называть правилом само предложение «aacaddd». Это, конечно, описание пути, который должен проделать В.
С другой стороны, при определённых обстоятельствах такое описание можно было бы назвать правилом, например, в следующем случае:
(34). В должен рисовать различные орнаментальные линейные конструкции. Каждая конструкция — повторение одного элемента, который дает ему А. Так, если A отдает ему приказ «cada», В рисует линию следующим образом:
В этом случае, я думаю, мы сказали бы, что «cada» является правилом рисования узора. Грубо говоря, это характеризует то, что мы называем правилом, которое может быть применено неоднократно и в неопределённом числе случаев.
Например, ср. с (34) следующий случай:
(35). На шахматной доске разыгрывается игра с фигурами различных очертаний. Правило указывает, каким образом разрешено двигаться каждой фигуре. Так, правилом для одной фигуры является «ас», для другой — «асаа» и т. д. Первая фигура тогда может делать ход типа следующего:
вторая — такой:
И формула типа «ас», и диаграмма вроде той, что соотнесена с такой формулой, могут быть названы здесь правилом.
(36). Предположим, что после того, как игру (33) разыграли описанным выше образом несколько раз, ее разыгрывали со следующими вариациями: В больше не смотрит в таблицу, но при чтении приказа A буквы вызывают у него образы стрелок (по ассоциации) и он действует согласно этим воображаемым стрелкам.
(37). Сыграв несколько раз подобным образом, В передвигается согласно записанному приказу так, как он действовал бы, смотря на стрелки или их воображая, но на самом деле без каких-либо изображений-посредников такого рода.
Представим себе и такой вариант:
(38). В, натренированному следовать записанному приказу, показывают таблицу из (33) лишь один раз, после чего он далее выполняет приказы А без дальнейшего вмешательства таблицы тем же самым образом, которым В действует в (33) каждый раз с помощью таблицы.
В каждом из этих случаев мы могли бы сказать, что таблица (33) является правилом игры. Но в каждом из них это правило играет разные роли. В (33) таблица является инструментом, используемым в том, что мы назвали бы практикой игры. В (36) она заменяется работой ассоциации. В (37) даже эта тень таблицы исключается из практики игры, а в (38) таблица, по общему признанию, является лишь инструментом для тренировки В.
Но представим себе ещё и такой случай:
(39). Племя использует определённую систему коммуникации. Я буду описывать её, говоря, что она похожа на нашу игру (38) за исключением того, что при тренировке не используется таблица. Тренировка может состоять в том, что ученика несколько раз за руку проводят по тропинке, по которой хотят, чтобы он ходил.
Но мы можем также вообразить случай:
(40). когда даже эта тренировка не являлась бы необходимой, и когда, скажем, сам взгляд на буквы abcd естественным образом порождал бы призыв идти по описанному пути. Этот случай, на первый взгляд, кажется загадочным. Здесь мы, по-видимому, предполагаем весьма необычную работу сознания. Или мы можем спросить: «Откуда он должен знать, каким путём идти, если ему показали букву „а“?» Но не является ли реакция В в этом случае той же самой реакцией, которая описана в (37) и (38), и фактически нашей обычной реакцией, когда, например, мы слышим и выполняем приказ? Ибо тот факт, что тренировка в (38) и (39) предшествовала выполнению приказа, не меняет процесс выполнения. Другими словами, «странный ментальный механизм», предложенный в (40), есть не что иное как то, что, по нашему предположению, создается в результате тренировки (37) и (38). «Но разве мог такой механизм быть у тебя от рождения?» А разве у нас вызывает какие-либо затруднения предположение, что механизм, присущий от рождения В, это тот, который дал В возможность реагировать на тренировку таким образом, каким он это делает? И вспомним, что правило или объяснение, данное в таблице из (33) знакам abcd, по существу не было окончательным объяснением и что мы могли бы задать таблицу для использования таких таблиц и т. п. (ср. (21)).
Как можно объяснить другому человеку, как ему следует выполнить приказ: «Иди этим путем!» (показывая стрелкой путь, которым он должен идти)? Разве это указание не может означать движение в направлении, которое мы назвали бы направлением, противоположным направлению стрелки? Не содержится ли каждое объяснение того, как он должен следовать стрелке, в положении [position] другой стрелки? Что бы вы сказали о таком объяснении: Человек говорит: «Если я указываю этот путь (указывает своей правой рукой), я имею в виду, что тебе идти туда» (указывает своей левой рукой тот же самый путь)? Это лишь показывает вам крайности, между которыми колеблются употребления знаков.
Вернёмся к (39). Некто посещает племя и наблюдает использование знаков в их языке. Он описывает язык, говоря, что предложения племени состоят из букв abed, используемых в соответствии с таблицей (из (33)). Мы видим, что выражение «Игра разыгрывается в соответствии с правилом так-то и так-то» используется не только в разнообразных случаях, представленных примерами (36), (37) и (38), но даже в случаях, где правило не является ни инструментом тренировки, ни практикой игры, но находится к ней в том отношении, в котором наша таблица находится к практике нашей игры (39). В этом случае таблицу можно назвать естественным законом [natural law], описывающим поведение людей этого племени. Или мы можем сказать, что таблица — это достижение, принадлежащее естественной истории этого племени.
Заметим, что в игре (33) я проводил строгое различие между приказом, который должен быть выполнен, и выработанным правилом. С другой стороны, в (34) мы называли предложение «cada» правилом, и оно же было приказом.
Вообразим также следующий вариант:
(41). Игра похожа на (33), но ученика не просто тренируют в использовании единственной таблицы; тренировка нацелена на то, чтобы заставить ученика использовать любую таблицу, соотносящую буквы со стрелками. Под этим я подразумеваю не более чем то, что данная тренировка — это, грубо говоря, тренировка особого типа, аналогичная той, что описывалась в (30). Я буду ссылаться на тренировку, более или менее сходную с той, что была в (30), как на «универсальную тренировку [general training]». Универсальные тренировки образуют семью, члены которой в значительной степени отличаются друг от друга. То, о чём я думаю сейчас, главным образом состоит из: а) тренировки в ограниченной области действий, b) предоставления ученику руководства к расширению этой области и с) бессистемных упражнений и тестов. После универсальной тренировки приказ заключается теперь в предоставлении ему знака следующего вида:
Он выполняет приказ, двигаясь следующим образом:
Здесь, я полагаю, мы должны сказать, что таблица, правило, является частью приказа.
Заметим, мы не говорим, «чем является правило», но просто приводим различные применения слова «правило»; и мы, конечно, делаем это же, приводя применения слов «выражение правила».
Заметим также, что в (41) нет ничего явно свидетельствующего против того, чтобы называть целиком данный символ [the whole symbol given] предложением, хотя мы могли бы провести в нём различие между предложением и таблицей. В данном случае к этому различению нас более всего склоняет линейное написание части, находящейся вне таблицы. Хотя, с определённых точек зрения, мы могли бы назвать линейный характер предложения просто внешним и несущественным, эта характеристика и сходные с ней играет большую роль в том, что мы, как логики, склонны сказать о предложениях и пропозициях. И, следовательно, если мы понимаем символ в (41) как единство, это может заставить нас осознать, как может выглядеть предложение.
Рассмотрим теперь две следующих игры:
(42). А отдаёт приказы В. Они представляют собою знаки, состоящие из точек и тире, и В исполняет их, выполняя фигуры танца, состоящие из отдельных шагов. Так, приказ «―·» должен выполняться посредством шага и прыжка поочерёдно; приказ «··―――» посредством двух прыжков и трёх шагов поочерёдно и т. д. Тренировка в этой игре является «универсальной» в смысле, объяснённом в (41); и мне хотелось бы сказать: «Отданные приказы не действуют в ограниченной области. Они охватывают комбинации из любого числа точек и тире». — Но что значит сказать, что приказы не действуют в ограниченной области? Разве это не бессмыслица? Любые приказы, отданные в практике игры, конституируют ограниченную область — Говоря: «Приказы не действуют в ограниченной области», я имею в виду, что ни в обучении игре, ни в её практике ограничение области не играет «преимущественной» роли (см. (30)), или, как мы можем сказать, область игры (избыточно говорить ограниченной') является просто расширением её действительной («случайной») практики. (Наша игра в этом смысле подобна (30).)
Сравним с этой игрой следующую:
(43). Приказы и их исполнение — как в (42); но используются только три следующих знака: «―», «―··», «·――». Мы говорим, что в (42) В, исполняя приказ, руководствуется [guided] данным ему знаком. Но если мы спросим себя, действительно ли три знака в (43) направляют [guide] В при исполнении приказов, то окажется, что мы можем сказать как да, так и нет, в зависимости от того, как мы смотрим на исполнение приказов.
Если мы пытаемся решить, направляем ли B в (43) знаками или же нет, мы склонны дать ответы вроде следующих: а) В направляем знаками, если он не просто смотрит на приказ, скажем «·――», как на целостность и затем действует, но если он прочитывает его слово за словом (слова, используемые в нашем языке, — это «·» и «―») и действует в соответствии с прочитанными им словами.
Мы могли бы сделать эти случаи яснее, если бы вообразили, что «прочитывание слова за словом» состоит в указании поочерёдно на каждое слово в предложении пальцем в противоположность указанию на всё предложение сразу, скажем, посредством указания на начало предложения. И «действие в соответствии со словами» мы, ради простоты, будем представлять себе состоящим в действии (шаг или прыжок) после каждого слова предложения поочерёдно. — b) В направляем знаками, если он проходит через сознательный процесс, который создаёт связь между указанием на слово и актом шага и прыжка. Такую связь можно было бы представить себе многими различными способами. Например, у В есть таблица, в которой тире соотносится с изображением человека, делающего шаг, а точка — с изображением прыгающего человека. Тогда сознательные акты, связывающие прочтение приказа и его выполнение, могут заключаться в том, чтобы справиться по таблице или соотнести её образ из памяти «с мысленным взором». с) В направляем знаками, если он не просто реагирует, глядя на каждое слово приказа, но переживает особое напряжение, связанное с «попыткой вспомнить, что означает знак», а затем переживает ослабление этого напряжения, когда на ум ему приходит значение, правильное действие.
Все эти объяснения кажутся, так или иначе, неудовлетворительными, и неудовлетворительными их делает именно ограниченность нашей игры. Это становится ясным через объяснение того, что в описываемой ситуации, в одном из наших трёх предложений, В был бы направляем одной комбинацией слов в том случае, если бы мог также выполнить приказы, состоящие из других комбинаций точек и тире. И если мы говорим так, нам кажется, что «способность» выполнить другие приказы является особым состоянием человека, выполняющего приказы из (42). И в то же самое время мы не можем в этом случае обнаружить нечто такое, что можно было бы назвать подобным состоянием.
Давайте рассмотрим, какую роль в нашем языке играют слова «мочь» или «быть способным». Рассмотрим следующие примеры:
(44). Вообразим, что для той или иной цели люди используют некий инструмент или приспособление; он состоит из доски с канавкой, направляющей движение фишки. Человек, использующий это приспособление, плавно продвигает фишку по канавке. Есть доски с прямыми, круговыми, эллиптическими и другими канавками. Язык людей, использующих этот инструмент, имеет выражения для описания разных движений фишки в канавке. Они говорят о её движении по кругу, по прямой линии и т. д. У них также есть средства описания используемой доски. Они делают это в следующей форме: «Это доска, в которой фишку можно двигать по кругу». В этом случае слово «мочь» можно назвать оператором, посредством которого форма выражения, описывающая действие, превращается в описание инструмента.
(45). Вообразим людей, в языке которых нет таких форм предложений, как: «Книга находится в выдвижном ящике» или «Вода находится в стакане», но всегда, когда мы должны использовать эти формы, они говорят: «Книгу можно взять из ящика», «Воду можно взять из стакана».
(46). Деятельность Людей определённого племени заключается в том, чтобы проверять палки на прочность. Они делают это, пытаясь согнуть палку руками. В их языке имеются выражения типа «Эту палку можно легко согнуть» или «Эту палку можно согнуть с трудом». Они используют эти выражения так же, как мы используем выражения: «Эта палка слабая» или «Эта палка прочная». Я имею в виду, что они не используют выражение «Эту палку можно легко согнуть», как мы использовали бы предложение «Я сгибаю эту палку с лёгкостью». Скорее, то как они употребляют свои выражения, вынуждает нас сказать, что они описывают состояние палки. То есть они используют такие предложения, как «Эта хижина построена из палок, которые можно легко согнуть». (Обдумайте способ, которым мы образуем прилагательные из глаголов при помощи окончания «-able», например, «деформируемая [deformable]»)[38].
Теперь мы можем сказать, что в этих последних трёх случаях предложения типа «то-то и то-то может произойти» описывали состояния объектов, но между этими примерами есть большое различие. В (44) мы видели описываемое состояние своими глазами. Мы видели, что доска имела круглые и прямые канавки и т. д. В (45), по крайней мере в некоторых примерах, был случай, когда мы могли видеть объекты в ящике, воду в стакане и т. д. В этих случаях мы используем выражение «состояние объекта» соответственно тому, что можно назвать устойчивым чувственным переживанием.
Когда, с другой стороны, мы говорим о состоянии палки в (46), мы наблюдаем, что этому «состоянию» не соответствует особое чувственное переживание, которое сохраняется, пока сохраняется состояние. Вместо этого определяющий критерий того, что нечто находится в этом состоянии, заключается в некоторых тестах.
Мы можем сказать, что машина проезжает 20 миль в час, даже если она ехала только полчаса. Мы можем объяснить нашу форму выражения, говоря, что машина едет со скоростью, которая даёт ей возможность делать 20 миль в час. И здесь о скорости машины мы также склонны говорить как о состоянии её движения. Я думаю, мы не использовали бы это выражение, если бы у нас не было никаких «переживаний движения», кроме движений тела, находящегося в определённое время в конкретном месте и в другом месте в другое время; если бы, например, наши переживания движения были бы такими, какие мы испытываем, когда мы видим, что часовая стрелка на часах передвинулась с одной точки циферблата на другую.
(47). В языке племени есть команды для выполнения людьми определённых действий на войне, нечто вроде «Стреляй!», «Беги!», «Ползи!» и т. д. У них также есть способ описания человеческого телосложения. Образцы этого описания таковы: «Он может быстро бегать», «Он может далеко бросить копьё». Мои слова о том, что эти предложения являются описаниями человеческого телосложения, оправданы тем, как употребляются эти слова. Так, если они видят человека с развитыми мышцами ног, но который, как мы сказали бы, по той или иной причине не использует свои ноги, то они говорят, что он — человек, который может быстро бегать. Нарисованный образ человека, который демонстрирует огромные бицепсы, они описывают как образ, представляющий человека, «который может далеко бросить копьё».
(48). Люди племени подвергаются своего рода медицинскому обследованию, прежде чем идти на войну. Эксперт заставляет людей пройти множество стандартизованных тестов. Он заставляет их поднимать тяжести, разводить руки, прыгать и т. д. Затем эксперт выносит свой вердикт в форме «Тот-то и тот-то может метать копьё», или «может метать бумеранг», или «пригоден для преследования врага» и т. д. В языке этого племени нет специальных выражений для действий, выполняемых в тестах; о процитированных выше выражениях упоминается только как о тестах на определённые действия в битве.
Важное возражение, касающееся этого и других приведённых нами примеров, которое можно выдвинуть против описания языка этого племени, заключается в том, что в приводимых нами образчиках этого языка мы заставляем[39] членов племени говорить по-английски, тем самым уже предполагая весь бэкграунд английского языка, т. е. наши обычные значения слов. Так, если я говорю, что в определённом языке нет специального глагола для «прыгать [skipping]», но взамен этот язык использует форму «прохождение теста на метание бумеранга», то могут спросить, что для меня послужило отличительным признаком в использовании выражений «проходить тест на» и «метание бумеранга», чтобы была оправдана подстановка этих английских выражений на место каких бы там ни было настоящих слов. На это мы должны ответить, что дали лишь очень краткое описание практик нашего вымышленного языка, в некоторых случаях только намёки, но что легко сделать эти описания более полными. Так, в (48) я мог бы сказать, что эксперт использует приказы, заставляя человека проходить тесты. Все эти приказы начинаются с одного особого выражения, которое я могу перевести на английский словами: «Пройди тест». И за этим выражением следует выражение, которое в реальной битве используется для определённых действий. Так, есть команда, по которой люди метают свои бумеранги и которую, поэтому, я должен перевести как «Метай бумеранги». Далее, если человек отчитывается о сражении своему начальнику, он опять использует выражение, которое я перевел как «метать бумеранг», на этот раз в описании. Приказ как таковой, или описание как таковое, или вопрос как таковой и т. д. характеризует, как мы сказали бы, роль, которую произнесение этих знаков играет в целостной практике языка. То есть, правильно ли переведено слово с языка этого племени на наш язык, зависит от той роли, которую оно играет во всей жизни племени, от случаев, в которых оно используется, от выражения эмоций, которыми оно обычно сопровождается, от идей, которые оно обычно пробуждает или побуждает высказать и т. д., и т. п. В качестве упражнения спросите себя: в каких случаях вы сказали бы, что определённое слово, произносимое людьми племени, является приветствием? В каких случаях вы сказали бы, что оно соответствует нашему «До свидания», в каких — нашему «Привет»? В каких случаях вы сказали бы, что слово иностранного языка соответствует нашему «возможно» — нашим выражениям сомнения, доверия, уверенности? Вы найдёте, что оправдания для того, чтобы назвать нечто выражением сомнения, осуждения и т. д., по большей части, хотя, конечно, не всегда, заключаются в описании жестов, мимики и даже тембра голоса. Вспомним в этом месте, что индивидуальное переживание эмоции должно быть, отчасти, строго локализованным переживанием; ибо если я сердито нахмурил брови, я ощущаю напряжение лобных мышц, а если рыдаю, то ощущения в глазах являются частью того, что я чувствую, — причем частью важной. Думаю, именно это имел в виду Уильям Джеймс, когда говорил, что человек плачет не потому, что ему грустно, но ему грустно, потому что он плачет. Причина, по которой этот пункт часто не понимается, заключается в том, что мы мыслим выражение эмоции так, как если бы оно было искусственным приспособлением, позволяющим другим знать, что мы испытываем. Нет чёткой границы между такими «искусственными приспособлениями» и тем, что можно назвать естественными выражениями эмоций. Ср. в этом отношении: а) плач, b) повышение голоса, когда сердятся, с) написание злобного письма, d) звонок в колокольчик, вызывающий слугу, которого хотят выбранить.
(49). Вообразим племя, в языке которого есть выражение, соответствующее нашему «Он сделал то-то и то-то», и другое выражение, соответствующее нашему «Он может сделать то-то и то-то», однако это последнее выражение используется только там, где его употребление оправдано тем же самым фактом, который также оправдывал бы употребление предыдущего выражения. Что может заставить меня так сказать? Имеется форма сообщения, которую, из-за обстоятельств, при которых она употребляется, мы назвали бы рассказом о прошлых событиях. Есть также обстоятельства, при которых мы задавали и отвечали бы на вопросы, наподобие таких: «Может ли тот-то и тот-то сделать это?». Такие обстоятельства можно описать, говоря, например, что начальник выбирает подчинённого, подходящего для определенного действия — скажем, для того, чтобы переплыть реку, взойти на гору и т, д. В качестве определяющего критерия того, «что начальник выбирает подчинённого, подходящего для этого действия», я буду принимать не то, что он говорит, но лишь остальные особенности ситуации. Начальник при этих обстоятельствах задаёт вопрос, который, по крайней мере в отношении его практических следствий, нужно было бы перевести так: «Может ли тот-то и тот-то переплыть эту реку?». Однако на этот вопрос может утвердительно ответить только тот, кто действительно переплывал эту реку. Этот ответ не даётся с помощью тех же самых слов, которые бы он использовал при обстоятельствах, характеризующих рассказ о том, как он переплыл эту реку, — ответ формулируется в терминах вопроса, заданного начальником. С другой стороны, это не тот ответ, который даётся в случаях, в которых мы, конечно, ответили бы: «Я могу переплыть эту реку», если, например, с плаваньем у меня случались ситуации посложнее, хотя, возможно, я и не переплывал эту конкретную реку.
Кстати, имеют ли фразы «Он сделал то-то и то-то» и «Он может сделать то-то и то-то» одно и то же значение в этом языке или разные? Если вы обдумаете это, что-то будет склонять вас к тому, чтобы сказать «одно», а что-то — что «разные». Это показывает только то, что данный вопрос сформулирован нечетко. Всё, что я могу сказать, сводится к следующему. Если тот факт, что они говорят «он может…», только если он сделал…, является вашим критерием того, что они имеют одно и то же значение, тогда эти два выражения имеют одно и то же значение. Если же значение выражения создаются обстоятельствами его употребления, тогда значения этих фраз различны. Употребление, которое создаётся для слова «может», — выражение возможности в (49) — может пролить свет на идею о том, что могущее произойти, должно было произойти раньше (Ницше). В свете наших примеров интересно также взглянуть на высказывание о том, что происходящее может произойти.
Прежде чем мы продолжим наше рассмотрение употребления «выражение возможности», проясним ситуацию, касающуюся того раздела нашего языка, в котором говорится о прошлом и будущем, т. е. имеющую отношение к употреблению предложений, содержащих такие выражения, как «вчера», «год назад», «через пять минут», «до того, как я это сделал» и т. д. Рассмотрим следующий пример.
(50). Вообразим, каким образом можно натренировать ребёнка в практике «рассказа о прошлых событиях». Сначала его тренируют требовать определённые вещи (так сказать, отдавать приказы, см. (1)). Часть этой тренировки заключалась в упражнении «именовать вещи». Так, он научился называть (и требовать) дюжину своих игрушек. Скажем теперь, он играл с тремя из них (например, с мячом, палкой и погремушкой), затем их у него забрали, и взрослый теперь произносит такую фразу: «У него были мяч, палка и погремушка». В сходном случае он внезапно останавливает перечисление и побуждает ребёнка закончить его. В другом случае он, возможно, говорит лишь: «У него были…», и предоставляет ребёнку возможность перечислить весь ряд. Способ «побудить ребёнка продолжать» может быть следующим: он внезапно останавливает своё перечисление с определённым выражением на лице и повышает голос, этот повышенный голос мы бы назвали тоном ожидания. Теперь всё зависит от того, будет ребёнок реагировать на «побуждение» или нет. Здесь мы сталкиваемся со странным недопониманием, впрочем, довольно характерным, которое состоит в том, что мы рассматриваем «внешние средства», используемые учителем, чтобы побудить ребёнка продолжать, как то, что мы могли бы назвать косвенными средствами заставить ребёнка понять себя. Мы рассматриваем этот случай, как если бы ребёнок уже владел языком, на котором он мыслит, и что работа учителя заключается в том, чтобы побудить его угадать значение в области значений, находящихся перед сознанием ребёнка, как если бы ребёнок на своём индивидуальном языке мог задать себе вопрос: «Он хочет, чтобы я продолжил, или повторил то, что он сказал, или что-то ещё?». (Ср. с (30).)
(51). Другой пример примитивного рассказа о прошлых событиях. Мы живем в местности с характерными естественными ориентирами на горизонте. Поэтому легко запомнить место, где солнце встаёт в определённое время года, или место, над которым оно стоит, когда находится в высшей точке, или место, где оно садится. В нашей местности мы располагаем некоторыми характерными образами солнца в различных положениях. Назовём этот ряд образов солнечным рядом. Мы также обладаем некоторыми характерными образами действий ребёнка: лежание в постели, подъём, одевание, завтрак и т. д. Это множество я буду называть жизненными образами. Представим, что ребёнок может часто видеть положение солнца во время своих действий в течение дня. Мы обращаем внимание ребёнка на то, что солнце находится в определённом месте, когда он занят определённым делом. Мы затем заставляем его взглянуть и на образ, представляющий его занятие, и на образ, показывающий положение солнца в это время. Таким образом мы можем приблизительно рассказать историю дня ребёнка, выкладывая ряд жизненных образов, а над ним то, что я назвал солнечным рядом, оба ряда в надлежащем порядке друг по отношению к другу. Затем мы позволим ребёнку дополнить историю в образах, которую мы оставили незаконченной. Должен заметить в этом месте, что такая форма тренировки (см. (50) и (30)) является одной из важных характерных особенностей использования языка или мышления.
(52). Вариация (51). В детской есть большие часы. Ради простоты представим, что у них только одна стрелка, часовая. История дня ребёнка рассказывается так же, как выше, но здесь нет солнечного ряда; взамен мы записываем напротив каждого жизненного образа одно из чисел циферблата.
(53). Заметим, что могла бы существовать сходная игра, в которую также было бы включено то, что мы называем временем, и которая заключалась бы просто в раскладывании рядов жизненных образов. Мы могли бы разыгрывать эту игру с помощью слов, которые соответствовали бы нашим «до» и «после». В этом смысле мы можем сказать, что (53) включает идеи до и после, но не идею измерения времени. Нет необходимости говорить, что мы легко можем перейти от рассказов в (51), (52) и (53) к рассказам при помощи слов. Возможно, что рассматривая такие формы рассказа, кто-то мог бы подумать, что настоящая идея времени в них пока не включена, включён только некий грубый её заменитель, вроде положения часовой стрелки и т. п. Если человек утверждает, что существует идея пяти часов [five o’clock], которая не подразумевает часы [a clock], что часы [a clock] — это только грубый инструмент, лишь указывающий, когда наступает пять часов [five o’clock], или что существует идея часа [an hour], которая не подразумевает инструмент для измерения времени, то я не буду ему возражать, но попрошу его объяснить мне, что представляет собой его употребление термина «час [an hour]» или «пять часов [five o’clock]». И если это употребление не касается часов [a clock], значит это иное употребление; и затем я спрошу его, почему он использует термины «пять часов [five o’clock]», «час [an hour]», «долгое время», «краткое время» и т. д. в одном случае в связи с часами [a clock], а в других случаях — независимо от них. Это будет происходить из-за определённых аналогий, имеющих место между этими двумя употреблениями. Но теперь у нас есть два употребления этих терминов, и нет причины говорить, что одно из них менее подлинно и строго, нежели другое.
Это можно прояснить на следующем примере:
(54). Если мы отдаем человеку приказ: «Назови любое число, которое пришло тебе на ум», он, в общем, может исполнить его сразу же. Предположим, было обнаружено, что названные по такому требованию числа (у каждого нормального человека) возрастали с течением дня; человек начинает с некоторого небольшого числа утром и достигает наибольшего числа ночью перед тем, как ложиться спать. Рассмотрим, что могло бы заставить нас назвать описанные реакции «средствами для измерения времени» или даже сказать, что они являются действительными вехами в ходе времени, солнечными часами, и т. д., представляя собой лишь некие косвенные указатели. (Исследуйте утверждение, что человеческое сердце — это действительные часы, стоящие над всеми другими часами.)
Рассмотрим теперь следующие языковые игры, в которые входят темпоральные выражения.
(55). Она вырастает из (1). Если выкрикивается приказ типа «Плита!», «Колонна!» и т. д., то В натренирован выполнять его немедленно. Теперь мы введём в эту игру часы. Отдаётся приказ, и мы тренируем ребёнка не выполнять его до тех пор, пока стрелка часов не достигнет точки, на которую пальцем указали ранее. (Это, например, может быть сделано следующим образом: первоначально вы тренировали ребёнка выполнять приказ немедленно. Затем вы отдаёте приказ, но удерживаете ребёнка, отпуская его только тогда, когда стрелка часов достигает точки на циферблате, на которую мы указываем пальцем.)
На этой стадии мы могли бы ввести такое слово, как «сейчас». В этой игре у нас есть два типа приказов: приказы, используемые в (1), и приказы, состоящие из первых в совокупности с жестом, указывающим точку на циферблате часов. Для того чтобы провести различие между этими двумя видами приказов более явно, мы можем приписать приказам первого вида особый знак и, например, говорить: «Плита, сейчас!».
Теперь будет легко описать языковые игры с такими выражениями, как «через пять минут», «полчаса назад».
(56). Пусть теперь у нас будет случай описания будущего, предсказание. Можно, например, пробудить в ребёнке напряжённое ожидание, значительное время удерживая его внимание на светофоре, периодически изменяющем свой цвет. Перед нами находятся красный, зелёный и жёлтый диски, и мы поочерёдно указываем на один из этих дисков, предсказывая цвет, который загорится следующим. Легко представить себе дальнейшее развитие этой игры.
Глядя на эти языковые игры, мы не приходим к пониманию идей прошлого, будущего и настоящего в их проблематичном и почти мистическом аспекте. В чём заключается этот аспект и как случается так, что он возникает, можно проиллюстрировать классическим вопросом: «Куда уходит настоящее, когда оно становится прошлым, и где находится прошлое?». При каких обстоятельствах этот вопрос кажется нам привлекательным? Ибо при определённых обстоятельствах он таким не кажется, и мы устраняем его как бессмысленный.
Ясно, что этот вопрос легче всего возникает в таких случаях, когда вещи проплывают мимо нас — например, брёвна, сплавляемые вниз по реке. В таком случае мы можем сказать, что брёвна, которые прошли мимо нас, находятся внизу слева, а брёвна, которые пройдут мимо нас, находятся вверху справа. Тогда мы используем эту ситуацию в качестве сравнения для всего того, что случается во времени, и даже воплощаем это сравнение в нашем языке, когда говорим, что «настоящее событие проходит» (бревно проходит), «будущее событие должно прийти» (бревно должно прийти). Мы говорим о течении событий; но также о течении времени — реке, по которой движется бревно.
Вот один из наиболее богатых источников философской путаницы: мы говорим о будущем событии появления чего-то в моей комнате, а также о будущем наступлении этого события.
Мы говорим: «Нечто произойдет», а также: «Нечто приближается ко мне»; мы указываем на бревно как на «нечто», но также и на приближение бревна ко мне.
Может случиться, что мы будем не в состоянии избавиться от последствий нашего символизма, который, по-видимому, допускает вопросы типа: «Куда девается пламя свечи, когда её гасят?», «Куда девается свет?», «Куда девается прошлое?». Нас начинает преследовать наш символизм. — Мы можем сказать, что к путанице нас приводит аналогия, которая неодолимо тянет нас за собой. — Это также случается, когда значение слова «сейчас» представляется нам в мистическом свете. В примере (55) кажется, что функция слова «сейчас» никоим образом не сравнима с функцией выражений типа «пять часов», «полдень», «время, когда садится солнце» и т. д. Эту последнюю группу выражений я мог бы назвать «спецификациями времени». Но наш обыденный язык использует и слово «сейчас», и спецификации времени в сходных контекстах. Так, мы говорим:
«Солнце садится в шесть часов».
«Солнце садится сейчас».
Мы склонны считать, что и «сейчас», и «шесть часов» «указывают на моменты времени». Это употребление слов создаёт путаницу, которую можно выразить вопросом: «Что такое „сейчас“? — ибо это — момент времени, и вместе с тем о нём нельзя сказать, что он является либо „моментом, в который я говорю“, либо „моментом, в который бьют часы“ и т. д., и т. п.» — Наш ответ таков: функция слова «сейчас» совершенно отлична от функции спецификаций времени. — Это можно легко увидеть, если мы посмотрим на роль, которую это слово на самом деле играет в нашем языке, но эта роль затемняется, когда вместо рассмотрения всей языковой игры мы рассматриваем только те контексты, фразы языка, в которых это слово используется. (Слово «сегодня» — это не дата, но также и не нечто сходное с датой. Оно отличается от даты не так, как молоток отличается от киянки, но как молоток отличается от гвоздя; и, конечно, мы можем сказать, что имеет место связь как между молотком и киянкой, так и между молотком и гвоздём.)
Возникает искушение сказать, что «сейчас» — это имя мгновения времени, и это, конечно, похоже на высказывание, что «здесь» — это имя места, «это» — это имя вещи, а «я» — это имя человека. (Можно, конечно, было бы также сказать, что «год назад» — это имя времени, «вон там» — имя места, а «ты» — имя человека.) Но нет ничего более несхожего, чем употребление слова «это» и употребление собственного имени — я имею в виду игры, разыгрываемые с этими словами, а не фразы, в которых они используются. Ибо мы ведь говорим: «Это — невысокое» и «Джек невысокий»; но помните, что «Это — невысокое» без указывающего жеста и без вещи, на которую мы указываем, было бы бессмысленно. — С именем можно сравнить не слово «это», но, если угодно, символ, состоящий из этого слова, жеста и примера. Мы могли бы сказать: наиболее характерным для собственного имени А является то, что мы можем использовать его в такой фразе, как «Это есть А»; и не имеет смысла говорить: «Это есть это», или «Сейчас есть сейчас», или «Здесь есть здесь».
Идея пропозиции, говорящей нечто о том, что произойдёт в будущем, может озадачить нас в ещё большей степени, чем идея пропозиции о прошлом. Ибо при сравнении будущих событий с прошлыми мы чуть ли не готовы сказать, что хоть прошедшие события при свете дня на самом деле не существуют, они существуют в преисподней, в которую они попали из реальной жизни; тогда как будущие события не имеют даже такого призрачного существования. Мы могли бы, конечно, представить себе область ещё не рождённых, будущих событий, из которой они приходят в реальность и уходят в область прошлого; и если мы мыслим в терминах этой метафоры, мы можем удивиться тому, что будущее оказывается менее реальным, чем прошлое. Однако следует помнить, что грамматика наших темпоральных выражений не симметрична в том, что касается их происхождения по отношению к настоящему моменту. Так, грамматика выражений, относящихся к памяти, не появляется вновь «с противоположным знаком» в грамматике будущего времени. Это и есть причина, по которой говорилось, что пропозиции, касающиеся будущих событий, на самом деле не являются пропозициями. Такое словоупотребление годится постольку, поскольку это подразумевает не более чем решение об употреблении термина «пропозиция»; решение, которое, хотя и не согласуется с обычным употреблением слова «пропозиция», может при определённых обстоятельствах оказаться естественным для людей. Если философ говорит, что пропозиции о будущем не являются подлинными пропозициями, то это связано с тем, что он был сбит с толку асимметрией в грамматике темпоральных выражений. Опасность, однако, заключается в том, что он воображает, будто сделал своего рода научное высказывание о «природе будущего».
(57). Игра разыгрывается следующим образом: человек бросает игральную кость, но перед броском он рисует на листке бумаги одну из шести граней кости. Если после броска кость поворачивается гранью, которую он нарисовал, он чувствует (выражает) удовлетворение. Если выпадает другая грань, он неудовлетворён. Или пусть будут два партнера, и каждый раз, когда один правильно угадывает то, что выпадает, его партнёр платит ему пенни, а если неправильно, то он платит партнёру. Рисование грани кости при обстоятельствах данной игры будет называться «догадкой» или «предположением».
(58). Соревнования в некотором племени включают бег, поднятие тяжестей и т. д., причем зрители делают ставки на участников состязания. Изображения всех соревнующихся расположены в ряд, а то, что я назвал имущественной ставкой зрителя на одного из участников, заключается в том, чтобы выложить это имущество (слитки золота) под одно из изображений. Если человек поместил своё золото под изображением победителя соревнования, он забирает свою ставку удвоенной. В противном случае он теряет свою ставку. Такой обычай мы, несомненно, назвали бы заключением пари, даже если бы мы наблюдали его в обществе, язык которого не содержит схем для установления «степеней вероятности», «шансов» и т. п. Я допускаю, что поведение зрителей выражает большой энтузиазм и возбуждение до и после того, как результат пари становится известным. Далее предположим, что, изучив распределение ставок, я могу понять, «почему» они были так распределены. Я имею в виду, что в соревновании между двумя борцами фаворитом по большей части бывает более крупный мужчина; или если менее крупный, я обнаруживаю, что он выказывал большую силу в предыдущих случаях или что более крупный мужчина недавно болел или игнорировал тренировки и т. д. Это может быть так, хотя язык этого племени не выражает причин распределения ставок. То есть в их языке ничто не соответствует, например, нашему высказыванию: «Я ставлю на этого человека, поскольку он поддерживал форму, тогда как другой игнорировал тренировки» и т. п. Я мог бы описать это состояние дел, говоря, что моё наблюдение позволило мне понять определённые причины, по которым они распределяют ставки так, а не иначе, но что участники пари, действуя так, а не иначе, не мыслят в терминах причин.
С другой стороны, племя может иметь язык, который охватывает «указание причин». Итак, эта игра в указание причины того, что некто действует определённым образом, не включает поиска причин его действий (посредством постоянного наблюдения за условиями, при которых они возникают).
Давайте представим себе это:
(59). Если человек из нашего племени проиграл пари, и по этому поводу над ним подшучивают или бранят его, он указывает, возможно, преувеличивая, на определённые черты того человека, на которого он поставил. Можно вообразить дискуссию за и против, проходящую следующим образом. Два человека указывают поочерёдно на определённые черты двух соревнующихся, чьи шансы, как мы сказали бы, они обсуждают; А указывает жестом на большой рост одного, В в ответ на это пожимает плечами и указывает на размер бицепсов другого и т. д. Я мог бы легко добавить больше деталей, которые заставили бы нас сказать, что А и В указывают причины в пользу того, чтобы поставить на одного человека, а не на другого.
Кто-то может сказать, что такой способ указания причин для заключения пари определённо предполагает, что они увидели причинную связь между результатом борьбы и, скажем, определёнными особенностями телосложения борцов или их тренированности. Но это допущение, независимо от его обоснованности, я определённо не принимал при описании нашего случая. (Не принимал я и допущения, что заключившие пари указывают причины своего выбора.) Мы бы не удивились, если бы в случае, подобном только что описанному, обнаружили, что язык племени содержит то, что мы назвали выражениями степени доверия, убеждённости, уверенности. Можно представить, что эти выражения заключаются в употреблении определённого слова, произносимого с разными интонациями, или серии слов. (Тем не менее, я не думаю об использовании шкалы вероятностей.) — Также легко вообразить, что люди нашего племени сопровождают свои ставки словесными выражениями, которые мы переводим как: «Я убеждён, что тот-то и тот-то может победить того-то и того-то в борьбе» и т. д.
(60). Подобным же образом вообразим предположения, касающиеся того, достаточен ли определённый заряд пороха, чтобы взорвать определённую скалу, и пусть предположение будет выражено фразой такой формы: «Это количество пороха может взорвать эту скалу».
(61). Сравним с (60) случай, при котором выражение «Я буду в состоянии поднять этот груз» используется как сокращённая форма предположения: «Моя рука, держащая этот груз, поднимется, если я пройду сквозь процесс (переживание) „приложения усилия, чтобы поднять его“». В последних двух случаях слово «мочь» характеризовало то, что мы назвали бы выражением предположения. (Конечно, я не имею в виду, что мы называем предложение предположением лишь потому, что оно содержит слово «мочь»; но, называя предложение предположением, мы указываем на ту роль, которую оно играет в языковой игре; и мы переводим слово, которое использует наше племя, как «мочь», если «мочь» — это то слово, которое мы использовали бы при описанных обстоятельствах.) Теперь ясно, что использование слова «мочь» в (59), (60) и (61) близко соотносится с употреблением слова «мочь» в (46)-(49), отличаясь, однако, тем, что в (46)-(49) предложения, сообщающие, что нечто могло бы произойти, не были выражением предположения. Но на это можно возразить, говоря: разумеется, мы легко соглашаемся использовать слово «мочь» в случаях типа (46)-(49), потому что в этих случаях можно сделать разумные предположения о том, что человек будет делать в будущем, на основании тестов, которые он прошёл, или исходя из состояния, в котором он находится.
Верно, что я преднамеренно создал случаи (46)-(49), чтобы предположения такого вида казались разумными. Но я также преднамеренно сделал их такими, чтобы они не содержали предположения. Мы можем, если нам угодно, выдвинуть гипотезу, что племя никогда не использовало бы такую форму выражения, как та, что используется в (49), и т. д., если опыт не показывал им, что… и т. д. Но это допущение, возможно и корректное, никоим образом не предполагается в играх (46)-(49) в сформулированном мною виде.
(62). Пусть игра будет следующей: А записывает ряд чисел. В наблюдает за ним и пытается обнаружить систему в последовательности этих чисел. Обнаружив её, он говорит: «Теперь я могу продолжить». Этот пример особенно поучителен, поскольку здесь кажется, Что «быть способным продолжить» внезапно устанавливает нечто в форме ясно очерченного события. — Предположим затем, что А записывает ряд 1, 5, 11, 19, 29. В этом пункте В восклицает: «Теперь я могу продолжить». Что же произошло, когда он внезапно увидел, как продолжить? Могло произойти много разного. Предположим затем, что в представленном случае, пока А записывал одно число за другим, В занимался тем, что проверял несколько алгебраических формул, рассматривая их на пригодность. Когда А записал «19», В попытался проверить формулу аn= n2 + n — 1. То, что А записал «29», подтвердило его догадку.
(63). Или В на ум не приходила формула. Посмотрев на возрастающий ряд чисел, который записывал А, возможно, с чувством напряжения и смутными идеями, всплывающими в его сознании, В сказал себе: «Он возводит в квадрат и всегда прибавляет один». Затем он вычислил следующее число последовательности и обнаружил, что оно согласуется с числом, которое затем записал А.
(64). Или, ряд, записанный A, представлял собой 2, 4, 6, 8. В смотрит на него и говорит: «Конечно, я могу продолжить», и продолжает ряд чётных чисел. Или он ничего не говорит, а просто продолжает. Возможно, при взгляде на ряд 2, 4, 6, 8, который записал А, у него появилось ощущение или ощущения, которые часто сопровождают такие слова, как: «Это легко!». Ощущение этого рода представляет собой, например, переживание лёгкого, быстрого вдоха, который можно назвать лёгким стартом.
Итак, должны ли мы сказать, что пропозиция «В может продолжить ряд» означает, что имеет место один из только что описанных случаев? Разве высказывание «В может продолжить…» не совпадает с высказыванием, что формула аn= n2 + n — 1 приходит на ум В? Это событие могло бы исчерпывать всё, что имело место. (Между прочим, ясно, что для нас безразлично, находилась ли эта формула перед мысленным взором В, имело ли место переживание записывания или произнесения этой формулы или переживание её выбора во время просмотра нескольких формул, записанных заблаговременно.) Если бы эту формулу произнёс попугай, мы не сказали бы, что он может продолжить ряд. — Следовательно, мы склонны говорить, что «быть способным…» должно означать нечто большее, чем простое произнесение формулы — а фактически, большее, чем любой из тех случаев, которые мы описали. И это, мы продолжаем, показывает, что произнесение формулы было только симптомом того, что В способен продолжить, и что это не было самой способностью продолжать. Здесь вводит в заблуждение то, что мы, по-видимому, предполагаем, что есть некое особое действие, процесс или состояние, называемое «быть способным продолжить», которое каким-то образом скрыто от наших глаз, но проявляет себя в тех случаях, которые мы называем симптомами (как воспаление слизистой оболочки носа ведет к симптому чихания). Нас вводит в заблуждение способ рассуждения о симптомах. Когда мы говорим: «Конечно, за простым произнесением формулы должно быть что-то ещё, поскольку одно это мы не назвали бы „быть способным“…», слово «за» здесь, конечно, употребляется метафорически, а «за» произнесением формулы могут стоять обстоятельства, при которых она произносилась. Действительно, «В может продолжить…» — это не то же самое, что сказать «В произносит формулу…», но из этого не следует, что выражение «В может продолжить…» указывает на действие, отличное от произнесения формулы таким же образом, как «В произносит формулу» указывает на хорошо известное действие. Ошибка, которую мы совершаем, аналогична следующей. Кому-то говорят, что слово «стул» не означает конкретный стул, на который я указываю, после чего он осматривает комнату в поисках объекта, который в действительности обозначает слово «стул». (Этот случай был бы ещё более замечательной иллюстрацией, если бы он попытался заглянуть внутрь стула для того, чтобы найти действительное значение слова «стул».) Ясно, что когда, ссылаясь на акт написания или произнесения формулы и т. д., мы употребляем предложение «Он может продолжить ряд», это должно происходить из-за некоторой связи между записыванием формулы и действительным продолжением ряда. А связь переживания этих двух процессов или действий достаточно ясна. Но эта связь склоняет нас к предположению, что предложение «В может продолжить…» означает нечто вроде «В делает нечто такое, что, как нам показывает опыт, обычно приводит его к продолжению ряда». Но действительно ли В, когда говорит: «Теперь я могу продолжить», подразумевает: «Теперь я делаю нечто такое, что, как показывает опыт, и т. д., и т. п.»? Подразумеваете ли вы, что эта фраза была у него на уме или что он готов был привести её как объяснение того, что он сказал? Сказать, что фраза «В может продолжить…» используется корректно, когда внушена случаями типа описанных в (62), (63), (64), но что эти случаи оправдывают её использование только при определённых обстоятельствах (например, когда опыт показывает определённые связи), не значит сказать, что предложение «В может продолжить…» есть сокращение для предложения, описывающего все эти обстоятельства, т. е. всю ситуацию, которая является подоплёкой нашей игры.
С другой стороны, при определенных обстоятельствах мы должны быть готовы заменить «В знает формулу» и «В произнёс формулу» на «В может продолжить ряд». Точно так же, как когда мы спрашиваем доктора: «Может ли пациент ходить?», мы иногда готовы заменить это следующим: «Вылечена ли его нога?» — Вопрос: «Может ли он говорить?», при одних обстоятельствах означает: «В порядке ли его горло?», при других обстоятельствах (например, если это маленький ребёнок) он означает: «Научился ли он говорить?» — На вопрос: «Может ли пациент ходить?», ответ доктора может быть: «С его ногой всё в порядке». — Мы употребляем фразу: «Он может ходить, если речь идёт о состоянии его ноги», особенно когда мы хотим противопоставить это условие его ходьбы какому-нибудь другому условию, скажем, состоянию его позвоночника. Здесь мы должны остерегаться мысли, что в природе этого случая есть нечто такое, что мы могли бы назвать полным набором условий, например, его ходьбы; что пациент, который, так сказать, не может не ходить, должен ходить, если все эти условия выполнены.
Мы можем сказать: выражение «В может продолжить ряд» употребляется при различных обстоятельствах, которые создают многочисленные различия. Так, оно может проводить различия: а) между случаем, когда человек знает формулу, и случаем, когда он её не знает; b) между случаем, когда человек знает формулу и не забыл, как записывать цифры в десятичной системе, и случаем, когда он знает формулу и забыл, как записывать цифры; или с) (возможно, как в (64)) между случаем, когда человек чувствует себя нормально, и случаем, когда он находится в состоянии контузии; или d) между случаем человека, который уже ранее выполнял этот вид упражнения, и случаем человека, для которого оно внове. Это только несколько примеров из большого круга случаев.
На вопрос, означает ли «Он может продолжить…» то же самое, что и «Он знает формулу», можно ответить по-разному. Мы можем сказать: «Они не означают одно и то же, т. е. обычно они не используются как синонимы, как, например, используются фразы „Я в порядке“ и „Я в добром здравии“»; или мы можем сказать: «При определенных обстоятельствах „Он может продолжить…“ означает, что он знает формулу». Вообразим случай языка (чем-то аналогичного (49)), в котором две формы выражения, два различных предложения используются для того, чтобы сказать, что ноги человека в полном порядке. Одна форма выражения используется исключительно при обстоятельствах, когда идет подготовка к экспедиции, пешему походу или чему-то подобному, другая используется в случаях, когда не стоит вопрос о таких приготовлениях. В данном случае позволительно усомниться в том, имеют ли эти два предложения одно и то же или разные значения. В любом случае истинное положение дел можно увидеть, лишь вглядевшись в детали употребления наших выражений. — И ясно, что если в нашем случае мы решили бы сказать, что эти два выражения имеют разные значения, мы определённо не смогли бы сказать, что различие состоит в том, что факт, который делает истинным второе предложение, отличается от того факта, который делает истинным первое предложение.
Мы вправе сказать, что предложение «Он может продолжить…» имеет значение, отличающееся от значения предложения «Он знает формулу». Но не следует думать, что мы можем обнаружить особое состояние дел, «на которое указывает первое предложение», как будто оно находится на уровне, стоящем выше уровня, на котором происходят особые случаи (типа знания формулы, предположение определённых дальнейших терминов и т. д.).
Зададим следующий вопрос. Предположим, что на том или ином основании В сказал: «Я могу продолжить ряд», но, когда его попросили продолжить, он не смог сделать этого. Сказали бы мы в этом случае, что это доказывает ошибочность его заявления, что он может продолжить, или же предпочли считать, что он был способен тогда, когда говорил, что способен? Сказал бы В себе: «Я вижу, что ошибался» или «То, что я сказал, было верным, я мог это сделать тогда, но сейчас не могу»? — В некоторых случаях верным было бы одно его высказывание, а в некоторых — другое. Предположим, а) когда он говорил, что может продолжить, он видел формулу своим мысленным взором, но когда его попросили продолжить, он обнаружил, что забыл её; — или b) когда он сказал, что может продолжить, он произнес про себя следующие пять членов ряда, но теперь он обнаруживает, что они не приходят ему на ум; — или с) ранее он продолжил ряд, высчитав пять следующих мест, сейчас он всё ещё помнит эти пять чисел, но забыл, как он их вычислял; — или d) он говорит: «Тогда я чувствовал, что могу продолжать, а теперь нет»; — или e) «Когда я говорил, что могу поднять этот груз, моя рука не болела, теперь она болит»; и т. д.
С другой стороны, мы говорим: «Я думал, что могу поднять этот груз, но вижу, что не могу», «Я думал, что могу прочитать этот отрывок наизусть, но вижу, что ошибался».
Эти иллюстрации употребления слова «мочь» следует дополнить иллюстрациями, демонстрирующими разнообразие употреблений, которые мы создаем для терминов «забывать» и «пытаться», ибо они тесно связаны с употреблениями слова «мочь». Рассмотрим эти случаи: а) Ранее В произносил формулу про себя, теперь «он обнаруживает там полный пробел». b) Ранее он произносил про себя формулу, теперь на мгновение он не уверен, «было ли 2n или Зn». с) Он забыл имя и оно «вертится у него на языке». Или d) он не уверен, знал ли он это имя или забыл его.
Теперь рассмотрим то, как мы употребляем слово «пытаться»: а) Человек пытается открыть дверь, дёргая настолько сильно, насколько может. b) Он пытается открыть дверь сейфа, пытаясь найти комбинацию, с) Он пытается найти комбинацию, пытаясь её вспомнить, или d) поворачивая ручки и слушая через стетоскоп. Рассмотрим различные процессы, которые мы называем «попыткой вспомнить». Сравним e) попытку пошевелить пальцем, преодолевая сопротивление (например, когда кто-то его держит), и f) когда вы переплели пальцы обеих рук особым образом и чувствуете, «что не знаете, как сделать так, чтобы пошевелить определённым пальцем».
(Рассмотрим также класс случаев, о которых мы говорим: «Я могу сделать то-то и то-то, но не буду»; «Я смог бы, если бы попытался» — например, поднять 100 фунтов; «Я смог бы, если бы захотел» — например, произнести алфавит.)
Вероятно, кто-то предположит, что единственный случай, о котором будет правильно сказать, без ограничений, что я могу сделать определённую вещь, — это тот, где, пока я говорю, что я могу это сделать, я действительно это делаю, и что иначе я должен сказать: «Я могу сделать это, если речь идет о…». Можно подумать, что только в вышеуказанном случае человек приводит истинное доказательство того, что он способен сделать некоторую вещь.
(65). Но если мы рассматриваем языковую игру, в которой фраза «Я могу…» используется таким образом (т. е. игру, в которой выполнение некоторой вещи принимается за единственное оправдание утверждения, что кто-то способен её выполнить), мы видим, что здесь нет метафизического различия между этой игрой и игрой, в которой принимаются другие оправдания для утверждения: «Я могу сделать то-то и то-то». Игра вида (65), между прочим, показывает нам действительное употребление фразы «Если нечто происходит, то оно определённо может произойти», — почти бесполезной фразы в нашем языке. Она звучит так, как если бы имела некоторое очень ясное и глубокое значение, но, подобно большинству общих философских пропозиций, она бессмысленна за исключением очень своеобразных случаев.
(66). Проясните это для себя, вообразив язык (сходный с (49)), в котором есть два выражения для предложений такого рода: «Я поднимаю груз весом в пятьдесят фунтов»; одно выражение используется всякий раз, когда действие осуществляется как тест (скажем, перед соревнованиями по атлетике), другое выражение используется, когда действие не осуществляется в качестве теста.
Мы видим, что обширная сеть семейных сходств связывает случаи, в которых употребляются выражения возможности: «мочь», «быть способным» и т. д. Мы можем сказать, что в этих случаях в различных комбинациях проявляются определённые характерные черты: есть, например, элемент догадки (что что-то в будущем будет вести себя определённым образом); описание состояния этого чего-то (как условие его поведения определённым образом в будущем); отчет об определённых тестах, пройденных чем-то или кем-то.
С другой стороны, есть различные причины, склоняющие нас к тому, чтобы рассматривать факт возможности чего-либо, способности кого-либо сделать что-либо и т. д., как факт, свидетельствующий о том, что он или оно находятся в особом состоянии. Грубо говоря, это приводит к высказыванию, что фраза «A находится в состоянии способности сделать нечто» является формой репрезентации, которую мы по большей части решительно намерены принять; или, как это можно также сформулировать, мы решительно намерены употреблять метафору, что нечто находится в особом состоянии, для утверждения, что нечто может вести себя определённым образом. И этот способ репрезентации, или эта метафора, воплощается в выражениях «Он способен…», «Он способен перемножать большие числа в уме», «Он умеет играть в шахматы» — в этих предложениях глагол употребляется в настоящем времени, означая, что эти фразы являются описаниями состояний, которые существуют в тот момент, когда мы говорим.
Та же самая тенденция проявляется, когда мы называем способность решить математическую задачу, способность наслаждаться музыкальным фрагментом и т. д. определёнными состояниями сознания; мы не подразумеваем под этим выражением «сознательные ментальные явления». Скорее, состояние сознания в этом смысле — это состояние гипотетического механизма, модель сознания, предназначенная для объяснения сознательных ментальных явлений. (Такие вещи, как бессознательные или подсознательные ментальные состояния, являются признаками модели сознания.) Так, мы едва ли избежим представления о памяти как своего рода складском помещении. Обратите также внимание на то, насколько люди уверены в том, что способностям складывать, или умножать, или читать стихотворение наизусть и т. д. должны соответствовать особые состояния человеческого мозга, хотя, с другой стороны, они почти ничего не знают о таких психофизиологических соответствиях. Мы рассматриваем эти явления как проявления данного механизма, а их возможность — как особое строение самого механизма.
Возвращаясь к нашему обсуждению в (43), мы видим, что, когда мы сказали, что В направляем [is being guided] знаками, это не было подлинным объяснением, поскольку он также может выполнять приказы, представляющие собой другие комбинации точек и тире, чем комбинации в (43). Фактически, когда мы рассматривали вопрос, направляем ли В в (43) знаками, мы всё время были склонны говорить что-то вроде того, что мы с достоверностью могли бы решить этот вопрос, только если бы могли заглянуть в действительный механизм, связывающий ви́дение знаков с действием в соответствии с ними. Ибо у нас есть определённый образ того, какие части в механизме мы назовем направляемыми другими частями. Фактически, механизм, который напрашивается сам, когда мы хотим показать, что в таком случае, как (43), мы назвали бы «направляемым знаками», — это механизм типа пианолы. В случае работы пианолы мы имеем дело с четким случаем определённых действий — действий фортепианных молоточков, управляемых шаблоном [pattern] отверстий в валике пианолы. Мы могли бы использовать выражение: «Пианола считывает запись, сделанную посредством перфорации валика», и мы могли бы назвать шаблоны таких перфораций комплексными знаками или предложениями, противопоставляя их функцию в пианоле функции, которую сходные приспособления имеют в механизмах иного типа, например, в комбинации выемок и зубчиков в бородке ключа. Эта особая комбинация является причиной выдвижения языка замка, но мы вряд ли сказали бы, что движение языка замка управляется тем, как мы скомбинировали выемки и зубчики, т. е. мы не сказали бы, что засов движется согласно шаблону бородки ключа. Здесь вы видите связь между идеей направляемости и идеей быть способным прочитывать новые комбинации знаков; ибо мы сказали бы, что пианола может читать любой шаблон перфораций определённого рода, она не настроена на одну определённую мелодию или множество мелодий (как музыкальная шкатулка), — тогда как язык замка реагирует на шаблон бородки ключа, который предопределён в конструкции замка. Мы могли бы сказать, что выемки и зубчики, образующие бородку ключа, сравнимы не со словами, образующими предложение, а с буквами, в совокупности составляющими слово, и что шаблон бородки ключа в этом смысле соответствует не сложному знаку (предложению), а слову.
Ясно, что хотя мы могли бы использовать идеи таких механизмов в качестве сравнения для описания того, как В действует в играх (42) и (43), никакие механизмы подобного рода на самом деле не участвуют в этих играх. И мы должны будем признать, что употребление, которое мы создали для выражения «направляемость» в наших примерах с пианолой и замком, — это лишь одно употребление в рамках целого круга употреблений, хотя эти примеры могут служить в качестве метафор, способов репрезентации для других употреблений.
Рассмотрим употребление выражения «быть направляемым», исследуя употребление слова «чтение». Под «чтением» я подразумеваю здесь деятельность по переводу написанного в звуки, а также запись под диктовку или копирование от руки напечатанной страницы и т. п.; чтение в этом смысле не включает в себя понимание того, что вы читаете. Конечно, употребление слова «чтение» весьма хорошо знакомо нам в повседневной жизни (было бы чрезвычайно трудно даже приблизительно описать эти обстоятельства). Человек, скажем, англичанин, будучи ребёнком, прошёл один из обычных способов обучения в школе или дома, он научился читать на своём языке, после чего читает книги, газеты, письма и т. д. Что происходит, когда он читает газету? Его глаза скользят по напечатанным словам, он произносит их вслух или про себя, но некоторые слова он произносит, просто воспринимая как целое их шаблоны [patterns], для произнесения других слов ему достаточно увидеть первые несколько букв, некоторые же слова он прочитывает буква за буквой. Мы бы также сказали, что он прочитал предложение, если бы он ничего не говорил вслух или про себя, пока его глаза скользили по нему, но был бы способен воспроизвести предложение дословно или несколько иными словами, если бы его спросили о прочитанном. Он мог бы также действовать подобно тому, что мы могли бы назвать просто читающей машиной, я имею в виду — действовать, не обращая внимания на то, что он говорит, возможно, концентрируя своё внимание на чём-то совершенно ином. В этом случае мы сказали бы, что он читал, как надёжная машина, действующая безошибочно. — Сравним с этим случаем случай новичка — человека, только учащегося читать. Он читает слова, мучительно произнося их по буквам. Некоторые слова он, тем не менее, просто угадывает по их контексту или, возможно, знает отрывок наизусть. Учитель тогда говорит, что он делает вид, что прочитывает слова, или что он на самом деле их не прочитывает. Если, рассматривая этот пример, мы спросим себя, что такое чтение, мы можем склониться к мысли, что это особый сознательный ментальный акт. Это тот случай, когда мы говорим: «Только он знает, читает ли он; никто другой не может на самом деле этого знать». Однако мы должны допустить, что во время прочтения отдельного слова в сознании новичка могло происходить то же самое, что происходило, когда он «делал вид», что читал, и что происходит в сознании читающего свободно. Мы употребляем слово «чтение» по-разному, когда говорим об опытном читателе, с одной стороны, и о новичке, с другой. То, что в одном случае мы называем примером чтения, мы не называем примером чтения в другом. Конечно, мы склонны считать, что то, что происходило у опытного читателя и у новичка, когда они произносили слово, не могло быть одним и тем же. Различие кроется если не в их сознательных состояниях, то в бессознательных областях их сознания или в их мозгу. Здесь мы воображаем два механизма, внутреннюю работу которых мы можем видеть, и эта внутренняя работа является действительным критерием того, читает человек или нет. Но на самом деле в этих случаях такие механизмы нам неизвестны.
Посмотрим на это следующим образом:
(67). Вообразим, что человеческие существа или животные использовались бы в качестве читающих машин; предположим, что для того, чтобы стать читающими машинами, им требуется особая тренировка. Человек, тренирующий их, говорит о некоторых из них, что они уже могут читать, о других — что не могут. Возьмём одно такое существо, которое пока не реагирует на тренировку. Если вы поместите перед ним напечатанное слово, оно иногда будет издавать звуки и время от времени «случайно» произносить их так, что эти звуки будут более или менее соответствовать напечатанному слову. Очевидец слышит, что при тренировке существо произносит правильный звук, глядя на слово «стол». Очевидец говорит: «Он читает», но учитель отвечает: «Нет, он не читает, это просто случайность». Но предположим теперь, что ученик, которому показывают другие слова и предложения, продолжает прочитывать их правильно. Спустя некоторое время учитель говорит: «Теперь он может читать». — Но что мы теперь скажем о первом слове «стол»? Признает ли учитель: «Я ошибался. Он прочитал и его тоже»? Или же скажет: «Нет, он начал читать только впоследствии»? Когда же он на самом деле начал читать, или каким было первое слово или первая буква, которую он прочитал? Ясно, что в таком случае этот вопрос не имеет смысла, если только я не дам «искусственного» объяснения вроде следующего: «Первое слово, которое он прочитывает = первое слово первых ста слов, которые он одно за другим прочитывает правильно». Предположим, с другой стороны, что мы использовали слово «чтение», чтобы провести различие между случаем, когда в сознании человека имеет место особый сознательный процесс произнесения слов, и случаем, при котором этого не происходит. Тогда, по крайней мере, читающий человек мог бы сказать, что такое-то и такое-то слово было первым, которое он действительно прочитал. К тому же, в случае читающей машины, которая является механизмом, связывающим знаки с реакциями на эти знаки, например пианолы, мы могли бы сказать: «Только после того, как с машиной было сделано то-то и то-то, например, определённые части были соединены проводами, машина действительно начала читать; и первой буквой, которую она прочитала, была буква d».
В случае (67), называя определённых существ «читающими машинами», мы имели в виду только то, что они реагируют особым образом, когда видят печатные знаки. В этот случай не входят ни связь между видением и реакцией, ни внутренний механизм. Было бы абсурдно, если бы инструктор на вопрос, прочитал ли он слово «стол» или нет, ответил: «Возможно, он его прочитал», ибо в этом случае нет сомнения относительно того, чтó он действительно сделал. Произошедшее изменение мы могли бы назвать изменением в общем поведении ученика, и в этом случае мы не придали значение выражению «первое слово в новой эре». (Сравним с этим следующий случай:
·········· · · · · · · ·
В нашей фигуре ряд точек с большими интервалами следует за рядом точек с маленькими интервалами. Какая точка является последней в первой последовательности, а какая — первой во второй последовательности? Представим себе, что наши точки были бы отверстиями во вращающемся диске сирены. Тогда мы услышали бы низкий звук, следующий за высоким звуком (или наоборот). Спросим себя: «В какой момент начинается низкий звук и заканчивается высокий»?)
С другой стороны, возникает сильное искушение рассматривать сознательный ментальный акт как единственный истинный критерий, отличающий чтение от не-чтения. Ибо мы склонны сказать: «Конечно, человек всегда знает, читает ли он или делает вид, что читает», или: «Конечно, человек всегда знает, когда он действительно читает». Если А пытается заставить B поверить в то, что он способен читать кириллицу, обманывая его, заучив наизусть русское предложение и затем произнося его, глядя на напечатанное предложение, мы можем уверенно сказать, что А знает, что притворяется, и что в этом случае его не-чтение характеризуется особым личным переживанием, а именно, переживанием произнесении предложения по памяти. К тому же, если А совершает ошибку при произнесении по памяти, это переживание будет отличаться от переживания человека, совершающего ошибку при чтении.
(68). Но предположим теперь, что человека, способного бегло читать, попросили прочитать предложения, которые он никогда раньше не читал, и он читает эти предложения со странным чувством, что он знает последовательность слов наизусть. Сказали бы мы в этом случае, что он не читает, т. е. должны ли мы рассматривать его личное переживание как критерий, проводящий различие между чтением и не-чтением?
(69). Или вообразим такой случай: человеку, находящемуся под воздействием определённого наркотика, показывают группу из пяти знаков, но не букв из существующего алфавита; и, глядя на них, учитывая все внешние признаки и личный опыт чтения слов, он произносит слово «ВВЕРХ». (Такого рода вещи случаются во сне. Проснувшись, мы тогда говорим: «Мне казалось, что я прочитал эти знаки, хотя на самом деле они вообще не были знаками».) В таком случае одни сказали бы, что он читает, а другие — что нет. Мы могли бы вообразить, что после того, как он прочитал слово «вверх», мы показали бы ему другие комбинации из пяти знаков и что он прочитал бы их в соответствии со своим прочтением первого сочетания показанных ему знаков. С помощью ряда похожих тестов мы, вероятно, обнаружим, что он использовал то, что можно назвать воображаемым алфавитом. Если это так, мы скорее сказали бы: «Он читает», нежели: «Он воображает, что читает, а на самом деле нет».
Отметим также, что существует обширная серия промежуточных случаев между тем, когда человек знает наизусть лежащий перед ним напечатанный текст, и тем, когда он прочитывает буквы каждого слова без какой-либо помощи, вроде угадывания по контексту, знания наизусть и т. п.
Сделайте следующее. Произнесите по памяти ряд чисел от одного до двенадцати. Теперь посмотрите на циферблат своих часов и прочитайте эту последовательность чисел. Спросите себя, что в этом случае вы назвали чтением, т. е. что вы делали, чтобы это прочитать?
Проверим следующее объяснение. Человек читает, если он извлекает [derives] копию, которую он снимает с копируемой им модели. (Я буду использовать слово «модель», чтобы обозначить то, что он прочитывает, например, напечатанные предложения, которые он прочитывает или копирует, переписывая, или такие знаки, как «――··―» в (42) и (43), которые он «прочитывает» своими движениями, или партитуру, которую исполняет пианист, и т. д. Слово «копия» я использую для предложения, прочитанного или списанного с напечатанного предложения, для движений, сделанных в соответствии с такими знаками, как «――··―», для движений пальцев пианиста или для мелодии, которую он исполняет по партитуре, и т. д.) Таким образом, если мы научили человека кириллице и научили его произносить каждую букву и если затем мы дали ему листок с текстом, напечатанным кириллицей, и он прочитал его в соответствии с правилами произношения каждой буквы так, как мы его научили, мы несомненно сказали бы, что он извлекал звуки каждого слова из записанного и произнесённого алфавита, которому его научили. И это также было бы очевидным случаем чтения. (Мы могли бы использовать выражение: «Мы научили его правилу определенного алфавита».)
Но посмотрим, что заставляет нас говорить, что он извлекал произносимые слова из напечатанных посредством правила этого алфавита? Разве мы не знаем, что все, что мы сказали ему, — это то, как произносится та или иная буква и т. д., и что после этого он прочитал слова, написанные кириллицей? В качестве ответа нам в голову приходит то, что он каким-то образом продемонстрировал, что он действительно осуществил переход от напечатанного к произносимому посредством правила алфавита, которым мы его снабдили. И то, что мы имеем в виду под его демонстрацией, безусловно, станет понятнее, если мы изменим наш пример и:
(70). предположим, что он разбирает текст, написанный, скажем, печатными буквами, записывая его прописью. Ибо в этом случае мы можем предположить, что правило определённого алфавита было задано в форме таблицы, в которой печатный и прописной алфавиты расположены в параллельных колонках. Тогда мы бы представили себе извлечение [deriving] копии из текста следующим образом: копирующий человек через регулярные промежутки времени заглядывает в таблицу за каждой буквой или говорит себе нечто вроде: «Как выглядит маленькая a?», или пытается вызвать в памяти таблицу, стараясь действительно в неё не заглядывать.
(71). Но что если, проделывая всё это, он затем записал «А» как «b», «В» как «с» и т. д.? Разве мы не назвали бы это также «чтением», «извлечением»? В этом случае мы могли бы описать его действия, сказав, что он использовал таблицу так же, как использовали бы её мы, если бы смотрели не непосредственно слева направо:
а вот так:
хотя, на самом деле он, когда смотрел в таблицу, переводил глаза или проводил пальцем горизонтально слева направо.
Но предположим теперь,
(72). что при нормальном процессе работы с таблицей он записывал «А» как «n», а «В» как «x», короче, действовал, как мы могли бы сказать, согласно схеме стрелок, которая не показывала простую регулярность. Разве мы не могли бы назвать и этот процесс «извлечением»?
Но предположим, что
(73). он не ограничился этим способом записи. Фактически он изменил его, но в соответствии с простым правилом: записав «А» как «n», он записывает следующую «А» как «о», следующую «А» как «p» и т. д. Где пролегает чёткая граница между этим методом и методом записи без всякой системы? На это вы можете возразить, сказав: «В случае (71) вы, очевидно, предполагали, что он понимал таблицу иначе; он не понимал её обычным образом». Но что мы называем «пониманием таблицы особым образом»? Какой бы процесс вы ни воображали под этим «пониманием», он представляет собой только ещё одно звено, помещённое между внешним и внутренним процессами извлечения, которые я описал, и существующей записью. Фактически этот процесс понимания явно можно было бы описать посредством схемы, подобной использованной в (71), и мы могли бы тогда сказать, что в конкретном случае он смотрел на таблицу так:
понимал её так:
а записывал так:
Но означает ли это, что слово «извлечение» (или «понимание») на самом деле не имеет значения, так как, если следовать его значению, это, по-видимому, ни к чему не приведёт? В случае (70) значение «извлечения» выделяется достаточно ясно, но мы сказали себе, что это только один особый случай извлечения. Нам кажется, что сущность процесса извлечения в этом случае была представлена в особом облачении, избавившись от которого, мы добрались бы до сути дела. Итак, в (71), (72), (73) мы пытались освободить наш случай от того, что казалось лишь его особой одёжкой, но обнаружили, что то, что казалось просто одёжкой, было сущностными характеристиками этого случая. (Мы действовали так, как если бы пытались обнаружить подлинный артишок, освобождая его от листьев.) Употребление слова «извлечение» в самом деле представлено в (70), т. е. этот пример показывал нам один случай из целого семейства других, в которых употребляется это слово. И объяснение употребления этого слова, как и объяснение употребления слова «читать» или словосочетания «быть направляемым символами», состоит, по существу, в описании выборки примеров, проявляющих характерные черты, причём одни примеры показывают эти черты в преувеличенном виде, другие демонстрируют переходы, а некоторые ряды примеров — то, как такие черты сводятся на нет. Предположим, что кто-то захотел дать вам представление о характерных чертах лиц некой семьи имярек; с этой целью он показал бы вам множество семейных портретов, обращая внимание на определённые характерные черты, и его главная цель заключалась бы в надлежащем упорядочивании этих изображений, что, например, позволило бы вам увидеть, как определённые воздействия постепенно изменяли эти черты, каким характерным образом старели члены семьи, какие черты при этом проявлялись всё сильнее.
Роль наших примеров была не в том, чтобы показать сущность «извлечения», «чтения» и т. д. сквозь завесу несущественных черт; эти примеры не были описаниями внешнего, побуждающего нас гадать о внутреннем, которое по той или иной причине не может быть продемонстрировано в своей наготе. Мы склонны считать, что наши примеры являются косвенными средствами создания определённого образа [image] или идеи в сознании человека, — что они намекают на нечто такое, чего не могут показать. Дела обстояли бы таким образом, например, в случае, если я хочу создать у кого-то мысленный образ внутреннего убранства определённой комнаты восемнадцатого века, в которую его не пускают. Поэтому я применяю следующий метод. Я показываю ему дом снаружи, указываю окна интересующей нас комнаты и далее веду его в другие комнаты того же периода.
Наш метод чисто описательный; данные нами описания не являются даже намеками на объяснения.
II
1. Всякий ли раз мы испытываем ощущение знакóмости [familiarity], когда смотрим на знакомые объекты? Или мы испытываем его в большинстве случаев?
Когда мы в действительности его испытываем?
Нам поможет ответить следующий вопрос: Что мы противопоставляем ощущению знакóмости с чем-либо?
Мы противопоставляем ему удивление.
Могут сказать: «Отсутствие знакóмости — более яркое переживание, чем знакóмость».
Мы говорим: А показывает В ряд объектов. В должен сказать А, знакóм ему данный объект или же нет. Вопрос может быть: а) «Знает ли В, что это за объекты?» или b) «Опознаёт ли он каждый конкретный объект?».
(1). Возьмём случай, при котором В показывают ряд приборов — весы, термометр, спектроскоп и т. д.
(2). В показывают карандаш, ручку, чернильницу и булыжник. Или:
(3). Вместо знакомых объектов ему показывают объект, о котором он говорит: «Он выглядит так, как если бы служил какой-то цели, но я не знаю, какой».
Что происходит, когда В опознает нечто как карандаш?
Предположим, А показал ему объект, похожий на палочку. В берёт его в руки, внезапно тот распадается на две части, одна из них — футляр, а другая — карандаш. В говорит: «О, это же карандаш!». Он опознал объект как карандаш.
(4). Мы могли бы сказать: «В всегда знал, на что похож карандаш; он мог бы, например, вытащить карандаш, когда его об этом попросили. Он не знал, что объект, который ему дали, содержал карандаш, который он мог вытащить в любое время». Сравните с этим случай (5):
(5). В показывают слово, написанное на листке бумаги, который Держат вверх ногами. Он не узнаёт слово. Листок постепенно переворачивают, пока В не говорит: «Теперь я вижу, что это. Это „карандаш“».
Мы могли бы сказать: «Он всегда знал, как выглядит слово „карандаш“. Он не знал, что слово, которое ему показали, если его перевернуть, выглядит как „карандаш“».
В обоих случаях (4) и (5) вы могли бы сказать, что нечто было скрыто. Но отметим различные применения слова «скрыто».
(6). Сравним со следующим. Вы читаете письмо и не можете прочесть одно из его слов. Вы догадываетесь из контекста, что это должно быть за слово. Вы опознаете эту закорючку как е, вторую — как с, третью — как т. Этот случай отличается от случая, когда слово «ест» было заляпано кляксой и вы только догадались, что на этом месте должно быть слово «ест».
(7). Сравните. Вы видите слово и не можете его прочесть. Его слегка изменяют, добавляя черту, удлинив штрих и т. п. Теперь вы можете его прочесть. Сравните это изменение с переворачиванием в (5) и заметьте, что есть смысл в том, что, когда слово перевернули, вы увидели, что оно не было изменено. То есть бывает случай, когда вы говорите: «Я смотрел на слово, когда его переворачивали, и знаю, что сейчас оно остаётся тем же самым, каким было, когда я его не узнавал».
(8). Предположим, игра между А и В заключается только в том, что В должен говорить, знает ли он определённый объект или же нет, но не сообщать, что это за предмет. Предположим, ему показали обычный карандаш после того, как показали гигрометр, который он раньше никогда не видел. Когда ему показали гигрометр, он сказал, что не знаком с ним, а когда показали карандаш — что узнал его. Что произошло, когда он узнал его? Должен ли он был сказать себе, хотя и не говорил А, что то, что он видел, является карандашом? Почему мы должны это предполагать?
Далее, опознав карандаш, он опознал его в качестве чего?
(9). Предположим даже, что он сказал себе: «О, это же карандаш», могли бы вы сравнить этот случай с (4) или (5)? В этих случаях можно было бы сказать: «Он опознал это как то» (как на «это» указывая, например, на скрытый в футляре карандаш, а как на «то» — на обыкновенный карандаш, и сходным образом в (5)).
В (8) карандаш не подвергался изменению, и слова «О, это же карандаш» не указывали на образец, сходство которого с показанным карандашом признал В.
Если бы у В спросили: «Что такое карандаш?», он не стал бы указывать на другой объект как на образец или пример, но мог бы непосредственно указать на показанный ему карандаш.
«Но когда он говорил: „О, это же карандаш“, откуда он знал, что это такое, если он не опознал его как нечто?» — На самом деле это сводится к следующему: «Как он опознал „карандаш“ в качестве имени вещи такого сорта?». Ну и как же он опознал его? Он только отреагировал на него особым образом, сказав это слово.
(10). Предположим, некто показывает вам цвета и просит вас назвать их. Указывая на определённый объект, вы говорите: «Это — красное». Что бы вы ответили, если бы вас спросили: «Откуда вы знаете, что это — красное?».
Конечно, в определённом случае В мог бы получить общее объяснение, скажем: «Мы будем называть „карандашом“ всё, чем можно легко писать на вощёной дощечке». Затем А показывает В среди других объектов небольшой заострённый предмет, и В приходит в голову мысль: «Этим можно легко писать», и он говорит: «О, это же карандаш». В этом случае мы можем сказать, что имеет место вывод [derivation]. В (8), (9), (10) вывода нет. В (4) мы могли бы сказать, что В вывел, что показанный ему объект является карандашом, посредством образца, иначе такой вывод не мог бы иметь места.
Должны ли мы сказать, что В, глядя на карандаш после того как он видел инструменты, с которыми не был знаком, испытал ощущение знакомости? Вообразим, что могло бы происходить на самом деле. Он увидел карандаш, улыбнулся, почувствовал облегчение, и название предмета, который он увидел, пришло ему на ум или слетело с языка.
Не является ли чувство облегчения как раз тем, что характеризует переживание перехода от незнакомых вещей к знакомым?
2. Мы говорим, что переживаем напряжённость и расслабленность, облегчение, натянутость и покой в таких различных случаях, как: Человек держит тяжесть на вытянутой руке; его рука, всё его тело находятся в состоянии напряжения. Мы разрешаем ему опустить тяжесть, напряжение ослабляется. Человек бежит, потом отдыхает. Человек мучительно размышляет о решении проблемы у Евклида, затем находит его и расслабляется. Человек пытается вспомнить имя и расслабляется, вспомнив его.
А если бы мы спросили: «Что объединяет эти случаи, чтобы заставить нас сказать, что они являются случаями напряжённости и расслабленности?».
Что заставляет нас использовать выражение «порыться в памяти», когда мы пытаемся вспомнить слово?
Зададим вопрос: «В чём заключается сходство между поисками слова в вашей памяти и поисками моего друга в парке?». В чём бы заключался ответ на такой вопрос?
Ответ одного рода, несомненно, заключался бы в описании ряда промежуточных случаев. Можно было бы сказать, что поиск чего-то в вашей памяти больше похож не на поиск моего друга в парке, а, скажем, на поиск правильного написания слова в словаре. Можно было бы привести дополнительные случаи. По-другому указать на сходство можно было бы, например, сказав: «В обоих этих случаях мы сначала не можем записать слово, а затем можем». Это то, что мы называем указанием на общую черту [common feature].
Важно заметить, что нам не нужно осознавать указанные подобным образом сходства в тех случаях, когда при попытке вспомнить нас побуждают использовать слова «поиск», «разыскивание» и т. д.
Можно было бы сказать: «Конечно, сходство должно было зацепить нас, в противном случае мы бы не сподвиглись употребить одно и то же слово». — Сравним это высказывание со следующим: «Сходство между этими случаями должно цеплять, чтобы заставить нас использовать один и тот же образ для репрезентации обоих случаев». Это говорит о том, что некоторый акт должен предшествовать акту использования этого образа. Но почему бы тому, что мы называем «цепляющим нас сходством», не заключаться, частично или полностью, в нашем использовании одного и того же образа? И почему бы ему не заключаться, частично или полностью, в том, что нас побуждает употреблять одну и ту же фразу?
Мы говорим: «Этот образ (или эта фраза) неотвязно преследует меня». Разве это не переживание?
Мы рассматриваем здесь случаи, при которых, как можно было бы грубо сформулировать, грамматика слова, по-видимому, предполагает «необходимость» определённого промежуточного шага, хотя на самом деле это слово употребляется в случаях, когда такой промежуточный шаг не делается. Так, мы склонны говорить: «Человек должен понимать приказ до того, как он его выполнит», «Он должен знать место, где у него болит, до того, как сможет на него указать», «Он должен знать мелодию до того, как он её пропоёт» и т. п.
Зададим следующий вопрос. Предположим, я объяснил кому-то слово «красный» (или значение слова «красный»), указывая на различные красные объекты и давая остенсивное объяснение. Что значит сказать: «Если он понял значение, он принесёт мне красный объект, когда я его попрошу»? Это, по-видимому, значит, что если он действительно понял, что является общим между всеми объектами, которые я ему показал, то он будет в состоянии следовать моим указаниям. Но что представляет собой это общее для всех объектов?
Можете ли вы сказать мне, что общего у светло-красного и тёмно-красного? Сравним с этим следующий случай. Я показываю вам изображения двух различных ландшафтов. На обоих изображениях среди многих других объектов есть изображение куста, и оно в точности одинаково и там, и там. Я прошу вас: «Укажите, что общего в этих двух изображениях», — ив качестве ответа вы указываете на этот куст.
Теперь рассмотрим следующее объяснение. Я даю кому-то две коробки, содержащие различные вещи, и говорю: «Объект, общий для обеих коробок, называется вилкой». Человек, которому я даю это объяснение, должен перебирать объекты в обеих коробках, пока не найдёт тот, который является для них общим, и таким образом, как мы можем сказать, он прибегает к остенсивному объяснению. Или следующее объяснение: «На этих двух изображениях вы видите пятна многих цветов; один цвет, который вы обнаруживаете на обоих изображениях, называется „розовато-лиловый“». — В этом случае имеет смысл сказать: «Если он увидел (или обнаружил) то, что является общим у этих двух изображений, он теперь сможет принести мне розовато-лиловый объект».
Может также случиться следующее: Я говорю кому-то: «Я объясню тебе слово „w“ показывая различные объекты; „w“ означает то, что у всех них является общим». Сначала я показываю ему две книги, и он спрашивает себя: «Наверно, „w“ означает „книга“?». Затем я указываю на кирпич, и он говорит себе: «Возможно, „w“ означает „параллелепипед“». Наконец я указываю на раскалённые угли, и он говорит себе: «О, он имеет в виду „красное“, ибо все эти объекты имеют нечто красное». Было бы интересно рассмотреть другую форму этой игры, где человек на каждой стадии должен нарисовать карандашом или написать красками то, что, как он думает, я имею в виду. Интерес в этой версии вызывает то, что в некоторых случаях было бы вполне очевидно, чтó именно он должен изобразить, скажем, когда он видит, что все объекты, которые я ему показал до сих пор, отмечены одной и той же торговой маркой (он рисует торговую марку). С другой стороны, чтó он должен изобразить, осознав, что у всех предметов есть нечто красное? Красное пятно? Каких очертаний и какого оттенка? Здесь пришлось бы установить некое соглашение, например, что нарисованное красное пятно с неровными краями означает не то, что общим у объектов является это красное пятно с неровными краями, но нечто красное.
Если, указывая на красные пятна различных оттенков, вы спросите человека: «Что общего в этих пятнах, что заставляет вас назвать их красными?», — он, вероятно, ответит: «Разве вы не видите?». И это, конечно, не будет указанием на общий элемент.
Бывают случаи, когда опыт учит нас, что человек не способен выполнить приказ, например, типа «Принеси мне x», если он не увидел, что было общего у различных объектов, на которые я указывал как на объяснение «x». И «видение того, что в них общего» в одних случаях заключается в указании на него, в других — в пристальном разглядывании и сопоставлении красных пятен, или в словах, сказанных про себя: «Ага, он имеет в виду красное», или, может быть, в одновременном рассмотрении всевозможных красных пятен на различных объектах и т. п. — С другой стороны, бывают случаи, когда не наблюдается никакого процесса, сравнимого с этим промежуточным «видением того, что в них общего», однако мы всё ещё употребляем эту фразу, и несмотря на то, что на сей раз нам следовало бы сказать: «Если после демонстрации ему этих вещей он приносит мне другой красный объект, тогда я скажу, что он увидел общую характеристику объектов, которые я ему показывал». Критерием его понимания теперь становится выполнение приказа.
3. «Почему вы называете все эти различные переживания „напряжением“?» — «Потому что они имеют некоторый общий элемент». — «Что общего имеют телесное и ментальное напряжение?» — «Я не знаю, но некоторое сходство, очевидно, есть».
Тогда почему вы говорили, что эти переживания имеют нечто общее? Не содержит ли это выражение лишь сравнение нынешнего случая с теми, в которых мы изначально говорим, что два переживания имеют нечто общее? (Так, мы могли бы сказать, что в некоторых переживаниях радости и страха общим является чувство учащённого сердцебиения.) Но когда вы говорили, что эти два переживания напряжения имеют нечто общее, вы хотели лишь иными словами выразить их сходство. Тогда высказывание, что сходство состоит в существовании общего элемента, не является объяснением.
К тому же, скажем ли мы, что вы ощутили сходство, когда сравнивали эти два переживания, и что именно это заставляет вас использовать одно и то же слово в обоих случаях? Если вы говорите, что у вас есть ощущение сходства, позвольте задать несколько вопросов об этом:
Можете ли вы сказать, что это ощущение было локализовано в том или ином месте?
Когда именно вы действительно ощутили это? Ибо то, что мы называем сравнением двух переживаний, является довольно сложной деятельностью: возможно, вы вызвали эти два переживания в воображении, и как воображение телесного напряжения, так и воображение ментального напряжения, каждое по-своему были воображением процесса, а не состояния, застывшего во времени. Затем спроси́те себя, на протяжении какого времени в течение всего этого процесса у вас было ощущение сходства.
«Но я, конечно, не сказал бы, что они сходны, если бы не обладал переживанием их сходства». — Но разве это переживание должно быть чем-то таким, что вы называете ощущением? Предположим на мгновение, что это переживание было переживанием самого слова «сходный». Назвали бы вы его ощущением?
«Но разве не существует ощущения сходства?» — Я думаю, что существуют ощущения, которые можно назвать ощущениями сходства. Но вы не всегда ощущаете что-то подобное, когда «замечаете сходство». Рассмотрим различные переживания, которые у вас имеются, когда вы замечаете сходство.
a) Бывает своего рода переживание, которое можно было бы назвать трудностью с различением [being hardly able to distinguish]. Например, вы видите, что две длины или два цвета почти совсем одинаковы. Но если я спрошу себя: «Заключается ли это переживание в обладании особым ощущением?», то должен буду признать, что оно определённо не характеризуется одним лишь подобным ощущением и что очень важной частью этого переживания будет блуждание моего взгляда с одного объекта на другой, пристальная фиксация его то на одном, то на другом объекте, возможно, сопровождаемая словами, выражающими сомнение, покачиванием головой и т. д., и т. п. Можно сказать, что среди этих разнообразных переживаний практически не остаётся места для ощущения сходства.
b) Сравним с этим случай, когда нет каких-либо затруднений с различением двух объектов. Предположим, я говорю: «На этой клумбе я предпочитаю высаживать два вида растений сходного цвета, чтобы избежать сильного контраста». Здесь могло бы иметь место переживание, которое можно было бы описать как лёгкое скольжение взглядом с одного на другое.
с) Я слушаю вариацию музыкальной темы и говорю: «Я ещё не вижу, почему это вариация данной темы, но я вижу определённое сходство». Происходило следующее: в определённые моменты проигрывания вариации, в определённых кульминационных точках, у меня возникало переживание «знания того, в каком месте темы я находился». И это переживание могло заключаться либо в воображении определённых фигур темы, либо в прочитывании их воображаемой записи, или в действительном указании на них в партитуре и т. д.
«Но когда два цвета похожи, переживание сходства, конечно, заключалось бы в обращении внимания на сходство, которое есть между ними». — Но похож ли синевато-зелёный на жёлтовато-зелёный или же нет? В определённых случаях мы сказали бы, что они сходны, в других — что они совершенно различны. Правильно ли было бы сказать, что в этих двух случаях мы обратили внимание на различные отношения между ними? Предположим, я наблюдал процесс, в результате которого синевато-зелёный постепенно изменялся в чисто зелёный, жёлтовато-зелёный, жёлтый и оранжевый. Я говорю: «Превращение синевато-зелёного в жёлтовато-зелёный занимает мало времени, потому что эти цвета похожи». — Но разве вы не должны обладать некоторым переживанием сходства, чтобы быть в состоянии сказать так? — Переживание может заключаться в ви́дении двух цветов и произнесении, что они оба зелёные. Или оно может заключаться в ви́дении ленты, цвет которой изменяется описанным образом от одного конца к другому, и обладании каким-то одним из тех переживаний, которые можно назвать фиксацией того, насколько близко друг к другу расположены синевато-зелёный и жёлтовато-зелёный по сравнению с синевато-зелёным и оранжевым.
Мы употребляем слово «сходный» в огромной семье случаев.
Утверждение, что мы употребляем слово «напряжение» как для ментального, так и для телесного напряжения, потому что между ними есть сходство, довольно удивительно. Разве мы сказали бы, что слово «синий» употребляется как для обозначения светло-синего, так и для тёмно-синего, потому что между ними есть сходство? Если бы вас спросили: «Почему вы также называете это „синим“?», — вы бы сказали: «Потому что оно тоже является синим».
Можно предположить, что объяснение заключается в том, что в данном случае вы называете «синим» то, что является общим у этих двух цветов, и что, если вы называли «напряжением» то, что было общим у двух переживаний напряжения, то было бы ошибочно сказать: «Я назвал и то, и другое переживание „напряжением“, потому что они обладали определённым сходством», и вместо этого вы должны были бы сказать: «Я использовал слово „напряжение“ и в том, и в другом случае, потому что и там, и там присутствовало напряжение».
Как бы мы ответили на вопрос: «Что общего имеют светло-синий и тёмно-синий?». На первый взгляд, ответ кажется очевидным: «Оба они являются оттенками синего». Но на самом деле это — тавтология. Поэтому зададим такой вопрос: «Что общего имеют те цвета, на которые я указал?». (Предположим, один из них светло-синий, а другой — тёмно-синий.) Ответом на это на самом деле должно быть: «Я не знаю, какую игру вы разыгрываете». Усмотрел бы я в них наличие чего-то общего и чтó именно я назвал бы этим общим — всё зависело бы от конкретной игры.
Вообразим следующую игру: А показывает В различные цветовые пятна и спрашивает его, что в них общего. В должен ответить, указывая на определённый первичный цвет. Так, если А указывает на розовый и оранжевый, В должен указать на чисто красный. Если А указывает на два оттенка зеленовато-синего, В должен указать на чисто зелёный и чисто синий и т. д. Если в этой игре А показал В светло-синий и тёмно-синий и спросил, что в них общего, то ответ очевиден. Если бы затем он указал на чисто красный и чисто зелёный, ответ заключался бы в том, что эти цвета не имеют ничего общего. Но я мог бы легко вообразить обстоятельства, при которых мы сказали бы, что они имеют нечто общее, и, не сомневаясь, сказали бы чтó именно. Вообразим употребление языка (культуру), в которой имелось бы общее имя для зелёного и красного, с одной стороны, и жёлтого и синего, с другой. Предположим, например, что там есть две касты, одна — каста патрициев, облачённых в красные и зелёные одежды, а другая — плебеев, облачённых в синие и жёлтые одежды. На жёлтый и синий всегда указывают как на плебейские цвета, а на красный и зелёный — как на патрицианские цвета. Будучи спрошенным, что общего в красном и зелёном пятнах, человек нашего племени, не колеблясь, скажет, что оба они являются патрицианскими.
Мы также легко могли бы вообразить язык (и это вновь подразумевает культуру), в котором нет общего выражения для светло-синего и тёмно-синего, и первый называется, скажем, «Кембридж», а второй — «Оксфорд». Если вы спросите человека этого племени, что общего у Кембриджа и Оксфорда, он будет склонен сказать: «Ничего».
Сравним с предыдущей следующую игру. В показывают определённые изображения, комбинации из цветовых пятен. Когда его спрашивают, чтó эти изображения имеют общего, он должен указать на образец красного, если на обоих есть красное пятно, и на образец зелёного, если на обоих есть зелёное пятно, и т. д. Это покажет вам, какими различными способами может быть использован этот один и тот же ответ.
Рассмотрим такое объяснение: «Под „синим“ я подразумеваю то, что является общим для этих цветов». — Разве такое объяснение не может быть правильно понято? Например, если кому-то отдадут приказ принести другой синий объект, он исполнит его удовлетворительным образом. Но, возможно, он принесет красный объект, и мы тогда скажем: «Он, по-видимому, заметил некоторого рода сходство между образцами, которые мы ему показывали, и этой красной вещью».
Замечание. Некоторые люди, когда их просят пропеть ноту, которую мы извлекаем, ударив по клавише пианино, часто поют квинту этой ноты. Это позволяет с лёгкостью вообразить, что язык может иметь для определённой ноты и её квинты одно и то же имя. С другой стороны, вопрос о том, что нота и её квинта имеют общего, вызвал бы у нас затруднение. Ведь слова «Они имеют определённое сродство», конечно, не будут ответом.
Одна из наших задач здесь — дать образ грамматики (употребления) слова «определённый».
Сказать, что мы употребляем слово «синий», чтобы обозначить «то, что все эти оттенки цвета имеют общего», само по себе означает не более, нежели то, что мы употребляем слово «синий» во всех этих случаях.
И фраза: «Он видит то, что все эти оттенки имеют общего», может указывать на самые разнообразные явления, т. е. на те всевозможные явления, которые выступают в качестве критерия «его видения того, что…» Или всё происходящее может заключаться в том, что, если его попросят принести другой оттенок синего, он выполнит наше приказание удовлетворительным образом. Или пятно чистого синего цвета может появиться перед его мысленным взором, когда мы показываем ему различные образцы синего; или он может инстинктивно повернуть голову в направлении другого оттенка синего, который мы не показывали ему в качестве образца и т. д., и т. п.
Должны ли мы сказать, что ментальное напряжение и телесное напряжение суть «напряжения» в одном и том же смысле слова или в различных (или «слегка различных») смыслах слова? — В некоторых подобных случаях ответ нам представлялся бы несомненным.
4. Рассмотрим следующий случай. Мы научили кого-то употреблению слов «темнее» и «светлее». Он мог бы, например, выполнить такой приказ: «Нарисуй мне пятно более тёмного цвета, чем тот, который я тебе показываю». Предположим, теперь я сказал ему: «Прослушай пять гласных — a, e, и, о, у — и расположи их в порядке потемнения». Он может выглядеть озадаченным и ничего не предпринять, но может (и некоторые люди так и сделают) расположить гласные в определённом порядке (обычно — и, e, а, о, у). Можно представить себе, что расположение гласных в порядке потемнения предполагало, что произнесение каждой гласной сопровождалось в воображении человека определённым цветом; расположив их затем в порядке потемнения, он предоставил вам соответствующее упорядочивание гласных. Но вовсе не обязательно, чтобы нечто подобное происходило на самом деле. Человек может исполнить приказ: «Расположи гласные в порядке потемнения», вообще не видя каких-либо цветов перед своим мысленным взором.
Если у такого человека спросить, «действительно» ли гласная у темнее, чем гласная e, он скорее всего ответит нечто вроде: «На самом деле она не темнее, но она каким-то образом вызывает у меня более тёмное впечатление».
Но что если мы спросим его: «Что вообще заставляет тебя употреблять слово „темнее“ в данном случае?»?
Опять-таки мы могли бы сказать: «Он должен был видеть нечто общее как для двух цветов, так и для двух гласных». Но если он не способен определить, чем был этот общий элемент, то нам остаётся лишь тот факт, что в обоих случаях он был склонен употребить слова «темнее» и «светлее».
Обратите внимание на слово «должен» в выражении «он должен был видеть нечто…» Говоря так, вы не имели в виду, что на основании прошлого опыта вы заключили, что он, вероятно, видел нечто. Именно поэтому данное предложение ничего не добавляет к тому, что мы уже знаем, фактически предлагая нам только иную форму слов для описания этого нечто.
Если некто сказал: «Я вижу определённое сходство, однако не могу его описать», — я бы ответил: «Это само по себе уже характеризует твоё переживание».
Предположим, вы смотрите на два лица и говорите: «Они похожи, но я не знаю, в чём состоит это сходство». И предположим, что некоторое время спустя вы сказали: «Теперь я знаю, у них одинаковый разрез глаз». Я бы ответил: «Теперь ваше переживание сходства отличается от того, каким оно было, когда вы видели сходство, но не знали, в чём оно состоит». На вопрос: «Что заставляло вас употреблять слово „темнее“…?» ответ мог бы быть: «Ничто не заставляло меня использовать слово „темнее“, — т. е. если вы спрашиваете меня о причине, по которой я употребил его. Я просто употреблял его, и, более того, я употреблял его с той же интонацией и, возможно, с тем же самым выражением лица и жестикуляцией, которые я склонен употреблять в определённых случаях, когда применяется слово для цветов». — Это легче увидеть, когда мы говорим о глубоком горе, глубоком звуке, глубоком колодце. Некоторые люди способны проводить различие между скоромными [fat] и постными [lean] днями недели. И их переживание, когда они считают день скоромным[40], состоит в применении этого слова, возможно, вместе с жестом, выражающим тучность и определенный комфорт.
Но, возможно, вы склонны сказать, что такое употребление слова и жеста не являются для них первичным переживанием. Сначала они должны почувствовать день как жирный, а затем выразить это понятие словом или жестом.
Но почему вы употребляете выражение «Они должны»? Известно ли вам переживание, которое в этом случае вы называете «понятием и т. д.»? Ибо если это не так, то разве нельзя то, что заставляет вас сказать: «Он должен был обладать понятием, прежде чем… и т. д.», назвать лингвистическим предрассудком?
Скорее из этого и других примеров вы можете усвоить то, что бывают случаи, когда мы можем назвать отдельное переживание «обращением внимания, видением, пониманием, что то-то и то-то имеет место» до того, как выразим его словом или жестом, и что бывают другие случаи, когда, если мы вообще говорим о переживании понимания, мы должны применять это слово к переживанию использования определённых слов, жестов и т. д.
Говоря, что «гласная у на самом деле не темнее, чем гласная e…», человек хотел подчеркнуть, что слово «темнее» использовалось им в различных смыслах, когда он говорил о том, что один цвет темнее другого, и когда — что одна гласная темнее, чем другая.
Рассмотрим следующий пример. Предположим, мы научили человека употреблять слова «зелёный», «красный», «синий», указывая на пятна этих цветов. Мы научили его приносить нам объекты определённого цвета, приказывая: «Принеси мне что-нибудь красное!», отсортировывать объекты различных цветов из кучи и т. п. Предположим, теперь мы показываем ему ворох листьев, некоторые из них коричневые с лёгким красноватым оттенком, другие — жёлтые с лёгким зеленоватым оттенком, и приказываем ему: «Разложи красные и зелёные листья по разным кучкам». Вполне возможно, что он в результате отделит желтовато-зелёные листья от красновато-коричневых. Должны ли мы сказать, что сейчас мы употребили слова «красный» и «зелёный» в том же самом смысле, что и в предыдущих случаях, или же мы употребили их в ином, но сходном смысле? Какие доводы можно было бы привести в пользу последней точки зрения? Можно было бы указать на то, что, если попросить человека нарисовать красное пятно, он определённо не нарисует красновато-коричневое пятно, и, следовательно, можно было бы сказать, что слово «красный» в этих двух случаях означает разное. Но почему бы мне не сказать, что оно имеет только одно значение, но употребляется сообразно обстоятельствам?
Вопрос заключается в следующем: дополняем ли мы наше высказывание о том, что слово имеет два значения, высказыванием, говорящим, что в одном случае оно имеет одно, а в другом — другое значение? В качестве критерия того, что слово имеет два значения, мы можем использовать тот факт, что ему даются два объяснения. Так, мы говорим, что слово «bank» имеет два значения; ибо в одном случае оно обозначает вещь одного сорта, скажем, берег реки, в другом случае — вещь другого сорта, например, Банк Англии. Я указываю здесь образцы употребления слов. Разве нельзя сказать: «Слово „красный“ имеет два значения, поскольку в одном случае оно означает это (указывая на светло-красный), а в другом случае — вот это (указывая на тёмно-красный)», как если бы было только одно остенсивное определение слова «красный», используемое в нашей игре. С другой стороны, можно вообразить языковую игру, в которой два слова, скажем, «красный» и «красноватый», были объяснены посредством двух остенсивных определений, причём первое демонстрировало тёмно-красный объект, второе — светло-красный. Было бы это двумя объяснениями или только одним, зависело бы от естественных реакций людей, использующих язык. Мы могли бы обнаружить, что человек, которому мы предоставили остенсивное определение «Это называется „красным“» (указывая на некий красный предмет), вследствие этого на приказ: «Принеси мне что-нибудь красное!», принесёт любой красный объект, независимо от оттенка красного. Другой человек может поступить иначе и принести объекты определённых оттенков, близких тому, который мы указали ему при объяснении. Мы могли бы сказать, что этот человек «не видит, что есть общего между всеми различными оттенками красного». Но помните, пожалуйста, что наш единственный критерий — это поведение, которое мы описали.
Рассмотрим следующий случай: В обучали употреблению слов «светлее» и «темнее». Ему показывали объекты различных цветов и наставляли, что этот цвет называют более тёмным, чем тот, тренируя приносить объект по приказу «Принеси что-нибудь более тёмное, чем это» и описывать цвет объекта, говоря, что этот темнее или светлее определенного образца и т. д., и т. п. Теперь ему отдают приказ разложить ряд объектов, располагая их в порядке потемнения. Он делает это, выкладывая последовательность книг, записывая ряд названий животных и записывая пять гласных в следующем порядке: у, о, а, e, и. Мы спрашиваем его, почему он выстроил последний ряд таким образом, и он отвечает: «Ну, о светлее, чем у, а e светлее, чем о». — Мы будем удивлены его установкой, но в то же время допустим, что в его словах что-то есть. Возможно, мы скажем: «Но смотри, конечно же e светлее, чем о, не так, как эта книга светлее, чем та». — Он же может пожать плечами и сказать: «Я не знаю, но e точно светлее, чем о, разве не так?».
Возможно, мы склонимся к тому, чтобы рассматривать этот случай как некоторого рода аномалию, и скажем: «В должен владеть другим смыслом, с помощью которого он упорядочивает как цветные объекты, так и гласные». И если мы попытаемся сделать эту нашу идею (совершенно) ясной, то придём к следующему: Нормальный человек регистрирует светлость и тёмноту визуальных объектов при помощи одного инструмента, а то, что можно было бы называть светлостью и темнотой звуков (гласных), — при помощи другого, в том смысле, в котором можно сказать, что лучи с определённой длиной волны мы регистрируем нашим зрением, а лучи другой части спектра — нашим ощущением температуры. С другой стороны, мы хотим сказать, что В упорядочивает как звуки, так и цвета считыванием показаний только с одного инструмента (органа чувств) (в том смысле, в котором фотографическая пластинка может фиксировать лучи спектра, которые мы могли бы охватить только двумя нашими чувствами).
Приблизительно такой образ стоит за нашей идеей, что В должен был «понимать» слово «темнее» иначе, чем нормальный человек. С другой стороны, давайте сопоставим с этим образом тот факт, что в нашем случае нет основания для «другого чувства». — И, фактически, употребление слова «должен», когда мы говорим: «В должен был понимать это слово иначе», уже показывает нам, что это предложение (действительно) выражает нашу решимость смотреть на явления, которые мы наблюдаем после, в свете образа [after[41] the picture], очерченного в этом предложении.
«Но, конечно, он употреблял слово „светлее“ в ином смысле, когда говорил, что гласная e светлее, чем гласная y». — Что это значит? Проводите ли вы различие между смыслом, в котором он употреблял слово, и его употреблением этого слова? То есть хотите ли вы сказать, что если некто употребляет слово, как его употребляет В, то наряду с различием в употреблении должно иметь место какое-то другое различие, скажем, в его сознании? Или вы хотите сказать только то, что употребление слова «светлее» было, конечно, иным, когда он применял его по отношению к гласным?
Является ли фактом то, что эти употребления различаются чем-то сверх и помимо того, что вы описываете, когда указываете на отдельные различия?
Если бы кто-то сказал, указывая на два пятна, которые я назвал красными: «Вы, конечно, употребляете слово „красный“ в двух случаях по-разному», то я ответил бы: «Это — светло-красный, а это — тёмно-красный, — но почему я должен был бы говорить о различных употреблениях?».
Конечно, легко указать на различия между той частью игры, в которой мы применяли слова «светлее» и «темнее» к цветным объектам, и той частью, в которой мы применяем эти слова к гласным. В первой части два объекта сравнивали друг с другом, переводя взгляд с одного на другой, рисовали оттенки — более тёмный и более светлый, нежели у заданного образца; во второй части не было зрительного сравнения, рисования и т. д. Но когда на эти различия обращают внимание, мы всё ещё вольны говорить как о двух частях одной и той же игры (как мы только что сделали), так и о двух разных играх.
«Но разве я не осознаю, что отношение между более светлым и более темными кусками материи иное, нежели отношение между гласными e и у, — как, с другой стороны, я осознаю, что отношение между гласными у и e то же самое, что и отношение между гласными e и и?» — При одних обстоятельствах мы в этих случаях будем говорить о различных отношениях, а при других — об одних и тех же отношениях. Можно сказать: «Это зависит от того, как их сравнивают».
Зададим вопрос: «Должны ли мы сказать, что стрелки → и ← указывают одно и то же направление или же разные направления?» — На первый взгляд, естественно было бы сказать: «Конечно, разные направления». Но взгляните на это следующим образом: Если я смотрю в зеркало и вижу отражение своего лица, я могу принять это за критерий того, что я вижу свою собственную голову. Если, с другой стороны, я видел бы в зеркале затылок, я мог бы сказать: «Это не может быть моей собственной головой, которой я смотрю, но является головой, которая смотрит в противоположном направлении». Это могло бы привести меня к тому, чтобы сказать, что стрелка и отражение стрелки в зеркале имеют одно и то же направление, когда они повернуты в направлении друг к другу, и противоположные направления, когда передний конец одной указывает на задний конец другой. Вообразим случай, что человека обучали обычному употреблению словосочетания «тот же самый» в случаях «тот же самый цвет», «тот же самый оттенок», «та же самая длина». Его также обучали использовать словосочетание «указывать на» в таких контекстах, как: «Эта стрелка указывает на дерево». Теперь мы показываем ему две стрелки, направленные друг на друга, и две стрелки, следующие одна за другой, и спрашиваем, какой из этих двух случаев он отнёс бы к следующей фразе: «Две стрелки указывают в одном и том же направлении». Разве трудно вообразить, что если бы определённые применения преобладали в его сознании, он был бы склонен сказать, что стрелки → и ← указывают «в одном и том же направлении»?
Когда мы слышим диатоническую гамму, мы склонны говорить, что после каждых семи нот повторяется та же самая нота, и, будучи спрошены, почему мы снова называем её той же самой нотой, возможно, отвечаем: «Ну, это снова до». Но это не то объяснение, к которому я стремлюсь, ибо я спросил: «Что заставляет называть её снова до?» И ответом на это, по-видимому, было бы: «Ну, разве вы не слышите, что это та же самая нота, только октавой выше?» — Здесь мы также могли бы представить себе, что человека обучили нашему употреблению словосочетания «тот же самый» в применении к цветам, длинам, направлениям и т. д. Теперь предположим, что для него исполнили диатоническую гамму и спросили, слышит ли он снова и снова одну и ту же ноту, повторяющуюся через определённый интервал. Можно легко представить себе несколько ответов, например, он мог бы сказать, что слышал ту же самую ноту поочерёдно после каждых четырёх или трёх нот (т. е. называя тонику, доминанту и октаву одной и той же нотой).
Если мы проделаем этот эксперимент с двумя людьми А и В, и окажется, что А применял выражение «та же самая нота» только к октаве, а В — к доминанте и октаве, то вправе ли мы сказать, что эти двое слышат разные вещи, когда мы играем для них диатоническую гамму? — Если мы скажем «да», то давайте выясним, продолжим ли мы настаивать, что между этими двумя случаями, помимо различия, которое мы наблюдали, должно быть какое-то другое различие или же мы не будем настаивать на этом.
5. Все рассматриваемые здесь вопросы связаны со следующей проблемой. Предположим, вы обучили кого-то записывать ряд чисел согласно такому правилу: «Всегда записывай число на n большее, чем предыдущее». (Это правило сокращается до: «Прибавь n».) Цифрами в этой игре должны быть группы штрихов |, ||, ||| и т. д. То, что я называю обучением этой игре, заключается, конечно, в предоставлении общих объяснений и примеров. Эти примеры берутся из области, скажем, в интервале от 1 до 85. Теперь мы приказываем ученику: «Прибавляй 1». Через некоторое время мы наблюдаем, что, перейдя 100, он сделал то, что мы назвали бы прибавлением 2; перейдя 300, он делает то, что мы назвали бы прибавлением 3. Мы требуем у него объяснений: «Разве я не говорил тебе всегда прибавлять 1? Посмотри, что ты делал до того, как получил 100!». Предположим, ученик сказал, указывая на числа 102, 104 и т. д.: «Но разве я не делал здесь то же самое? Я думал, вы хотели от меня именно этого». — Вы видите, что здесь мы ничего не добились бы, если бы снова сказали: «Но разве ты не видишь..?», вновь указывая ему на правила и примеры, которые мы ему приводили. Мы можем в таком случае сказать, что этот человек естественным образом понимает (интерпретирует) правило (и примеры), которые мы задали, так, как если бы оно говорило: «Прибавляй 1 до 100, затем 2 до 200 и т. д.».
(Это было бы похоже на случай человека, который отреагировал на приказ, отданный ему посредством указывающего жеста, двигаясь не естественным образом в направлении от плеча к кисти, но в противоположном направлении. И понимание здесь означает то же самое, что реагирование.)
«Я полагаю, ваши слова сводятся к утверждению, что для правильного следования правилу „Прибавляй 1“ на каждом шаге требуется новое озарение, интуиция». — Но что значит правильно следовать правилу? Как и когда должно решаться, какой предпринятый шаг является правильным в данный момент? — «Правильный шаг в каждый момент — это шаг, который находится в соответствии с правилом, как оно подразумевается, планируется». — Я полагаю, идея заключается в следующем. Когда вы задавали правило «Прибавляй 1» и подразумевали именно это, вы подразумевали, что он запишет 101 после 100, 199 после 198,1041 после 1040 и т. п. Но каким образом вы осуществили все эти акты подразумевания (я предполагаю, что их бесконечное число), когда задавали ему правило? Или же это представляет правило в ложном свете? И вы сказали бы, что есть только один акт подразумевания, из которого, тем не менее, следуют в свою очередь все другие акты или каждый из них? Но разве суть дела как раз не в том: «Что следует из общего правила?» Вы могли бы сказать: «Конечно же, задавая ему правило, я знал, что подразумевал, чтобы после 100 он переходил к 101». Но здесь вас вводит в заблуждение грамматика слова «знать». Являлось ли знание этого неким ментальным актом, посредством которого вы в тот момент осуществляли переход от 100 к 101, некоторым актом вроде того, чтобы сказать себе: «Я хочу, чтобы он записал 101 после 100»? В этом случае спросите себя, сколько таких актов вы осуществили, когда задавали ему правило. Или под знанием вы подразумеваете некоторого рода предрасположенность [disposition]? Тогда только опыт может научить нас, предрасположенностью к чему она была. «Но, конечно, если меня спросят, какое число нужно написать после 1568, я бы ответил: 1569». Осмелюсь спросить, почему вы в этом уверены? На самом деле ваша идея заключается в том, что каким-то образом в загадочном акте подразумевания правила вы осуществляете переходы без того, чтобы осуществлять их на самом деле. Вы перешли все мосты до того, как туда добрались. Эта странная идея связана с особым употреблением слова «подразумевать». Предположим, наш человек дошёл до числа 100 и после него записал 102. Вы тогда сказали бы: «Я подразумевал, что ты напишешь 101». Итак, прошедшее время слова «подразумевать» предполагает, что, когда было задано правило, был выполнен отдельный акт подразумевания, хотя, фактически, это выражение не ссылается на такой акт. Прошедшее время можно было бы объяснить, сформулировав предложение следующим образом: «Если бы ты спросил меня раньше, что я хочу, чтобы ты сделал на этой стадии, я сказал бы…». Но то, что вы сказали бы это, является гипотезой.
Чтобы прояснить это, обдумаем такой пример. Кто-то говорит: «Наполеон был коронован в 1804 году». Я спрашиваю его: «Ты подразумеваешь человека, который выиграл битву при Аустерлице?». Он говорит: «Да, я подразумеваю его». — Означает ли это, что когда он «подразумевал его», он некоторым образом размышлял о победе Наполеона в битве при Аустерлице?
Выражение «Правило подразумевало, что после 100 следует 101» создаёт впечатление, что это правило, как оно подразумевалось, предвещает все переходы, которые должны быть сделаны в соответствии с ним. Но предположение о предсказании перехода не позволит нам продвинуться вперёд, поскольку оно не наводит мост над пропастью между правилом и реальным переходом. Если одни лишь слова правила не могут предвосхитить будущего перехода, не смогут сделать этого и никакие ментальные акты, сопровождающие эти слова.
Мы вновь и вновь сталкиваемся с этим странным суеверием (как можно было бы его назвать), что ментальный акт способен перейти мост прежде, чем мы его достигнем. Это затруднение возникает всякий раз, когда мы пытаемся размышлять об идеях мышления, желания, ожидания, убеждения, знания, пытаясь решить математическую задачу, доказать теорему и т. д.
Нас заставляет использовать правило так, как мы это делаем в конкретной точке ряда, не акт озарения, интуиция. Было бы меньшей путаницей называть его актом решения, хотя это также вводит в заблуждение, ибо не происходит ничего подобного акту решения, но, возможно, только акт записывания или произнесения. И ошибка, которую мы склонны совершать здесь и в тысяче похожих случаев, обозначена словом «заставлять», как мы употребляем его в предложении: «Не акт озарения заставляет нас использовать правило так, как мы его используем», потому что имеет место идея, что «нечто должно заставлять нас» делать то, что мы делаем. И это вновь приводит к путанице между поводом и причиной. Мы не нуждаемся в причине, чтобы следовать правилу так, как мы ему следуем. Цепь причин имеет конец.
Сравним теперь следующие предложения: «Конечно, если после 100 вы переходите к 102, 104 и т. д., то правило ‘Прибавь Г используется по-другому» и «Конечно, слово „темнее“ используется по-другому, если после применения его для цветных пятен, мы применяем его для гласных». Я сказал бы: «Это зависит от того, что для вас значит „по-другому“».
Но я, конечно, сказал бы, что мне следует назвать применение слов «светлее» и «темнее» для гласных «другим употреблением слов»; и мне также следует продолжить ряд «Прибавь 1» по схеме: 101, 102 и т. д., но не из-за — или необязательно из-за — некоторого другого оправдывающего ментального акта.
6. Есть своего рода общая болезнь мышления, которая всегда ищет (и находит) то, что можно было бы назвать ментальным состоянием, из которого все наши акты вытекают, словно из некоего резервуара. Так, говорят: «Мода меняется, потому что меняется вкус людей». Вкус — это ментальный резервуар. Но если сегодня портной создаёт покрой платья, отличный от того, который он создал год назад, разве то, что называется изменением его вкуса, не может состоять, отчасти или всецело, только в проделанной работе?
И здесь мы говорим: «Но, конечно же, создание нового кроя само по себе не является изменением вкуса, — и произносить слово не значит подразумевать его, — и говорить, что я убеждён, не значит быть убеждённым; должны быть ощущения, ментальные акты, сопровождающие этот крой и эти слова». И причина, которую мы приводим для такого вывода, заключается в том, что человек определённо мог бы создать новый крой без изменения своего вкуса, сказать, что он убеждён в чём-то, не будучи убеждённым в этом, и т. д. И это, очевидно, верно. Но отсюда не следует, что отличие случая изменения вкуса от случая, когда этого не происходит, не состоит при определённых обстоятельствах просто в создании фасона, который не создавался до этого. Отсюда не следует и то, что в случаях, когда создание нового покроя не является критерием изменения вкуса, критерием должно быть какое-то изменение в некой особой области сознания.
То есть мы не употребляем слово «вкус» в качестве имени ощущения. Думать, что мы это делаем, значит представлять применение нашего языка чрезвычайно упрощённо. Именно таким образом, в основном, и возникают философские загадки; и наш случай вполне аналогичен тому, когда мы думаем, что всегда, когда мы высказываем предикативное утверждение, мы утверждаем, что у предмета есть определённая составляющая (как мы на самом деле поступаем в случае: «Пиво — это алкоголь»).
Для рассмотрения нашей проблемы полезно будет принять во внимание параллель между ощущением или ощущениями, характеризующими определённый вкус, изменениями вкуса, подразумеванием того, что кто-то говорит и т. д., и т. п., — и выражениями лица (жестами или тоном), характеризующими те же самые состояния или события. Если кто-то нам возразит, сказав, что ощущение невозможно сравнить с выражением лица, так как первое суть переживание, а последнее — нет, то пусть он рассмотрит мускульные, кинестетические и тактильные переживания, связанные с жестами и выражением лица.
7. Теперь рассмотрим следующую пропозицию: «Убеждённость [believing] в чём-то не может просто заключаться в высказывании, что ты в этом убеждён, вы должны сказать это с особым выражением лица, жестами и тоном». Несомненно, мы рассматриваем определённые выражения лица, жесты и т. д. как нечто, характеризующее выражение убеждённости. Мы говорим об «уверенном тоне». И, тем не менее, ясно, что этот уверенный тон присутствует не во всех случаях, когда мы в самом деле выражаем уверенность. Вы могли бы сказать: «Именно так! Это показывает, что есть что-то ещё, что-то, стоящее за этими жестами и т. д., — то, что является действительной убеждённостью в противоположность простому выражению убеждённости». — Я ответил бы: «Вовсе нет. Множество различных критериев, при определённых обстоятельствах, отличают случаи убежденности в том, что вы говорите, от случаев отсутствия убеждённости в том, что вы говорите». Возможны случаи, когда наличие иного ощущения, нежели ощущения, связанного с жестами, тоном и т. д., приводит к различию между тем, когда вы подразумеваете то, что говорите, и тем, когда вы этого не подразумеваете. Но иногда эти два случая различает не то, что происходит, пока мы говорим, но многообразные действия и переживания различного рода до или после.
Чтобы понять эту семью случаев, снова будет полезно рассмотреть аналогичный случай, связанный с выражениями лица. Есть ряд дружелюбных выражений лица. Предположим, мы спросили: «Какая особенность характеризует дружелюбное выражение лица?». Сначала можно было бы подумать, что есть определённые черты, которые можно назвать дружелюбными, каждая из которых заставляет лицо выглядеть в определённой степени дружелюбно и которые, если присутствуют в большом количестве, создают дружелюбное выражение. Эта идея, по-видимому, порождена нашей обыденной речью, разговорами о «дружелюбных глазах», «дружелюбной ухмылке» и т. д. Но легко видеть, что те же самые глаза, о которых мы говорим, что они заставляют лицо выглядеть дружелюбно, не выглядят дружелюбно или даже выглядят недружелюбно в сочетании с определёнными складками на лбу, морщинами у рта и т. д. Почему тогда мы всегда говорим, что эти глаза выглядят дружелюбно? Разве не ошибочно говорить, что они характеризуют лицо как дружелюбное, ведь если мы говорим, что это так «при определённых обстоятельствах» (эти обстоятельства являются другими чертами лица), то почему мы выделяем одну особенность среди других? Ответ состоит в том, что в обширной семье дружелюбных лиц есть то, что можно было бы назвать главным ответвлением, характеризуемым определённой разновидностью глаз, другое ответвление, характеризуемое определённой разновидностью ухмылки, и т. д.; несмотря на это, в обширной семье лиц, выражающих неприязнь, мы будем встречать те же самые глаза и тогда, когда выражение недружелюбности в этих лицах будет оставаться сильным. Далее, когда мы замечаем дружелюбное выражение лица, фактом является то, что наше внимание, наш пристальный взгляд направляются на отдельные особенности лица, «дружелюбные глаза» или «дружелюбные уголки рта» и т. д., не останавливаясь на других особенностях, которые также ответственны за дружелюбное выражение.
«Но разве нет различия между тем, чтобы сказать нечто, это нечто подразумевая, и сказать нечто, это нечто не подразумевая?» — В таком различии нет нужды, пока это нечто говорится, а если оно и есть, то может принадлежать к любому из всевозможных видов в зависимости от окружающих обстоятельств. Из факта, что существует то, что мы называем дружелюбным и неприязненным выражением глаз, не следует, что должно быть различие между глазами дружелюбного лица и глазами лица, выражающего неприязнь.
Мы склонны говорить: «Об этой черте нельзя сказать, что она заставляет лицо выглядеть дружелюбно, поскольку это может опровергнуть другая черта». И это подобно высказыванию: «Утверждение чего-то с уверенной интонацией не может характеризовать уверенность, поскольку его можно опровергнуть переживанием, сопровождающим акт говорения». Но ни одно из этих предложений не является корректным. Верно, что другие черты этого лица могли бы устранить дружелюбный характер этого взгляда, и, тем не менее, на этом лице именно взгляд является самой видной чертой, выражающей дружелюбие.
Чаще всего нас вводят в заблуждение фразы вроде: «Он это сказал и подразумевал».
Сравним значение предложения «Я буду рад видеть вас» со значением предложения «Поезд отходит в 3.30». Предположим, вы сказали кому-то первое предложение и после этого вас спросили: «Вы это подразумевали?». Тогда вы, вероятно, задумаетесь о чувствах и переживаниях, которые вы испытывали, когда говорили его. И, соответственно, в этом случае вы могли бы сказать: «Разве вы не видели, что я подразумевал это?». Предположим, с другой стороны, что после того как вы дали кому-то информацию: «Поезд отходит в 3.30», вас спросили: «Вы это подразумевали?», вы наверняка ответили бы: «Конечно. Почему я не должен был этого подразумевать?».
Мы будем говорить о чувстве, характеризующем подразумевание того, что мы сказали, в первом случае, но не во втором. Сравним также ложь в обоих этих случаях. В первом случае мы сказали бы, что ложь заключалась в утверждении того, что мы совершили, но совершили не испытывая соответствующих чувств или даже испытывая противоположные чувства. Если бы мы лгали, давая информацию о поезде, мы, по-видимому, испытывали бы переживания, отличные от тех, которые мы испытывали при сообщении достоверной информации, однако различие здесь не состояло бы в отсутствии характерного чувства, но, возможно, только в наличии чувства дискомфорта.
Хоть, когда лжёшь, и возможно отчётливо испытывать переживание того, что можно было бы назвать характеристикой подразумевания того, что говоришь, — и всё же при определённых обстоятельствах, а возможно, и при обычных обстоятельствах, — именно на это переживание ссылаются, говоря: «Я подразумевал то, что сказал», поскольку случаи, в которых что-то может опровергнуть эти переживания, не рассматриваются. Следовательно, во многих случаях мы склонны говорить, что «подразумевать то, что я говорю» означает испытывать такие-то и такие-то переживания в то время, когда я это говорю.
Если под «убеждённостью» мы подразумеваем действие, процесс, происходящий в то время, когда мы говорим, что убеждены, мы можем сказать, что убеждённость — это то же, что выражение [expressing] убеждения или нечто ему тождественное.
8. Интересно рассмотреть возражение на это. Чтó если бы я сказал: «Я убеждён, что будет дождь» (подразумевая то, что говорю), и кто-то захотел бы объяснить французу, не понимающему английский, в чём я убеждён. Тогда, могли бы сказать вы, если всё, что произошло, когда я был убеждён в том, в чем был убеждён, заключалось в том, что я произнёс это предложение, то француз должен узнать, в чём я был убеждён, если вы сообщите ему точно те слова, которые я употребил, или скажете «Il croit[42]: „Будет дождь“». Ясно, что это не сообщит ему, в чём я убеждён, и, следовательно, вы могли бы сказать, что мы потерпели неудачу в том, чтобы передать ему как раз то, что было существенным, мой действительный акт убеждённости. — Но ответ заключается в том, что, даже если мои слова сопровождались всеми видами переживаний и если бы мы могли передать эти переживания французу, он всё равно не узнал бы, в чём я убеждён. Ибо «знание того, в чём я убеждён» не означает просто ощущать то, что я ощущаю, пока это говорю; так же, как знание того, что я намереваюсь предпринять с помощью этого хода в шахматной игре, не означает знания точного состояния моего сознания, пока я делаю этот ход. Хотя в то же самое время в определённых случаях знание этого состояния сознания могло бы снабдить вас весьма точной информацией о моём намерении.
Мы сказали бы, что сообщили французу, в чём я был убеждён, если бы перевели ему мои слова на французский. И могло бы статься, что тем самым мы не сообщили бы ему ничего — даже косвенно — о том, что происходило «во мне», когда я выражал своё убеждение. Скорее, мы указали бы ему предложение, которое в его языке занимает положение, похожее на положение моего предложения в английском языке. — Опять-таки, можно было бы сказать, что, по крайней мере в определённых случаях, мы могли бы сказать ему гораздо более точно, в чём я убеждён, если бы он свободно владел английским языком, потому что тогда он точно знал бы, что происходило внутри меня, когда я говорил.
Мы используем слова «подразумевать», «иметь убеждение», «намереваться» так, что они указывают на определённые акты, состояния сознания, заданные определёнными обстоятельствами; подобно тому, как с помощью выражения «поставить мат кому-нибудь» мы указываем на акт, посредством которого берут короля. Если, с другой стороны, кто-то, скажем, ребёнок, играя с шахматными фигурами, расположит несколько из них на шахматной доске и сделает ходы, посредством которых берут короля, мы не скажем, что ребёнок поставил кому-то мат. — И здесь также можно было бы подумать, что от действительного мата этот случай отличает то, что происходит в сознании ребёнка.
Предположим, я сделал ход в шахматах и кто-то спросил меня: «Ты намеревался поставить ему мат?», и я отвечаю: «Да», и теперь он меня спрашивает: «Откуда ты мог знать, что ты намеревался сделать это, ведь ты знал только то, что происходило внутри тебя, когда делал ход?», и я мог бы ответить: «В этих обстоятельствах это было намерением поставить ему мат».
9. То, что верно для «подразумевать», верно и для «мыслить». — Очень часто мы не в силах мыслить, не высказываясь вполголоса, — и никто из тех, кого попросили описать, что происходит в этом случае, никогда не сказал бы, что что-то — мышление — сопровождало его высказывание, если бы его на это не спровоцировала пара глаголов «говорить/мыслить» и множество наших типичных фраз, в которых они употребляются параллельно. Рассмотрим следующие примеры: «Подумай прежде, чем говорить!», «Он говорит, не думая», «То, что я сказал, не вполне выражает мою мысль», «Он говорил одно, а думал совершенно противоположное», «Я не имел в виду слово, которое произнёс», «Слова во французском языке идут в том же порядке, в котором мы их мыслим».
Если в этом случае что-то можно назвать сопровождающим высказывание, то это скорее относится к модуляции голоса, изменению тембра, постановке ударения и пр., т. е. всему тому, что можно назвать средствами выразительности. Некоторые из этих средств, такие как интонация и ударение, никто по очевидным причинам не назовет сопровождающими речь; а такие средства выразительности, как игра выражением лица или жестикуляция, о которых можно сказать, что они сопровождают речь, никто и не подумает называть мышлением.
10. Возвратимся к нашему примеру употребления слов «светлее» и «темнее» применительно к цветным объектам и гласным. Причина, по которой мы предпочли бы в этом случае говорить о двух разных словоупотреблениях, а не об одном, заключается в следующем: «Мы не считаем, что слова „темнее“ и „светлее“ действительно подходят для описания отношения между гласными, мы только чувствуем сходство между отношением звуков и более тёмными и светлыми цветами». Итак, если вы хотите понять, чтó это за ощущение, попытайтесь вообразить, что без всякого предварительного введения вы спросили бы кого-нибудь: «Произнеси гласные a, e, и, о, у по порядку от светлой к темной». Поступая так, я, конечно, сказал бы это с интонацией, отличной от той, с которой я произнёс бы фразу: «Расположи эти книги по порядку от светлой к темной»; т. е. я сказал бы это нерешительно, с интонацией, похожей на следующую: «Интересно, поймёшь ли ты меня», возможно, лукаво при этом улыбаясь. И это, если уж на то пошло, описывает моё ощущение.
И это приводит меня к следующему пункту. Когда кто-нибудь спрашивает меня: «Какого цвета вон та книга?», и я говорю: «Красная», а затем он спрашивает: «Что заставило тебя назвать этот цвет „красным“?», я в большинстве случаев должен буду ответить: «Ничто меня не заставляет; т. е. нет никакой причины. Просто я посмотрел на неё и сказал: ‘Она красная’». Мне могут возразить: «Конечно, это не всё, что произошло; ибо я мог бы посмотреть на цвет и произнести какое-то слово, но не назвать при этом цвет». Продолжая далее, кто-то мог бы сказать: «Слово „красный“, когда мы произносим его, называя цвет, на который смотрим, приходит нам в голову особым образом». Но в то же время, если спросить: «Можете ли вы описать то, как вы подразумеваете его приход в голову?», он едва ли будет готов дать какое-то описание. Предположим, теперь мы спросили: «Вы, по меньшей мере, помните, что имя цвета приходило вам в голову этим особым образом всякий раз, когда вы называли цвета в предшествующих случаях?» — он должен будет признать, что не помнит, каким особым образом это всегда происходило. Фактически, его легко убедить в том, что называние цвета могло сопровождаться самыми различными переживаниями. Сравним следующие случаи: а) Я кладу железо в огонь, чтобы нагреть его до светло-красного цвета. Я прошу вас наблюдать за железом и хочу, чтобы вы время от времени сообщали мне, какой степени нагрева оно достигло. Вы смотрите и говорите: «Оно начинает становиться светло-красным». b) Мы стоим на уличном перекрестке, и я говорю: «Ждите зелёный свет. Когда он загорится, скажите мне, и я перебегу через улицу». Задайте себе следующий вопрос: Если в одном из таких случаев вы кричите: «Зелёный!», а в другом — «Беги!», приходят ли эти слова нам в голову одним и тем же образом или в двух случаях по-разному? И можно ли что-то сказать об этом в общих чертах? с) Я спрашиваю вас: «Какого цвета лоскут материи, который вы держите в руке?» (и я не могу его видеть). Вы думаете: «Как же его называют? То ли „берлинская лазурь“, то ли „индиго“?».
Весьма примечательно, что, когда в философской беседе мы говорим: «Название цвета приходит нам в голову особым образом», мы не стараемся думать о многих различных случаях и способах, благодаря которым к нам в голову приходит такое название. — И наш главный аргумент на самом деле заключается в том, что называние имени цвета отличается от простого произнесения слова в каком-то случае в момент созерцания цвета. Так, можно было бы сказать: «Предположим, мы считаем какие-то объекты, лежащие на нашем столе: синий, красный, белый и чёрный — и, глядя на каждый по очереди, говорим: „Один, два, три, четыре“. Разве не легко увидеть, что в данном случае, когда мы произносим эти слова, происходит нечто иное, нежели тогда, когда мы сообщаем кому-то цвета объектов? И разве мы не можем с тем же правом, что и ранее, сказать: „Когда мы произносили числительные, не происходило ничего, кроме того, что мы произносили их, глядя на предметы“?». Итак, на это можно дать два ответа. Во-первых, несомненно, что, по крайней мере в большинстве случаев, подсчёт объектов будет сопровождаться переживаниями, отличными от называния цветов. И легко описать, в чём приблизительно будет состоять различие. Применительно к счету мы знаем определённую жестикуляцию, например, отстукивание числа пальцем или кивание головой. С другой стороны, есть переживание, которое можно было бы назвать «концентрацией внимания на цвете», достижением полного от него впечатления. Именно об этом обычно вспоминают, когда говорят: «Легко увидеть, что происходят разные вещи, когда мы считаем объекты и когда мы называем их цвета». Однако вовсе нет никакой необходимости в том, чтобы во время счёта имели место определённые особые переживания, более или менее характерные для него, или особый феномен созерцания цвета каждый раз, когда мы смотрим на объект и называем его цвет. Это правда, что процессы счёта четырёх объектов и называния их цветов, по крайней мере в большинстве случаев, будут различны, взятые как целое, и именно это нас поражает; но это вовсе не означает, что мы знаем, что в этих двух случаях происходит что-то другое каждый раз, когда мы произносим числительное, с одной стороны, и называем цвет, с другой.
Когда мы философствуем о такого рода вещах, мы почти неизменно проделываем что-то вроде следующего. Мы повторяем для себя определённое переживание, скажем, пристально смотрим на определённый объект и попытаемся «прочитать» его, как если бы он был названием своего цвета. И вполне естественно, что, проделывая это снова и снова, мы склоняемся к мысли, что «когда мы произносим слово „синий“, происходит нечто особенное». Ибо мы осознаем, что снова и снова проходим через один и тот же процесс. Но спросим себя: через этот ли процесс мы обычно проходим, когда в различных случаях — не философствуя — называем цвет объекта?
11. С затрагиваемой нами проблемой мы также сталкиваемся, размышляя о воле, преднамеренном и невольном действии. Рассмотрим, например, следующие случаи. Я обдумываю, поднимать ли мне тяжёлый груз, решаю сделать это, затем прилагаю силу и поднимаю его. Вы могли бы сказать, что перед нами полноценный случай волеизъявления и намеренного действия. Сравним с этим такой случай. Я протягиваю человеку зажжённую спичку после того, как прикурил от неё свою сигарету и увидел, что он хочет прикурить от неё свою; или опять же движения руки при написании письма, или движения губ, гортани и т. д. во время речи. — Итак, когда я назвал первый пример полноценным случаем волеизъявления, я намеренно использовал это вводящее в заблуждение выражение. Ибо это выражение означает, что, размышляя о волеизъявлении, мы склонны рассматривать примеры подобного рода в качестве случаев, наиболее отчётливо выявляющих типичные характеристики волеизъявления. Мы берем идеи и язык о волеизъявлении из примеров такого рода и думаем, что они применимы — хотя и не столь очевидным образом — ко всем случаям, которые можно, по сути, назвать случаями волеизъявления. Именно этот случай мы встречаем снова и снова. Формы выражения нашего обычного языка подходят наиболее явно для некоторых очень своеобразных употреблений слов «волеизъявление», «мышление», «подразумевание», «чтение» и т. д., и т. п. Так, мы могли бы назвать случай, когда человек «сначала думает, а потом говорит», полноценным случаем мышления, а случай, при котором человек по слогам произносит прочитываемые слова, — полноценным случаем чтения. Мы говорим об «акте волеизъявления» как действии, отличном от пассивного действия, и в нашем первом примере содержится много разных действий, ясно отличающих этот случай от случая, когда происходит только то, что рука и груз поднимаются: там есть подготовка, связанная с обдумыванием и решением, есть усилие подъёма. Но где мы найдем аналоги этим процессам в наших других примерах и в бесчисленных примерах, которые мы могли бы привести?
С другой стороны, говорилось, что, когда человек, скажем, встаёт с кровати утром, всё, что происходит, заключается в следующем. Он размышляет: «Не пора ли вставать?», пытается привести в порядок свои мысли и затем внезапно обнаруживает, что встаёт. Такое описание подчёркивает отсутствие акта волеизъявления. Итак, прежде всего: где мы находим прототип такой вещи, т. е. как мы пришли к идее такого акта? Я думаю, что прототип акта волеизъявления — это переживание мускульного усилия. Однако в вышеприведённом описании есть нечто такое, что заставляет нас возразить; мы говорим: «Мы не просто „обнаруживаем“, наблюдаем за тем, как встаём, — как если бы мы наблюдали за кем-то ещё! Это не похоже, скажем, на слежение за определёнными рефлекторными действиями. Если я, например, прислонюсь боком к стене так, что моя рука, находящаяся со стороны стены, повиснет вытянутой, а тыльная сторона ладони будет касаться стены, и если теперь я, напрягая руку, надавлю тыльной стороной ладони на стену, осуществляя всё это благодаря дельтовидной мышце, и если затем я быстро отступлю от стены, позволив своей руке повиснуть свободно, то она без какого-либо усилия с моей стороны сама по себе начнёт подниматься; это тот род случая, о котором уместно сказать: „Я обнаруживаю, что моя рука поднимается“».
Итак, здесь вновь становится ясно, что есть много заметных различий между данным экспериментом, когда я наблюдал, как моя рука поднимается, или за тем, как кто-то встаёт с постели, и случаем, когда я обнаруживаю, что сам встаю с постели. Например, в последнем случае совершенно отсутствует то, что можно назвать удивлением, также я не смотрю на свои собственные движения, как мог бы смотреть на кого-то ворочающегося в постели, например, спрашивая себя: «Он собирается вставать?». Есть разница между волевым актом подъема с постели и невольным поднятием руки. Но нет одного общего различия между так называемыми волевыми и невольными актами, а именно, наличия или отсутствия одного элемента — «акта волеизъявления».
Описание вставания, когда человек говорит: «Я просто обнаружил, что встаю», предполагает, что он хочет сказать, что он наблюдает за тем, как встаёт. И мы можем определённо сказать, что установка на наблюдение в этом случае отсутствует. Но опять-таки установка на наблюдение не является одним непрерывным состоянием сознания или чего-то другого, в котором мы находимся всё время, пока, как мы сказали бы, наблюдаем. Скорее, есть семья групп действий и переживаний, которые мы называем установками на наблюдение. Грубо говоря, можно было бы сказать, что есть наблюдательная любознательность, наблюдательное ожидание, наблюдательное удивление, и есть, мы сказали бы, выражения лица и жесты любознательности, ожидания и удивления; и если вы согласны, что существует более одного выражения лица, характерного для каждого из этих случаев, и что могут существовать случаи без каких-либо характерных выражений лица, то вы признаёте, что каждому из этих трёх слов соответствует семья явлений.
12. Если бы я сказал: «Когда я сообщил ему, что поезд отходит в 3.30, будучи убеждённым, что это так, не произошло ничего, кроме того, что я лишь произнёс предложение», и если бы кто-то возразил мне, сказав: «Конечно, произошедшее нельзя свести лишь к этому, поскольку ты мог бы „просто произнести предложение“, не будучи в нём убеждённым», — то мой ответ был бы: «Я не хотел сказать, что нет различия между тем, когда вы говорите, будучи убеждённым в том, что говорите, и когда вы говорите, не будучи убеждённым в этом; просто пара убеждённый / не убеждённый указывает на многообразные различия в разных случаях (и различия образуют семью), а не на одно различие, состоящие в наличии или отсутствии определённого ментального состояния».
13. Рассмотрим различные характеристики волевых [voluntary] и невольных [involuntary] актов. В случае поднятия тяжёлого груза наиболее характерными для его волевого поднятия, очевидно, являются разнообразные переживания усилия. С другой стороны, сравним с этим случай волевого письма, когда в большинстве обычных случаев не будет никакого усилия; и даже если мы чувствуем, что от письма устают руки и напрягаются их мышцы, это не является переживанием «тянуть» и «толкать», которые мы назвали бы типичными волевыми действиями. Сравним далее поднятие вашей руки, когда вы с её помощью поднимаете тяжёлый груз, с поднятием вашей руки, когда вы, например, указываете на какой-то объект над вами. Это, конечно, будет рассматриваться как волевой акт, хотя, наиболее вероятно, элемент усилия будет совершенно отсутствовать; фактически, поднятие руки, чтобы указать на объект, очень похоже на поднятие глаз, чтобы посмотреть на него, и в последнем случае мы едва ли предполагаем усилие. — Теперь опишем акт невольного поднятия руки. Вспомним наш эксперимент, который характеризовался полным отсутствием мускульного напряжения, а также позицией наблюдателя к поднятию руки. Мы только что рассмотрели случай, когда мускульное напряжение отсутствовало, но бывают случаи, когда действие следует назвать волевым, хотя по отношению к нему принималась позиция наблюдателя. Однако в одном большом классе случаев мы сталкиваемся с примечательной невозможностью занять позицию наблюдателя по отношению к определённому действию, которое характеризует его как волевое действие. Попытайтесь, например, понаблюдать за тем, как поднимается ваша рука, когда вы её поднимаете усилием воли. Конечно, вы видите, как она поднимается, поскольку вы её поднимаете; но вы почему-то не можете проследить за ней глазами тем же самым образом. Это можно прояснить, если вы сравните два различных случая прослеживания линий глазами на листке бумаги; а) некая хаотичная линия типа следующей:
b) написанное предложение. Вы найдёте, что в а) глаз, так сказать, то скользит, то застывает, тогда как при чтении предложения он плавно движется.
Теперь рассмотрим случай, когда мы действительно занимаем позицию наблюдателя в отношении волевого действия. Я имею в виду весьма поучительный случай попытки нарисовать квадрат с диагоналями, когда мы ставим зеркало на бумагу для рисования и передвигаем руку, руководствуясь тем, что мы видим в зеркале. И на это кто-то может сказать, что наши реальные действия, действия, к которым воля применяется непосредственно, — это не движения нашей руки, а нечто, стоящее за ними, например, действия наших мускулов. Мы сравнили бы этот случай со следующим. Вообразим, что перед нами находится ряд рычагов, посредством которых с помощью скрытого механизма мы можем направлять карандаш, рисующий на листе бумаги. Возможно, мы сомневались бы, какие рычаги нужно поворачивать, чтобы получить желаемое движение карандаша; и мы могли бы сказать, что преднамеренно повернули этот конкретный рычаг, хотя не преднамеренно вследствие этих действий получили ошибочный результат. Но это сравнение, хотя оно и легко приходит в голову, вводит в заблуждение. Ибо в случае рычагов, которые мы видели перед собой, также имел место процесс принятия решения: прежде чем повернуть тот или иной рычаг, мы должны были решить, какой именно следует повернуть. Но разве наша воля, так сказать, играет на клавиатуре мускулов, выбирая, какой использовать следующим? Для некоторых действий, которые мы называем преднамеренными, характерно то, что мы в некотором смысле «знаем, что мы собираемся сделать» до того, как мы это делаем. В этом смысле мы говорим, что знаем, на какой объект мы собираемся указать, и то, что мы можем назвать «актом знания», возможно, заключается в созерцании объекта до указания на него или описания его местоположения посредством слов или изображений. Теперь мы могли бы описать рисование квадрата с помощью зеркала, сказав, что наши действия были преднамеренными постольку, поскольку затрагивался их двигательный аспект, но не поскольку затрагивался их визуальный аспект. Это можно было бы продемонстрировать, например, посредством нашей способности повторить движение руки, которое привело к ошибочному результату, если бы нас попросили это сделать. Но, очевидно, было бы абсурдным сказать, что этот двигательный характер волевого движения заключался в нашем предварительном знании того, что мы собирались делать, как если бы перед нашим мысленным взором был образ кинестетического ощущения, которое мы решили вызвать. Вспомним эксперимент, в котором субъект переплетал свои пальцы; если теперь вместо того, чтобы на расстоянии указать на палец, которым вы приказали ему пошевелить, вы дотрагиваетесь до этого пальца, он всегда будет шевелить именно им без малейших затруднений. Возникает желание сказать: «Конечно, я могу пошевелить им сейчас, потому что сейчас я знаю, каким пальцем меня попросили пошевелить». Это создаёт впечатление, будто я сейчас показал вам, какую мышцу надо сократить, чтобы вызвать желаемый результат. А слово «конечно» создаёт впечатление, будто, прикоснувшись к вашему пальцу, я сообщил вам некоторую информацию, говорящую вам, что делать. (Подобно тому, как обычно, когда вы просите человека пошевелить таким-то пальцем, он может выполнить ваш приказ, потому что знает, как вызвать это движение.)
(Здесь интересно поразмышлять над случаем втягивания жидкости через трубку. Если вас спросят, какой частью вашего тела вы втягиваете жидкость, вы, возможно, скажете, что ртом, хотя работа была проделана теми мускулами, которыми вы делаете вдох.)
Спросим теперь себя, что нам следует назвать «невольным [involuntary] говорением». Во-первых, обратите внимание, что, когда вы обычно говорите по своей воле [voluntarily], вы вряд ли сможете описать произошедшее, сказав, что посредством акта волеизъявления вы двигаете ртом, языком, гортанью для того, чтобы произнести определенные звуки. Что бы ни происходило в вашем рте, гортани и т. д. и какие бы ощущения в этих органах вы ни испытывали бы во время речи, они почти всегда кажутся вторичными явлениями, сопровождающими произнесение звуков, и волеизъявление, как можно было бы сказать, осуществляется на самих звуках без какого-либо опосредующего механизма. Это показывает, насколько расплывчата наша идея этой действующей силы волеизъявления.
Вернёмся к невольному говорению. Представьте себе, что вам нужно описать некий случай. Что бы вы сделали? Случается, что люди говорят во сне. И это говорение характеризуется тем, что происходит неосознанно и мы не помним о нем впоследствии. Однако очевидно, что вы едва ли назвали бы это характерной особенностью невольного действия.
Более удачным примером непроизвольного говорения были бы, как мне кажется, непроизвольные восклицания, вроде: «Ох!», «Помогите!» и т. п., сходные с криками от боли. (Это, между прочим, может побудить нас поразмыслить о «словах как выражениях ощущений».) Кто-то может сказать: «Конечно, это хорошие примеры невольной речи, ведь в этих случаях нет не только акта волеизъявления, посредством которого мы говорим, но также мы произносим эти слова против своей воли». Я бы ответил на это: «Конечно, я бы назвал эти действия невольным говорением; и я согласен, что в данных случаях отсутствует акт волеизъявления, подготавливающий или сопровождающий эти слова, — если посредством „акта волеизъявления“ вы указываете на определённые акты намерения, планирования [premeditation] или усилия. Но ведь и во многих случаях речи по своей воле [voluntary] я не чувствую усилия, большая часть того, что я говорю по своей воле, не спланирована, и мне не известно ни о каких актах намерения, предшествующих ему».
Крик от боли вопреки нашей воле можно было бы сравнить с поднятием руки против воли, когда нас заставляют поднять её, несмотря на наше сопротивление. Но важно заметить, что воля — или, мы сказали бы, «желание» — не закричать преодолевается по-другому, нежели когда наше сопротивление преодолевается силой нашего противника. Когда мы кричим против воли, мы, так сказать, захвачены врасплох; как если бы кто-то заставил нас поднять руки, неожиданно ткнув пистолетом в грудь и скомандовав «Руки вверх!».
14. Рассмотрим теперь следующий пример, который окажет большую помощь во всех этих рассуждениях. Чтобы увидеть, что происходит, когда кто-то понимает слово, сыграем в следующую игру. У вас есть список слов. Частично эти слова являются словами моего родного языка, частично — словами иностранных языков, более или менее мне знакомых, частично — словами языков, мне совершенно неизвестных (или, что приводит к тому же результату, бессмысленными случайными комбинациями букв). Далее, некоторые слова моего родного языка — это обычные слова из повседневной речи; некоторые из них, такие как «дом», «стол», «человек», относятся к числу тех слов, которые можно было бы назвать примитивными и которые ребёнок осваивает самыми первыми, причём некоторые из них вообще являются словами младенческой речи, например «мама», «папа». Далее, среди них есть более или менее обычные технические термины, такие как «карбюратор», «генератор», «свеча» и т. д., и т. п. Все эти слова прочитываются мне, и после каждого слова я должен сказать «Да» или «Нет» в зависимости от того, понимаю ли я слово или нет. Затем я пытаюсь вспомнить, что происходило в моем сознании, когда я понимал понятные мне слова и когда не понимал остальные. И здесь вновь будет полезно рассмотреть интонацию и выражение лица, которые в конкретных случаях сопровождали произнесение «Да» и «Нет» наряду с так называемыми ментальными событиями. Мы можем с удивлением обнаружить, что хотя этот эксперимент продемонстрирует нам множество различных характерных переживаний, он не продемонстрирует нам какое-то одно переживание, которое мы смогли бы назвать переживанием понимания. Это переживания такого рода: я слышу слово «дерево» и говорю «Да» с интонацией и ощущением «Конечно». Или я слышу слово «подтверждение» и говорю себе: «Дай-ка, подумаю», смутно вспоминаю подходящий случай и говорю «Да». Я слышу слово «прибамбас [gadget]», вспоминаю человека, который всегда использовал это слово, и говорю: «Да». Я слышу слово «мама», оно кажется мне забавным и детским — «Да». Иностранное слово я очень часто буду переводить в уме на английский перед тем, как ответить. Я слышу слово «спинтарископ» и говорю себе: «Должно быть, это какой-то научный прибор», возможно, пытаюсь вывести его значение из производных слов, терплю неудачу и говорю «Нет». В другом случае я могу сказать себе: «Звучит как китайский» — «Нет». И т. д. С другой стороны, есть большой класс случаев, когда я не отдаю себе отчёта в том, что происходит, кроме того, что слышу слово и произношу ответ. Также есть случаи, когда я вспоминаю переживания (ощущения, мысли), которые, как я сказал бы, вообще не имеют никакого отношения к слову. Таким образом, среди переживаний, которые я могу описать, есть класс, который я бы назвал типичными переживаниями понимания и некоторыми типичными переживаниями непонимания. Но в противоположность им есть большой класс случаев, когда мне придется сказать: «Я не знаю вообще никакого особого переживания, я просто говорил „Да“ или „Нет“».
Итак, если кто-нибудь скажет: «Но ведь нечто всё же произошло, когда ты понял слово „дерево“, ежели ты, конечно, не был совершенно рассеян, когда говорил „Да“», то я, возможно, поразмыслю об этом и скажу себе: «Не было ли у меня какого-то знакомого чувства, когда я понимал слово „дерево“?». Но тогда чувствую ли я это всякий раз, когда слышу это слово или употребляю его сам? Помню ли, что когда-то чувствовал это? Помню ли множество из, скажем, пяти ощущений, одно из которых я испытывал всякий раз, когда можно было сказать, что я понял слово? Далее, не является ли это «знакомое чувство», на которое я указываю, переживанием, скорее характерным для конкретной ситуации, в которой я сейчас нахожусь, т. е. для ситуации философствования о «понимании»?
Конечно, в нашем эксперименте мы можем назвать произнесение «Да» или «Нет» характерными переживаниями понимания или непонимания, но что если мы просто слышим слово в составе предложения, когда даже не встаёт вопрос о такой реакции на него? — Здесь мы сталкиваемся с любопытным затруднением: с одной стороны, кажется, что у нас нет причин говорить, что во всех случаях, в которых мы понимаем слово, присутствует одно конкретное переживание или даже одно из множества переживаний. С другой стороны, мы чувствуем, что явно ошибочно говорить, что всё происходящее в таком случае сводится лишь к тому, что я слышу или произношу слово. Ибо это, по-видимому, означает, что часть времени мы действуем как простые автоматы. Ответ же заключается в том, что в некотором смысле мы действуем как автоматы, а в некотором смысле — нет.
Если некто говорил со мной с добродушным выражением лица, нужно ли, чтобы в любой короткий интервал его лицо выглядело так, что, увидев его при любых других обстоятельствах, я должен был бы назвать это выражение бесспорно добрым? И если нет, означает ли это, что его «добродушное выражение» прерывалась периодами отсутствия выразительности? Мы, конечно, не сказали бы этого при обстоятельствах, о которых я веду речь, и мы не чувствуем, что взгляд в тот момент прерывает выразительность, хотя, взятый сам по себе, он мог бы быть назван нами невыразительным.
Точно так же фразой «понимание слова» мы не обязательно указываем на то, что происходит, пока мы её произносим или слышим, но на всё окружение события произнесения. Это же относится к нашим словам о том, что кто-то говорит как автомат или попугай. Говорящий с пониманием, конечно, отличается от говорящего как автомат, однако это не означает, что речь в первом случае все время сопровождается чем-то таким, что отсутствует во втором случае. Точно так же, когда мы говорим, что два человека вращаются в различных кругах, это не означает, что они не могут гулять по улице в одинаковом окружении.
Таким же образом, волевое действие (или невольное действие) во многих случаях характеризуются как таковое скорее многообразием сопровождающих его обстоятельств, а не переживанием, которое мы назвали бы характерным для волевого действия. И в этом смысле верным описанием того, что происходило, когда я вставал с постели — при условии, что это вставание, конечно, не называется невольным, — будет то, что я обнаружил, что встаю. Или, скорее, это — возможный случай; ибо, конечно, каждый день происходит нечто иное.
15. Затруднения, над которыми мы размышляли начиная с § 7, были тесно связаны с употреблением слова «особый [particular]». Мы склонны сказать, что при взгляде на знакомые объекты у нас возникает особое чувство, что слово «красный» пришло нам в голову особым образом, когда мы опознали этот цвет как красный, что у нас возникло особое переживание, когда мы действовали по своей воле.
Итак, употребление слова «особый» имеет свойство создавать своего рода заблуждение, и это заблуждение, грубо говоря, создаётся двойным употреблением данного слова. С одной стороны, мы можем сказать, что оно предваряет определение, описание, сравнение; с другой стороны, оно употребляется в конструкциях, которые можно описать как эмфатические. Первое употребление я буду называть переходным, второе — непереходным. Так, с одной стороны, я говорю: «Это лицо производит на меня особое впечатление, которое я не могу описать». Данное предложение может означать нечто вроде: «Это лицо производит на меня сильное впечатление». Эти примеры, возможно, были бы более разительными [striking], если мы заменили слово «особый [particular]» словом «своеобразный [peculiar]». Если я говорю: «У этого мыла своеобразный запах, похожий на запах мыла, которым мы пользовались в детстве», слово «своеобразный» может использоваться просто как введение к следующему за ним сравнению, как если бы я сказал: «Я скажу вам, на что похож запах этого мыла:…». Если, с другой стороны, я говорю: «У этого мыла своеобразный запах!» или «У него крайне своеобразный запах», то «своеобразный» означает здесь выражение типа «неординарный», «необычный», «поразительный».
Мы могли бы спросить: «Сказали ли вы, что у него был своеобразный запах в противоположность отсутствию своеобразного запаха, или что у него был этот запах в противоположность какому-то другому запаху, или вы хотели сказать и то, и другое?». Итак, на что это было похоже, когда, философствуя, я сказал, что слово «красный» пришло мне в голову особым образом, когда я описал нечто такое, что видел как красное? Было ли это так, будто я пытался описать то, как слово «красный» приходит мне в голову, скажем, говоря: «Оно всегда приходит быстрее, чем слово „два“, когда я считаю цветные объекты» или «Оно всегда приходит при ударе» и т. д.? Или было так, что я хотел сказать, что «красное» приходит поразительным образом? Не совсем первое и не совсем второе. Но, определённо, скорее второе, чем первое. Чтобы увидеть это яснее, рассмотрим другой пример. На протяжении дня вы, конечно, постоянно изменяете положение тела; задержитесь в любой позе (пока пишете, читаете, говорите и т. д., и т. п.) и скажите себе так же, как вы говорите: «„Красное“ приходит особым образом…», — «Я сейчас нахожусь в особой позе». Вы обнаружите, что можете сказать это вполне естественно. Но разве вы не всегда находитесь в особой позе? И, конечно, вы не имели в виду, что именно тогда вы находились в особенно поразительной позе. Что же произошло? Вы сконцентрировались на своих ощущениях, поскольку наблюдали именно за ними. И это как раз то, что вы делали, когда сказали, что «красное» приходит в голову особым образом.
«Но разве я не имел в виду, что „красное“ приходит в голову не так, как „два“?» — Вы, может быть, это и имели в виду, но фраза «Они приходят в голову по-разному» сама по себе ответственна за путаницу. Предположим, я сказал: «Смит и Джонс всегда входят в мою комнату по-разному»; я могу продолжить и сказать: «Смит входит быстро, а Джонс — медленно», — я определяю то, как они входят. С другой стороны, я могу сказать: «Я не знаю, в чём заключается различие», тем самым давая понять, что пытаюсь определить различие и, возможно, позже я скажу: «Теперь я знаю, в чём оно заключается; оно заключается в…». — С другой стороны, я мог бы сообщить вам, что они приходят мне в голову по-разному, и вы не знали бы, что делать с этим высказыванием и, возможно, ответили бы: «Конечно, они приходят в голову по-разному; они просто разные». Мы могли бы описать наше затруднение, говоря, что нам кажется, будто мы можем дать переживанию имя, не распространяясь о его употреблении и, фактически, без какого-либо намерения его вообще употреблять. Таким образом, когда я говорю, что «красное» приходит в голову особым путем…, я чувствую, что могу теперь дать этому особому пути имя, если он ещё не получил его, скажем, А. Но в то же самое время я совершенно не готов сказать, что именно таким путем «красное» всегда приходит в подобных случаях, ни даже сказать, что есть, например, четыре пути — А, В, С, D, — одним из которых оно всегда приходит. Вы могли бы сказать, что два пути, которыми приходят в голову слова «красное» и «два», могут быть определены, например, с помощью обмена значениями этих двух слов: используя слово «красное» как второе количественное числительное, а слово «два» — как название цвета. Так что если меня спрашивают, сколько у меня глаз, я должен ответить: «Красное», а на вопрос: «Какого цвета кровь?», я должен ответить: «Два». Но теперь возникает вопрос, можете ли вы определить «то, как приходят в голову эти слова», независимо от того, как они употребляются, — я имею в виду только что описанный случай. Неужели вы хотели этим сказать, что, в зависимости от случая, слово, когда оно употребляется этим образом, всегда приходит в голову путем А, но в следующий раз может прийти путем, которым обычно приходит «два»? Так вы увидите, что не имели в виду ничего подобного.
Особенное в пути, которым приходит слово «красное», заключается в том, что оно приходит в голову, пока вы о нём философствуете, точно так же, как особенное в положении вашего тела, пока вы на нём концентрировались, заключалось в концентрации. Нам представляется, что мы почти готовы описать этот путь, тогда как на самом деле мы не противопоставляем его какому-то другому пути. Мы выделяем, а не сравниваем, но выражаемся так, как если бы это выделение на самом деле было сравнением объекта с самим собой; это направленное на себя [reflexive] сравнение. Проясню свою мысль следующим образом: предположим, я говорю о том, как А входит в комнату. Я могу сказать: «Я заметил то, как А входит в комнату», и если меня спросят: «Как же?», я могу ответить: «Он всегда заглядывает в комнату, прежде чем войти». Здесь я указываю на определённую особенность, и я мог бы сказать, что В поступает так же или что А больше так не делает. Рассмотрим, с другой стороны, высказывание: «Я сейчас наблюдаю за тем, как А сидит и курит [the way А sits and smokes]». Я хочу нарисовать его так. В этом случае мне не нужно будет описывать конкретные особенности его позы, и моё высказывание может просто означать: «Я наблюдал за А, пока он сидел и курил». В этом случае нельзя отделить от него «то, как» [the way] он сидит и курит. Теперь, если бы я хотел нарисовать его сидящим здесь и стал бы рассматривать, изучать его позу, то в это время я бы был склонен сказать: «Он сидит по-особенному». Но ответ на вопрос: «Как именно?» был бы: «Ну, вот так», и, возможно, кто-то бы сделал набросок его позы. С другой стороны, мою фразу «Он по-особенному…» можно было бы просто перевести во фразу «Я рассматриваю его позу». Приводя её в этот вид, мы, так сказать, выпрямляем пропозицию; тогда как в первой форме ее значение, по-видимому, описывает петлю, т. е. в ней слово «особый», по-видимому, употребляется переходным способом и, точнее, рефлексивно [reflexive], т. е. мы рассматриваем его употребление как особый случай переходного употребления. На вопрос: «Как именно он сидит — что ты подразумевал?» — мы склонны ответить: «Так», вместо того, чтобы сказать: «Я не указывал на какую-то особую черту; я только рассматривал его положение». Мое выражение создало впечатление, будто я указывал на что-то, относящееся к тому, как он сидит, или в нашем предыдущем случае — относящееся к тому, как к нам в голову приходит слово «красный», тогда как то, что заставляет меня употреблять здесь слово «особый», заключается в том, что через моё отношение к явлению я выделяю его: концентрируюсь на нём, прослеживаю его путь в своём сознании или рисую его и т. д.
Такова типичная ситуация, в которой оказываешься, когда размышляешь о философских проблемах. Множество затруднений возникает на этом пути: например, что у слова есть как переходное, так и непереходное употребление и что мы рассматриваем последнее как частный случай первого, объясняя слово, употребляющееся непереходным способом, посредством возвратной конструкции.
Так, мы говорим: «Под „килограммом“ я подразумеваю вес одного литра воды», «Под „А“ я подразумеваю „В“, где В есть объяснение А». Но бывает также и непереходное употребление: «Я сказал, что мне это надоело, и именно это подразумевал». Здесь вновь подразумевание того, что вы сказали, можно было бы назвать «прослеживанием его пути в сознании», «подчёркиванием». Но употребление слова «подразумевание» в этом предложении создаёт видимость, что имеет смысл задавать вопрос: «Что ты подразумевал?» и ответ: «Под тем, что я сказал, я подразумевал то, что сказал», причём случай «Я подразумеваю то, что говорю» трактуется как особый случай выражения «Говоря „А“, я подразумеваю „В“». Фактически, выражение «Я подразумеваю то, что подразумеваю» используют для того, чтобы сказать: «У меня нет этому объяснения». Вопрос «Что данное предложение р подразумевает?», если это не вопрос о переводе p в другие символы, имеет не больше смысла, чем вопрос «Какое предложение образовано этой последовательностью слов?».
Предположим, что на вопрос «Что такое килограмм?» я ответил: «Это вес литра воды», и кто-то спросит: «А сколько весит литр воды?».
Мы часто используем возвратную форму речи для того, чтобы что-то подчеркнуть. И во всех таких случаях наши возвратные выражения могут быть «выпрямлены». Так, мы употребляем выражения: «Если я не могу, то не могу [If I can't, I can't]», «Я такой, какой я есть [I am as I am]», «Это есть только то, что есть [It is just what it is]», а также «Так-то вот [That's that]». Эта последняя фраза значит то же самое, что и фраза «Это уже решено [That’s settled]», но почему мы выражаем «Это уже решено» посредством «Так-то вот»? Ответ можно дать, выложив перед собой ряд интерпретаций, которые представляют собой переход между двумя выражениями. Так, вместо «Это уже решено [That's settled]» я скажу: «Дело закрыто [The matter is closed]». И это выражение, так сказать, подшивает дело и кладёт его на полку. Это подшивание сродни обведению, как иногда обводят результат вычисления, тем самым отмечая его завершение. Но это также и отличает его; это способ выделить его. И выражение «Так-то вот [That's that]» именно выделяет «так» [that].
Ещё одно выражение, родственное тем, которые мы только что рассмотрели, следующее: «Вот пожалуйста; возьми это или оставь!». И это вновь родственно своего рода вводным утверждениям, которые мы иногда делаем, прежде чем отметить определённые альтернативы, например, когда мы говорим: «Дождь либо идёт, либо не идёт; если дождь идёт, мы останемся в моей комнате, если нет…». Первая часть этого предложения не содержит никакой информации (точно так же «Возьми это или оставь» не является приказом). Вместо «Дождь либо идёт, либо не идёт» мы могли бы сказать: «Рассмотрим два случая…». Наше выражение подчёркивает эти случаи, представляет их нашему вниманию.
С этим тесно связано то, что, описывая случай, вроде (30)[43], мы склонны использовать фразу: «Есть, конечно, число, далее которого никто из этого племени никогда не считал; пусть этим числом будет…». Если эту фразу выпрямить, она будет звучать так: «Пусть числом, далее которого никто из этого племени не считал, будет…». Мы предпочитаем первое выражение выпрямленному, потому что оно более отчётливо направляет наше внимание на верхний предел множества чисел, используемых нашим племенем в своей практике.
16. Рассмотрим теперь весьма поучительный случай такого употребления слова «особый», в котором оно не указывает на сравнение и всё же, по-видимому, весьма отчётливо это делает, — случай, когда мы рассматриваем выражение лица, примитивно нарисованного вот так:
Позвольте этому лицу произвести на вас впечатление. Тогда вы, возможно, скажете: «Конечно, я вижу не просто закорючки. Я вижу лицо с особым выражением». Но вы не подразумеваете, что у него замечательное выражение, и также о нём не скажешь как о введении к описанию выражения, хотя мы можем дать такое описание и сказать, например: «Оно похоже на лицо самодовольного бизнесмена, глупого и высокомерного, который, несмотря на свою толщину, считает себя сердцеедом». Но это означало бы только приблизительное описание этого выражения. Иногда говорят: «Словами нельзя точно описать его». Однако возникает ощущение, что то, что называют выражением лица, — это нечто такое, что может быть обособлено от нарисованного лица. Как если бы мы могли сказать: «Это лицо имеет особое выражение, а именно следующее» (указываем на нечто). Но если я в этом месте должен был бы указать на что-то, это был бы рисунок, на который я смотрю. (Мы, так сказать, находимся под воздействием оптической иллюзии, которая из-за некоторого типа отражения заставляет нас думать, что существует два объекта там, где есть только один. Этой иллюзии содействует наше употребление глагола «иметь»: «Лицо имеет особое выражение [The face has a particular expression]». Всё выглядит иначе, когда вместо этого мы говорим: «Это — своеобразное лицо [This is a peculiar face]». Мы подразумеваем следующее: то, чем является вещь, тесно связано с ней, а то, что она имеет, может быть отделено от неё.)
«Это лицо имеет особое выражение», — Я склонен сказать так, когда пытаюсь получить о нём полное впечатление.
То, что происходит в этом случае, является актом, так сказать, его усвоения, схватывания, и фраза «схватывание выражения этого лица» предполагает, что мы схватываем что-то такое, что находится в лице и отличается от него. Кажется, что мы ищем что-то, но мы делаем это не в смысле поиска образца выражения вне лица, которое мы видим, но в смысле бесцельного зондирования вещи. Когда я позволяю произвести на меня впечатление, это выглядит так, как если бы существовал двойник его выражения, как если бы этот двойник был прототипом этого выражения и как если бы изучение выражения лица было поиском прототипа, которому оно соответствует, — как если бы в нашем сознании существовал шаблон, и рисунок, который мы видим, попадал бы под этот шаблон, соответствуя ему. Но, скорее, это мы позволяем рисунку погрузиться в наше сознание и создать там шаблон.
Когда мы говорим: «Это лицо, а не просто закорючки», мы, конечно, отличаем такой рисунок:
от такого:
И это правильно. Спросите любого: «Что это такое?» (указывая на первый рисунок), и он, конечно, ответит: «Это — лицо». Он сможет сразу же ответить на вопросы вроде: «Оно мужское или женское?», «Улыбающееся или грустное?» и т. д. Если, с другой стороны, вы спросите его: «Что это такое?» (указывая на второй рисунок), наиболее вероятно, что он скажет — «Это — вообще ничего» или «Это — просто каракули». Теперь подумайте про поиск человека в паззлах; часто случается, что то, что на первый взгляд представляется «простыми закорючками», позднее оказывается лицом. В таких случаях мы говорим: «Теперь я вижу, что это — лицо». Вам должно быть вполне ясно, что это не означает, что мы опознаем его как лицо друга или находимся под воздействием иллюзии восприятия его как «настоящего» лица: скорее это «восприятие его как лица» нужно сравнить с восприятием следующего рисунка:
либо как куба, либо как плоской фигуры, состоящей из квадрата и двух ромбов; или с восприятием следующего рисунка:
«как квадрата с диагоналями» или «как свастики», т. е. как крайний случай следующего рисунка:
или опять-таки с восприятием следующих четырех точек «····» как двух пар точек, находящихся друг подле друга, или как двух пересекающихся пар, или как одну пару внутри другой и т. д.
Случай «восприятия
как свастики» представляет особый интерес, поскольку это выражение в силу оптической иллюзии может означать, что квадрат не вполне замкнут, что есть щели, которые отличают свастику от нашего рисунка. С другой стороны, совершенно ясно, что под «восприятием нашего рисунка как свастики» мы подразумевали не это. Мы воспринимали его таким образом, что подразумевалось описание: «Я воспринимаю его как свастику». Можно предположить, что мы должны были бы сказать: «Я воспринимаю его как замкнутую свастику», — но тогда в чём различие между замкнутой свастикой и квадратом с диагоналями? Я думаю, что в этом случае легко осознать, «что происходит, когда мы воспринимаем нашу фигуру как свастику». Я полагаю, что мы смотрим на фигуру особым образом, а именно, начиная с центра, продолжаем по радиусу и вдоль примыкающей к нему стороны, затем снова начинаем с центра, рассматривая следующий радиус и следующую сторону, например по часовой стрелке, и т. д. Но это объяснение феномена восприятия фигуры как свастики не представляет для нас фундаментального интереса. Нам это интересно только постольку, поскольку помогает видеть, что выражение «восприятие фигуры как свастики» не означает восприятия того или этого, восприятия одной вещи как какой-то другой, когда, по сути, в процесс восприятия входят два визуальных объекта. — И поэтому также взгляд на первую фигуру не означает «принятие её за куб». (Ибо мы могли никогда не видеть куб и всё-таки испытать переживание «восприятия её как куба».)
И таким образом «восприятие закорючек как лица» не включает в себя сравнения группы закорючек с реальным человеческим лицом; и, с другой стороны, эта форма выражения наиболее решительно подразумевает, что мы имеем дело со сравнением.
Рассмотрим также следующий пример. Взгляните на букву W то как на заглавную «двойную V», то как на перевернутую заглавную M. Пронаблюдайте, в чём состоит первое и второе действие.
Мы различаем восприятие рисунка как лица и восприятие его как чего-то другого или как «простых закорючек». И мы также различаем поверхностное разглядывание рисунка (восприятие его как лица) и внимательное рассматривание с целью получения полного впечатления. Но было бы странным сказать: «Это лицо производит на меня особое впечатление» (за исключением тех случаев, когда вы можете сказать, что одному и тому же лицу удалось произвести на вас разные впечатления). И когда лицо производит на меня впечатление, при созерцании его «особого впечатления» сравниваются друг с другом не два лица из многообразия лиц; выделяется только одно лицо. Постигая его выражение, я не нахожу прототип этого выражения в своём сознании; скорее я, так сказать, делаю штамп с этого впечатления.
И это так же описывает происходящее, когда в (15)[44] мы говорим себе: «Слово „красный“ приходит в голову особым образом…». Ответ мог бы быть: «Я вижу, что вы повторяете для себя некоторое переживание и вглядываетесь в него снова и снова».
17. Мы можем пролить свет на все эти рассуждения, сравнив, что происходит, когда мы вспоминаем лицо входящего в нашу комнату, когда мы узнаём его как господина такого-то, — когда мы сравниваем то, что происходит в подобных случаях на самом деле, с представлением, которое у нас иногда создаётся о событиях. Ибо здесь нами часто завладевает примитивная концепция, а именно, что мы сравниваем человека, которого видим, с образом, запечатлённым в нашей памяти, и обнаруживаем, что они совпадают. То есть мы представляем «узнавание кого-то» процессом идентификации посредством образа (как преступника идентифицируют по фотографии). Нет нужды говорить, что в большинстве случаев узнавания кого-то не происходит никакого сравнения между ним и мысленным образом. Мы, конечно, склоняемся дать такое описание, поскольку в нашей памяти есть образы. Очень часто, например, такой образ появляется в нашем сознании непосредственно после узнавания кого-то. Я вижу, как он стоял, когда мы виделись последний раз десять лет назад.
Опишу здесь снова нечто, что происходит в вашем сознании, когда вы узнаёте человека, входящего в вашу комнату, с помощью того, что вы можете сказать, когда его узнаёте. Это может быть просто: «Привет!». Так, мы можем сказать, что один из видов события узнавания того, что мы видим, заключается в том, чтобы сказать «Привет!» в словесной форме, жестикуляцией, выражением лица и т. д. — И также мы можем считать, что, когда мы смотрим на наш рисунок и воспринимаем его как лицо, мы сравниваем его с неким образцом, и оно согласуется с ним или соответствует шаблону, заготовленному для него в нашем сознании. Но такой шаблон или сравнение не входит в наше переживание, есть только это очертание, и нет ничего такого, чтобы с ним сравнить и сказать: «Ну конечно». Подобно тому, когда, собирая паззл, я вижу небольшое пустое место и кусочек, очевидно, соответствующий ему, — и помещаю его на это место, говоря себе «Ну конечно!». Но здесь мы говорим: «Ну конечно», потому что кусочек соответствует шаблону, тогда как в нашем случае восприятия рисунка как лица у нас нет причины для такой же установки.
Та же самая странная иллюзия, во власти которой мы находимся, когда, как нам кажется, ищем нечто такое, что выражает лицо, тогда как на самом деле отдаёмся власти черт, которые находятся перед нами, — та же самая иллюзия владеет нами ещё сильнее, если, повторяя про себя мелодию и позволяя ей произвести на нас полное впечатление, мы говорим: «Эта мелодия нечто говорит», как если бы я должен был обнаружить, что она говорит. И однако я знаю, что она не говорит ничего такого, что я мог бы выразить в словах или образах. И если, осознавая это, я примиряюсь с высказыванием: «Она просто выражает музыкальную мысль», последнее означало бы не более чем: «Она выражает саму себя». — «Но, разумеется, когда вы её исполняете, вы не делаете это как попало, вы играете особым образом, делая крещендо здесь и диминуендо там, цезуру в этом месте и т. д.» — Совершенно верно, это всё, что я могу сказать о ней, или, возможно, всё, что я могу сказать о ней. Ибо в определённых случаях я могу обосновать, объяснить особое выражение, с которым я её исполняю, с помощью сравнения, так, когда я говорю: «В этом месте темы, есть, так сказать, двоеточие» или «Это, так сказать, ответ на то, что было ранее» и т. д. (Это, между прочим, показывает, на что похоже «обоснование» и «объяснение» в эстетике.) Это правда, я могу услышать исполняемую мелодию и сказать: «Не так она должна исполняться, надо вот так»; и насвистываю её в другом темпе. Тогда кто-то может спросить: «Что значит знать темп, в котором должен исполняться музыкальный фрагмент?». Идея напрашивается сама: что где-то в нашем сознании должен быть образец, и мы приспосабливаем темп, чтобы соответствовать этому образцу. Но в большинстве случаев, если меня спросят: «Как, по-вашему, следует исполнять эту мелодию?», в качестве ответа я просто просвистел бы её особым образом, и в моём сознании не присутствовало бы ничего, кроме мелодии, которую я на самом деле просвистел (а вовсе не образ этого).
Это не означает, что внезапное понимание музыкальной темы не может состоять в поиске формы словесного выражения, которое я воспринимаю как словесный контрапункт темы. Аналогичным образом, я мог бы сказать: «Теперь я понимаю выражение этого лица», и, когда пришло понимание, случилось то, что я нашёл слово, которое, по-видимому, его резюмирует.
Рассмотрим также следующее выражение: «Скажи себе, что это вальс, и ты исполнишь его правильно».
То, что мы называем «пониманием предложения», имеет во многих случаях гораздо большее сходство с пониманием музыкальной темы, чем можно было бы подумать. Но я не имею в виду, что понимание музыкальной темы больше похоже на образ нашего понимания предложения, которое мы стремимся создать; скорее я сказал бы, что этот образ ошибочен и что понимание предложения гораздо более похоже на то, что происходит на самом деле, когда мы понимаем мелодию, чем кажется на первый взгляд. Ибо мы говорим, что понимание предложения указывает на реальность вне его. Однако кто-то может сказать: «Понимание предложения подразумевает схватывание его содержания; а содержание предложения находится в нём самом».
18. Мы можем теперь вернуться к идеям «узнавания» и «знакомости» и, фактически, к тому примеру узнавания и знакомости, с которого мы начинали наши рассуждения об использовании этих терминов и многих других, с ними связанных. Я имею в виду пример чтения, скажем, предложения, написанного на хорошо знакомом языке. Я читаю такое предложение, чтобы понять, на что похоже переживание чтения, что «происходит на самом деле», когда кто-то читает, и я получаю особое переживание, которое я принимаю за переживание чтения. И, как кажется, оно заключается не просто в восприятии и произнесении слов, но, кроме того, и в некоем переживании, я бы сказал, внутреннего свойства. (Я нахожусь с выражением «Я прочитал», так сказать, на дружеской ноге.)
Я склонен сказать, что при чтении произносимые слова приходят особым путем; а сами написанные слова, которые я читаю, не кажутся мне какими-то каракулями. В то же время я не в состоянии указать на этот «особый путь» или ухватить его.
Феномен восприятия и произнесения слов кажется окутанным особой атмосферой. Но я не осознаю её как атмосферу, которая всегда характеризует ситуацию чтения. Скорее, я замечаю её, когда читаю строчку, пытаясь увидеть, на что похоже чтение.
Заметив эту атмосферу, я оказываюсь в ситуации человека, который работает в своей комнате — читает, пишет, говорит и т. д. — и который вдруг концентрирует своё внимание на некотором еле уловимом однообразном шуме, вроде того, который можно слышать почти всегда, особенно в городе (трудноразличимый шум, состоящий из разнообразных звуков: шума улицы, звуков ветра, дождя, мастерских и т. д.). Мы могли бы представить себе, что этот человек решит, что особый шум был общим элементом всех переживаний, которые он испытывал, находясь в комнате. В таком случае мы обратили бы его внимание на тот факт, что, во-первых, бóльшую часть времени он не замечал никакого шума извне и, во-вторых, что шум, который он мог бы слышать, не всегда был одним и тем же (иногда дул ветер, иногда нет, и т. д.).
Итак, мы использовали вводящее в заблуждение выражение, когда говорили, что помимо переживаний видения и говорения чтение вызывает и другое переживание и т. д. А именно, мы говорили, что к определённым переживаниям добавляется другое переживание. Возьмём переживание восприятия грустного лица, например, на рисунке, — мы можем сказать, что воспринимать рисунок как грустное лицо не означает «просто» воспринимать его как некоторую совокупность закорючек (вспомните об изображении в мозаике). Но слово «просто» здесь, по-видимому, намекает на то, что в восприятии рисунка как лица к переживанию восприятия его в качестве простых закорючек добавляется какое-то переживание; как если бы я должен был сказать, что восприятие рисунка как лица состоит из двух переживаний, из двух элементов.
Теперь вы должны заметить различие между разными случаями, в которых мы говорим, что переживание состоит из нескольких элементов или что оно является составным переживанием. Мы могли бы сказать врачу: «Я испытываю не одну боль, а две: зубную и головную». И это можно выразить так: «Моё переживание боли является не простым, а составным, я испытываю зубную и головную боль». Сравним с этим случаем случай, когда я говорю: «Я испытываю и боль в желудке, и общее ощущение болезненного состояния». Здесь я не разделяю переживания на составные части, указывая на два местонахождения боли. Или рассмотрим следующее высказывание: «Когда я пью сладкий чай, моё вкусовое переживание состоит из вкуса сахара и вкуса чая». Или опять-таки: «Если я слышу аккорд в до мажор, моё переживание складывается из того, что я слышу до, ми и соль». И, с другой стороны: «Я слышу игру на фортепиано и какой-то шум с улицы». Наиболее поучителен следующий пример: в песне слова пропеваются на определённых нотах. В каком смысле переживание от гласной а, пропетой на ноте до, является составным? Спросите себя в каждом из этих случаев: на что похоже выделение конституент из составного переживания?
Итак, хотя утверждение, что восприятие рисунка как лица — это не просто восприятие закорючек, по-видимому, указывает на своего рода дополнительные переживания, нам, определённо, не следует говорить, что, воспринимая рисунок как лицо, мы помимо некоторого другого переживания испытываем также переживание восприятия его в качестве простых закорючек. И это становится ещё более ясным, если представить себе, что кто-то говорит, будто восприятие рисунка
как куба состоит в восприятии его как плоской фигуры плюс переживание глубины.
Итак, когда я почувствовал, что, хотя при чтении определённое постоянное переживание продолжалось и продолжалось, я не мог, в некотором смысле, ухватить его, моё затруднение возникло из ошибочного сравнения этого случая со случаем, когда об одной части моего переживания можно было бы сказать, что она сопровождает другую. Так, иногда у нас возникает искушение спросить: «Если я чувствую, что этот постоянный гул продолжается, пока я читаю, то где он?». Я хочу сделать указывающий жест, а указывать не на что. И слово «ухватить» выражает ту же самую вводящую в заблуждение аналогию.
Вместо того чтобы задать вопрос: «Где постоянное переживание, которое, по-видимому, сопровождает всё моё чтение?», нам следует спросить: «Что есть в высказывании „Особая атмосфера окутывает прочитываемые мной слова“, которому я противопоставляю этот случай?».
Я попытаюсь прояснить это с помощью аналогичного случая. Трёхмерность этого изображения
нередко приводит нас в замешательство, выражающееся в вопросе: «В чем состоит восприятие его трёхмерным?». Этот вопрос на самом деле сводится к следующему: ‘Что добавляется к простому восприятию рисунка, когда мы воспринимаем его трёхмерным?’ И всё-таки какой ответ мы можем ожидать на этот вопрос? Загадочность создаёт форма этого вопроса. Как говорит Герц: «Aber offenbar irrt die Frage in Bezug auf die Antwort, welche sie erwartet» (S. 9, Einleitung, Die Prinzipien der Mechanik)[45]. Сам вопрос ставит перед сознанием глухую стену, тем самым предупреждая его от поисков выхода. Чтобы показать человеку выход, вы должны прежде всего освободить его от вводящего в заблуждение вопроса.
Взглянем на написанное слово, скажем, «читать». «Это не просто каракули, это „читать“», я бы сказал: «Оно имеет определённый облик». Но что я на самом деле говорю о нём? Что представляет собой это высказывание, если его выпрямить? Соблазнительно дать такое объяснение: «Слово подпадает под шаблон в моём сознании, давно приготовленный для него». Но поскольку я не воспринимаю слово и шаблон по отдельности, то метафора о соответствии слова шаблону не может подразумевать переживание сравнения пустого и заполненного контуров до их совмещения, но скорее переживание видения заполненного контура, выделенного особым фоном:
1) было бы изображением пустого и заполненного контура до их совмещения. Здесь мы видим два круга и можем их сравнить, п) — это изображение заполненного в пустом. Здесь только один круг, и то, что мы называем шаблоном, только подчёркивает его, или, как мы иногда говорили, выделяет его.
Я склонен сказать: «Это не просто закорючки, это особое лицо». Но я не могу сказать: «Я воспринимаю это как это лицо», а: «Я воспринимаю это как какое-то лицо». Но я чувствую, что мне хочется сказать: «Я не воспринимаю это как какое-то лицо, я воспринимаю это как это лицо». Однако во второй половине этого предложения слово «лицо» избыточно, и предложение должно звучать: «Я не воспринимаю это как лицо, я воспринимаю его как это».
Предположим, что я сказал: «Я воспринимаю эти закорючки как это», и, произнося «эти закорючки», я смотрю на это как на простые закорючки, а произнося «как это», я вижу лицо, — всё это свелось бы к чему-то вроде следующего высказывания: «То, что один раз представляется мне этим, в другой раз представляется мне тем», и здесь «это» и «то» сопровождались бы различными способами восприятия. Но мы должны спросить себя, в какой игре должно использоваться это предложение вкупе с сопровождающими его процессами? Например, кому я это говорю? Предположим, ответ будет: «Я говорю это себе». Но этого недостаточно. Здесь мы стоим перед серьёзной опасностью, заключающейся в том, что мы знаем, что делать с предложением, если оно выглядит более или менее похожим на обычные предложения нашего языка. Но здесь, чтобы не обмануться, мы должны спросить себя: Что собой представляет употребление, скажем, слов «это» и «то»? Или, скорее, в чём заключаются их различные употребления? То, что мы называем их значением, не является чем-то таким, что они содержат в себе или что к ним привязано, безотносительно к их употреблению. Так, одно из употреблений слова «это» сопровождается жестом, указывающим на что-либо. Мы говорим: «Я вижу квадрат с диагоналями, как этот», указывая на свастику. Указывая на квадрат с диагоналями, я мог бы сказать: «То, что в один момент представляется мне этим
, в другой раз представляется мне тем
».
И это, определённо, не то употребление, о котором шла речь в вышеприведённом случае. Можно подумать, что всё различие между этими двумя случаями состоит в том, что в первом случае изображения являются мысленными, а во втором — настоящими рисунками. Здесь мы должны спросить себя, в каком смысле мы можем назвать мысленные образы изображениями, ибо в одних случаях они сравнимы с рисунками, а в других — нет. Например, одно из существенных свойств «материального» изображения состоит в том, что оно остаётся одним и тем же не только потому, что кажется нам одним и тем же, что мы помним, что раньше оно выглядело так же, как и сейчас. Фактически, при определённых обстоятельствах мы скажем, что изображение не изменилось, хотя кажется, что оно изменилось; и мы говорим, что оно не изменилась, потому что оно определённым образом хранилось и было ограждено от определённого влияния. Следовательно, выражение «Изображение не изменилось» используется по-другому, нежели когда мы говорим о материальном изображении, с одной стороны, и о мысленном изображении, с другой. Точно так же у высказывания «Этот стук раздается через равные интервалы» одна грамматика, если это стук маятника, и критерием его регулярности является результат измерений, которые мы выполнили на нашем аппарате, и другая грамматика, если бы мы воображали этот стук. Я мог бы, например, задать вопрос. Когда я говорил себе: «То, что один раз представляется мне этим, в другой раз…», осознавал ли я два аспекта — это и то — как один и тот же аспект, который я получил в предыдущих случаях? Или же они были для меня новыми, и я пытался запомнить их для будущих случаев? Или же я имел в виду только следующее: «Я могу изменить аспект этой фигуры»?
19. Опасность иллюзии, в которую мы впадаем, станет наиболее явной, если мы предложим дать аспектам «это» и «то» имена, например А и В. Ведь мы решительно намерены представлять себе, что акт именования заключается в соотнесении своеобразным и даже таинственным образом звука (или другого знака) с чем-либо. То, как мы используем это своеобразное соотношение, тогда представляется вторичной проблемой. (Можно было бы даже вообразить, что именование осуществлялось посредством особого сакраментального акта и что он создал между именем и вещью некие магические отношения.)
Но давайте взглянем на конкретный пример. Рассмотрим следующую языковую игру: А посылает В в различные дома в их городе, чтобы принести разного рода вещи от различных людей. А дает В разные списки. Вверху каждого списка он ставит закорючку, и В натренирован идти к тому дому, на двери которого он находит такую же закорючку, — это название дома. Затем в первой колонке каждого списка он находит одну или больше закорючек, которые обучен прочитывать вслух. Войдя в дом, он выкрикивает эти слова, и каждый обитатель дома натренирован подбегать к нему, когда выкрикивается определённый звук, — эти звуки являются именами людей. Затем он обращается к каждому из них по очереди и каждому показывает две последовательных закорючки, которые стоят в списке напротив его имени. Первую из этих двух закорючек люди из этого города натренированы соотносить с особым видом объектов, скажем, с яблоками. Вторая же — это одна из последовательности закорючек, её каждый человек носит с собой записанной на полоске бумаги. Человек, к которому обращаются таким образом, приносит, скажем, пять яблок. Первая закорючка была родовым именем требуемого объекта, вторая — именем их числа.
Что же представляет собой отношение между именем и именованным объектом, скажем, домом и его именем? Я полагаю, что мы могли бы дать один из двух ответов. Один ответ заключается в том, что это отношение состоит в определённых закорючках, нарисованных на двери дома. Второй ответ, я полагаю, состоит в том, что отношение, которое мы описываем, устанавливается не просто нанесением этих закорючек на дверь, но особой ролью, которую они играют в практике нашего языка, когда мы намечаем его. Опять-таки, отношение имени человека к нему самому заключается здесь в том, что человек натренирован подбегать к тому, кто выкрикивает его имя; или, опять-таки, мы могли бы сказать, что оно заключается в этом и в использовании имени в этой языковой игре в целом.
Вглядитесь в эту языковую игру и посмотрите, сможете ли вы найти таинственное отношение объекта и его имени. Мы можем сказать, что отношение имени и объекта заключается в закорючке, написанной на объекте (или какое-то другое такое же весьма тривиальное отношение), и это всё, что есть. Но это не удовлетворяет нас, ибо мы чувствуем, что закорючка, написанная на объекте, сама по себе для нас не важна и нисколько нас не интересует. И это правда; вся важность заключается в особом употреблении закорючки, написанной на объекте, и мы, в некотором смысле, упрощаем дело, говоря, что имя имеет своеобразное отношение к своему объекту, отношение иное чем то, которое выражается, скажем, в написании на объекте или произнесении человеком, указывающим на объект пальцем. Примитивная философия сводит всякое использование имени к идее отношения, которое, таким образом, становится таинственным отношением. (Сравните идеи ментальной деятельности, желания, убеждения, мышления, и т. д., в которых по той же причине есть нечто таинственное и необъяснимое.)
Итак, мы могли бы использовать выражение: «Отношение имени и объекта заключается не просто в тривиальной „чисто внешней“ связи такого рода», подразумевая, что то, что мы называем отношением имени и объекта, характеризуется всеобъемлющем использованием имени; но тогда ясно, что нет одного отношения имени к объекту, — но их столько же, сколько употреблений звуков или закорючек, которые мы называем именами.
Следовательно, мы можем сказать, что если именование чего-либо должно быть чем-то бóльшим, нежели простым произнесением звука при указанием на нечто, то у нас также должно быть, в той или иной форме, знание того, как звук или метка должны употребляться в конкретном случае.
Итак, когда мы предложили дать аспекты рисованию имен, мы создали видимость того, что, воспринимая рисунок в двух случаях по-разному и каждый раз что-то высказывая, мы произвели нечто большее, нежели это неинтересное действие; лишь теперь мы видим, что именно это употребление «имени», и фактически — деталь этого употребления, придаёт своеобразное значение именованию.
Следовательно, нижеследующие вопросы не являются незначительным, но касаются самого существа дела: «Напоминают ли мне „A“ и „В“ об этих аспектах?», «Могу ли я выполнить приказ вроде: „Воспринимай этот рисунок в аспекте "A"“?», «Существуют ли в каком-то смысле изображения этих аспектов, соотнесённые с именами „A“ и „B“ (как
и
)?», «Используются ли „А“ и „В“ в общении с другими людьми, и какая именно игра разыгрывается с ними?».
Когда я говорю: «Я вижу не просто чёрточки (просто закорючку), но лицо (или слово) с этим особым обликом», я не хочу сообщить о какой-то общей характеристике увиденного, я хочу сообщить, что вижу тот особый облик, который я вижу. И очевидно, что здесь моё выражение движется по кругу. Но это так, потому что на самом деле тот конкретный облик, который я вижу, должен был входить в мою пропозицию. Когда я обнаружил, что «во время чтения этого предложения всё время продолжается особое переживание», я на самом деле должен был прочитать довольно длинный фрагмент, чтобы получить особое впечатление, которое заставляет меня сказать это.
Я мог бы тогда сказать: «Я обнаруживаю, что то же самое переживание продолжается всё время», но я хотел сказать: «Я замечаю не только то, что продолжается одно и то же переживание, я замечаю особое переживание». Глядя на однообразно окрашенную стену, я мог бы сказать: «Я не просто вижу, что она сплошь одного и того же цвета, но я вижу особый цвет». Но, говоря это, я неправильно понимаю функцию предложения. Кажется, что вы хотите определить цвет, который видите, но ничего не говоря о нём и не сравнивая его с образцом — а лишь указывая на него; используя его одновременно и как образец, и как то, с чем сравнивается образец.
Рассмотрим следующий пример. Вы прóсите меня написать несколько строк; и пока я это делаю, вы спрашиваете: «Ты чувствуешь что-то в своей руке, пока пишешь?». Я говорю: «Да, я испытываю особое ощущение». Разве я не могу, пока пишу, сказать себе: «Я испытываю это ощущение»? Конечно, я могу это сказать, и пока говорю «это ощущение», я концентрируюсь на нём. Но что я делаю с этим предложением? Какая мне от него польза? Кажется, что я указываю самому себе на то, что чувствую, — как если бы мой акт концентрации был «внутренним» актом указания, актом, который никто кроме меня не может осознать, это, однако, неважно. Но я не указываю на ощущение посредством слежения за ним. Скорее, следить за ощущением значит создать или модифицировать его. (С другой стороны, наблюдение за стулом не означает создать или модифицировать стул.)
Наше предложение «Я испытываю это ощущение, пока пишу» подобно предложению «Я вижу это». Я не имею в виду тот случай, когда оно используется для того, чтобы сообщить, что я гляжу на указываемый мною объект, или когда оно используется, как выше, чтобы передать кому-то, что я воспринимаю определённый рисунок способом А, а не способом В. Я имею в виду предложение «Я вижу это», как оно иногда используется, когда мы размышляем над определёнными философскими проблемами. Мы тогда, так сказать, концентрируемся на определённом визуальном впечатлении, внимательно разглядывая какой-нибудь объект, и чувствуем, что вполне естественно сказать себе «Я вижу это», хотя и мы не знаем, для чего ещё это предложение могло бы использоваться.
20. «Разумеется, имеет смысл сообщить о том, что я вижу, и насколько лучше я смогу это сделать, позволив увиденному говорить за себя!».
Но слова «Я вижу» в нашем предложении являются избыточными. Я не хочу сказать себе, ни то, что тот, кто это видит, я, ни то, что я вижу это. Или, сформулируем по-другому, невозможно, чтобы я не видел этого. Это сводится к тому же, как и высказывание, что я не могу указать себе визуальной рукой то, что я вижу; ведь эта рука не указывает на то, что я вижу, но сама является частью видимого.
Это как если бы предложение выделяло особый цвет, который я видел; как если бы оно представляло его мне.
Выглядит так, как если бы цвет, который я вижу, являлся своим собственным описанием.
Ибо указание пальцем было безрезультатным. (А смотреть не значит указывать, смотреть для меня не значит указывать направление, что означало бы противопоставлять одно направление другим.)
То, что я вижу или чувствую, входит в моё предложение, как входит образец; однако этот образец никак не используется; слова моего предложения, как кажется, не важны, они служат только для того, чтобы представить мне образец.
На самом деле я говорю не о том, что вижу, но по отношению к нему.
Фактически я прохожу через акты слежения, которые могли бы сопровождать использование образца. И именно это создаёт видимость, что я использую образец. Эта ошибка родственна другой — убеждению, что остенсивное определение говорит что-то об объекте, на который оно направляет наше внимание.
Когда я сказал: «Я неправильно понимаю функцию предложения», это было потому, что с его помощью я, как мне казалось, указывал себе, какой цвет я вижу, хотя я просто наблюдал цветовой образец. Мне казалось, что образец был описанием своего собственного цвета.
21. Предположим, я сказал кому-то: «Понаблюдай за особым освещением этой комнаты». При определённых обстоятельствах смысл этого приказа будет вполне ясным, например, если бы стены комнаты были красными от заходящего солнца. Но предположим, что в любое другое время, когда в освещении нет ничего поразительного, я бы сказал: «Понаблюдай за особым освещением этой комнаты». Разве в ней не особое освещение? Итак, в чём же сложность наблюдать за ним? Но человек, которому я предложил понаблюдать за освещением, когда в нём не было ничего поразительного, вероятно, оглядел бы комнату и сказал: «Ну и что с ним?». Тогда я мог бы продолжить и сказать: «Она освещена точно так же, как вчера в это время» или «Освещение такое же мягкое, какое ты видишь на изображении этой комнаты».
В первом случае, когда комната была освещена поразительным красным светом, вы могли бы указать на особенность, которую подразумевали, хотя и не говорили этого ясно. Для того чтобы сделать это, вы могли бы, например, использовать образец особого цвета. В этом случае мы сказали бы, что особенность добавилась к обычному виду комнаты.
Во втором случае, когда комната освещена как обычно и в её внешнем виде нет ничего поразительного, вы бы не знали точно, что делать, если бы вас попросили наблюдать за освещением этой комнаты. Всё, что вы могли бы сделать, — это осмотреться в ожидании, что вам сообщат что-то ещё, что сделало бы первый приказ полностью осмысленным.
Но разве комната не была в обоих случаях освещена особым образом? Этот вопрос, как он поставлен, бессмыслен, таковым является и ответ: «Она была…». Приказ «Понаблюдай за особым освещением этой комнаты» не влечёт никаких высказываний относительно внешнего вида этой комнаты. Кажется, что он говорит: «В этой комнате особое освещение, которое незачем именовать; наблюдайте за ним!». Освещение, на которое указывают, как кажется, задаётся образцом, и вы должны использовать этот образец так же, как вы поступили бы, копируя точный оттенок образца цвета на палитре. Тогда как приказ подобен следующему: «Ухвати этот образец!».
Вообразите себя говорящим: «Здесь особое освещение, которое я должен наблюдать». Вы могли бы в этом случае вообразить себя тщетно озирающимся, т. е. не видящим освещения.
Вам могли бы задать образец, например кусок цветной материи, и попросить: «Наблюдайте за цветом этого лоскута». — И мы можем провести различие между наблюдением, слежением за формой образца и слежением за его цветом. Но слежение за цветом не может быть описано как созерцание того, что связано с образцом, скорее, это созерцание образца особым образом.
Когда мы исполняем приказ: «Наблюдайте цвет…», мы открываем глаза на цвет [what we do is to open our eyes to colour]. «Наблюдайте цвет…» не означает «Видеть цвет, который вы видите». Приказ «Смотрите на то-то» относится к разновидности вопроса «Поверни голову в этом направлении»; то, что вы увидите, следуя приказу, не входит в сам приказ. Отслеживая, смотря, вы создаёте впечатление; но вы не можете посмотреть на впечатление.
Предположим, кто-то ответил на ваш приказ: «Хорошо, сейчас я наблюдаю за особым освещением в этой комнате», — и это звучало бы, как если бы он мог указать нам, какое это было освещение. Иными словами, приказ может выглядеть так, будто вам сказали что-то сделать с этим особым освещением, противопоставленным другому освещению («Нарисуйте это, а не то освещение»). Хотя вы выполняете приказ, рассматривая освещение, а не глубину, формы и т. д.
(Сравните: «Ухватите цвет этого образца» и «Ухватите этот карандаш», т. е. здесь это означает: возьмите его.)
Вернусь к нашему предложению «У этого лица особое выражение». В этом случае я также не сравнивал и не противопоставлял чему-либо своё впечатление, я не использовал образец. Это предложение было выражением[46] состояния внимания.
Объяснить нужно следующее: почему мы говорим о нашем впечатлении? Вы читаете, концентрируете своё внимание и говорите: «Несомненно, происходит что-то своеобразное». Вы склонны продолжить: «В этом есть какая-то однородность»; но вы чувствуете, что это лишь неадекватное описание и что переживание может представлять только само себя. Сказать «Несомненно, происходит что-то своеобразное» — всё равно что сказать «У меня было переживание». Но вы хотите сделать не общее высказывание, независимое от особого переживания, которое у вас было, но скорее высказывание, в которое входит само это переживание.
Вы находитесь под некоторым впечатлением. Это заставляет вас сказать: «Я нахожусь под особым впечатлением», и кажется, что это предложение сообщает, по крайней мере вам самому, под каким впечатлением вы находитесь. Как если бы вы ссылались на готовый образ в своем сознании и сказали бы: «Вот на что похоже мое впечатление». Однако вы указали лишь на свое впечатление. В нашем случае (с. 228) высказывание «Я заметил особый цвет этой стены» похоже на рисунок, например, чёрного прямоугольника, окружающего небольшое пятно стены и тем самым обозначающего это пятно как образец для дальнейшего использования.
Когда вы читали, пристально следя за тем, что происходит при чтении, вы, по-видимому, наблюдали чтение как будто через увеличительное стекло и видели процесс чтения. (Но этот случай более похож на случай наблюдения чего-то через цветное стекло.) Вы думаете, что заметили процесс чтения, особый способ, при котором знаки переводятся в произносимые слова.
22. Я прочитал строчку с особым вниманием; я нахожусь под впечатлением от чтения, и это заставляет меня сказать, что я наблюдал нечто, помимо простого видения записанных знаков и произнесения слов. Я также выразил это, сказав, что заметил особую атмосферу, окружающую акты видения и произнесения. Каким образом метафора, вроде той, что воплощена в последнем предложении, может прийти мне в голову, можно ясно увидеть из следующего примера. Если вы слышали предложения, произнесённые монотонным голосом, вы могли бы сказать, что все слова были окутаны особой атмосферой. Но разве сказать, что произнесение предложения монотонным голосом добавляет что-то к простому его произнесению, не было бы использованием особого способа репрезентации? Разве мы не можем воспринимать монотонное произнесение как результат удаления из предложения его интонации? Различные обстоятельства заставили бы нас принять различные способы репрезентации. Если, например, определённые слова нужно было бы прочитать монотонно, и это обозначалось бы нотным станом и долгой выдержанной нотой, помещённой под написанными словами, то это обозначение вполне определенно бы указывало на то, что к простому произнесению предложения было что-то добавлено.
Я нахожусь под впечатлением от чтения предложения и говорю, что оно мне что-то показало, что я что-то в нём заметил. Это заставило меня подумать о следующем примере. Я и мой друг однажды смотрели на клумбы с анютиными глазками. Каждая клумба представляла свой сорт. Каждая клумба по очереди произвела на нас впечатление. Говоря о них, мой друг сказал: «Какое разнообразие цветовых образцов, и каждый что-то говорит». И это было как раз то, что я сам хотел сказать.
Сравните данное высказывание со следующим: «Каждый из этих людей что-то говорит».
Если бы нас спросили, что говорил цветовой образец анютиных глазок, правильный ответ, по-видимому, заключался бы в том, что он говорит сам за себя. Следовательно, мы могли бы использовать непереходную форму выражения, скажем: «Каждый из этих цветовых образцов оказывает впечатление».
Иногда говорят, что музыка сообщает нам ощущение веселья, меланхолии, триумфа и т. д., и т. п., и от такого описания музыки нас отталкивает именно то, что, как кажется, оно говорит, что музыка является инструментом для создания в нас последовательности ощущений. И отсюда можно вывести заключение, что любые другие средства создания таких ощущений подойдут нам вместо музыки. На такое описание мы склонны ответить: «Музыка передает нам саму себя!»
Это сходно с такими выражениями, как: «Каждый из этих цветовых образцов оказывает впечатление». Мы чувствуем, что хотим оградить себя от идеи, что цветовой образец — это средство для создания в нас определённого впечатления, цветовой образец похож на наркотик, и мы интересовались только эффектом, который он производит. — Мы хотим избежать любой формы выражения, которая, как кажется, указывает на эффект, производимый объектом на субъект. (Здесь мы вплотную подходим к проблеме идеализма и реализма и к проблеме, являются ли высказывания эстетики субъективными или объективными.) Высказывание «Я вижу это и нахожусь под впечатлением» склонно создать видимость того, что впечатление является некоторым чувством, сопровождающим видение, и что это предложение говорит нечто вроде: «Я вижу это и чувствую воздействие».
Я мог бы использовать выражение «Любой из этих цветовых образцов имеет значение»; но я не сказал «имеет значение», ибо это породило бы вопрос: «Какое значение?», который в рассматриваемом нами случае не имеет смысла. Мы проводим различие между образцами, не имеющими значения, и образцами, имеющими значение; но в нашей игре нет такого выражения, как «Этот образец имеет такое-то значение», ни даже выражения «Эти два образца имеют разные значения», если только оно не говорит: «Это — два различных образца, и оба имеют значение».
Хотя легко понять, почему мы склонны использовать переходную форму выражения. Ибо рассмотрим, как мы используем такое выражения, как «Это лицо что-то говорит», т. е. что представляют собой ситуации, в которых мы используем это выражение, какие предложения предшествовали бы ему или следовали за ним (какого рода разговора оно является частью). Нам следует, возможно, развить такое замечание, сказав: «Взгляните На линию этих бровей» или «Тёмные глаза и бледное лицо!»; эти выражения привлекают внимание к определённым чертам. В такой же связи нам следует употребить сравнения, например: «Нос похож на клюв», — но также и выражения типа: «В целом лицо выражает смущение», и здесь мы использовали слово «выражает» переходным способом.
23. Теперь мы можем рассмотреть предложения, можно сказать, анализирующие впечатления, которые мы получили, скажем, от лица. Возьмем такое высказывание: «Особое впечатление от этого лица возникает из-за маленьких глаз и низкого лба». Здесь слова «особое впечатление» могут означать определённое уточнение, например, «глупое выражение». Или, с другой стороны, они могут означать «то, что делает это выражение лица поразительным» (т. е. экстраординарным выражением); или «то, что поражает в этом лице» (т. е. «то, что привлекает внимание»). Или, опять-таки, наше предложение может означать: «Если вы слегка измените эти черты, выражение полностью изменится (хотя вы могли бы изменить другие черты практически без изменения выражения)». Форма этого высказывания, однако, не должна приводить нас к ошибочной мысли, что в каждом случае есть дополнительное высказывание формы: «Сначала выражение было таким, а после изменения стало таким». Мы можем, конечно, сказать: «Смит нахмурился и его выражение сменилось с этого на то», указывая, например, на два рисунка его лица. (Сравним с этим два высказывания: «Он сказал эти слова» и «Его слова сказали что-то».)
Когда, пытаясь увидеть, в чём заключается чтение, я читал написанное предложение, позволяя чтению оказывать на меня впечатление, и говорил, что у меня появилось особое впечатление, меня могли спросить, не обусловлено ли моё впечатление особым почерком. Это был бы вопрос о том, не оказалось бы моё впечатление иным, если бы иным было написание или, скажем, если бы все слова в предложении были бы написаны разным почерком. В этом смысле мы могли бы также спросить, не возникло ли это впечатление, в конечном счёте, благодаря смыслу того конкретного предложения, которое я прочитал. Кто-то мог бы предложить: прочитай другое предложение (или то же самое предложение, написанное другим почерком) и посмотри, будешь ли ты продолжать говорить, что испытал то же самое впечатление. И ответ мог бы быть: «Да, впечатление, которое у меня было, на самом деле возникло благодаря почерку». Но это не подразумевало бы, что, когда я в первый раз сказал, что предложение произвело на меня особое впечатление, я противопоставлял одно впечатление другому или что мое высказывание не было чем-то вроде: «Это предложение имеет свой собственный характер». Это станет яснее при рассмотрении следующего примера. Предположим, что у нас есть три лица, нарисованные одно рядом с другим:
Я рассматриваю первое лицо и говорю себе: «У этого лица особое выражение». Затем мне показывают второе лицо и спрашивают, такое ли у него выражение. Я отвечаю: «Да». Затем мне показывают третье лицо, и я говорю: «У него другое выражение». Можно сказать, что в двух своих ответах я различал лицо и его выражение; ибо b) отличается от а), но я всё-таки говорю, что они имеют одно и то же выражение, тогда как различие между с) и а) соответствует различию выражений; и это может заставить нас думать, что и в своём первом утверждении я проводил различие между лицом и его выражением.
24. Вернёмся теперь к идее ощущения знакомости, которое возникает, когда я вижу знакомые объекты. Размышляя над вопросом, существует ли такое ощущение или же нет, мы, вероятно, вглядываемся в некоторый объект и говорим: «Разве у меня нет особого ощущения, когда я смотрю на свое старое пальто и шляпу?». В ответ на это мы теперь спросим: «Какое ощущение ты сравниваешь с этим или ему противопоставляешь? Должны ли вы сказать, что ваше старое пальто вызывает в вас то же самое ощущение, что и ваш старый друг A, с чьим обликом вы также хорошо знакомы, или что всякий раз, когда вам случается смотреть на свое пальто, вы испытываете это ощущение, скажем, близости и теплоты?».
«Но разве нет такой вещи, как ощущение знакомости?». — Я сказал бы, что есть огромное количество переживаний, некоторые из них — ощущения, которые мы могли бы назвать «переживаниями (ощущениями) знакомости».
Различные переживания знакомости: а) Кто-то входит в мою комнату, я не видел его долгое время и не ждал его. Я смотрю на него, говорю или чувствую: «А, это ты». — Почему, приводя этот пример, я сказал, что не видел этого человека долгое время? Разве я не собирался описать переживание знакомства? И на какое бы переживание я ни ссылался, разве оно не могло возникнуть, даже если бы видел этого человека полчаса назад? Я имею в виду, что я привел обстоятельства узнавания человека как средство для описания точной ситуации узнавания. Кто-то может выдвинуть возражения против этого способа описания переживания, сказав, что он вводит не относящиеся к делу факты и в сущности вообще не является описанием ощущения. Говоря это, в качестве эталона описания рассматривают, скажем, описание стола, которое сообщает вам точные очертания, размеры, материал, из которого он сделан, и цвет. Такое описание, можно сказать, собирает стол по кусочкам. С другой стороны, существует другой вид описания стола, такой, который вы можете встретить в романе, например: «Это был маленький неустойчивый столик, украшенный в мавританском стиле, — такой обычно используют для курительных принадлежностей». Такое описание можно было бы назвать косвенным; но если его цель в одно мгновение вызвать живой образ стола в воображении, оно послужит этой цели несравненно лучше, чем детальное «прямое» описание. Итак, если я должен дать описание ощущения знакомства или узнавания, — что, по-вашему, я должен сделать? Могу ли я собрать ощущение по кусочкам? В каком-то смысле я, конечно, могу это сделать, приведя этапы изменения моих ощущений. Такие детальные описания вы можете найти в некоторых великих романах. Итак, если вы подумаете об описаниях предметов обстановки, которые вы можете найти в романе, вы увидите, что этому виду описания вы можете противопоставить другой, использующий рисунки, измерения, вроде тех, которые даются краснодеревщику. Этот последний вид мы склонны называть единственным прямым и полным описанием (хотя этот способ самовыражения показывает, что мы забываем, что бывают определённые цели, которым это «подлинное» описание не соответствует). Эти рассуждения предостерегут вас от того, чтобы считать, что есть одно подлинное и прямое описание, скажем, ощущения узнавания в противоположность «косвенному» описанию, которое я привёл.
b) То же самое, что и а), но лицо не сразу кажется мне знакомым. Немного спустя узнавание «снисходит на меня». Я говорю: «А, это ты», но с совершенно другой интонацией, чем в а). (Рассмотрите тембр голоса, интонацию, жесты как существенные части нашего переживания, а не как несущественные сопровождения или просто средства коммуникации.) (Ср. с. 193–194.) с) Есть переживание, направленное на людей и вещи, которые мы видим каждый день, когда внезапно мы ощущаем их как «старых знакомых» или «добрых старых друзей»; это ощущение можно также описать как ощущение теплоты или комфорта от общения с ними. d) Моя комната со всеми объектами в ней полностью мне знакома. Когда я вхожу в неё утром, приветствую ли я знакомые стулья, столы и т. д. с чувством «А, привет!» или я испытываю ощущение, как описано в с)? Но разве я передвигаюсь по комнате, достаю что-то из выдвижного ящика, сажусь и т. д. по-другому, чем в комнате, которая мне неизвестна? И почему бы мне, поэтому, не сказать, что я ощущал переживание знакомства всякий раз, когда жил среди этих знакомых объектов? e) Переживание ли это знакомства, когда на вопрос «Кто этот человек?» я сразу (или после некоторых размышлений) отвечаю: «Это такой-то»? Сравним с этим переживанием случай f) — когда вы смотрите на написанное слово «ощущение» и говорите: «Это почерк А» и, с другой стороны, g) — переживание чтения слова, которое также является переживанием знакомства.
Против е) можно возразить, сказав, что переживание произнесения имени человека не было переживанием знакомости, что он должен был быть знаком нам, чтобы мы могли знать его имя и что мы должны были знать его имя, чтобы произнести его. Или можно было бы сказать: «Произнесения его имени недостаточно, ведь мы могли бы произнести имя, не зная, что это его имя». И это замечание, безусловно, верно, если только мы осознаем, что оно не подразумевает, что знание имени является процессом, сопровождающим или предшествующим произнесению имени.
25. Рассмотрим следующий пример. В чём состоит различие между образом из памяти, образом, который приходит с ожиданием, и, скажем, образом из грёз? Вы могли бы ответить: «Между этими образами есть внутреннее различие». Вы заметили это различие, или сказали о нем, только потому, что считаете, что оно должно быть?
Но, конечно, я распознаю образ из памяти как образ из памяти, а образ из грёз — как образ из грёз и т. д.! Вспомните, что вы иногда сомневаетесь, действительно ли вы видели, что произошло определённое событие, или вам это пригрезилось, или вы просто услышали о нём и вообразили его в красках. Но, помимо этого, что вы подразумеваете под «распознаванием образа как образа из памяти»? Я согласен, что (по крайней мере в большинстве случаев), пока образ находится перед вашим мысленным взором, вы не сомневаетесь относительно того, является ли он образом из памяти и т. д. Также, если бы вас спросили, являлся ли образ образом из памяти, то вы (в большинстве случаев) ответили бы на этот вопрос без колебаний. Чтó если я спрошу вас: «Когда вы узнаёте, какого рода образом он является?». Назовёте ли вы знание того, какого рода образом он является, непребыванием в состоянии сомнения, отсутствием удивления по его поводу? Заставляет ли вас интроспекция видеть состояние или деятельность сознания, что вы назвали бы знанием того, что этот образ был образом из памяти, и что происходит, пока образ находится перед вашим сознанием? Далее, если вы отвечаете на вопрос, какого рода образ это был, делаете ли вы это, так сказать, посредством наблюдения за образом и открытия определённой характеристики в нем (как если бы, когда у вас спросили, кем написана картина, вы посмотрели бы на неё, узнали стиль и сказали, что это Рембрандт)?
С другой стороны, легко указать на переживания, характерные для воспоминания, ожидания и т. д., сопровождающие образы, и затем на различия в непосредственном или более отдалённом их окружении. Так, мы, несомненно, говорим различные вещи в различных случаях, например: «Я помню, как он входил в мою комнату», «Я ожидаю, что он войдет в мою комнату», «Я представляю себе, как он входит в мою комнату». «Но, конечно, к этому не может сводиться всё различие!». Оно и не сводится. Есть три различных игры, которые разыгрываются с этими тремя словами, окружающими данные утверждения.
Когда ставится вопрос: понимаем ли мы слово «помнить» и т. д., существует ли на самом деле различие между этими случаями помимо просто словесного различия? Наши мысли движутся в непосредственной близости с образом, который у нас был, или выражением, которое мы использовали. У меня есть образ совместного обеда с Т в столовой. Если меня спросят, является ли он образом из памяти, я отвечу: «Конечно», и мои мысли начнут двигаться в разных направлениях от этого образа. Я помню, кто сидел по соседству с нами, о чём был разговор, что я об этом думал, что произошло с Т позднее и т. д., и т. п.
Вообразим две различных игры, в которые играют шахматными фигурами на шахматной доске. Начальные позиции в обеих играх похожи. В одной из игр всегда играют красными и зелёными фигурами, в другой — чёрными и белыми. Два человека начинают играть, между ними шахматная доска с расставленными на ней красными и зелёными фигурами. Их спрашивают: «Вы знаете, в какую игру намереваетесь играть?». Один игрок отвечает: «Конечно; мы играем в № 2». — «А в чем различие между № 2 и № 1?». — «Ну, на доске находятся красные и зелёные фигуры, а не чёрные и белые, а также мы говорим, что играем в № 2». — «Но это не может быть единственным различием; разве вы не понимаете, что подразумевает „№ 2“ и что означает игра красными и зелёными фигурами?». Здесь мы склонны сказать: «Конечно, я понимаю» и, чтобы доказать это себе, мы действительно начинаем ходить фигурами в соответствии с правилами игры № 2. Вот что я назвал бы движением в непосредственной близости от нашей начальной позиции.
Но разве не существует также особое ощущение «былого» [pastness], характеризующее образы как образы из памяти? Конечно, существуют переживания, которые я бы назвал ощущением былого, хотя и не всегда, когда я что-то вспоминаю, присутствует одно из этих ощущений. Чтобы уяснить природу этих ощущений, опять-таки очень полезно вспомнить, что существуют жесты прошлого и интонации былого, которые мы можем рассматривать как репрезентацию переживаний былого.
Я исследую один конкретный случай, случай ощущения, которое я приблизительно опишу, говоря, что оно является ощущением «давным-давно ушедшего». Эти слова и тон, которым они произносится, и есть знак былого. Но я ещё более уточню подразумеваемое мной переживание, говоря, что оно является переживанием, соответствующим определённой мелодии (Davids Bündler Tänze — «Wie aus weiter Ferne»[47]). Я представляю себе эту мелодию, исполняемую с нужным выражением и так записанную на граммофонную пластинку. Тогда это — наиболее искусное и точное выражение ощущения былого, которое я могу вообразить.
Итак, должен ли я сказать, что прослушивание этой мелодии, исполняемой с этим выражением, само является особым переживанием былого, или я должен сказать, что прослушивание этой мелодии является причиной возникновения ощущения былого и что это ощущение сопровождает мелодию? То есть могу ли я отделить то, что я называю этим переживанием былого, от переживания прослушивания мелодии? Или могу я отделить переживание былого, выраженного жестом, от переживания совершения этого жеста? Могу ли я обнаружить нечто, сущностное ощущение былого, — то, что остаётся после изъятия всех этих переживаний, которые мы могли бы назвать переживаниями выражения ощущения?
Предлагаю вам поместить выражение нашего переживания на место самого переживания. «Но ведь это не одно и то же». Это, конечно, верно, по крайней мере в том смысле, в котором верно говорить, что железнодорожный состав и железнодорожная катастрофа — это не одно и то же. И, однако, есть оправдание для того, чтобы говорить так, как если бы выражение «жест „давным-давно ушедшее“» и выражение «ощущение „давным-давно ушедшее“» имели одно и то же значение. Так, я мог бы задать правила шахмат следующим образом: передо мной шахматная доска с набором шахматных фигур на ней. Я задаю правила ходов для конкретных шахматных фигур (этих конкретных кусочков дерева) на этой конкретной доске. Могут ли эти правила быть правилами игры в шахматы? Они могут быть преобразованы в них с помощью использования единственного оператора, такого как слово «любой». Или правила для этой конкретной партии могут оставаться такими, какие они есть, и преобразовываться в правила игры в шахматы изменением нашей точки зрения на них.
Существует идея, что ощущение, скажем, былого представляет собой нечто аморфное, расположенное в неком месте, сознании, и что это нечто является причиной или следствием того, что мы называем выражением ощущения. Выражение ощущения тогда является косвенным способом передачи ощущения. И люди часто говорят о прямой передаче ощущения, избегающей внешнего посредника общения.
Вообразите, что я прошу вас создать с помощью смешивания определённый цвет и описываю этот цвет, говоря, что он представляет собой то, что вы получите при реакции серной кислоты и меди. Это можно было бы назвать косвенным способом сообщения цвета, который я имею в виду. Можно представить, что реакция серной кислоты и меди при определённых условиях не приведет к появлению искомого цвета. Тогда, посмотрев на полученный вами цвет, я бы сказал: «Нет, это не тот» — и дал вам образец.
Итак, можем ли мы сказать, что сообщение ощущений посредством жестов является в этом смысле косвенным? Имеет ли смысл говорить о прямом сообщении в противоположность косвенному? Имеет ли смысл говорить: «Я не могу ощущать его зубную боль, но если бы мог, я бы знал, что он чувствует»?
Если я говорю о сообщении ощущения кому-то другому, разве я не должен, для того чтобы понять сказанное, знать, что я буду называть критерием достижения цели в сообщении?
Мы склонны говорить, что когда мы сообщаем ощущение кому-либо, на другом конце происходит что-то такое, чего мы никогда не сможем узнать. Всё, что мы можем получить от него, — это вновь выражение. Это аналогично тому, что мы никогда не сможем узнать, когда в эксперименте Физо луч света достигнет зеркала.
Об авторе
Людвиг Витгенштейн (1889–1951) — австро-английский философ, один из основателей аналитической философии и один из самых ярких мыслителей XX века.
Его «Логико-философский трактат» вдохновил Венский кружок на создание программы логического позитивизма. Идеи о природе и устройстве языка, изложенные в «Голубой и коричневой книгах» и «Философских исследованиях», породили британскую лингвистическую философию, или философию обыденного языка.
Примечания
1
При поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), проект № 07-06-00185-а.
(обратно)2
Rorty R. Consequences of pragmatism. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1994. — p. 20.
(обратно)3
Русский перевод этой работы, принадлежащий М.С. Козловой, см.: Витгенштейн Л. Философские исследования // Л. Витгенштейн. Философские работы. ч. 1. М.: Гнозис, 1994.
(обратно)4
Витгенштейн Л. О достоверности // Л. Витгенштейн. Философские работы. Ч. 1. — М.: Гнозис, 1994; Витгенштейн Л. Культура и ценности // Л. Витгенштейн. Философские работы. Ч. 1. — М.: Гнозис, 1994; Витгенштейн Л. Замечания по основаниям математики // Л. Витгенштейн. Философские работы. Ч. 2. — М.: Гнозис, 1994; Витгенштейн Л. Заметки о философии психологии. Т. 1. — М.: Дом интеллектуальной книги, 2001; Витгенштейн Л. Заметки к лекциям об «индивидуальном переживании» и «чувственных данных» // Язык, истина, существование. — Томск: Изд-во Томского ун-та, 2002; Витгенштейн Л. Заметки по основаниям математики. Раздел VI // Эпистемология и философия науки, 2007. — № 2, т. XII.
(обратно)5
Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. — М.: ИЛ, 1958.
(обратно)6
Витгенштейн Л. Дневники 1914–1916. — Томск: Водолей, 1998.
(обратно)7
Wittgenstein's lectures, Cambridge, 1932–1935. — Oxford: Basill Blackwell, 1979. p. 43.
(обратно)8
Витгенштейн Л. «Голубая книга» и «Коричневая книга» (сокращенный перевод А.Ф. Грязнова) // Современная аналитическая философия. Вып. 3. — М., 1991. c. 179–190.
(обратно)9
Витгенштейн Л. Голубая книга. — М.: Дом интеллектуальной книги, 1999; Витгенштейн Л. Коричневая книга. — М.: Дом интеллектуальной книги, 1999.
(обратно)10
Суровцев В.А. Божественный Людвиг — Бедный Людвиг // Логос: философский журнал. — 1999. — № 2. Здесь же критические замечания и о других переводах В.П. Руднева.
(обратно)11
Витгенштейн Л. Коричневая книга. — М.: Дом интеллектуальной книги, 1999. c. 8.
(обратно)12
Wittgenstein L. The Blue and Brown books. Preliminary Studies for the «Philosophical Investigations». Oxford, 1969. p. 79.
(обратно)13
Витгенштейн Л. Коричневая книга. — М.: Дом интеллектуальной книги, 1999. c. 119.
(обратно)14
Wittgenstein L. The Blue and Brown books. Preliminary Studies for the «Philosophical Investigations». Oxford, 1969. p. 158.
(обратно)15
Витгенштейн Л. Голубая книга. — М.: Дом интеллектуальной книги, 1999. c. 48.
(обратно)16
Wittgenstein L. The Blue and Brown books. Preliminary Studies for the «Philosophical Investigations». Oxford, 1969. p. 26.
(обратно)17
Витгенштейн Л. Голубая книга. — M.: Дом интеллектуальной книги, 1999. c. 4.
(обратно)18
Эта формулировка аргументации в пользу перевода proposition как «пропозиция» принадлежит В.А. Суровцеву. Мы бы хотели добавить, что такой перевод действительно представляется правомерным, если учесть, что в своих лекциях Витгенштейн употребляет не слово «sentence», а именно «proposition». На это могут возразить: Витгенштейн далеко не всегда говорит о логической пропозиции, однако нелепо утверждать, что «пропозиция» как термин должна иметь только логическое значение.
(обратно)19
Эта формулировка аргументации в пользу перевода picture как «образ» принадлежит В.А. Суровцеву.
(обратно)20
Остенсивное определение — это определение термина через непосредственное указание его значения или определение понятия через указание на пример. (Прим. перев.)
(обратно)21
В качестве образца искусственного слова Витгенштейн использует слово tove из первой строки «Jabberwockyy» («Бармаглота») Льюиса Кэрролла: «Twas brillig, and the slithy toves» (в переводе Д. Орловской «Варкалось. Хливкие шорьки…»). (Прим. перев.)
(обратно)22
Обоснование перевода proposition как «пропозиция» см. на с. 13. (Прим. перев.)
(обратно)23
См. с. 44, 78 (Прим. ред., т. е. примечания редакторов первого английского издания Голубой и коричневой книг).
(обратно)24
Это обещание осталось невыполненным. (Прим. ред.)
(обратно)25
Этого не будет сделано. (Прим. ред.)
(обратно)26
Несколько замечаний на эту тему см. на с. 82. (Прим. ред.)
(обратно)27
Теэтет, 146D-147С. (Прим. ред.)
(обратно)28
См.: Трактат, 5.02.
(обратно)29
Витгенштейн имеет в виду описание желания, которое приводит Рассел в своем «Анализе сознания»: «Ментальное явление любого типа — ощущение, образ, уверенность или эмоция — может быть поводом для продолжающейся последовательности действий, которая будет прервана тогда, когда какое-нибудь более или менее определенное положение дел не будет реализовано. Такую последовательность действий мы называем „поведенческим циклом“… Качество, являющееся поводом для такого цикла явлений, называется „дискомфорт“… Цикл завершается, когда достигается состояние покоя или когда принимается решение сохранить статус кво. Положение дел, при котором состояние покоя достигнуто, называется „целью“ цикла, а внутреннее ментальное явление, включающее дискомфорт, называется „желанием“ положения дел, приносящего покой. Желание называется „сознательным“ если сопровождается твердой уверенностью в достижении покоя; иначе оно называется „бессознательным“». (Russell, В. Analysis of Mind. Allen & Unwin, 1921. p. 75). Любопытно, что Витгенштейн приписывает Расселу в качестве описания «ожидания» то, что на деле является расселовским описанием «желания». Подробнее см.: Kenny, Anthony. Wittgenstein. John Wiley & Sons, 2005. p. 98–99. (Прим. перев.)
(обратно)30
Cp.: Russell, Analysis of Mind, III.
(обратно)31
Он этого не делает. (Прим. ред.)
(обратно)32
Обоснование перевода picture как «образ» см. на с. 13. (Прим. перев.)
(обратно)33
Джордж Питчер усматривает здесь параллель с «Алисой в стране чудес»: «Алиса растерялась. В словах Болванщика как будто не было смысла, хоть каждое слово в отдельности и было понятно.
— Я не совсем вас понимаю, — сказала она учтиво.
— А что тут такого? — пробормотал Болванщик. — Разве твои часы показывают год?
— Конечно, нет, — отвечала с готовностью Алиса. — Ведь год тянется очень долго!
— Ну и у меня то же самое! — сказал Болванщик.
Алиса растерялась. В словах Болванщика как будто не было смысла, хоть каждое слово в отдельности и было понятно». («Алиса в стране чудес». Глава 7. Перевод Н. Демуровой.)
Похожую сцену наблюдаем и в «Заключении Сильвии и Бруно». Профессор говорит:
«Я надеюсь тебе понравится обед — как он есть; и что ты не будешь волноваться о жаре — какой её нет.
Предложение звучало хорошо, но я как-то даже и понять его не мог». («Заключение Сильвии и Бруно». Глава 22.)
См.: Pitcher, George. Wittgenstein, Nonsense, and Lewis Carroll. Massachusetts Review, 6 (1965); также в книге Ludwig Wittgenstein: Critical Assessments. Vol. IV (ed. Stuart Shanker). London, Routledge, 1986. p. 398–415. (Прим. перев.)
(обратно)34
Англ. cleave означает не только «раскалывать», «разрубать», но и «прилипать». (Прим. перев.)
(обратно)35
См. «Исповедь» Августина, часть первая, VIII, 13: «Старшие не учили меня, предлагая мне слова в определенном и систематическом порядке, как это было немного погодя с буквами. Я действовал по собственному разуму, который Ты дал мне, Боже мой. Когда я хотел воплями, различными звуками и различными телодвижениями сообщить о своих сердечных желаниях и добиться их выполнения, я оказывался не в силах ни получить всего, чего мне хотелось, ни дать знать об этом всем, кому мне хотелось. Я схватывал памятью, когда взрослые называли какую-нибудь вещь и по этому слову оборачивались к ней; я видел это и запоминал: прозвучавшим словом называется именно эта вещь. Что взрослые хотели ее назвать, это было видно по их жестам, по этому естественному языку всех народов, слагающемуся из выражения лица, подмигиванья, разных телодвижений и звуков, выражающих состояние души, которая просит, получает, отбрасывает, избегает. Я постепенно стал соображать, знаками чего являются слова, стоящие в разных предложениях на своем месте и мною часто слышимые, принудил свои уста справляться с этими знаками и стал ими выражать свои желания». С цитаты из этого же фрагмента «Исповеди» начинаются и «Философские исследования». (Прим. перев.)
(обратно)36
В рамках своей философии логического атомизма Рассел определяет индивиды как члены отношения в атомарных фактах, структура которых производна от структуры атомарных пропозиций, выявляемой посредством логического анализа. Индивидам соответствуют имена собственные. Однако Рассел оставляет открытым вопрос о том, чем индивиды являются в реальности, считая его эмпирическим, а не логическим. (См., например, Рассел Б. Избранные труды. — Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2007. — с. 141–144.). (Прим. перев.)
(обратно)37
В этом абзаце Витгенштейн использует слова «предложение [sentence]» и «пропозиция [proposition]» в качестве синонимов немецкого слова «Satz». (Прим. перев.)
(обратно)38
В английском языке окончание «-able» придаёт отглагольному прилагательному модальный оттенок. Так, deformable означает «деформируемый», от to deform — «деформировать» и — able — «способный, могущий». (Прим. перев.)
(обратно)39
Немецкое «lassen». (Прим. ред.)
(обратно)40
В англ. fat имеет значения: жирный, тучный, скоромный. (Прим. перев.)
(обратно)41
Немецкое nach, т. е. «согласно» или «в свете». (Прим. ред.)
(обратно)42
Он убежден (фр.). (Прим. перев.)
(обратно)43
Языковая игра № 30 из части I Коричневой книги. (Прим. ред.)
(обратно)44
§ 15, Коричневая книга, часть II. (Прим. ред.)
(обратно)45
«Но, очевидно, что вопрос вводит в заблуждение относительно ожидаемого на него ответа» (с. 9, Введение, Принципы механики) (нем.). (Прим. перев.)
(обратно)46
То есть Äußerung. См. Философские исследования, § 256. (Прим. ред.)
(обратно)47
Танцы Давида Бюндлера «Как из далёкого далёко» (нем.). (Прим. перев.)
(обратно)
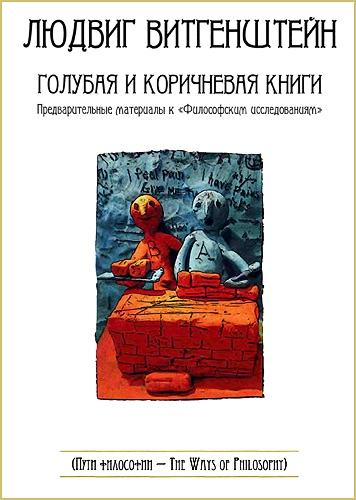
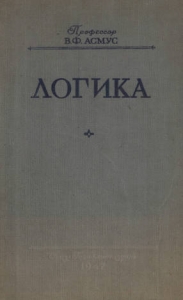

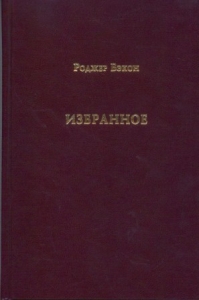
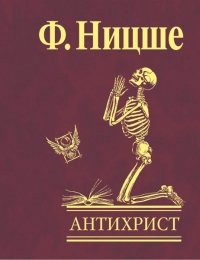
Комментарии к книге «Голубая и коричневая книги. Предварительные материалы к «Философским исследованиям»», Людвиг Витгенштейн
Всего 0 комментариев