Грядущее сообщество
1/ любое
Грядущее бытие — бытие любое. Термин, который в схоластическом перечне трансценденталий (quodlibet ens est unum, verum, bonum seu perfectum – любое сущее цельно, истинно, благо и совершенно) обуславливает значение всех остальных терминов, тайным образом в них присутствуя, — это прилагательное quodlibet. Общепринятый его перевод, звучащий как «не имеет значение какой, безразлично какой», безусловно, правилен, но вот сама его форма выражает нечто прямо противоположное латыни: quodlibet ens это не «бытие безразлично какое», но «бытие, безусловно, важное, значимое в любом случае», и следовательно, оно содержит отсылку к желанию (libet), бытие какое–угодно — находится в изначальной связи с желанием.
«Любое», о котором здесь идет речь, не подразумевает под единичным нечто любое, взятое помимо его общих качеств (например, в абстракции от определенного понятия: быть красным, французом, мусульманином), но оно именует бытие такое, какое оно есть. Таким образом, единичное ускользает от ложной дилеммы, принуждающей познание выбирать между невыразимостью индивидуального и интеллигибельной природой общего. Поскольку мыслимое, как это прекрасно подметил Герсонид[2], не принадлежит ни общему, ни, напротив того, единичному, схваченному в серии некоторого повтора, но оно суть «единичность, взятая как любая единичность». Здесь бытие–какое — какое–оно–есть высвобождено из тех или иных присущих ему свойств, которые определяют его принадлежность к тому или иному множеству, к тому или иному классу (красные, французы или мусульмане) — однако оно высвобождено не для того, чтобы оказаться заново включенным в какой–то иной класс или раствориться в своей собственной неопределенности, но оно возвращено своему бытию–такому, самой его принадлежности. Таким образом, здесь заявляет о себе не что иное как бытие–такое, всегда остающееся сокрытым планом принадлежности («есть некий х такой, который принадлежит некоему y»); бытие, ни в коей мере не являющееся неким реальным предикатом: единичное, экспонированное как единичное, есть то–какое-(ни)-пожелаешь, то есть любимое.
Поэтому любовь никогда не следует за теми или иными качествами любимого человека (быть–блондином, маленьким, чувствительным, хромым), но она также никогда и не абстрагируется от них во имя пресной всеобщности (всеобщая любовь): она желает эту вещь со всеми ее предикатами, ее бытие такое, какое оно есть. Она желает какое лишь постольку, поскольку оно такое — и в этом проявляется ее специфический фетишизм. Так, любая единичность (Любимое) никогда не есть знание чего–либо, того или иного свойства или сущности, но это лишь знание, раскрывающее нам саму понятность. Движение, которое Платон описывал как эротический анамнез, переносит объект не к другой вещи или в другое место, но туда, где он собственно и имеет–свое–место — оно возносит его к Идее.
2/ из круга первого
Откуда берет свое начало это любое единичное, где пребывает его мир? В поисках ответа мы можем опереться на рассуждения Фомы о лимбе. Согласно теологу, некрещеным детям, которым может быть вменен лишь первородный грех, в действительности не может быть уготована кара, обрекающая их на страдание, то есть на муки ада, и их наказание может быть не более, чем определенного рода лишением — они навеки лишены возможности лицезреть Бога. Однако у обитателей первого круга, в отличие от грешников, это лишение как раз и не вызывает никакого страдания: поскольку они обладают лишь естественным, но не сверхъестественным знанием, которое было заложено в нас при крещении, — они не осознают, что лишены высшего блага, или же, если и осознают это (что, как полагают некоторые, тоже вполне можно допустить), то они будут этим удручены ничуть не больше, чем человек в здравом уме стал бы огорчаться по поводу того, что он не умеет летать. Если бы они и в самом деле испытывали скорбь, то лишь оттого, что они страдают от вины, от которой они уже не смогут никогда избавиться, их мучения ввергли бы их в отчаяние, как это происходит с грешниками, а это было бы несправедливо. И кроме того — их тела так же бесстрастны, как и тела блаженных, но это абсолютное бесстрастие есть бесстрастие лишь перед лицом божественного правосудия; в остальном же они наслаждаются своей природой во всем ее природном совершенстве.
Таким образом, самое большое наказание — лишение возможности лицезреть Бога — оборачивается самой подлинной радостью: безвозвратно погибшие, они пребывают без печалей в забвении Бога. Однако не Бог их забыл, но это они его никогда не помнили, и само божественное забвение бессильно перед лицом их беспамятства. Словно письма, утратившие адресата, эти возродившиеся не знают своего последнего предназначения. В отличие от блаженства избранных и отчаяния грешников их участь — радость, не ведающая конца.
Именно эта особая природа первого круга и придает миру Вальзера[3] его неповторимую загадочность. Его создания безнадежно потерялись, но они потерялись в мире, который находится по ту сторону погибели и искупления: их ничтожность, которой они так гордятся, — лишь их безразличие по отношению к спасению, и это самое радикальное возражение, когда–либо выдвигавшееся против самой идеи спасения. Вне спасения та жизнь, в которой нечего спасать, и здесь вся могущественная теологическая машина христианской ойкономии[4] дает сбой. Отсюда причудливое сочетание плутовства и смирения, легкомыслия toon и щепетильной скрупулезности, присущей персонажам Вальзера: отсюда также их двойственность, из–за которой всегда кажется, что любые отношения с ними закончатся постелью: это не языческий hybris и не христианская стыдливость, но всего лишь безучастность обитателей первого круга перед лицом божественного правосудия.
Подобно осужденному Кафки, пережившему разрушение машины, которая должна была его казнить, и потому, наконец, получившему свободу, они тоже оставили мир вины и правосудия где–то позади: свет, падающий на их лица, — это безвозмездный свет рассвета, наступающего вслед за novissima dies[5] правосудия. Но жизнь, которая начинается на земле после Судного дня, — это всего лишь человеческая жизнь.
3/ пример
Исток антиномии индивидуального и универсального кроется в языке. Слово «дерево» в действительности обозначает все деревья вообще, не проводя различий, поскольку приписывает высказываемое им общее значение единичным и, следовательно, невыразимым деревьям (terminus supponit significatum pro re). Другими словами, оно трансформирует единичное в члены класса, который понимается как наличие общего признака (условие принадлежности €). Необычайные успехи теории множеств в решении проблем современной логики, по сути, связаны с тем, что определение множества как такового — это всего лишь определение некоего лингвистического значения. Принадлежность к множеству M отдельных объектов m — это не что иное, как имя. Отсюда неустранимые парадоксы классов, на разрешение которых не может претендовать никакая самая «дьявольская теория типов». В действительности парадоксы определяют место собственно языкового бытия. Оно есть некий класс, который одновременно и принадлежит и не принадлежит сам себе, однако классом всех классов, которые не принадлежат себе, является именно язык. Поскольку языковое бытие (быть сказанным) — это такое множество (дерево), которое является одновременно и чем–то единичным (дерево вообще некое дерево, это дерево), и опосредованием общего значения, выражаемого символом то оно никогда не сможет заполнить собой открывающееся здесь зияние, в котором лишь вообще, некое и это свободно меняются местами.
Понятие, которое, однако, неподвластно антиномии общего и единичного, нам хорошо знакомо: это пример. О какой бы сфере функционирования примера ни шла речь, пример характеризует в первую очередь то, что он справедлив для всех случаев внутри избранного класса и в то же самое время он включен в него как один из этих случаев. Он является неким единичным среди прочего единичного, но это единичное, однако, может замещать собой любое из этого единичного, ибо он соответствует каждому из них. С одной стороны, каждый пример рассматривается как некий частный, конкретный случай; но в то же время всегда подразумевается, что он не может рассматриваться лишь как нечто частное. Не будучи ни единичным, ни общим, пример — это некий единичный объект, который, так сказать, позволяет увидеть, демонстрирует свою единичность как таковую. Эта особенность сохранена в самом греческом слове, означающем пример: paradeigma — то, что обнаруживает себя рядом (точно так же, как и немецкое Beispiel — то, что разыгрывается вблизи). Поэтому подлинное место примера всегда рядом с самим собой, в том пустом пространстве, где пребывает его жизнь, ускользающая и от каких бы то ни было определений, и от забвения. Эта жизнь есть жизнь языковая в чистом виде. Жизнь, не поддающаяся определению, жизнь незабвенная — это лишь жизнь в слове. Бытие примера — это бытие исключительно языковое. Пример — это то, что определено лишь самим бытием–высказывания, и это его единственная определенность. Пример определяет не бытие–красным, но быть–сказанным–красным; не бытие–Яковом, но быть–сказанным–Яковом. Отсюда проистекает его двусмысленность, возникающая, как только мы собираемся рассматривать пример всерьез. Быть–сказанным — свойство, обосновывающее все мыслимые атрибуты (быть–сказанным или быть–названным итальянцем, собакой, коммунистом) является, тем свойством, которое в равной мере всегда способно их также и отвергнуть. Оно–то и есть то Самое Наиобщее, которое отсекает или приостанавливает всякую реальную общность. Именно здесь коренится немощная всеобщая правота любого — свойство бытия любого быть любым, всегда подходить на роль любого. Речь не идет ни об апатии, ни о каком–то безликом смешении, ни о смирении. Это единичности в чистом виде, и берут они свое начало лишь в пустом пространстве примера, не будучи связанными никакими общими качествами, лишенные идентичности. Они освобождаются от всего, что характеризует их индивидуальность, от всякой идентичности для того, чтобы овладеть самой принадлежностью, присвоить себе символ €. Tricksters[6] или бездельники, помощники или toons[7] — они суть примеры грядущего сообщества.
4/ иметь место
Смысл этики проясняется лишь тогда, когда мы начинаем понимать, что благо не является и не может быть некоей вещью или некоей благой возможностью, парящей где–то над всем сущим или пребывающей по ту строну возможности зла; что подлинность и истина не являются реальными предикатами какого–либо объекта, словно некие аналогии (хотя и зеркальные) ложного и неподлинного.
Этика начинается лишь там, где мы постигаем, что само благо есть не что иное как разоблачение зла и что единственным содержанием истинного и действительного является неистинное и неподлинное. В этом как раз и заключается смысл древнего философского изречения, которое гласит: Veritas patefacit se ipsam etfalsum[8]. Истина может выявиться, лишь выявляя ложное, которое, однако, не изолируется и не отбрасывается прочь; наоборот, как это явствует из этимологии глагола patefacere, означающего «открывать», — глагола, который связан с существительным spatium, истина приоткрывается, лишь предоставляя место для не–истины, то есть как имение–места ложного, как экспозиция своей собственной внутренней неправильности.
Пока люди жили в мире, где подлинное и благо пребывали порознь (были partes), жизнь на земле, конечно, была несравненно лучше (и даже сегодня всем нам так или иначе известны люди, участвующие в подлинном); однако именно поэтому присвоение несобственного, неподлинного было невозможно, поскольку всякий раз, когда неправильное заявляло о себе, оно неизбежно оказывалось удалено в некое иное место, вокруг которого мораль тотчас возводила свои барьеры. Таким образом, завоевание добра влекло за собой возрастание части зла, которая тут же и отвергалась; и если стены рая становились все неприступнее, то и инфернальная бездна всякий раз разверзалась еще глубже.
Наша судьба — жить в мире, где всякое свое, собственное и подлинное абсолютно иллюзорны (или же, в лучшем случае, быть может нам завещаны бесконечно малые частицы блага), но, возможно, именно нам впервые предоставляется возможность присвоения несобственного и неподлинного как такового, присвоения, которое уже не оставляет позади себя новой огненной геенны.
Именно в этом ключе следует трактовать либерально–спиритуалистическую и гностическую доктрину непогрешимости абсолютного праведника. Она вовсе не означает, как это пытались очень грубо доказать разнообразные полемисты и инквизиторы, что совершенно добродетельный смог бы по своему желанию совершить самые омерзительные преступления, оставаясь при этом абсолютно безгрешным (одна из тех извращенных фантазий, что вечно преследуют всякого моралиста); ее смысл в том, что абсолютный праведник присвоил себе возможность всего зла и всего неистинного и как раз поэтому и не способен свершить зло.
Однако же этой интерпретации, объявленной ересью, оказалось достаточно, чтобы 12 ноября 1210 года последователи Амальрика из Бены[9] были сожжены на костре. Амальрик понимал апостольскую фразу, согласно которой «Бог есть все во всем» как радикальное развитие платоновской теории хоры. Бог пребывает в каждой вещи, он есть место, где каждая вещь есть, или же он есть в ней как причина, определенность и топос каждого сущего. Поэтому трансцендентное не следует мыслить как высшее сущее, пребывающее над всем сущим: скорее, имение–места всякой вещи есть чистая трансценденция — оно есть абсолютная имманентность.
Бог — благо или место — не имеет места, но это и есть имение–места самим сущим, внешнее его внутреннего. Божество есть бытие–червем червя, бытие–камнем камня. То, что мир все же есть и нечто может быть явлено и обрести облик, то, что существует внешнее или не–внутреннее, которое определяет и ограничивает каждую вещь, — это и есть благо. Поэтому его неустранимое бытие в мире есть то, что превосходит каждое мирское сущее, выставляя его напоказ. Зло же, наоборот, это сведение имения–места вещей всего лишь к одному из фактов, такому же, как и прочие, забвение трансценденции, присущей самому имению–места вещей. Поэтому благо характеризует не то, что оно находится где–то в ином месте: оно всего лишь точка, в которой вещи утверждают свое имение места, касаются своей последней, трансцендентной материи.
В этом смысле — и только в этом — благо следует понимать как самоутверждение зла, а спасение — как событие, где грядущее место возвращается к самому себе.
5/ principium individuationis
Любое — это матема единичности, без которой и бытие, и индивидуация остаются немыслимыми. Стоит припомнить постановку проблемы principium individuationis в средневековой схоластике: если Фома полагал, что его истоком является материя, то, напротив того, Скот понимал индивидуацию как некое добавление к природе или к общей форме (например, человечеству), однако добавление не другой формы, сущности или качеств, но ultima realitas, «предела» самой формы. Единичное ничего не прибавляет к общей форме, если не считать этосmu[10] (Жильсон формулирует проблему так: здесь имеет место не индивидуация, возникающая благодаря форме, но индивидуация самой формы). Но для этого, согласно Скоту, необходимо, чтобы форма или общая природа была нейтральна по отношению к любому единичному; чтобы она по своей сути не была ни всеобщей, ни особенной, ни единым, ни многим, ибо ее сущность заключается в том, что она «не должна вступать в противоречие с любым единичным бытием».
Проблема Скота в том, что, он, как мы видим, мыслит общую природу как некую предшествующую реальность, которая оспаривает у каждого единичного бытия его свойство быть нейтральной. Поэтому он оставляет непомысленным то самое quodlibet, которое неотделимо от единичного, и, не замечая того, указывает на нейтральность как на истинную причину индивидуализации. Но любое, о котором говорит quodlibet, это не нейтральность и не отсутствие различий, это даже не предикат единичного, выражающий его зависимость от общей природы. Каково же, в таком случае, отношение между этим quodlibet и нейтральностью? Каким образом общая форма — человек, может быть нейтральной, когда речь идет об отдельных людях? И что же такое этость, несущая в себе единичное бытие?
Известно, что Гильом де Шампо[11], учитель Абеляра, утверждал, что «идея пребывает в отдельных сущих поп essentialiter, sed indefferenter»[12]. И Скот уточнял, что между общей природой и этостью не существует различия в сущности. A это означает, что идея и общая природа не составляют сущности единичного, что единичное в этом Смысле является абсолютно лишенным сущности, несущественным, и поэтому критерии его отличия следует искать отнюдь не в сущности и не в понятии. Таким образом, отношение между общим и единичным не следует понимать как пребывание одной и той же сущности в различных индивидуумах, и сама проблема индивидуализации грозит обернуться псевдопроблемой.
В этом отношении необычайно интересным представляется то, как Спиноза мыслит общее. Всем телам, пишет он (Этика, И, лемма II), свойственно выражать божественный атрибут протяженности. Однако (теорема 37, там же) то, что является общим, никоим образом не может составлять сущность единичной вещи. Главной является идея несущественного сообщества, объединения, никак не связанного с сущностью. Имение–места, связь единичного через атрибут протяженности, не объединяет его в некоей сущности, но рассеивает его как то, что существует лишь в самом этом рассеивании.
Любое — это не следствие нейтральности или безразличия общей природы по отношению к единичному, нет, его конституирует неразличение общего и индивидуального, рода и вида, сущности и явления. Любое — это вещь со всеми своими качествами, ни одна из которых, однако, не образует различия. Это безразличие в плане качеств и есть то, что одновременно и индивидуализирует единичное и распыляет его, делает его предметом любви (quodlibetali). Как и истинное слово, которое ни в коей мере не присваивает себе общее (язык), но также и не является простой констатацией деталей, человеческое лицо, в свою очередь, не является нам ни как индивидуализация некоего общего facrns, ни как схватывание индивидуальных черт во всеобщем: лицо — это любое лицо, в котором то, что принадлежит природе общего, и то, что является особенным, в принципе неразличимо, абсолютно безразлично.
Именно в этом ключе следует понимать доктрину ряда средневековых философов, которые рассматривали переход от потенции к акту, от общей формы к индивидуальному бытию не как некое вселенское событие, имеющее универсальную значимость, но как бесконечный ряд колебаний качеств. Индивидуация единичного бытия — это не некий точечный факт, но linea generationis substantiae, которая есть шкала непрерывных градаций возрастания и убывания, присвоения и отчуждения, всегда открытая в обе стороны. Образ линии здесь неслучаен. При письме ductus[13] руки постоянно переходит от общей формы букв к тем специфическим чертам, которые и образуют их уникальное начертание, создавая непрерывность линии, так что никогда, несмотря ни на какие ухищрения графолога, невозможно указать, где же действительно в письме пролегает граница между двумя этими сферами, но точно так же и человеческая природа, постоянно заявляя о себе в человеческом лице, обретает в нем свое существование, и тайна его выразительности обязана этому непрекращающемуся возникновению. Однако совершенно очевидно, что можно утверждать и нечто прямо противоположное, а именно, что сотни идиоматизмов или идиотизмов, характеризующих мою манеру писать букву п или произносить фонему, как раз и образуют общую форму. Общее и индивидуальное, родовое и единичное — это всего лишь два убегающих вниз склона, из которых слагается сам гребень любого.
В «Идиоте» Достоевского князю Мышкину ничего не стоит имитировать любой почерк и подписываться чужим именем («покорный игумен Пафнутий оставил здесь свою подпись»), В его почерке индивидуальное и общее оказываются неразличимы, но именно это и есть «идиотизм», то есть индивидуальное свойство, присущее любому. Переход от возможности к акту, от языка к слову, от общего к индивидуальному происходит всякий раз в обоих направлениях, вслед за тем мерцающим чередованием, где общая природа и единичное, потенция и акт постоянно меняются местами и взаимопроникают. Бытие, возникающее на этой линии или вдоль этой границы, — это бытие любое, и то, каким образом оно переходит от общего к частному и от частного к общему, называется обычаем, или, иначе, — этосом.
6/ досуг — agio
Согласно Талмуду, каждому человеку уготовлены два места — одно в Эдеме, другое в Геенне. После того, как праведник оказывается признан безгрешным, он получает в Эдеме ожидающее его место, но сверх того ему достается еще и место его ближнего, сгубившего свою душу. Злодей же получает в аду не только причитающееся ему место, но ему достается также и место спасшегося — его ближнего. Поэтому в Библии и сказано о праведниках:
«потому что в земле своей вдвойне получат»[14], равно как и о грешниках: «разрушат их с двойной силой».
Представляется, что существенным в этой топологии Агады является не столько само картографическое разделение Эдема и Геенны, сколько само это соседнее место, которое всякий человек так или иначе, но неизбежно получает. Ибо осуществив свое предназначение и достигнув своего последнего предела, человек тем самым уже оказывается на соседнем месте. Таким образом, неотъемлемым и изначальным свойством каждого создания становится его способность замещать, его из вечная готовность быть вместо или на месте некоего другого.
Уже ближе к концу своей жизни знаменитый арабист Массиньон, который еще в молодости, живя в мусульманской стране, обратился в католицизм, основал сообщество, которое он назвал арабским термином, означающим замещение, — Бадалья (Ваdaliya). Члены этого сообщества давали обет жить, замещая собой любого, то есть быть христианами, занимая место другого.
Это замещение можно понимать двояко. Так, в падении или в грехе другого можно видеть лишь возможность собственного спасения: если исходить из некоей абстрактной и малоубедительной экономики возмещения, гибель всегда уравновешивается избранием, падение — вознесением. (Если следовать этой логике, то проект «Бадалья» оказывается всего лишь неким запоздалым искуплением вины Массиньона перед его гомосексуальным другом, покончившим с собой в казармах Валенсии, — друга, от которого Массиньон вынужден был отдалиться в момент принятия католицизма.)
Но феномен Бадальи допускает и совсем иную интерпретацию. Согласно замыслу Массиньона, заменить кого–то на самом деле не означает восполнить некий его недостаток или исправить его ошибки, но это означает целиком перенестись в другого — такого, каким он и является, для того, чтобы саму его душу, само его существование или имение–места открыть для Христа. Это замещение отменяет всякое место–собственное, но тогда и событие или имение–места любого единичного бытия уже является совместным местом, пустым пространством, открытым для невероятного, безответного гостеприимства.
Разрушить стену, отделяющую Эдем от Геенны, — вот, следовательно, тайный мотив, исподволь вдохновляющий проект «Бадалья». Поскольку в этом сообществе всякое место возможно лишь как место замещения, то и Эдем, и Геенна — это уже не более чем имена общей чреды замены, общего вместо. Лицемерной фикции, поддерживающий миф об уникальной и незаменимой природе индивидуального, единственная функция которого в нашей культуре — гарантировать возможность некоего всеобщего представления индивидуального, Бадалья противопоставляет абсолютную заменимость, лишенную представления и представимости, — абсолютно непредставимое сообщество.
С этой точки зрения, то множественное совместное место, о котором в Талмуде сказано, что оно есть место ближнего — место, которое каждый неизбежно займет, есть не что иное, как пришествие всякого единичного к самому себе, его бытия любого, то есть — бытия такого — какого.
Досуг — вот имя этого непредставимого пространства. Если, однако, придерживаться этимологии термина, то agio[15] на самом деле означает «пространство рядом» (adjacents, adjacentia[16]), то самое пустое пространство, в котором каждый может свободно перемещаться, ибо в его семантике пространственная близость оказывается совмещена с подходящим, удобным временем (ad–agio[17], спокойно), а удобство — с правильным, подобающим отношением к вещам. Провансальские поэты (в чьих песнях термин как раз впервые и появляется в романских языках в форме aizi, aizmen) превратили «досуг»^ю в свой поэтический termins technicus, обозначающий место самой любви. Или, точнее, оно означало не столько место любви, сколько любовь как опыт любой единичности, опыт имения–места любого единичного. В этом смысле термин «досуга–agio, как никакое другое слово, в высшей степени точно обозначает то «свободное использование собственного, индивидуального», которое, по выражению Гёльдерлина, как раз и является «самой сложной задачей». «Mont mi semblatz de bel aizen»[18], — этим приветствием при встрече обмениваются любовники в песне Джуафре Рюделя[19].
7/ maneries
Известно, что в средневековой логике существует понятие, непосредственная этимология которого, равно как и подлинное значение, тем не менее, до сих пор оставались вне поля зрения кропотливого исследования историков. В одном средневековом источнике говорится, что Росцелин[20] и его последователи утверждали, что роды и универсалии суть maneries. Иоанн Солсберийский[21], который приводит термин в своем трактате Metalogicus, замечая при этом, что он все же не до конца понимает его подлинное значение (incertum habeo), возводит его этимологию к manere — оставаться («manier называется такое количество вещей и такой статус вещей, при которых каждая вещь остается такой, какой она есть»). Что именно имели в виду все эти авторы, когда они говорили, что «maniera» есть понятие, обозначающее самое общее бытие, стоящее над всем? Или, точнее, почему наряду с родами и видами они вводили еще одну третью фигуру?
Определение, даваемое Угоччоне[22], позволяет предположить, что то, что они называли «maniera», не указывало ни на общее, ни на особенное, но обозначало нечто вроде единичного, являющегося образцом, образцовую единичность, или единичное во множественном числе — единичное множественное; он пишет — «вид называется manier в том случае, если говорится что трава этого вида, то есть manier'a, растет в моем огороде». В подобном случае логики говорят об «интеллектуальной демонстрации» (demonstratio ad intellectum), поскольку «указывается некая вещь, которая призвана обозначать другую». Таким образом, maniera — это и не род и не индивид, но это пример, то есть — единичное любое. Поэтому можно предположить, что понятие maneries восходит не к maniera (для того, чтобы выразить пребывание бытия в самом себе, — платоновское топе — средневековые авторы пользовались термином manentia или mansio) и не к manus (к которому его возводят современные лингвисты), но к maniera и, следовательно, оно обозначает бытие как бытие единичное. Его не затрагивает раскол на сущность и существование, господствующий во всей западной онтологии, ибо оно и не то, и не другое, но оно — это порождающая манера, бытие, которое есть не тем или иным образом, но бытие, которое есть сам способ своего собственного бытия; и поэтому, оставаясь единичным, но лишенным чистой неопределенности, оно множественно и соответствует всему бытию, любому.
Лишь идея этой порождающей модальности, этого изначального маньеризма позволяет обнаружить то общее, что позволяет связать между собой онтологию и этику. Это не бытие, сокрытое самим собой, — основание самого бытия, полагаемое в качестве его собственной потаенной сущности, чье мучительное появление на свет и обретение качественной определенности зависит от случая или его судьбы, но это бытие, которое экспонирует себя в этих качествах, которое без остатка есть собственное так — такое бытие не является ни акцидентальным, ни необходимым, но, так сказать, беспрерывно порождается собственной манерой.
Возможно, именно это бытие имел в виду Плотин, когда, стремясь представить себе свободу и волю единого, он объясняет, что о нем нельзя сказать, «что с ним произошло нечто такое–то и такое–то», но лишь что оно «есть таково, каково оно есть, не будучи господином собственного бытия», и что «оно не пребывает ниже самого себя или под самим собой, но располагает собой таким, какое оно есть», и что оно таково не по необходимости, как если бы у него не было иной возможности, но потому, что «так — и есть наилучшее».
Вероятно, единственный способ понять это свободное использование себя, которое не располагает, однако, собственным существованием как неким своим свойством, — это мыслить его как привычку, как этос. Быть порождаемым своей собственной манерой быть — это и есть определение привычки (поэтому–то греки и называли ее второй натурой): этика — это такая манера, о которой нельзя сказать, что нам она выпадает неким случайным образом или, наоборот, что она является неким нашим основанием, но она нас порождает. Быть порождаемыми собственной манерой — это и есть единственное подлинно возможное человеческое счастье.
Но порождающая манера — это, собственно, и есть место единичного любого, его principium individuationis. По отношению к бытию, которое есть собственная манера, — манера, в действительности, не есть некое свойство, его определяющее, совпадающее с его сущностью, но, скорее, оно есть некое не–свойство; поскольку в образец или пример его превращает эта не–свойственность, когда она оказывается воспринята и присвоена как это самое его уникальное бытие. Пример — это лишь бытие, примером которого пример и является: но это бытие не принадлежит самому примеру оно существует исключительно как совместное или общее. Не–свойственное, которое мы экспонируем в качестве нашего собственного бытия, как собственно наше бытие — манера, которую мы используем, — именно она–то нас и порождает, она есть наша вторая, более счастливая натура.
8/ демоническое
Существует долгая еретическая традиция, с необычайным упорством настаивающая на спасении Сатаны после Страшного суда. Вальзер приподнимает занавес над миром, когда самый последний демон из преисподней уже вознесен на Небеса и процесс Спасения окончательно завершен.
Не удивительно ли, что два современных писателя, Кафка и Вальзер, воспринимавшие с поразительной прозорливостью невиданный ужас происходившего вокруг них, изобразили мир, в котором и в помине нет демона, традиционного высшего воплощения зла. Герои Кафки: Клам, Граф, канцлеры, судьи, — и уж тем более творения Вальзера, несмотря на их двусмысленность, никоим образом не могли бы оказаться в каталоге демонологии. Если в мире двух писателей и сохранился некий демонический элемент, то преимущественно в форме, приходившей в голову Спинозе, утверждавшему, что демон, одна из самых слабых и удаленных от Творца креатур, реально бессилен и не только не может причинить никакого зла, а напротив, нуждается как никто в нашей помощи и молитве. Он присутствует во всем сущем как сама возможность не быть, безмолвно взывая к нашей помощи (или, если угодно, демон — не что иное, как Божье бессилие, возможность небытия в Боге). Зло — это всего лишь наш ошибочная реакция на демоническое начало, страх, заставляющий нас отступать перед ним, заставляющий искать в самом бегстве последнее убежище бытия. Именно в этом вторичном смысле — бессилие или возможность небытия — являются истоком зла. Спасаясь бегством от собственного бессилия или пытаясь воспользоваться им как неким орудием, мы порождаем дьявольскую власть, порабощая тех, кто проявил перед нами слабость, и, утрачивая нашу изначальную возможность не–быть, мы в итоге лишаемся того единственного, что ведет к любви. В действительности творение или бытие не является борьбой возможности бытия с возможностью небытия, увенчавшееся победой бытия; скорее, оно есть бессилие Бога перед лицом своего собственного бессилия, ибо его возможность не не–быть делает возможным случайность. Это и есть рождение любви в самом Боге.
Поэтому Кафка и Вальзер противопоставили всемогуществу Бога не столько естественную наивность своих персонажей, сколько их невинность в сфере искушения. Демоническое, которое ими владеет, — это не искуситель, но сама их природа, беспредельно восприимчивая к любому искушению. Для Эйхмана, человека абсолютно банального, необоримым искушением оказалось зло, коренящееся во власти права и закона, это и есть та ужасающая расплата за правоту диагноза писателей, которая выпала на долю нашего времени.
9/ бартлеби
Кант определяет схему возможности как «обусловленность представления о вещи во всякий момент времени». Поскольку потенциальность и возможность не совпадают с реальностью, им, казалось бы, должна всегда быть присуща форма любого, они суть — quodlibet, бытие какое–угодно. Но о какой потенциальности идет речь? И что в этом контексте значит «любой»?
Аристотель выделял два типа возможности, здесь же важна та, которую философ назвал «возможностью небытия» ((dynamis те einai), или же «невозможностью» (adynamia). Ведь если верно, что любое бытие всегда, в сущности, потенциально, то столь же верно, что хотя оно не обладает потенциальностью в отношении того или иного специфического действия, ибо оно к нему попросту неспособно, лишено этой специфической возможности, оно, тем не менее, обладает возможностью вообще, безотносительно к какому–либо сущему — оно пан–потенциально: бытие любое — то, которое может не быть, которому присуща возможность собственной невозможности.
Все дело в том, каким именно образом совершается переход от возможности к действительности. В сущности, симметрия бытия и небытия — это лишь кажущаяся симметрия. Для возможности бытия сама эта возможность связана с некоторым актом, ибо для нее energein, действующее–бытие, или действительное–бытие, возможно лишь как переход к определенной деятельности (именно поэтому Шеллинг назвал слепой возможность, не способную трансформироваться в действие). У возможности же небытия, напротив, актуализация никоим образом не связана с переходом de potential ad actum, поэтому она возможность, объект которой — сама возможность, potentia potentiae[23].
Лишь та возможность может быть высшей, которая может быть как возможностью, так и невозможностью, бессилием. Если каждая возможность заключает в себе возможность как бытия, так и небытия, то переход к действительности может произойти лишь благодаря привнесению (Аристотель называет это «спасением») в актуальное бытие присущей ему возможности небытия. Это значит, что если каждому пианисту присуща возможность как играть на инструменте, так и не играть на нем, то, в таком случае, Гленном Гульдом оказывается лишь тот и только тот, кто может не не–играть и, обращая свою возможность не только к действию, но и к своему собственному бессилию, играет, так сказать, своей возможностью не играть. Если виртуозность попросту отрицает и отвергает изначально присущую ей возможность не играть, то, напротив, то, что сохраняет и воплощает в действие мастерство, есть вовсе не возможность играть (в этом суть иронической позиции, утверждающей превосходство позитивной потенциальности над действием), а возможность не играть.
В трактате «О душе» Аристотель представляет эту теорию буквально как высшую тему всей метафизики. Если бы мысль и в самом деле была одной лишь возможностью мыслить нечто интеллигибельное, то она тотчас бы становилась бытием актуальным, переходя целиком в акт, — пишет он, — и потому она неизбежно оказывалась бы ниже собственного объекта, но мысль по своей сущности есть чистая возможность, то есть это также и возможность не мыслить, и философ именно в этом качестве — как возможный разум или как материю разума, сравнивает ее с девственно чистой дощечкой для письма (этот знаменитый образ латинские переводчики передают выражением tabula rasa, хотя античные комментаторы отмечали, что речь идет скорее о rasum tabulae — восковой поверхности дощечки, по которой царапает перо).
И именно благодаря тому, что мысли присуща возможность не думать, она может обращаться к самой себе (к своей собственной — чистой возможности), становясь мыслью мысли в своей наивысшей точке. Однако то, что она мыслит, это не некий объект, не актуальное бытие, но тот самый слой воска, тот самый rasum tabulae, который есть не что иное, как ее собственная пассивность, ее собственная чистая возможность (не мыслить): для возможности, мыслящей саму себя, действительное и возможное совпадают, и дощечка для письма пишет сама собой, или, точнее, записывает собственную пассивность.
Всякий акт, порождающий совершенное письмо, проистекает не из возможности писать, но из невозможности или бессилия, обращенного к самому себе, и таким образом он постигает себя как чистый акт (Аристотель называет его действующим или поэтическим интеллектом). Поэтому в арабской традиции действующий ум предстает в форме ангела по имени Калам, или Пенна, пребывающий в неисповедимой потенциальности. Бартлеби[24] — это писатель, который не просто не пишет, но который именно «предпочитает не делать этого», предстает как некое предельное воплощение этого ангела, записывающего лишь свою возможность не писать.
10/ необратимость
В ИССЛЕДОВАНИИ под номером 91–quaesto 91, являющимся приложением к «Сумме теологии» и озаглавленном De qualitate mundi post indicum[25], рассматривается вопрос о том, каким будет природа мира после Страшного суда: произойдет ли renovatio — обновление Вселенной? прекратится ли движение небесных тел? засияют ли светила ярче? что станется с животными и растениями? Ответ на эти вопросы сталкивается с очевидными логическими затруднениями: если чувственный мир был замыслен, дабы несовершенный человек мог жить в нем достойно, то каким задачам должен отвечать замысел мира после того, как человек и мир достигли своего сверхъестественного предназначения? Как может природа существовать уже после того, как ее конечная цель окажется реализованной? Ответ на подобные вопросы дают прогулки Вальзера по «старой, доброй и надежной земле», и этот ответ всегда один: «прекрасные поля», «сочная трава», «нежное журчанье ручья», «клуб, украшенный яркими флагами», девушки, соседняя парикмахерская, комната госпожи Вильке, — все это, конечно же, останется та ким, как и сейчас, но именно в этом и заключена новизна. Письмо Вальзера помечает предметы монограммой необратимости. Необратимость означает, что предметы без остатка переданы их бытию–такому, и даже больше того — они как раз и есть лишь это их так (Вальзеру в высшей степени не свойственно стремление выдавать себя не за то, чем ты являешься); но это значит также, что у вещей более нет никакого убежища, что в их бытие–таковом они предъявлены без остатка, абсолютно экспонированы — они абсолютно покинуты.
Это подразумевает, что после Страшного суда из мира одновременно исчезнут необходимость и случайность, — эти два изнурительных креста западного мышления.
Отныне же мир, во веки веков, необходимо случаен или случайно необходим. Ибо между простой неспособностью не быть, не быть вовсе, в которой берет свое начало порядок необходимости, и способностью просто не быть, порождающей мерцающую случайность, — в мире после его завершения возникает зазор для еще одной возможности, не сулящей, однако, никакой новой свободы: мир может также и не не–быть — для него открыта необратимость.
Античное высказывание о том, что если бы природа обладала даром речи, то мы бы услышали ее стенания, похоже, отныне утрачивает свою истинность. После Страшного суда все животные, растения, вещи, все частицы и все создания этого мира, исчерпав свое теологическое назначение, блаженствуют, так сказать, в нетленной бренности, и над ними простирается нечто наподобие мирского нимба. Поэтому, пожалуй, ничто не определяет точнее то единичное бытие, что грядет, чем завершающие строфы одного из поздних стихотворений Гёльдерлина:
Природа золотой рассвет являет, Она — завершена, в ней жалоб не бывает.11/ этика
Любое рассуждение об этике исходит из того, что человек не имеет и не должен иметь никакой сущности, никакого духовного или исторического назначения, не предопределен никакой биологической программой. Только лишь при этом условии этика оказывается возможной, поскольку ясно, что если бы человек был или должен был быть какой–то сущностью, если бы он имел то или иное предназначение, то никакой этический опыт был бы невозможен и у нас были бы лишь задачи, подлежащие выполнению.
Однако это вовсе не значит, что человек не является и не должен являться чем–то конкретным, что он вовсе ни для чего не предназначен, и поэтому решение того — быть ему или не быть, какую судьбу выбрать — всякий раз зависит лишь от его воли (здесь смыкаются нигилизм и волюнтаризм; теория предопределения). Человек есть нечто фактическое, но то, чем он является и чем он должен являться — это вовсе не сущность и не какая–либо вещь: ибо само существование человека есть не что иное, как возможность или потенциал. Но именно по этой причине все усложняется, и именно поэтому этика оказывается реальной.
Поскольку бытие, наиболее близкое человеку, — это способность быть собственной возможностью, то поэтому — и это единственная причина — человек всегда испытывает фундаментальную нехватку, и он сам и есть эта нехватка (поскольку наиболее присущее ему бытие — это сама его возможность, то в силу этого, в определенном смысле, ему его недостает, ведь его может и не быть, ибо оно лишено необходимого основания и всего лишь возможно, и человек не всегда им безоговорочно обладает). Таким образом, будучи возможностью и бытия, и небытия, человек уже всегда в долгу, у него вечно нечистая совесть — прежде, чем он совершит какой–либо проступок.
В этом и состоит смысл древней теологической доктрины о первородном грехе. Мораль же, напротив, трактует эту доктрину как вину за якобы совершенное человеком прегрешение, тем самым нейтрализуя его возможность или потенциал и помещая его в прошлое. Зло древнее, чем любой проступок: оно изначально по отношению к любой конкретной вине, поскольку его единственный исток в том, что человек, будучи лишь своей возможностью, каковой он и должен быть, в определенном смысле не соответствует сам себе, его недостаточно для того, чтобы быть собой, и он должен присвоить себе эту нехватку — он должен существовать как возможность. Подобно Парсифалю из романа Кретьена де Труа[26], он виноват в том, что ему недостает — в грехе, которого не совершал.
Поэтому в этике нет места раскаянию и поэтому единственный этический опыт (который не может быть ни неким заданием, ни субъективным решением) состоит в том, чтобы быть (собственной) возможностью, бытием (собственной) возможности, то есть в каждой форме являть свою аморфность и в каждом действии — свою недействительность.
И тогда единственным злом окажется наше решение быть, оставаясь в долгу перед бытием, пытаясь присвоить возможность небытия как некую сущность или как некое потустороннее основание; или же (такова участь всей морали) зло будет состоять в том, чтобы превратить саму возможность — которой человек единственно и располагает в своем бытии — в вину, от которой следует навсегда избавиться.
12/ колготки dim
В начале семидесятых годов в парижских кинотеатрах крутили рекламный ролик известной фирмы–производителя колготок. Эти колготки демонстрировались на фоне группы танцующих девушек. Даже тем, кто смотрел рассеянно, наверняка запомнилось некое странное ощущение, которое производили фигуры этих улыбающихся танцовщиц, ибо в нем причудливо сочетались синхронность и диссонанс, хаос и гармония, открытость и отчуждение. Эффект достигался определенным приемом: каждую девушку снимали отдельно, а потом отдельные части монтировались все вместе на фоне единой фонограммы. Однако благодаря такому незатейливому трюку от тщательно продуманной асимметрии движений длинных ног танцовщиц, одинаково обтянутых этими совсем недорогими колготками, от этих предельно выразительных жестов вдруг веяло надеждой на счастье, недвусмысленно связанным с человеческим телом.
В двадцатые годы, когда в процессе капиталистическом коммерциализации начало активно участвовать человеческое тело, даже те, кто был критически настроен в отношении подобного явления, не могли не увидеть здесь нечто позитивное, словно пред ними вдруг оказался полуистлевший текст пророчества, возвещающего пределы мира капиталистического производства, текст который надо непременно дешифровать. Так возникли размышления Кракауера[27] о girls и заметки Беньямина об угасании ауры.
Превращение человеческого тела в товар, с одной стороны, конечно же, подчинило его железным законам массового производства и товарооборота, но в то же время тело словно освободилось от стигматов невыразимости, которыми оно было отмечено тысячелетиями. Освободясь от двойных оков — биологической судьбы и индивидуальной биографии, — оно распрощалось как с нечленораздельным воплем трагического тела, так и с немотой тела комического, и впервые явилось как абсолютно коммуникабельное и целиком высвеченное. В танцах girls, в рекламных картинках, в дефиле манекенщиц завершился вековой процесс эмансипации человеческого образа, его освобождения от теологических основ; процесс, принявший промышленные масштабы еще в начале XIX века, когда изобретение литографии и фотографии дало толчок буму дешевых порнографических открыток, и тело теперь — это не некое тело вообще, но это уже и не индивидуальное тело, это не божественный образ, но и не форма живого — тело стало теперь воистину любым.
Сегодня уже сам товар демонстрирует свою тайную солидарность с теологическими антиномиями (именно это Маркс и предугадал). Поскольку «по образу и подобию», о котором говорится в книге «Бытия», обосновывает человека «в Боге», привязывая его, таким образом, к некоему незримому архетипу, это означает, что здесь же следует искать и исток парадоксального понятия, — сходства, абсолютно лишенного какой–либо материи. Коммерциализация отделила тело от его теологической модели, оставив нетронутой лишь саму схожесть: любое — это сходство без архетипа, то есть Идея. Хотя красота технизированного тела — это красота тотального замещения и замещаемости, и она не имеет ничего общего с тем уникальным, явившимся в образе Елены у Скейских ворот, враз опрокинувшим все древние троянские устои, тем не менее и в той, и в другой светится некое сходство («страшно видеть ее столь похожей на бессмертных»). Теперь человеческое тело не походит больше ни на Бога, ни на тело животных, но — лишь на другие человеческие тела. В этом причина того, что человеческое тело перестало интересовать современное искусство, и в этом же причина упадка мастерства портрета: ведь задача портрета — передать уникальность, а чтобы запечатлеть любое — достаточно объектива фотоаппарата.
В каком–то смысле процесс эмансипации возник одновременно с возникновением искусства. С того момента, как человек впервые нарисовал или изваял человеческую фигуру, в ней, судя по всему, он воплотил мечту Пигмалиона — создать не просто образ любимого тела, но создать другое тело, подобное любимому образу, разрушить органические преграды, встающие на пути к безусловному стремлению человека к счастью.
Ну и как же обстоит здесь дело теперь — в наш век абсолютного господства товарной формы над всеми сторонами общественной жизни; что же с ним, с этим тайным, безрассудным обещанием счастья, которое излучали в полумраке кинотеатра танцовщицы, облаченные в облегающие колготки DIM? Никогда прежде человеческое тело, и в особенности женское, не было объектом столь масштабной манипуляции, ибо технология рекламы и товарное производство делают его, так сказать, объектом чистого воображения, буквально — с головы до ног: транссексуальное тело лишает различия полов всякой таинственности; став частью массмедийного спектакля, невыразимая природа индивидуума утратила уникальность фюзиса, сама смертность органического тела вызывает сомнение, коль скоро перед нами уже тело без органов, ставших товаром, а порнография лишает эротические отношения какой–либо интимности. Тем не менее, процесс технизации как раз и не затрагивает материальное бытие тела — напротив, он направлен на создание некоей самостоятельной сферы, которая с ним практически не соприкасается: технизированно не само тело, а лишь его образ. Сияющее рекламируемое тело стало своего рода маской, за которой маленькое, хрупкое человеческое тело продолжает свое ненадежное, опасное существование; геометрическое великолепие танцующих girls скрывает длинные ряды безымянных нагих тел, ведомых на смерть в лагерях, или тысячи истерзанных трупов повседневной автодорожной бойни.
Овладеть историческими изменениями, произошедшими в человеческой природе, которые капитализм хотел бы превратить в чистое зрелище, слить образ и тело в едином пространстве, где они уже неразличимы, где рождается любое тело, фюзис которого — сходство, вот то благо, которое человечество должно суметь вырвать у товара на закате его дней. Реклама и порнография, которые, словно две плакальщицы, будут сопровождать его в могилу, помимо своей воли как раз и станут повитухами нового человеческого тела.
13/ ореол
Известна притча о царстве Мессии, которую Беньямин однажды вечером пересказал Блоху (сам же он услышал ее от Шолема), а затем она была изложена в Spuren[28]: «Некий раввин, подлинный знаток кабалы, как–то сказал, что для воцарения мира на земле нет нужды все разрушить, а потом строить заново; достаточно всего лишь слегка передвинуть чашку, или деревце, или камень — и так все вещи. Впрочем, осуществить это самое "слегка" столь сложно, столь трудно найти его правильную меру, что в этом мире людям это не по силам и для этого необходимо явление Мессии». В пересказе Беньямина эта притча звучит так: «Хасиды рассказывают некую историю о грядущем мире: там все будет точно так же, как и сейчас, наша комната останется прежней, ребенок будет спать все там же, и там мы будем одеты в те же вещи, что и в этом мире. Все будет, как сейчас, но чуть–чуть иначе».
Тезис, что Абсолютное идентично нашему миру, не нов. Его радикальной формулировкой является аксиома индийских логиков: «Между Нирваной и нашим миром невозможно обнаружить даже самое малое отличие». Новым, однако, оказывается это — едва уловимое — смещение, возникающее в мире мессианской истории. Однако именно это небольшое смешение, то, что «все будет, как сейчас, но несколько иначе», как раз труднее всего понять. Смещение, конечно же, не относится ни к чему реальному, его нельзя понять в том смысле, что нос блаженного невероятным образом станет чуть короче, или стакан на столе сместится ровно на полсантиметра, или собака во дворе вдруг перестанет лаять. Это неуловимое смещение коснется не состояния вещей, а смысла и их границ. Оно произойдет не внутри вещей, а на их периферии, в зазоре — в agio, открывающемся между самой вещью и этой же вещью, в каждой вещи. Значит, если совершенное состояние не предполагает реальных изменений, оно, однако, может быть и просто вечным состоянием вещей, неким необратимым «это так». Напротив, притча подразумевает возможность там, где все совершенно, некое «иначе» там, где все уже навсегда завершено, и именно в этом заключается ее непреодолимая апория. Но возможно ли какое–либо «иначе», когда все окончательно завершено?
В этом смысле небезынтересна доктрина Фомы Аквинского, которую он развивал в кратком трактате о нимбе. Блаженство избранных, — пишет он, — включает в себя все блага, необходимые для безупречного функционирования человеческой природы, и, стало быть, к этому нельзя уже добавить ничего существенного. Однако есть нечто, что может причитаться сверх того (superaddi) — «несущественная награда, добавляемая к сущности», которая не необходима для блаженства и не меняет его существа, но придает ему сияние (clarior).
Нимб — это добавление к совершенству, нечто вроде трепета совершенства, едва заметное радужное свечение самих его границ.
Кажется, теолог не сознает собственной смелости внося в status perfectionist[29] случайный элемент, одного этого вполне достаточно, чтобы понять, почему quaestie, исследование о нимбах, практически не нашло отзыва в латинской патриотке. Нимб не есть quid — свойство или сущность, прибавленная к блаженству, — он есть абсолютно несущественное добавление. Но именно здесь Фома неожиданно предвосхищает теорию Скота, которую тот несколько лет спустя противопоставит подходу Фомы в вопросе индивидуализации. На вопрос, может ли нимб одного святого оказаться ярче, чем у другого (вопреки доктрине, утверждающей, что завершенное не подлежит ни росту, ни уменьшению), он ответил: «Блаженство снисходит не на отдельных совершенных индивидуумов, а на весь вид целиком, и подобно тому, как огонь и все, что относится к его виду, — самые тонкие из всех тел, но все же один огонь может быть тоньше другого, так же и один нимб может светиться ярче другого».
Значит, нимб — индивидуализация блаженного состояния, обретение совершенством единичности. Так же как и у Скота, эта индивидуализация предполагает не столько добавление сущности или изменение природы, сколько обретение окончательной завершенности в единичном; но, в отличие от Скотта, единичное здесь — это не Бытие, получающее окончательное оформление, а размывание или исчезновение его границ, некая парадоксальная индивидуализация через неопределенность.
В этом плане нимб предстает как место, где возможность и реальность, потенциальное и актуальное становятся неразличимы. Бытие, приблизившееся к своему завершению, исчерпавшее все свои возможности, получает в дар некую дополнительную возможность. Это та самая potentia permixta actui[30] (или actus permixtus otentiae[31]), которую гениальный философ XIV века называет actus confusiois — смешивающее действие, ибо форма или специфическая природа здесь не сохраняется, но они смешиваются и растворяются без остатка, порождая новое. Неуловимый трепет завершенного, конечного бытия, размывающий его границы и делающий индивидуальное неразличимым — любым, это и есть то едва уловимое смещение, которому подвергается всякая вещь в царстве Мессии. Блаженство в нем — это та возможность, что открывается лишь после акта и осуществления: блаженство материи, более не связанной формой, вокруг которой теперь сияет ее нимб.
14/ псевдоним
Каждая жалоба — жалоба на языковый материал, так же, как каждая хвала, прежде всего, — хвала имени. Эти две крайности определяют возможные границы и действенность человеческого языка в его способности соотноситься с предметами. Когда природа чувствует, что слово ее предает, она источает жалобы, когда же слово точно выражает вещь, сам язык становится восхвалением имени, имя становится святым. Похоже, язык Вальзера оказывается вне этих крайностей. Онтотеологический пафос (как пафос невыразимости, так и претензия на абсолютное выражение в языке) всегда был чужд его письму, причудливо уравновешивающему «невинную неточность» и стереотипный маньеризм. (Здесь даже протокольный стиль Скарданелли[32] оказывается предвестником небрежной прозы Берна или Вальдау, опережая их на столетие.)
Если Запад регулярно использовал язык как некую машину, претворяющую имя Бога, в котором он же и обосновывал свою референциальную возможность, то язык Вальзера словно пережил свое теологическое назначение. Природе, исчерпавшей свою творческую способность, соответствует язык, отказавшийся от всяких претензий на давание имен. Если рассматривать его прозу с точки зрения семантики, то в этом плане ее статус оказывается идентичен семантике псевдонима или прозвища. Будто перед каждым словом здесь стоят незримые — «так называемый», «как бы», «говоря на общепринятом жаргоне», или же за ним следует (как это происходит в поздних латинских текстах, где возникновение прозвища знаменует переход от латинской триномиальной системы к средневековой униноминальной) «qui et vocatur…» так, что каждый термин словно оспаривает свою собственную способность к номинации. Подобно маленьким танцовщицам, с которыми Вальзер сравнивает свою прозу, ее «смертельно уставшие» слова отвергают всякую претензию на строгость. Если какая–то грамматическая форма и соответствует подобному изнуренному состоянию языка, то это супин, то есть слово, целиком исчерпавшее себя в склонениях и спряжениях — «склонившееся» и теперь «упавшее навзничь»[33], оно распростерто и нейтрально.
Мелкобуржуазное недоверие к языку превращается здесь в стыдливость языка по отношению к своему референту. Это уже не значение слова, предавшее природу, но это и не ее преображение в имени: перед нами то, что будучи несказанным, пребывает в псевдониме или зазоре (agio) между именем и прозвищем. В письме к Рихнеру говорится о «том неисчерпаемом наслаждении, которое таит в себе возможность вообще ничего не высказывать». Образ — именно этим словом в своих «Письмах» Павел называет то, что проходит перед ликом бессмертной природы, но это также и имя, которое сама природа дает жизни, рождающейся в этом промежутке.
15/ бесклассовость
Если мы сегодня заново попытаемся взглянуть на судьбу человечества с классовой точки зрения, то следовало бы сказать, что социальных классов больше нет, что все они растворились во всемирной мелкой буржуазии, ибо мир в целом, как таковой, унаследован мелкой буржуазией, и она–то и есть та форма, в которой человечество смогло пережить нигилизм.
Фашизм и нацизм это прекрасно поняли, и поэтому характерное для них отчетливое понимание неизбежного заката прежних социальных субъектов стало неопровержимым диагнозом для самой современности. (Однако если рассматривать их в сугубо политическом аспекте, то ни фашизм, ни нацизм еще не преодолены. И мы все еще живем под их знаком.) Прежде они выражали интересы мелкой национальной буржуазии, еще державшейся за псевдонародную идентичность, — ту почву, из которой рождалась греза о буржуазном величии. Всемирная же мелкая буржуазия, наоборот, освободилась от этих мечтаний и обрела способность пролетариата упразднять всякую социальную идентичность. О чем бы ни зашла речь — тем же жестом, которым мелкий буржуа, казалось бы, хотел нечто возвысить, он это обесценивает: он знает только отчужденное и неподлинное и отвергает саму мысль об истинном слове. Различия языков, диалектов, образа жизни, характеров, нравов и, прежде всего, природных черт, отличающих каждого человека, — различия, из которых складывалась истина и ложь народов земли на протяжении сменявших друг друга поколений, — все это утратило для него какой–либо смысл, во всем этом для него уже нет ни новизны, ни тайны. Мелкая буржуазия лишила различия, знаменовавшие трагикомедию всемирной истории, какого–либо содержания, и все они разом оказались перед нами в некой призрачной пустоте.
Бессмысленность индивидуального бытия, которое она переняла от нигилистского подполья, со временем стала столь привычной, что утратила остроту и какой–либо пафос, ибо за пределами подполья абсурд стал объектом повседневной демонстрации или эксгибиционизма: жизнь современного человечества в этом плане похожа на рекламный фильм, в котором от самого рекламируемого товара не осталось и следа. Противоречие мелкого буржуа в том, что он все же ищет в этом фильме товар, которого его лишили, упорно стремясь вопреки всему присвоить себе идентичность, на самом деле ему абсолютно чуждую и не нужную. Стыдливость и наглость, конформизм и маргинальность — вот вездесущие полюса любых его эмоциональных проявлений.
В действительности бессмысленность его существования сталкивается с главной бессмысленностью, о которую разбивается вдребезги любая реклама, — со смертью. Здесь мелкий буржуа подвергается последней экспроприации, переживает последнюю личностную травму, это нечто — нагая жизнь, — нечто абсолютно несообщаемое; и здесь–то его стыдливость наконец угасает. Смерть оказывается для него способом скрыть от самого себя тайну, в которой он в конце концов вынужден сам себе признаться: даже нагая жизнь на самом деле ему абсолютно чужда, и нет для него на Земле никакого места.
Это означает, что всемирная мелкая буржуазия и есть, вероятно, та форма, в которой человечество движется к самоуничтожению. Однако это означает также, что здесь открывается небывалая возможность в истории человечества, которая ни в коем случае не должна быть упущена. Потому что если бы люди не искали свою идентичность в индивидуальности, ставшей чуждой и бессмысленной формой, а вместо этого им удалось бы приобщиться к этому несобственному — несобственному как таковому, и им удалось бы превратить свое бытие–такое не в идентичность и не в индивидуальные особенности, а в единичное, лишенное какой–либо идентичности, в единичность совместную и абсолютно экспонированную, то есть если бы люди смогли быть не своими так, образующими ту или иную биографическую идентичность, но быть лишь этим «так», своей экспонированной уникальностью, своим собственным лицом, тогда, возможно, человечество впервые приблизилось бы к сообществу без предпосылок и без субъектов, к общению, в котором уже нет несообщаемого.
Отбирать в этом новом планетарном человечестве характеры, позволяющие ему выжить, всякий раз заново проводить черту, отделяющую дурную рекламу масс–медиа от того безукоризненно совершенного — «внешнего», которое возвещает лишь само себя, — вот политическая задача нашего поколения.
16/ вовне
Любое — это фигура единичного как такового. Будучи любым, единичное лишено идентичности и не определяется понятием, но в то же время оно не есть и чистая неопределенность, ибо оно обусловлено лишь своей реализацией в идее, то есть всеми своими возможностями в целом. Именно благодаря этой реализации единичное, как замечает Кант, оказывается соотнесено со всем возможным вообще и получает, таким образом, свое omnimoda determination не через свою принадлежность к обусловливающему его понятию и не в силу обладания некими реальными качествами (быть красным, итальянцем, коммунистом), но исключительно благодаря своему пограничному положению. Единичное принадлежит целому, однако эта принадлежность не выражается в каких–либо конкретных категориях: принадлежность или бытие–такое это всего лишь отношение к целому — ничем не заполненному и никак не определенному.
В кантовской терминологии это означает, что границу, о которой идет речь, следует понимать не как предел (Schranke), для которого не существует «вовне», но как порог (Grenze), то есть как точку соприкосновения с внешним пространством, которое должно оставаться пустым.
То, что любое добавляет к единичному, — это всего лишь пустота, всего лишь порог; любое — это любое единичное, но также еще и пустое пространство; единичное конечно, и все же в плане понятия оно остается необусловленным. Поэтому единичное плюс пустое пространство может быть только чем–то абсолютно внешним, чистой экспозицией. В этом смысле любое есть событие некоего вовне. Следовательно, в архитрансцендентальном quodlibet мыслится как раз то, что мыслить труднее всего — абсолютно не–вещный опыт абсолютно внешнего.
Здесь важно то, что понятие «вовне» во многих европейских языках выражается словом, означающим «у дверей» (fores на латыни — это дверь дома, греческое theraten буквально означает «у порога»). Вовне — это не другое пространство, расположенное по ту сторону этого пространства, а арка прохода, то внешнее, что и открывает к нему доступ — словом, его лик, его eidos.
В этом отношении порог не есть нечто иное по отношению к пределу, он, так сказать, и есть опыт самого предела, бытие–внутри самого вовне. Ek–stasis — это тот дар, который единичное принимает из пустых рук человечества.
17/ омонимы
В июне 1902 года тридцатилетний английский логик написал краткое письмо Готлибу Фреге, в котором он сообщал о том, что в одном из постулатов «Основоположений арифметики» он обнаружил антиномию, которая грозила подорвать самые основы математического «рая», возведенного благодаря теории множеств Кантора.
Фреге был встревожен — со свойственной ему проницательностью он сразу же понял, насколько серьезна проблема, о которой шла речь в письме молодого Рассела, — ставкой оказалась ни больше ни меньше как возможность перехода от понятия к его расширению, то есть сама возможность мыслить в терминах классов. Позднее Рассел пояснял: «Когда мы говорим, что некие объекты обладают одним и тем же свойством, мы предполагаем, что это свойство есть некий определенный объект, отличаемый от тех объектов, к которым он принадлежит; кроме того, мы предполагаем, что объекты, обладающие данным свойством, образуют класс, который некоторым образом является новой сущностью, отличающейся от каждого из его элементов». Именно эти молчаливо разделяемые и столь очевидные посылки как раз и подверг сомнению парадокс о «классе всех классов, которые не принадлежат сами себе», — парадокс, который стал теперь чуть ли не салонным времяпрепровождением, но который, несомненно, оказался достаточно серьезным аргументом, чтобы постоянно ставить под сомнение интеллектуальную деятельность Фреге, а также чтобы вынудить самого открывателя парадокса в течение многих лет прибегать к самым различным уловкам для того, чтобы как–то нейтрализовать его последствия. Несмотря на настойчивые попытки как–то исправить дело, предпринимавшееся Гилбертом, логики все же были бесповоротно изгнаны из своего рая.
Фреге интуитивно понял то, что теперь, видимо, становится все более ясно и нам, — в основании парадоксов теории множеств находится все та же проблема, которую Кант сформулировал 11 февраля 1772 года в письме к Маркусу Герцу в следующей форме: «Каким образом наши представления соотносятся с объектами?» Что мы имеем в виду, когда говорим, что понятие «красное» обозначает красные объекты? Верно ли, что любое понятие определяет класс, который есть его же собственное расширение? И можно ли говорить о понятии, независимо от его расширения? Ибо парадокс Рассела как раз и выявил существование свойств или понятий (он назвал их непредикативными), которые не обусловливают существование классов (или же которые не могут определять класс, не впадая при этом в антиномию). Рассел полагал, что эти свойства (и те псевдоклассы, которые возникают на их основе) суть такие, что в их определении фигурируют «мнимые переменные», к которым относятся такие понятия, как «все», «каждый», «любой».
Классы, порождаемые этими выражениями, являются «незаконными множествами», поскольку они ют быть частями множеств, которые сами же и определяют (нечто вроде понятия, которое должно быть одновременно и частью собственного расширения). Пытаясь противостоять проблеме (пренебрегая тем, что оговариваемые ими условия как раз и содержат подобные переменные), логики множат запреты и выставляют повсюду свои пограничные блокпосты: «любое свойство, относящееся к каждому из членов множества, не должно быть одним из этих членов»; «то, что каким–либо образом характеризует любой член или члены некого класса, не должно быть членом того же класса»; «если какое–либо выражение содержит мнимую переменную, то оно не должно быть одним из возможных значений этой переменной».
К несчастью для логиков, непредикативные выражения намного более многочисленны, чем можно было ожидать. Более того, поскольку каждый термин по определению относится ко всем членам множества или любому его члену, и, сверх того, еще и к самому себе, то можно утверждать, что все (или почти все) слова представляют собой классы, которые, согласно формулировке парадокса, принадлежат и в то же время не принадлежат сами себе.
Однако утверждая, что мы ни в коем случае не примем понятие «ботинок» за сам ботинок[34], мы вряд ли решим проблему. В данном случае понять pointe[35] проблемы мешает непроясненность исходной концепции автореференциальности, — здесь речь идет не об акустической или графической субстанции слова «ботинок» (средневековые suppositio materialis[36]), но имеется в виду слово «ботинок» именно в своем значении ботинка (или же, a parte objecti, ботинок, существующий как то, что обозначено термином «ботинок». Мы без труда отличаем сам ботинок от понятия «ботинок», однако значительно труднее отличить некий ботинок от быть–сказанным — (ботинком), от его бытия–в–языке. Быть–сказанным, бытие–в–языке — это такое по определению непредикативное свойство, которое, будучи свойственно каждому члену класса, одновременно делает их принадлежность к этому классу невозможным, превращает его в апорию. В этом как раз и заключается смысл парадокса Фреге, который он сформулировал однажды в форме следующей записи: «понятие "лошадь" не есть понятие» (эту же мысль Мильнер выразил в недавно вышедшей книге так: «лингвистический термин не имеет имени собственного»): то есть, если мы попытаемся ухватить понятие как таковое, оно неизбежно превратится в некий объект, и мы заплатим за это тем, что понятие и мыслимая конкретная вещь для нас станут неразличимы.
Эта апория интенциональности, согласно которой она не может осуществиться как интенция, не превратившись при этом в некий intentum, была известна в средневековой логике как парадокс «познаваемого бытия». В формулировке Мейстера Экхарта это звучит так: «Если бы форма (species) или образ, через который вещь воспринимается и познается, отличались от самой вещ то мы никогда бы не смогли познать вещь ни посредством формы, ни в самой форме. Однако если бы форма или образ ничем не отличались от вещи, то она была бы бесполезна для познания… Если бы форма, пребывающая в душе, также была бы по своей природе объектом, то мы не постигали бы ту вещь, формой которой она является, ибо, если бы сама форма была объектом, это привело бы нас к познанию самих себя и увело от познания вещи». (То есть, переводя все это в избранную нами терминологическую плоскость: если бы слово, которым выражена вещь, отличалось от нее или было бы с ней идентично, то слово не могло бы выразить вещь.)
Только теория идей, а не иерархия типов (которую предложил Рассел и которая так возмущала молодого Витгенштейна) способна освободить мысль от апорий языкового бытия (или, точнее, преобразовать их в эупории[37]). Именно это и было необычайно точно сформулировано Аристотелем в том месте, где он анализирует отношение между платоновской идеей и множественным характером явлений — фраза, которую современные издания метафизики лишают ее подлинного смысла. Если же обратиться непосредственно к самой рукописи как последнему авторитету, то мы читаем: «В соответствии с участием, множественность синонимов суть омонимия по отношению к идее» (Меt 987b 10).
Согласно Аристотелю, синонимы — это понятия, имеющие одно и то же название и одно и то же определение; иначе говоря, они — явления, которые суть члены одного и того же класса, ибо им присуще общее понятие, и в силу этого они принадлежат к одному и тому же множеству. Те же самые явления, находящиеся между собой в отношении синонимии, становятся, однако, омонимами, если рассматривать их с точки зрения идеи (по Аристотелю, омонимами называются объекты, имеющие одно и то же название, но разное определение). Получается, что отдельные лошади являются синонимами по отношению к понятию «лошадь», но омонимами по отношению к идее лошади: именно так, как это происходит в парадоксе Рассела — один и тот же объект одновременно принадлежит и не принадлежит к одному и тому же классу.
Но что же это такое — идея, которая образует омонимию многочисленных синонимов и которая, присутствуя в каждом классе, освобождает члены от их предикативной принадлежности, превращая в обычные синонимы, единственным местом пребывания которых оказывается язык? То, относительно чего синоним является омонимом, — это не объект и не понятие, но имение имени, сам факт, сама его принадлежность, или его бытие–в–языке. Все это, однако, уже не может быть ни названо, ни продемонстрировано, но лишь возобновлено в анафорическом повторе. Отсюда следует главный принцип, хотя он редко формулируется в качестве такового: идея не имеет собственного названия или имени собственного, но выражается лишь анафорой auto: идея вещи есть сама вещь. Эта анонимия (безымянность) омонимов и есть идея.
Но именно поэтому она и есть такой омоним, каким является любое. Любое есть единичное постольку, поскольку оно соотносится не только с понятием, но также и с идеей. Это отношение не образует еще одного класса, но в каждом классе оно есть то, что освобождает единичное от его синонимии, от его принадлежности к определенному классу, однако при этом оно отнюдь не лишает его имени или принадлежности, поскольку высвобождает само имя, чистую и безымянную омонимию. Если сетка понятий непрерывно вводит нас в мир синонимических отношений, то идея — это как раз то, что вторгается, чтобы всякий раз разрушить видимость абсолютности этих отношений, продемонстрировав их несостоятельность. Следовательно, любое не означает (как это заметил Бадью) «нечто высвобожденное из–под власти языка, нечто неименуемое, неразличимое»; скорее оно означает нечто, которое, принадлежа простой омонимии, существуя лишь как чистое быть–сказанным, в силу самого этого обстоятельства как раз и оказывается неименуемым; оно — бытие–в–языке некоего не–лингвистического.
То, что здесь остается без имени, — это как раз названное бытие, само имя (noten unnottаbile); освобожденным от власти языка здесь оказывается только бытие–в–языке. Ибо, если исходить из тавтологии Платона, в которую еще только предстоит вникнуть, идея некоей вещи — это и есть сама вещь; имя, поскольку оно именует вещь, это не что иное как вещь, поскольку она названа именем.
18/ шекина[38]
Когда в ноябре 1967 г. Ги Дебор опубликовал свое «Общество спектакля», политика и вся общественная жизнь еще не превратились безвозвратно в то фантастическое зрелище, которое стало сегодня чем–то привычным. Но именно поэтому абсолютная категоричность его диагноза заслуживает особого внимания.
Исходя из марксистского анализа фетишистской природы товара, тогда все еще остававшегося недооцененным, Дебор делает свой более радикальный вывод и показывает, что капитализм в его завершающей форме являет собой некое безграничное накопление образов, в котором весь непосредственный жизненный опыт предстает в форме отстраненного зрелища. Однако зрелище в данном случае не является всего лишь сферой образов или того, что называется масс–медиа, оно есть «социальное отношение людей, опосредствованное в образах», экспроприация и отчуждение самой общественной сущности человека. То есть, говоря кратко: «зрелище — это капитал, достигшим такой степени накопления, когда он уже становится образом». Но именно поэтому зрелище есть не что иное, как форма абсолютного отчуждения, — там где реальный мир превращается в образы, а образы становятся реальностью, практическая способность человека отделяется от самой себя и предстает как самостоятельный мир. И как раз в этом мире, отстраненном и организованном с помощью масс–медиа, где государство и экономика взаимопроникают друг в друга, рыночная экономика обретает абсолютную и совершенно безответственную власть над всей общественной жизнью. Фальсифицировав всю совокупную сферу производства, теперь она способна манипулировать уже и коллективным восприятием, ибо, господствуя над памятью и социальными коммуникациями, она превращает их в универсальный товар — в зрелище, в представление, где все может быть подвергнуто сомнению, за исключением самого зрелища, которое словно само собой провозглашает: «всякое представление — благо, и всякое благо — предстает».
Что же представляется актуальным в наследии Дебора сегодня, когда общество спектакля безоговорочно победило? Ведь ясно, зрелище — это язык, сама возможность общения или языковое бытие человека. Это означает, что марксистский анализ следует некоторым образом дополнить, поскольку капитализм (не имеет значения, как мы назовем процесс, управляющий сейчас мировой историей) был направлен не только на экспроприацию трудовой деятельности, но также, и даже прежде всего, на отчуждение самого языка, самой языковой и коммуникативной природы человека, того logos’а, которым Гераклит называет Общее. Предельная форма подобной экспроприации общего и есть зрелище, то есть та самая политика, в которой мы живем. Но это означает также, что в зрелище нам открывается наша собственная языковая природа, правда, в неком извращенном виде. Именно поэтому (ибо здесь экспроприируется сама возможность общего блага) власть зрелища оказывается столь разрушительной, однако по той же причине зрелище содержит также и некую позитивную возможность, которая может быть использована против него самого.
Больше всего эта ситуация напоминает ту специфическую вину, которую каббалисты называют «обособлением Шекины», приписывая ее Ахеру — одному из тех четырех раввинов, которые, согласно знаменитой притче Талмуда, изложенной в Аггаде, вошли в Пардес (то есть мир высшего знания): «Четыре раввина: Бен Аззари, Бен Зома, Ахер и Акиба, говорится в притче, — вошли в Рай.. Бен Аззари лишь бросил взгляд и умер… Бен Зома посмотрел и лишился рассудка… Ахер стал срезать веточки, равнин же Акиба вошел и вышел, цел и невредим».
Шекина является последней и высшей из десяти Сефирот, или признаков божественности, она воплощает само божественное присутствие, его проявление или его обитель на земле — его «слово». «Обрывание веточек» Ахера каббалисты сравнивают с грехопадением Адама, который вместо того, чтобы созерцать целостную Сефирот, предпочел лицезреть лишь самую высшую из них — Шекину, изолировав ее от остальных, и тем самым отделил древо познания от древа жизни. Как и Адам, Ахер олицетворяет человечество, поскольку, выбрав познание и превратив его в свою судьбу, он тоже изолировал познание и слово, являющиеся лишь наиболее завершенными формами проявления Бога (Шекины) от других Сефирот, в которых он та же являет свое откровение. Риск как раз и состоит в том что слово — то есть сам акт выявления и раскрытия — отделится от самого явленного и обнаруженного и получит самостоятельное бытие. Явленное и продемонстрированное, став совместным и открытым для всех, — отделяется от самого явленного и встает между ним и людьми. В этой ситуации обособления Шекина теряет свою благую силу, и она становится пагубной (каббалисты говорят: «она вбирает в себя молоко зла»).
В этом смысле обособление Шекины символизирует ситуацию нашей эпохи. И действительно, если в прежней исторической ситуации отчуждение коммуникативной сущности человека основывалось на допущении, которое выступало в качестве консолидирующего общего основания, то в обществе спектакля как раз сама способность общения, сама совместная сущность (т. е. язык) обособляется в независимую сферу. Коммуникации препятствует сама возможность общения; людей разделяет то, что их объединяет. Журналисты и властители масс–медиа являются своего рода новым духовенством этого отчуждения человека от его языковой природы.
В действительности в обществе спектакля обособление Шекины достигает своего апогея, ибо здесь язык не только образует автономную сферу, но он ничего больше и не выявляет — или, точнее, выявляет ничто обо всем. В нашем языке нет ни Бога, ни откровения, ни самого мира, но в этом предельном нигилистическом разоблачении сам язык (языковая природа человека) по–прежнему остается сокрытым и обособленным и, таким образом, он в последний раз обретает способность безмолвно определять предназначение в некоей исторической эпохе и в неком новом историческом состоянии — в эпоху зрелищ, или в эпоху завершенного нигилизма. Поэтому власть, базирующаяся на допущении какого–либо последнего основания, пошатнулась сегодня на всей планете, и земные царства одно за другим стремительно двигаются к режиму зрелищной демократии, в которой само государство как некая форма приходит к своему завершению. Значительно сильнее, чем экологическая необходимость и технологическое развитие, к общей, единой судьбе народы мира подталкивают именно отчуждение языкового бытия, изгнание каждого народа из его жизненного прибежища — языка.
Но именно по этой причине наша эпоха — это то время, когда у людей впервые открывается возможность обрести опыт собственной лингвистической сущности — не того или иного высказанного в языке, но опыт самого языка, где важны не те или иные утверждения, но важен сам факт — сама возможность речи. Современная политика и есть тот самый разрушительный всепланетарный ехреrimentum linguae[39] который повсюду опустошает и выхолащивает традиции и верования, идеологии и религии, идентичности и сообщества.
Лишь те, кому удастся довести этот эксперимент до завершения, когда явленная ничтожность уже не сокроет явившего ее языка, те, кто сможет привести сам язык к языку, станут первыми гражданами сообщества, не требующего допущений, существующего без условий, без государства, в котором ничтожащая и судьбоносная власть того, что совместно, будет усмирена; и, выйдя из своего заточения, Шекина перестанет источать молоко зла.
Как раввин Акиба в притче из «Аггады», они войдут в языковой рай и выйдут из него целыми и невредимыми.
19/ тяньаньмэнь
Однако что же представляет собой политика единичного как любого, то есть некоего бытия, сообщество которого не опосредствованно какими бы то ни было условиями принадлежности (быть красным, итальянцем, коммунистом), и которое в то же время не есть отсутствие вообще всяких условий (во Франции Бланшо недавно предложил термин «негативное сообщество»[40]), но которое опосредовано самой принадлежностью? Вести, поступающие из Пекина, позволяют набросать контуры ответа.
Демонстрации китайского мая поражают, прежде всего, практически полным отсутствием конкретных требований и каких–либо конкретных политических лозунгов (демократия и свобода на самом деле слишком общие и расплывчатые понятия, для того чтобы они смогли стать подлинными причинами конфликта, а единственное конкретное требование — реабилитация Ху Яобана[41] было быстро удовлетворено). Тем более представляется насилие, к которому прибегло государство. Однако весьма возможно, что несоразмерность эта лишь кажущаяся и что, если встать на точку зрения китайского руководства, то окажется, что оно намного более мудро, чем западные наблюдатели, озабоченные, главным образом, тем, чтобы найти новые аргументы, позволяющие по–прежнему противопоставлять демократию и коммунизм, хотя в этом противопоставлении уже мало толка.
Новым в грядущей политике является то, что она будет уже не борьбой за захват государства или за контроль над ним, а борьбой между государством и не–государством (человечеством), необратимым выпадением единичного как любого из государственной организации. И это не имеет ничего общего с обычными социальными требованиями к государству, которые в последние годы нашли свое выражение в многочисленных протестных акциях. Единичное, как любое единичное, не способно сформировать societas, поскольку здесь нет идентичности, выступающей в качестве некоей ценности, и его не связывает никакая принадлежность, с которой следовало бы считаться. В конечном счете, государство может пойти навстречу требованиям признания любой идентичности, и даже (история отношении государства с терроризмом в наше время является красноречивым подтверждением этого) идентичности другого государства внутри своих собственных границ, то, что оно не потерпит ни при каких обстоятельствах, так это ситуация, когда единичное образовало бы сообщество, не требуя при этом признания какой–либо идентичности, где люди бы именно со–принадлежали друг другу, а у самой этой со–принадлежности в принципе отсутствовали какие–либо значимые и формализуемые условия (даже в форме чистых допущений касательно принадлежности). Как продемонстрировал Бадью государство основывается не на социальных связях, выражением которых оно якобы и является, а на их расторжении, поэтому оно их и запрещает. Для него единичное как таковое никогда не представляет самостоятельного интереса, ибо государству важно включить его в любую идентичность (но возможность того, что любое как таковое оказалось бы высвобождено и предоставлено само себе — это та угроза, с которой государство не примирится).
Существо, вовсе лишенное выраженной идентичности, было для государства абсолютно лишено какой–либо ценности. Ибо в нашей культуре лицемерная догма о сакральности нагой жизни и туманные заявления о правах человека предназначены лишь для того, чтобы скрыть этот факт. Sacro в данном случае следует понимать лишь в том значении, какое этот термин имел в римском праве: sacer — это тот, кто исключен из мира людей, и, хотя он не может быть принесен в жертву, тем не менее его может убить всякий вполне законно, и это не будет считаться убийством (neque fas est еuт immdari, sed qui occidit parricido поп damnatur). В этом плане показательно, что истребление евреев не было сочтено убийством ни палачами, ни судьями, ибо последние назвали его преступлением против человечности, и примечательно, что власти–победители пожелали возместить эту недостающую идентичность предоставлением идентичности государственной, ставшей, в свою очередь, источником нового массового насилия.
Поэтому единичное как любое единичное, — стремящееся присвоить себе саму принадлежность, собственное бытие в языке и потому отвергающее любую идентичность и любые условия принадлежности — главный враг государства. И где бы единичное ни заявило о своем совместном бытии, как бы мирно это ни выглядело — там всегда случается Тяньаньмэнь и рано или поздно появляются танки.
Примечания
Следующие фрагменты можно расценить как комментарии к §9 «Бытия и времени» и к пункту 6.44 Tractatus'a Витгенштейна. Оба текста ставят вопрос об определении исконной проблемы метафизики — отношению бытия и сущности: quid est е quod est. Удастся ли моим заметкам, при всей их очевидной фрагментарности, углубить понимание этого отношения и, если удастся, то в какой мере, учитывая весьма ограниченную склонность нашей эпохи к онтологии (первой философии), которую поспешно отодвинули в сторону, можно будет судить, лишь если мы поместим их в необходимый контекст.
I
Необратимость в том, что вещи таковы, каковы они есть, в том, что они существуют такими, а не иными, будучи безвозвратно вверены их способу быть. Необратимо то, каким образом вещи существуют, — их «как»: они грустные или радостные, жестокие или источающие счастье. Каков ты, каков мир, — это и есть необратимость.
Откровение не являет священный характер мира, но всякое откровение есть всего лишь раскрытие необратимо профанного характера мира. (Название именует вещи и всегда только вещи.) Откровение открывает мир для профанации и вещности, но ведь именно это как раз и произошло, не правда ли. И только здесь возникает возможность спасения — это спасение светского характера мира, его бытия–вот–такого (essere–cosi).
(Поэтому те, кто пытаются снова сакрализовать мир и жизнь, святотатствуют точно так же, как и те, кто отчаивается из–за его профанации. И как раз поэтому протестантская теология, абсолютно отделяя светский мир от мира божественного, одновременно и права и не права: права в том, что откровение (язык) необратимо перепоручило мир светской сфере; не права, потому, что мир будет спасен именно благодаря тому, что он профанен).
Поскольку мир абсолютно, необратимо профанен — он есть Бог.
С этой точки зрения две формы необратимого — уверенность и отчаяние, по мнению Спинозы (Эт. III, теоремы XIV–XV), тождественны. Важно лишь, чтобы была устранена всякая причина сомнения в том, что вещи безусловно и действительно «таковы», независимо от того, радует ли нас это или печалит.
Как некое положение вещей, рай совершенно тождественен аду, хотя у них и противоположные знаки. (Но если бы мы могли чувствовать себя уверенно в отчаянии или отчаиваться в уверенности, то тогда нам бы открылся внутри данного положения вещей его собственный предел, — лимб, или светящийся промежуток[42], который не может пребывать внутри него.)
II
ТАК. Смысл этого словечка словно все время ускользает от нас. «Следовательно, все обстоит так». Но можно ли сказать, что мир, который существует для животного, это мир такой–то и такой–то? Даже если бы нам было дано точно описать мир животного, представить себе его таким, каким оно его видит (как на цветных иллюстрациях к книге Икскюля[43], изображающих мир пчел, рака–отшельника, мухи), то, конечно же, у этого мира не было бы никакого так, он не был бы для животного именно таким — он не был бы необратимым.
Бытие–такое не есть некая субстанция, по отношению к которой такое выступало бы в качестве ее определения или характеристики. Бытие не есть нечто предпосланное — предшествующее его свойствам или пребывающее по ту сторону этих свойств. Бытие, которое необратимым образом есть как именно такое, — есть свое собственное так, оно есть лишь сам присущий ему способ своего собственного бытия. (Это самое «так» — не сущность, определяющая существование, но существование как раз и обретает сущность в своем собственном бытии–вот–таком, в самом своем бытии собственной детерминацией.)
Так — означает: так, а не как–нибудь иначе. (Этот лист — зеленый, следовательно, он не красный и не желтый.) Однако мыслимо ли вообще бытие–такое, которое уже не есть какое–либо возможное бытие, отвергающее любое определение, являющееся лишь таким — каким оно есть и никаким другим?
Собственно, это и есть единственно правильный способ интерпретации негативной теологии: ни это и ни то, ни такое и ни иное, но существующее так — как оно есть: со всеми его предикатами (ибо все предикаты не суть какой–то один предикат). Не иначе — делает невозможным, отрицает каждый предикат как присущее свойство (характеризующее сущность), но содержит их все в качестве не–свойств (в плане существования).
(Такое бытие было бы чистым существованием, чем–то абсолютно единичным и, тем не менее, совершенно любым.)
Как и анафора, понятие так отсылает к предшествующему понятию, через которое оно только и способно обрести собственную референцию (ибо само по себе оно лишено какого–либо смысла).
Однако в данном случае нам следует попытаться мыслить такую анафору, которая более не отсылает ни к какому смыслу и ни к какому референту — некое абсолютное так, лишенное каких–либо предпосылок, целиком экспонированное.
Два понятия, которые, по мнению лингвистов, определяют значение местоимения: остенсив[44] и отношение, деиксис и анафора, — должны быть здесь осмысленны заново. То, как они изначально понимались, как раз и стало определяющим в формировании доктрины бытия, то есть первой философии.
Чистое бытие (substantia sine qualitate[45]), о котором идет речь в местоимении, всегда мыслилось в соответствии со схемой некоего предпосылания или предшествования. Благодаря автореферентной способности языка указывать на сам акт речи, имеющей место в настоящем времени, в остенсиве всегда предполагается непосредственное вне–языковое вот–бытие[46], которое, однако, язык не может высказать, но лишь показать (поэтому демонстрация легла в основу модели бытия и деноминации — аристотелевское tode ti[47]). В анафоре посредством обращения к термину, уже ранее упомянутому в речи, сама эта предпосылка оказывается по отношению к языку в положении субъекта, под–лежащего (hypokeimenon), на который и переносится предмет разговора (поэтому анафора выступила в качестве исходной модели сущности и смысла — это то самое аристотелевское ti hen einai[48]). Посредством указания, деиксиса, местоимение предполагает безотносительное бытие, существующее само по себе, а посредством анафоры превращает его в «субъект» дискурса. Таким образом, анафора предполагает демонстрацию, а демонстрация отсылает к анафоре (поскольку деиксис предполагает акт речи в настоящем времени) — и, следовательно, они взаимополагают друг друга. (В этом исток двойного значения термина ousia — единичный, невыразимый индивидуум, но в то же время — предпосланная субстанция, скрытая за предикатами.)
Таким образом, здесь, в этой двойственности значения самого местоимения, заявляет о себе исходный раскол бытия на сущность и существование, на смысл и значение, причем отношение, их связывающее, всегда так и оставалось непроясненным. Здесь нам следует попытаться помыслить именно это их взаимоотношение, которое не есть ни обозначение, ни смысл, ни демонстрация, ни анафора, поскольку оно представляет собой их взаимо–обуславливание. Это не вне–языковой объект чистой демонстрации, существующий вне и помимо каких бы то ни было отношений, и не то бытие в языке, какое представляет собой высказанное содержание, но бытие–в–языке–некоего–вне–языкового, самой вещи. То есть — это не предпосылание бытия, а его экспозиция.
Отношение существования и сущности, обозначения и смысла суть экспозиция, и, как таковое, оно не является отношением идентичного (та же самая вещь: idem) но отношением самости (вещь сама: ipsum). В философии всегда возникает множество недоразумений из–за того что одно просто–напросто принимают за другое. Мыслимая вещь — это не идентичность, а сама вещь. Это не другая вещь, на которую она указывает как на свою трансценденцию, но это и не просто все та же самая вещь. Здесь вещь превзошла саму себя, взойдя к себе самой, к своему бытию, такому, какое оно есть.
Такое, какое есть. Здесь анафора такое не отсылает к предыдущему референциальному термину (к доязыковой субстанции), а какое не служит для обозначения некоего референта, который бы наделял такое соответствующим значением. Какое возможно и есть лишь постольку, поскольку существует такое, а вся сущность такого заключает в себе какое. Они словно сами себя намертво увязывают друг с другом, взаимно экспонируясь, и то, что здесь имеет место, — это именно бытие–такое, некая абсолютная такая–какая–качественность, которая уже не отсылает ни к каким предпосылкам. Arche anypothesos.
Следует принять мое бытие–такое, мой способ быть не как совокупность тех или иных качеств, не как сочетание определенных черт характера, не как проявление добродетели или порока или как знак богатства или бедности. Мои качества, мое бытие–такое не являются определением некой субстанции (или некоего субъекта), которая пребывала бы где–то за ними и которой (которым) в таком случае я в действительности и являлся бы. Я никогда не бываю тем или каким–то иным, но я всегда такой, есть–такой. Еccut sic: абсолютным образом. Не владение а предел, не предпосылание, а экспозиция.
Экспозиция, то есть бытие такое–какое, не есть какой–либо реальный предикат (быть красным, горячим, маленьким, гладким…), но оно и не является чем–то отличным от них (иначе существовало бы еще нечто иное, что добавлялось бы к понятию мыслимой вещи, и, следовательно, все еще было бы реальным предикатом). Твоя экспонированность не есть экспонированность какого–либо из твоих свойств, но она ровно ничем от них не отличается (можно даже сказать, что она и есть ничто–иное, как они сами). Если реальные предикаты выражают отношения внутри языка, то экспозиция является отношением к языку как таковому, отношением к его имению–места в чистом виде. Экспозиция — это то, что случается с чем–либо (точнее, это имение–места чего–либо) в силу самого возникающего здесь отношения с языком, отношения к самому быть–сказанным. Некая вещь есть красная (названа или сказана красной) — и поскольку она названа или сказана таковой, она соотнесена с собой как с таковой, (не только как с красной), она экспонирована. Существование как экспозиция есть бытие–такое некоего какого. (С этой точки зрения понятие таковости предстает как абсолютно фундаментальное, оставаясь при этом непомысленным в любом из возможных качеств.)
Существовать — означает именоваться, подвергаться муке быть каким–то (inqualieren). Поэтому качество, бытие–такое каждой вещи есть и ее страдание, и ее исток — ее предел. Таков, какой ты есть, — это твое лицо — это твоя мука и твое начало. Каждое сущее имеет и должно иметь свой собственный способ быть, свою спонтанно порождающую манеру: быть таким, каким есть.
Такой не предполагает какой: оно его экспонирует, оно есть имение им своего места. (Только в этом смысле можно сказать, что сущность полагается — liegt[49] — в существовании). Какой не предполагает такой: оно есть его экспозиция — бытие его чистого вовне. (Только в этом смысле можно сказать, что сущность скрывает в себе существование.)
Язык именует нечто как нечто: дерево — «деревом», дом — «домом». Мысля нечто, мысль концентрируется либо на существовании — на том факте, что что–то имеет место, либо на сущности, что это нечто есть что–то, либо на их тождестве и различии. Однако в действительности следовало бы прежде всего задуматься над словом как, ибо само отношение экспозиции здесь остается скрытым от мышления. Это изначальное как и есть философская вещь, предмет мышления.
Хайдеггер пролил свет на структуру в качестве (als), характеризующую апофатическое[50] суждение. Оно основывается на самом поскольку или в качестве, образуя круговую структуру понимания. Понимание понимает и обнаруживает нечто, уже всегда отправляясь от чего–либо, и открывает его именно в качестве того нечто, к которому оно, так сказать, отступает и которое оказывается там, где оно уже и находилось. В суждении эта структура «нечто в качестве нечто» принимает привычную для нас форму отношения: субъект–предикат. Суждение «мел белый» называет мел в качестве белого и, таким образом, утаивает «само окружающее наличного сущего», благодаря которому сущее оказывается понято в непосредственном что–вещи.
При всем этом структура и смысл als, «как», остаются все еще не проясненными. Когда нечто называется как это самое «нечто», сокрытым оказывается не только его окружающее (нечто как таковое), но прежде всего само как. Пытаясь ухватить бытие как бытие, отступая к сущему, мысль не добавляет к нему каких–либо новых качеств, но она также и не полагает его в акте демонстрации, в качестве невыразимого субъекта высказывания: понимая его в своем бытие–таком, через опосредование в его как, она схватывает внешнее как таковое, как чистую экстериорность. Она больше не именует нечто как «нечто», но указывает на само слово «как».
Способность языка быть значимым не исчерпывается его смыслом и значением. Следует ввести еще и третий термин — саму вещь, бытие такое, какое есть, которое не есть ни денотат, ни смысл. (В этом и состоит смысл платоновской теории идей.)
Это не то бытие, которое абсолютно изъято и безотносительно (athesis), но это и не бытие положенное, относительное и существующее лишь в уме; оно есть вечная экспозиция и вечная фактичность: aeisthesis, вечное ощущение.
Это сущее, которое никогда не является самим собой, но лишь существующим. Оно никогда не бывает просто существующим, но безвозвратно и целиком есть существующее. Оно не обосновывает, не предопределяет и не уничтожает существующее — оно есть лишь экспозиция его собственного бытия, его нимб, его предел. Существующее более не отсылает к бытию: оно — посреди бытия, а бытие целиком предоставлено существующему. Безвозвратно утраченное и все же спасенное — спасенное в своем необратимом бытии.
Сущее, которое есть существующее, навсегда спасено — избавлено от риска существования в качестве вещи или в качестве ничто. Существующее, брошенное посреди бытия, экспонировано в абсолютной степени.
Аттик[51] определяет идею так: «paraitia tou einai toiauta ecasth'oiaper esti» — у каждой вещи имеется не причина, а paracausa, и ей присуще не просто бытие, а бытие–такое–какое–есть.
Бытие–такое каждой вещи — это и есть идея. Это следует понимать так, словно форма, познаваемость, мыслимость отделились бы от каждого сущего, но это была бы не как какая–то иная, отличная от этого сущего вещь, но некое intention вещи, предстающая будто ее ангел или ее образ. Способ бытия этого intentio не есть ни существование, ни трансцендентность, а некая параэкзистенция или паратрансцендентность, притаившаяся где–то подле вещи (во всех смыслах приставки пара-) — настолько близко, что она почти сливается с ней, окутывая ее сиянием. Intentio не идентично вещи, и все же оно не есть что–то другое, оно есть не что иное (есть не иное), чем сама вещь. Таким образом, бытие идеи есть бытие парадигматическое: демонстрация каждой вещи рядом с самой собой (рага–deigma). Но эта само–демонстрация вещи подле себя есть некий предел или, точнее, саморазмывание, истончение предела, — это ее ореол.
(В этом и заключается, по сути, гностическое прочтение платоновской идеи. Таковы ангелы — интеллигибельные сущности у Авиценны и у поэтов, воспевающих любовь, но это также и eidos Оригены или сияющие одеяния «Песни о жемчужине»[52]. Подобный образ необратим, и в этой его необратимости кроется спасение.)
Вечное такое–какое–свойство: это и есть Идея.
III
Спасение–это не событие, обращающее то, что было мирским, в святое и возвращающее утраченное. Напротив, спасение — это необратимая утрата утраченного, мирское, уже безвозвратно ставшее мирским. Но именно поэтому утрата и профанное здесь и исчерпываются — они касаются своего сбывающегося предела.
Мы можем надеяться только на то, что непоправимо. Когда мы констатируем, что все обстоит так–то и так–то — эта все еще констатация положения вещей в мире. Но поскольку это положение необратимо, поскольку это самое так невозможно изменить и исправить, и мы можем созерцать его как таковое, — оно и есть единственный раскрытый проход из мира в его вовне. (Главная тайна спасения в том, что мы спасены лишь тогда, когда мы этого более не хотим. Именно поэтому спасение и сбывается — и оно всегда не для нас.)
Бытие–таким: быть самим способом собственного бытия — это бытие не вещь, которую мы можем как–то воспринять. Наоборот, оно есть не что иное, как отстранение всякой вещности. (Как раз поэтому индийские логики говорили, что sicceita, этовость вещей, — это всего лишь их бытие, лишенное присущей им природы, их бессодержательность или пустота; и что между миром и Нирваной не существует ни малейшей разницы.)
Человек — это такое существо, которое сталкивается с вещами, и как раз лишь в этом столкновении он раскрывается навстречу не–вещности. И наоборот: лишь тот, кто открыт не–вещному, безвозвратно отдан вещам.
Не–вещность (духовность) означает потеряться в вещах, потерять себя настолько, чтобы стать неспособным воспринимать что–либо, кроме вещей.
И лишь тогда, в самом опыте необратимой вещности мира, можно натолкнуться на его предел, коснуться его. (В этом и заключается смысл слова экспозиция.)
Имение–места вещей не имеет своего места в мире. Утопия — это и есть сама местность вещей.
Да будет так! Утверждать в каждой вещи всего лишь ее так, sic[53] — по ту сторону добра и зла. Однако так не означает, что это так, а не иначе, как–то по–другому — одним способом из многих. «Оно есть именно так» значит: да будет так! То есть — да[54].
(Именно таков смысл да у Ницше: сказанное да — это да не определенному состоянию вещей, а его бытию–такому. И лишь поэтому оно способно вечно возвращаться. Так — вечно.)
В этом смысле бытие–такое каждой вещи — нетленно. (Как раз в этом и заключается смысл теории Оригена, согласно которой воскресает не телесная субстанция, а eidos.)
Данте классифицирует все языки в соответствии с тем, как в них произносится да, — ос, oil, да. Да, так, — это имя языка, выражающее его смысл, то есть — бытие–в–языке–не–языкового. Однако бытие языка — в его да, сказанном миру, дабы он воспарил над ничто языка.
В самом принципе необходимого основания («Существует некая причина, в силу которой скорее есть нечто, а не ничто»[55]) важно не то, что нечто существует (бытие), и не то, что нечто не существует (ничто), но то, что скорее существует нечто, чем ничто. Поэтому этот принцип не может быть понят как противопоставление двух понятий: существует и не существует; дело в том, что этот принцип содержит еще и третий термин — скорее (piutosto) может не не–быть: potius происходит от potis: тот, который может, или преобладающий, могущественный.
(Чудо не в том, что нечто вообще может существовать, а в том, что оно смогло не не–быть)
Принцип основания можно выразить следующим образом: «язык (причина) есть то, благодаря чему скорее (potius, преимущественнее) есть нечто, а не ничто». Язык раскрывает возможность не–бытия, но одновременно он открывает и другую — более могущественную возможность — возможность существования, того, чтобы нечто было вообще. Однако из этого принципа вытекает, что существование — это не просто данность, но ему присущ potius — возможность или потенциал. Однако это не возможность бытия, противопоставленная возможности небытия (можно ли между ними выбрать?), но возможность не не–бытия. Случайность — отнюдь ненеобходимое, нечто, что может и не быть, но то, что, будучи таким, будучи только своим собственным способом существования, может быть преимущественно, может не не–быть. (Бытие–такое не случайно, оно случайно необходимым образом. Но оно отнюдь и не необходимо — оно необходимо случайным образом.)
«Аффект к вещи, которая, по нашему воображению, Представляется свободной, сильнее, чем к вещи необходимой, и, следовательно, еще сильнее, чем к той, которая, по нашему воображению, возможна или случайна. Однако воображать себе какую–либо вещь свободной — значит воображать ее просто–напросто, игнорируя причины, которыми она определяется к действию. Следовательно, аффект к вещи, которую мы себе всего лишь воображаем, при прочих равных условиях, сильнее, чем аффект к вещи необходимой, возможной или случайной, и, следовательно, этот аффект самый сильный из всех» (Эт. V, теор. 5, доказательство — перевод Н. А Иванцова; частично изменено. — Прим. пер.).
Воспринимать нечто в его бытие–таком: во всей его необратимости, которая, однако, не есть необходимость, воспринимать именно так, но не видеть в этом случайность, — это и есть любовь.
Мир трансцендентен там, где нам открывается необратимость мира.
То, как мир есть, — есть во–вне самого мира.
Tiqqun de la noche[56]
[послесловие 2001 года]
Принято считать, что если интеллигентное — или, как еще говорят, «свободное» — предисловие не должно содержать никаких обстоятельных рассуждений и в лучшем случае представляет собой некое обманное движение, то, напротив, хорошее послесловие или заключение может лишь свидетельствовать, что автору решительно нечего добавить к своей книге.
В этом смысле послесловие — это некая парадигма времени завершения или времени конца, когда единственное, что приходит в голову человека, продолжающего размышлять над темой, — это добавить нечто к уже ранее сказанному. Однако именно это искусство говорить, не говоря ничего, и что–либо делать, ничего не претворяя, или, если угодно, «резюмировать», то есть все вновь разложить на составные части и попытаться все спасти — и есть самое трудное.
Автор этого послесловия отлично сознает, что он точно так же, как и любой, пишущий сегодня на итальянском о первой философии или о политике, — является неким реликтом. Более того, именно это понимание и отличает его от тех, кто пытается сегодня писать на эту тему. Он знает, что не только «возможность сотрясти историческое бытие целого народа»[57] давно уже исчезла, но и сама идея зова, народа или исторического предназначения — klesis или «класса» — должна быть радикально переосмыслена. Эта ситуация человека, чудом уцелевшего, выжившего — писателя без читателя или поэта без народа — не дает, однако, пишущему право ни на цинизм, ни на отчаяние. Напротив, настоящее — это время, следующее за последним днем, время, в котором уже ничего не может произойти, ибо новейшее уже наступило, и потому оно представляется ему самой зрелой, единственно истинной плеромой[58] времен. Ведь это время — наше время — характеризуется тем, что в определенный момент все — все люди и все народы земли — оказались в положении уцелевших, или пребывающих после. И если присмотреться чуть внимательнее, то мы увидим, что оно несет в себе беспрецедентную мессианскую ситуацию, ставшую сегодня всеобщей, и поэтому то, что вначале было не более чем нашей гипотезой — отсутствие производящего акта и произведения, единичное любое, bloom — стало реальностью. Именно потому, что книга была ориентирована на этот не–субъект, на «эту жизнь, лишенную формы», на shabbath человека — то есть ее адресатом была публичность, которая, так сказать, по определению не могла быть читателем, можно сказать, что она попала в цель и при этом, однако, ничуть не утратила своей неактуальности.
Как известно, в субботу следует воздержаться от любой melakha, от любой продуктивной деятельности. Эта праздность, эта сущностная бездеятельность, является своего рода дополнительной душой человека, или, если угодно, это и есть его истинная душа. Однако акт абсолютного, чистого разрушения, абсолютно деструктивная или антисозидательная деятельность ничем не отличаются от menucha, от праздности субботнего дня, и поэтому она не была бы запретной. В этом смысле не труд, а бездеятельность и не–созидание являются парадигмой грядущей политики (грядущей не значит будущей). Спасение, tiqqun, являющееся темой этой книги, — это не деятельность, а нечто вроде своеобразных субботних каникул. Спасение, делая возможным спасение, само остается вне спасения, будучи необратимым — оно спасает. Отсюда главный вопрос книги: не «что делать?», а «как делать?», — поскольку бытие менее важно, чем так. Бездеятельность не означает леность, a katargaesis — это акт, в котором что оказывается до конца замещено самим как и в котором жизнь, лишенная какой–либо формы, и форма, отлученная от жизни, сливаются в форму жизни. Экспонировать подобную бездеятельность или отсутствие произведения — в это и состоит дело этой книги. Она абсолютно совпадает этим послесловием.
Дж. А.
Примечания
1
1 «Всякое пребывает во всяком, и ничего не бывает вне себя» (лат.) Фрагмент из собрания проповедей Экхарта под общим заглавием «Рай разумной души». Цит. по: Ph. Strauch [Hg.] Paradisus anime intelligentis // Deutsche Texte des Mittelalters (30). Berlin, 1919.
(обратно)2
2 Бен Гершом Леви (1288–1344), известный как Герсонид (Gersonides) или Ралбаг — средневековый еврейский ученый–универсал, философ, математик, астроном, комментатор под именами МаэстреЛеон де Баньоль (Leon de Bagnols), Magister Leo Hebraeus (лат. «Магистр Лев Еврейский») и Гершуни. Иногда в русских источниках именуется бен Гермон. — Здесь и далее примечания переводчика.
(обратно)3
1 Роберт Вальзер — швейцарский немецкоязычный писатель (1878–1956), автор романов «Сестра Таннер», «Помощник», «Разбойник», «Якоб фон Гунтен», «Микрогамм» — прозаических текстов, написанных микроскопическим почерком, не превышающим одного миллиметра, вышедших в сборнике «Из написанного карандашом». Среди первых почитателей его прозы были Кафка, Беньямин и Гессе.
(обратно)4
Oikonomiia (гр.) — экономика.
(обратно)5
Dies novissima — dies irae (лат.) — Судный день.
(обратно)6
Tricksters (англ.) — обманщики, ловкачи, трикстеры.
(обратно)7
Персонажи комиксов (англ.).
(обратно)8
Спиноза Б. Трактат об усовершенствовании разума // Избранные произведения. Ростов–на–Дону: Феникс, 1998.
(обратно)9
Амальрик из Бены (Шартрский) развивал этическое учение, согласно которому добро и зло неотделимы друг от друга, ибо они исходят от Бога. Воскрешение и Страшный Суд поэтому являются выдумками. Парижский (1209) и Латеранский (1215) соборы осудили учение Амальрика. Последователи его были приговорены к сожжению. Прах самого Амальрика было приказано вырыть и развеять в поле.
(обратно)10
Имеется в виду «этость» — haecceitas (лат.) — термин, введенный Иоанном Дунсом Скотом (1265–1308).
(обратно)11
11 Гильом де Шампо (1068–1121) — автор работ «Вопросы или сентенции», «Диалог между Иудеем, Философом и Христианином а католической вере».
(обратно)12
Не сущностно, но неопределенно (лат.).
(обратно)13
Ductus (лат.) — ход, движение.
(обратно)14
За посрамление им будет вдвойне: за поношение они будут радоваться своей доле, потому что в земле своей вдвойне получат; поселение вечное будет у них. — Исайя ст. 61–67.
(обратно)15
Agio (ит.) — удобство, досуг, но также зазор.
(обратно)16
Ad–jacents {лат.) — лежащий подле; adjacentia (лат) — расположенность.
(обратно)17
Ad–agio (ит.) — вольготно, с удобствам, ср. adagio (муз.).
(обратно)18
16 «La una–m diz en son latin: Она мне молвила своим
"О, Deus vos salv, don pelerin; Манером сельским и простым:
Mout mi semblatz de belh aizin, «Храни вас Бог, дон Пилигрим,
Mon escient; Знать, вы достойный господин;
Mas trop vezem Но день за днем мы видим, как
Anar pel mond de folia gent"». Бредет по миру тьма бродяг».
(Перевод М. Новиковой–Грунд)
(обратно)19
Джуафре Рюдель (ок. 1125–1148) — правитель Блайи (Прованс), воспевавший в своих песнях «графиню Трипольскую, далекую любовь» (amor de lonh) и отправившийся в крестовый поход, чтобы ее увидеть.
(обратно)20
15 Росцелин из Комьона (ок. 1050–1120) — один из основателей средневекового номинализма, учитель П. Абеляра.
(обратно)21
16 Иоанн Солсберийский (ок. 1110–1180) — епископ Шартра, автор «Поликратика» и «Металогикона», активный защитник шартрского гуманизма от «корнифициев» и противников языческой науки.
(обратно)22
Имеется в виду этимологический словарь Угоччоне из «Magnat derivationes», которым пользовался и Данте.
(обратно)23
Возможность возможности (лат.).
(обратно)24
Бартлеби — персонаж новеллы Г. Мелвилла «Писец Бартлеби: уолл–стритская история», отвечавший на все адресованные ему просьбы написать деловые бумаги, а в дальнейшем и на все поручения, связанные с его работой, фразой: «Я бы предпочел не делать этого» — «I would prefer not to».
(обратно)25
О состоянии мира после Страшного суда.
(обратно)26
Кретьен де Труа (1130–1190) — автор знаменитых средневековых куртуазных романов «Сказание о Граале или Персифаль», «Ланселот», «Эрек», «Ивайн», «Клиждес», действие которых разыгрывается при участии рыцарей Круглого стола.
(обратно)27
Зигфрид Кракауэр (Siegfried Kracauer, 1889–1966) — немецкий социолог массовой культуры и кино, автор «Орнамента массы» (1927) и «Служащих» (1930), повлиявших на Теодора Адорно в его исследованиях авторитарной личности.
(обратно)28
«Spuren» («Следы») — работа Э. Блоха, опубликованная в 1930 г. (писалась в 1910–1929 гг.).
(обратно)29
Совершенное состояние (лат.).
(обратно)30
Возможность смешанного действия (лат.).
(обратно)31
Действие смешанной возможности (лат.).
(обратно)32
Псевдоним, которым подписывал свои стихи Гёльдерлин в период помешательства.
(обратно)33
Supinum (лат.) — падение падежных форм, supino (um.) — упавший навзничь.
(обратно)34
Отсылка к кантовскому примеру различения понятия «таллера» и реальных талеров в кармане.
(обратно)35
Степень, уровень (фр.).
(обратно)36
Материальные суппозиции.
(обратно)37
Euporia (гр.) — богатство, изобилие, ценность.
(обратно)38
Schechina (евр.) — Шекина или Шечина — место жительства или пребывания.
(обратно)39
Лингвистический эксперимент (лат.) — имеется в виду отсылка к вавилонскому языковому эксперименту, опыту.
(обратно)40
Maurice Blanchot. La communau inavouable — (I) La communau nugative. II, 1983. — Неописуемое сообщество. Пер. Ю. Сафонова. M., 1998.
(обратно)41
Ху Яобан (1915–1989) — генеральный секретарь ЦК КП Китая.
(обратно)42
Limbo (ит.) — другое значение: первый круг Ада (у Данте), см. гл. 2.
(обратно)43
Якоб фон Икскюль (1864–1944) — немецкий биолог, зоопсихолог и философ. Созданная Икскюлем теория окружающей среды оказалась предшественницей этологии (см. книги: «Окружающая среда и внутренний мир животных», 1909; «Теоретическая биология», 1920).
(обратно)44
Остенсив — наглядная демонстрация.
(обратно)45
Субстанция, лишенная качеств (лат.), термин Дунса Скотта.
(обратно)46
Имеется в виду Da–sein.
(обратно)47
То, что оно есть, «определенное это».
(обратно)48
То, что существует и что должно быть, обычно переводится как «сущность».
(обратно)49
Лежит, покоится (нем).
(обратно)50
Апофатическое как коренится в герменевтическом как — см. «Бытие и время».
(обратно)51
Неоплатоник II в., известный, как об этом пишет А. Ф. Лосев, своими попытками сблизить Платона и Аристотеля.
(обратно)52
Имеется в виду «Свадебная песнь» из апокрифических «Деяний Иуды Фомы апостола».
(обратно)53
«Да» жизни у Ницше, так, Заратустра называет себя «говорящим».
(обратно)54
«Так» в древнерусском и в некоторых современных славянских языках — «да».
(обратно)55
Принцип необходимости достаточного основания, гласящий, что ничего не случается без того, чтобы было основание, чтобы это было скорее так, а не иначе (Лейбниц. «Теодицея»).
(обратно)56
«Спасение в ночи» — возможный перевод, также «ночной покой» или «ночная праздность»; tiqqun (евр.) — восстановление, спасение; de la noche (исп.).
(обратно)57
Из «Ректорской речи» М. Хайдеггера (1933).
(обратно)58
Плерома (грен, «наполнение, полнота, множество») — термин в греческой философии, одно из центральных понятий в гностицизме, обозначающий божественную полноту.
(обратно)
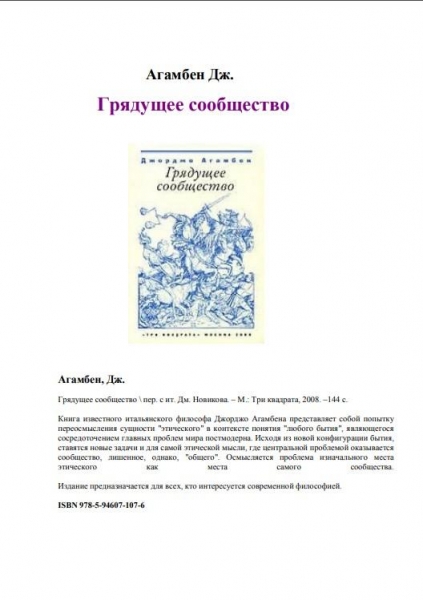

Комментарии к книге «Грядущее сообщество», Джорджо Агамбен
Всего 0 комментариев