Серия
ПРОФЕССОРСКАЯ БИБЛИОТЕКА
THOMAS A. SZLEZAK
PLATON LESEN
Серия
ПРОФЕССОРСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ТОМАС А. СЛЕЗАК
КАК ЧИТАТЬ ПЛАТОНА
ИЗДАТЕЛЬСТВО С.-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Серия
ББК 87 С47
«Профессорская библиотека»
Редакционная коллегия: А.С.Васильев,
Л. Г. Ионин,
В. Ю. Кузнецов,
Е. М. Мелетинский, А. М. Пятигорский,
А. М. Руткевич, К. А. Свасьян, Р. В. Светлов,
С. С. Хоружий, Д. В.Шмонин
Серия «Профессорская библиотека» учреждена совместно с издательством «Академия исследований культуры»
|© Friedrich Frommann Verlag, Gunther Holzboog, 1993 © Szlezak Thomas А., статья, 2005 © M. E. Буланенко, перевод,
ISBN 978-5-288-04780-0
предисловие, примечания, 2008 © АНО Издательство С.-Петербургского университета, 2009
Посвящается моей жене и детям
ПРЕДИСЛОВИЕ
Платон никогда не имел недостатка в читателях, и можно не опасаться, что он будет испытывать их нехватку в будущем.
Поэтому сейчас, когда Платон становится темой первого тома серии «legenda»1 — серии, имеющей дело с текстами, которые «следует прочесть» и к прочтению которых она, таким образом, хотела бы пригласить, привлечь, привести и даже направить, — это может показаться призывом к тому, что и так уже имеет место.
Конечно, Платон не является автором, которого сегодня нужно «открывать» впервые. Однако чтение Платона имеет свою специфику. Пожалуй, ни один другой автор из числа философов не имел столь двойственного отношения к письменному сочинению в его роли инструмента передачи знаний, как Платон. Форма диалога по праву считается исключительно рефлексивным способом обращения с письменным словом. Но чего хотел достичь использованием этой формы Платон — вопрос, с которым по своей спорности сравнятся немногие. Таким образом, к чтению произведений Платона в особенной мере относятся слова Аристотеля о рассмотрении истины в общем: это отчасти легко, поскольку никто не может совсем уж промахнуться, отчасти трудно, поскольку никто не достигает необходимой точности.
Авторский замысел настоящего тома серии — открыть свою тему, отправляясь от «лёгкого» — того, что для нас, сегодняшних читателей Платона, является непосредственно доступным и бесспорным в его произведениях, чтобы затем продвинуться вперёд к «трудному», т. е. к тем чертам платоновского философско-литературного творчества, которые не согласуются с нашими современными взглядами на философское использование письма (что, естественно, также влекло за собой по преимуществу ошибочное истолкование или даже игнорирование этих черт), но которые, тем не менее, берут свой исток в самой сердцевине платоновского понимания философии.
Книга «Как читать Платона» впервые вышла в итальянском переводе (с еще не опубликованного оригинала на немецком) под названием «Come leggere Platone» (изд-во «Rusconi», Милан, 1991; второе издание — 1992). Первоначально задуманная как сопроводительный том к новому переводу всех диалогов Платона, выполненному Джованни Реале и его сотрудниками, книга обращена не только к специалистам по Платону, но и ко всем неспециалистам, независимо от того, является ли философия их «областью» или нет. Ее цель — не упростить или «популяризировать», но, скорее, познакомить растущий круг читателей Платона со сложными проблемами герменевтики платоновских диалогов в такой форме, которая доступна не только исследователю, проведшему над ними годы.
Детальный разбор основанной Фридрихом Шлейер-махером парадигмы толкования Платона, с которой набросанная здесь картина целей, средств и выразительных техник Платона в важных пунктах расходится, не является задачей данной работы: за этим отсылаю читателя к книге «Платон и письменность философии»2 (Szlezak, 1985), а в ней — в особенности к методическому приложению «Современная теория диалога» (S. 331-375). По желанию издательства «Rusconi» в оригинал с самого начала были добавлены ссылки на эту кни1у, однако знакомство с ней отнюдь не является необходимой предпосылкой для чтения предлагаемой ныне работы.
Цель данной книги — добиться такого толкования философско-литературного творчества Платона, которое могло бы выстоять перед лицом его критики письма в «Федре». Когда обесценивание письма самим Платоном, в свою очередь, также обесценивают или желают обратить в противоположность, как это повелось со времён романтизма и ещё более закрепилось в наши дни, такая установка никоим образом не может открыть путь к пониманию Платона как писателя. Только серьёзное отношение к его оценке письменного и устного философствования позволяет адекватно понять технику диалогов и то воздействие, которое они призваны оказывать на читателя. Вопреки предрассудкам и поводам для сопротивления, специфичным для современного образа мысли, читатель должен приспособиться к точке зрения автора.
Только так, по моему убеждению, можно достичь радости чтения, которой на стороне автора — по собственному примечательному свидетельству Платона — соответствовала радость от удачного созидания письменных «адонисо-вых садов» мыслителя (Федр 276d).
Я благодарю директора издательства «Rusconi» г-на Феруччо Вивиани за разрешение на опубликование книги в Германии. Издателя, г-на Гюнтера Хольцбога, я хотел бы поблагодарить за проявленный им интерес к немецкой редакции книги, сотрудников издательства — за качественную подготовку рукописи к изданию. Также заслуживают благодарности мои сотрудники О.Кришкер и д-р К.-Х. Штанцель за помощь при чтении корректур и за составление указателя.
Тюбинген, 25.01.1993
Томас Александр Слезах
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ
Русский перевод книги «Как читать Платона» возник не по инициативе автора, а благодаря запросу одного русского читателя, выразившего желание сделать эту кни1у доступной читающей публике на его родном языке.
Надо сказать, что точно таким же образом возникали и все остальные издания этой книги: автор никогда не был движущей силой их возникновения, с предложением перевести книгу на язык своей страны неизменно выступал переводчик или издатель.
Закончив свою книгу летом 1990 года, я, естественно, желал ей хорошего приёма — так думает всякий честный автор, верящий в правильность своих выводов. Однако помыслить о столь широком резонансе во всём мире — русский перевод выходит в печать семнадцатым по счёту — я бы никогда не отважился. Перед лицом стойкого интереса к книге со стороны международной читательской аудитории можно задаться вопросом, в чём же причина такого развития событий.
Ответ прост: книга «Как читать Платона» предлагает сжатое и доступное изложение единственной альтернативы образу Платона, существовавшему на протяжении XIX и XX столетий. Необходимость корректировки и замены этого образа (возникновение которого относится к тому времени, когда Фридрих Шлейермахер в 1804 году положил начало современным исследованиям Платона) сегодня уже не является спорной. Широко распространённая неудовлетворённость прежним communis opinio3 затрагивает, в общем, следующие четыре области.
Во-первых, (пока ещё) господствующая герменевтика Платона не может адекватно объяснить ни структуру, ни действие диалогов, ни род концепции, определяющей расстановку персонажей (достаточно вспомнить о подавляющем превосходстве соответствующего ведущего собеседника), ни столь бросающиеся в глаза эпизоды умолчания. Во-вторых, загадкой для неё остаётся и критика письменности в диалоге «Федр». В-третьих, традиционный взгляд на Платона вступает в противоречие с высказываниями Аристотеля о неписаной теории принципов его учителя. И, в-четвёртых, интерпретация Платона, принятая последними поколениями исследователей, до сих пор не может найти объяснения тому факту, что «Седьмое письмо», приписываемое философу, содержит ряд сведений о нём самом и о его обращении с философией, явно несовместимых с его современным образом, созданным этими же исследователями.
Между тем, все эти проблемы разрешаются благодаря отстаиваемой здесь новой интерпретации критики письма — первой филологически фундированной интерпретации этого эпизода, имеющего центральную важность.
Окидывая взглядом четверть века, прошедшие со времени опубликования в 1985 году моей первой книги о Платоне «Платон и письменность философии» (выводы которой здесь не только обобщаются, но также разъясняются и углубляются), её роль можно описать следующим образом. В 1970-х и 1980-х годах типичная реакция противников нового образа Платона, выстроенного представителями тюбингенской школы Хансом Иоахимом Кремером (Kramer, 1959) и Конрадом Гайзером (Gaiser, 1963), звучала так: «Да чего вы хотите со своим неписаным учением? У нас же есть эти великолепные диалоги!». Таким образом предпринималась попытка «разыграть» прямую традицию, представленную диалогами, против косвенной традиции, сообщающей об устной философии Платона. Это кажущееся несколько беспомощным (и совершенно бесплодное с точки зрения существа дела) противопоставление двух ветвей традиции, на самом деле составляющих единое целое, теперь осталось в прошлом. Книги «Платон и письменность философии» и «Как читать Платона» выбили из рук отрицателей эсотерического Платона их последний мнимый козырь. С той поры как мы обладаем адекватным описанием морфологии диалогов и расшифровкой смысла критики письма, мы также видим, что диалоги с настойчивостью указывают на ту именно область, которую подразумевал Аристотель в своих сообщениях о «неписаных учениях» (,аграфа догмата): на теорию «принципов» (архаи), появления которой в диалогах Платон не допускал из недоверия к письму как средству передачи философских знаний.
Таким образом, новый взгляд на Платона впервые должным образом учитывает все четыре области проблем: форму диалогов и увиденную уже Шлейермахером задачу по выявлению значения формы для содержания, смысл платоновской критики письма, косвенную традицию и «Седьмое письмо». К тому же обрисованные проблемы решаются на единой основе.
В противоположность этому общепринятый образ Платона предлагает сложные и весьма искусственные объяснения: что платоновский диалог — это, дескать, книга, преодолевающая природу самой книги, что критика письма имеет в виду не письмо как таковое, а лишь определённый вид письма, что Аристотель отчасти ошибочно понял, а отчасти извратил Платона.
Уже своей усложнённостью и искусственностью эти теории выдают свою удалённость от истины. «Просто слово истины» (cmAoug 6 рибод xrjg aAr)0eiag ефи) — гласит прекрасный стих Еврипида. Такую простую, ясную истину в области герменевтики платоновских диалогов обеспечивает только позиция тюбингенской школы. Лишь она может широко и непротиворечиво объяснить данные диалогов и данные косвенной традиции, включая «Седьмое письмо» (если уж мы намерены считать его неподлинным). Пожалуй, в этом можно найти объяснение всё ещё растущего интереса читателей Платона к настоящей книге.
Но должны ли мы признавать «Седьмое письмо» неподлинным? Существующий до сих пор антиэсотерический консенсус привязан к признанию его неподлинным: в достаточной мере это показывает провал абсурдных попыток признать подлинность письма, но читать его антиэсотери-чески. Однако, несмотря на интенсивные усилия, за 150 лет никому не удалось доказать, что оно неподлинно. Эсотери-ческая позиция тюбингенской школы, напротив, никоим образом не привязана к противоположному тезису о подлинности письма: если давно искомое доказательство того, что письмо не принадлежит Платону, всё же когда-нибудь будет получено, для меня это ничего не изменит: все существенные пункты моего толкования Платона опираются на диалоги, «Седьмое письмо» служит исключительно внешним подтверждением. Необходимо трезво и безо всякой полемичности отметить следующее: «Седьмое письмо» является значительным документом большой исторической ценности, причём независимо от вопроса о его подлинности, и оно полностью согласуется с морфологическими данными диалогов, со смыслом критики письма и со свидетельствами Аристотеля.
Г-на Максима Буланенко я благодарю за его неизменную самоотдачу и добросовестность при работе над переводом, ИЗДАТЕЛЬСТВО СПбГУ — за включение книги в свою программу. Русскому читателю я желаю нового интеллектуального наслаждения платоновскими диалогами, этими шедеврами, воздействие которых теперь более не заслоняется ложной герменевтикой Платона.
Тюбинген, 10 июня 2008 г.
Томас Александр Слезах
ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА
Имя видного немецкого платоноведа Томаса Александра Слёзака не является совсем уж незнакомым русскому читателю, интересующемуся античной философией. Впервые его упомянула в своей статье, посвящённой «платоновскому вопросу», отечественная исследовательница Т. В. Васильева (Васильева, 1993. С. 114, прим. 14). Правда, писала она не о самом Слезаке, а о предисловии Дж. Реале к итальянскому переводу его главного произведения «Платон и письменность философии». В том же самом году появилось на свет немецкое издание настоящей книги, подхватывающей темы этого труда, но рассчитанной на более широкую аудиторию. И вот теперь, по прошествии пятнадцати лет, в течение которых книга «Как читать Платона» приобрела поистине мировую известность, вниманию читателя предлагается её русский перевод.
Всякому, кто хоть сколько-нибудь углублялся в изучение философии Платона и её исторической судьбы, известно, сколь многочисленны и сколь непохожи один на другой образы Платона, возникавшие в ходе истории и сосуществующие друг с другом в наши дни. Платон, с которым мы встречаемся на страницах книги Т. А. Слезака — это Платон так называемой «тюбингенской школы» платоноведения.
Название «тюбингенская школа» стало использоваться для критического и скорее негативного обозначения того направления в платоноведении, которое было разработано Конрадом Гайзером и Хансом Иоахимом Кремером. Оба учились в Тюбингене у Вернера Шадевальдта и Ханса-Георга Гадамера и опубликовали свои основные труды в первые послевоенные десятилетия. Исследовательская позиция этих учёных, их методы и результаты их изысканий неоднократно становились предметом разбора в отечественной научной литературе1. Суть позиции «тюбингенцев» вкратце можно свести к той мысли, что философия Платона в своём систематическом виде сформировалась уже ко времени основания им Академии и представляла собой устное учение, преподававшееся в Kpyiy его последователей. Это «внутреннее» или «эсотерическое» учение имело своим содержанием теорию первопринципов всего существующего («единое» и «неопределённая двоица») и теории частных предметных областей, среди которых выделялись идеальные числа, математические объекты и душа, космос и отдельные чувственно-воспринимаемые явления4 5. Диалоги же — в качестве «внешних» сочинений — выполняли в первую очередь не обучающую, а протрептическую функцию: их задачей было привлечение к платоновской философии сторонних любопытствующих наблюдателей. По этой причине, полагают «тюбингенцы», диалоги никогда не рассматривались Платоном в качестве самодостаточных произведений, призванных полностью раскрыть его философию.
Здесь уместно напомнить, что сама проблема «неписаного учения» Платона не является новой, скорее, наоборот: выражение «так называемые неписаные учения» (та Aeyopeva ау§афа Ьоурата) применительно к философским теориям Платона, излагавшимся им исключительно в устных беседах с учениками, впервые встречается уже у Аристотеля (например, Физика 209Ь 15). Однако после переворота в платоноведении, произошедшего в XIX веке в Германии и связанного в первую очередь с именем видного деятеля романтического движения Фридриха Шлейермахе-ра, исследователи всецело сосредоточили своё внимание на платоновском тексте, отбросив представление о неписаном учении как домысел. Тем не менее, уже в первой половине XX века ряд авторов, среди которых можно упомянуть Леона Робэна, Юлиуса Штенцеля и Пауля Вильперта, вновь возвращается к этой теме. Заслуга же «тюбингенцев» состоит в том, что они провели обширную работу по критике и систематизации античных сведений о неписаном учении и на этом материале попытались насколько возможно полно его реконструировать. Такое последовательное изменение отношения к проблеме неписаного учения заставило итальянского историка философии Джованни Реале выдвинуть мысль о трёх «парадигмах» в истории герменевтики Платона (Reale, 1991. Р. 19-144).
Первой парадигмой является неоплатоническая интерпретация Платона, имеющая систематизирующий и аллегоризирующий характер; на пороге XIX века она сменяется «романтической» (в центре которой стоит критическое исследование текста диалогов и мысль об эволюции философских взглядов Платона в течение его жизни), а эта, в свою очередь, новой, «тюбингенской», парадигмой, стремящейся соединить в своей интерпретации и литературную, и устную (известную по материалам косвенных источников) стороны творчества Платона (причём по результатам реконструкции системы платоновской философии «тюбингенцы» разительно сближаются с неоплатониками; ср. выше о структуре неписаного учения). Надо сказать, что именно практическая осуществимость и убедительность подобного соединения ставилась под вопрос критиками «тюбингенской школы». И в этом смысле творчество Слезака, вклад которого в реконструкцию неписаного учения не столь значителен, как у Кремера и Гайзера, оказывается своего рода попыткой доказать жизнеспособность «тюбингенской парадигмы» на материале диалогов. Своими глубокими и проницательными интерпретациями Слезак не просто обезоруживает критиков, полагающих, что «тюбингенцы» фактически обесценивают значение диалогов, но, более того, заставляет новыми глазами взглянуть на диалоги, казавшиеся внутренне незавершёнными и имеющими предварительный характер. Руководствуясь тезисом Шлейермахера о неразрывной связи формы и содержания в платоновском диалоге, Слезак понимает диалоги как драмы, персонажи которых являют собой единство характера и мировоззрения, причём сценическая расстановка этих персонажей тщательно продумывается автором в каждом отдельном случае. (Кстати, отметим, что такое столкновение характеров, воплощающих собой то или иное мировоззрение, заставляет взглянуть на Платона как на прямого предшественника Достоевского.) В то же время, как показывает Слезак, по-настоящему понять фундаментальные особенности платоновского диалога можно, лишь учитывая значение устной философии Платона. Похожую картину рисует в своих произведениях американский платоновед Кеннет Сейр, одна из книг которого — «Литературный сад Платона» (Sayre, 1995) — своим названием напрямую отсылает к той платоновской метафоре письменного сочинения как сада философа, которую постоянно использует и Слезак.
Насколько убедителен создаваемый Слезаком образ Платона — судить читателю предлагаемой книги. Со своей стороны добавим, что если герменевтическое острие книги Слезака направлено против отрицания устной философии Платона, то философское — против попыток релятивистов самых разных толков записать Платона в свои ряды (ведь привлечение на свою сторону Платона, как правило, используется ими для укрепления собственного престижа). Одни из них стремятся выставить Платона неким хайдегге-рианцем, чьим уделом является вечное вопрошание и бесконечное нахождение-на-пути к недостижимой истине, другие — фальсификационистом в стиле Поппера, признающим единственным способом познания дискурсивное мышление с упором на эмпирический опыт, также никогда не приводящее к окончательной истине. Встречаясь с этими и подобными им толкованиями философии Платона, нужно всегда иметь в виду элементарную герменевтическую максиму, которой, по большому счёту, должен руководствоваться всякий добросовестный интерпретатор: учитывать как можно большее число текстов самого автора и сведений об авторе и истолковывать их как можно более непротиворечиво в рамках единой концепции. Тогда придётся вспомнить, что для Платона существуют не только два вида познания — дискурсивное, рассуждающее «обо всех эйдосах» (ticqL Tidvxcuv tojv eibcov, Софист 254c 2), и интуитивное — «созерцание» (0m), но что именно последнее как бы «внезапно» (e£atf{)vr]g) подводит познающего к конечной цели (тцхх; хеЛос;) познания (Пир 210е 3-5)6. Благодаря по возможности непрерывному созерцанию истины (Федр 249с) философ переживает нравственное и онтологическое преображение — «уподобление богу» (opoioxju; 0еф, Теэтет 176Ь 1). Таким образом, Платон не только далёк от какого бы то ни было релятивизма, но также совершенно чужд широко распространённому в наши дни представлению о «чистой философии», тождественной для всех эпох и выявляющейся после «отцеживания» соответствующей исторической, культурной и религиозной специфики. Философия была для Платона не чисто познавательной деятельностью, но также вполне религиозной7. Другим примером искажённого понимания может служить популярная трактовка образа Сократа, которого часто называют чуть ли не основателем критического рационального мышления, забывая о том, что свой приход к философии он воспринимал как религиозное обращение, а философскую деятельность — как форму богослужения (f) той 0£ой AaTQ£ia, Апология 23с 1), и что его «даймонион» подчас оказывал определяющее влияние на его жизнь. Полагать, что Сократ принимал за божество свой «внутренний голос», означает отказывать ему в той самой способности критически и рационально мыслить, олицетворением которой он считается.
Возвращаясь к Платону, отметим, что вопрос об истине в связи с его философией имеет и другую сторону — как вопрос об истине самой герменевтики платоновского диалога. Ведь Слезак не только изображает Платона знающим истину, но и претендует на то, чтобы знать истину о самом Платоне (хотя бы в границах, определяемых наличием письменных источников). Перед лицом пышно разросшегося ныне релятивизма эта смелая позиция не может не вызывать уважения. Как бы задавая координаты для оценки собственной позиции, Слезак называет в своей книге два имени, которыми отмечены две важные вехи в истории истолкования Платона и в истории герменевтики как таковой. С именем Шлейермахера связано создание герменевтики с непосредственной претензией на истину и свободной от рефлексии по поводу условий своего возникновения и того влияния, которое эти условия оказывают на интерпретацию. С именем Гадамера — появление на свет самореф-лексивной герменевтики, ясно осознающей свою обусловленность текущей исторической и культурной ситуацией. Герменевтика Слезака сохраняет верность методической саморефлексии Гадамера (в частности, при выявлении препятствий к пониманию Платона, создаваемых современным европейским мышлением), однако её пафос, несомненно, сводится к установлению истины о Платоне. Причём главным условием этого является для Слезака гораздо более глубокое, чем у Шлейермахера, доверие к самопониманию интерпретируемого автора и к инициированной самим автором традиции его восприятия и толкования.
Итак, Платон считал, что знает истину, а мы, в свою очередь, можем знать истину о Платоне. Но вот может ли истина Платона иметь для нас не историческое, а непосредственное философское и жизненное значение? Здесь мы вновь сталкиваемся с вызовом релятивизма, полагающего, что историчность истины означает «несоизмеримость» представлений об истине в различные эпохи и невозможность восполнения истины в ходе истории. В своей книге Слезак не затрагивает этот вопрос напрямую, а упоминает лишь об общем вкладе Платона в историю мысли (более ясно на этот счёт высказывается Х.И.Кремер (Kramer, 1994. S.11), который хотя и считает, что реконструированная «тюбингенцами» теория принципов Платона совместима с основными направлениями современной западной философии, но, тем не менее, относит платоновскую философию к предыстории классической метафизики). Большую убеждённость в возможности актуализировать мысль Платона обнаруживает один из учеников Кремера — немецкий объективный идеалист Витторио Хёсле (Hosle, 1984; Hosle, 1996), воспринимающий платонизм через призму гегелевской философии, а также К. Альберт, считающий философию самостоятельной религией, в основании которой лежит «опыт бытия» как единства всего сущего (включая и того, кто переживает этот опыт)8.
В целом же можно говорить о некоем ренессансе платонизма (и в ещё большей степени аристотелизма), уже несколько десятилетий набирающем силу прежде всего в англоязычных странах и распространяющемся далее на европейский континент. Этот ренессанс охватывает практически все сферы философии — онтологию, философию природы и естествознания, теорию категорий, философскую психологию, этику9. Но что же побудило европейских и американских философов обратиться к античности? Ведь мы всегда связаны с прошлым через имеющуюся культурную традицию, а значит, и Платон с Аристотелем тоже никуда не исчезали с духовного горизонта современности. Обращение к античности путём «перескакивания» через предыдущие эпохи — признак духовного неблагополучия. В XX веке причиной такого неблагополучия стал кризис сциентизма, обещавшего построить всеохватывающее и единственно истинное мировоззрение на основе естественно-научного знания. Но по мере того, как сциентизм постепенно обнаруживал свою несостоятельность, философы стали всё больше обращаться к классикам мысли — Канту, Гегелю, Платону и Аристотелю — в поисках более прочного основания для построения нового мировоззрения. Понятно, что такое «осовременивание» Платона и Аристотеля, как правило, не является герменевтически строгим, поскольку отсекает не просто чуждые современному мышлению стороны их философии, но отрывает их от того мировоззрения, в котором их философия была укоренена. Это и есть та самая иллюзия «чистой» философии, возникающая на базе представления о «нейтральности» понятийного и теоретического аппарата философии, тогда как на самом деле понятия и теории не существуют вне лежащих в их основе мировоззренческих предпосылок. Так, современный конструктивизм в философии науки — это «обрубок» трансцендентальной философии Канта, лишившийся той последовательной рефлексии над собственными основаниями, которая составляла стержень кантовской мысли.
Истоки представлений о «чистой» философии и «нейтральном» разуме восходят к эпохе схоластики, когда западно-европейских богословов и философов перестаёт удовлетворять interpretatio Christiana античной философии: постепенно первенствующее значение в схоластике приобретает спекулятивный разум, а одновременно с этим в среде схоластов распространяется убеждение, что как раз античная философия (в первую очередь философия Аристотеля) и является «нейтральной», т. е. построенной исключительно на началах чистого разума. На Востоке же античная философия была прочно вплавлена в христианство через рефлексивное «использование» (xq^ou;), лежащее в основе interpretatio Christiana. При этом конфликт христианской веры и якобы нейтрального разума никогда не определял духовную и интеллектуальную историю Востока. Отцы и учителя Церкви были убеждены в том, что христианский разум превосходит античный, исправляя и восполняя его10.
В то же время на Западе все великие рационалистические системы, являвшиеся наследниками схоластической традиции, неминуемо обнаруживали ограниченность «чистого» (а на самом деле всё более дехристианизирующегося) разума. Поскольку же христианство постепенно стало восприниматься на Западе (а позже и на Востоке) уже не как нечто, объемлющее все стороны жизни, а только как часть жизни, всё прочнее отождествлявшаяся с набором моральных максим, то и философия становилась всё более дехри-стианизированной, но отнюдь не более «нейтральной». Сомнение в способности разума к самообоснованию привело к возникновению философского иррационализма и «философии без оснований» (Рорти). В англоязычных странах, поначалу не столь сильно затронутых кризисом рационализма, внимание философов было в основном занято теорией познания, моралью и вопросами общественного устройства, а также логикой. Однако провал программы по редукции математики (а вместе с ней и всех естественных наук) к логике означал невозможность самообоснования даже такого «минимального» рационализма как логицизм Фреге и Рассела. Кроме того, становившаяся всё более явной ограниченность сциентизма заставляла философов искать новые мировоззренческие ориентиры. В области онтологии возникают подходы, опирающиеся на эссенциализм Аристотеля. Наряду с этим в британской, а затем и в американской философии происходит постепенный поворот от морали долга (Кант) и пользы (Бентам и Милль) к аристотелевской морали «добротной жизни» (сб £rjv) и коммунита-ризму, при негласном допущении, что христианский взгляд на нравственность не имеет самостоятельного значения и может получить своё выражение лишь в рамках одного из этих подходов11.
Эти предпосылки духовной ситуации эпохи редко подвергаются рефлексии со стороны философов, молчаливо считающих философию «нейтральной». Однако нам следует критически относиться к мысли о возможности «нейтральной» рецепции какой бы то ни было философии — будь то Платона, Хайдеггера, Деррида или Дэвидсона. Ведь иначе мы рискуем попасть в силовое поле чужой мысли и, некритически восприняв её, не только ничего по-настоящему не понять, но и потерять самих себя. Поэтому столь важным является осмысление текущего философского момента через призму собственной, а равно и чужой, истории (в первую очередь истории мысли). Имея за собой серьёзную интеллектуальную и духовную традицию (включая традицию самоосмысления), а также традицию рецепции Платона (хотя и не самую богатую), мы должны попытаться понять, какое значение имеет в этом контексте «новый образ Платона», созданный трудами «тюбингенцев». В отрыве от этой традиции мы не только не достигнем и без того недостижимой цели — понять «чистого» Платона, но построим наше «понимание» в безвоздушном пространстве (а на деле в неотрефлексированном нами пространстве чужой мысли). А на вопрос о том, является ли истина Платона и нашей истиной, русская традиция осмысления Платона (речь идёт именно о традиции — философской и богословской) отвечает с позиций христианского историзма: по существу своему это истина, но истина, исправленная и восполненная в христианстве.
В связи с этим уместно будет привести пример того, как герменевтика Платона, разработанная Слезаком, помогает лучше понять характер отношений платонизма и христианства в их сходстве и одновременно фундаментальном отличии. Проблема письменного и устного у Платона, ключевая в герменевтике Слезака, имеет своё важное соответствие и в христианской традиции. Как мы помним, устное является у Платона сферой подлинного обучения, ведущего к нравственному, а конечном итоге, онтологическому, преображению адепта (к «уподоблению богу»), тогда как письменному здесь отводится исключительно вспомогательная роль. В православной традиции соотношение письменного и устного несколько иное: Писание (уфафг|) считается содержащим всю полноту истины, но, будучи одной из форм Предания (naQabocng), т. е. передачи истины в непосредственном общении, оно может быть подобающим образом воспринято и понято только в Церкви, являющейся хранительницей Предания12. Достаточно вспомнить, что сам библейский канон был составлен по критериям Предания. Заметим, однако, что Предание не является обычной традицией передачи знаний, толкований и духовного опыта, но традицией непосредственного познания Бога (т. е. истины как таковой) в общении с Ним. При этом смыслом духовной жизни христианина является не просто изучение Писания, но претворение его в жизнь, что означает не одно лишь нравственное поведение, а становление богом, «обожение» (бёсиспд), т.е. приобретение божественных качеств и свойств при решающем содействии самого Бога. По слову св. Афанасия Александрийского: «Бог вочеловечился, чтобы мы обожились» (Аптод у clq £vrjv0QCO7rr)(7£v, Iva rjpclg 0£OTrotr|0d)fi£v, О воплощении, 54). «Уподобление бшу», как мы помним, было главной целью и для Платона, причём важную роль на пути к этой цели могло играть содействие божества (ср. Теэтет 150d). Но в отличие от Платона, мыслившего «спасение» не всеобщим (оно является уделом лишь избранных философских душ), не окончательным (души вновь и вновь обречены падать из «занебесной области» на Землю), не объемлющим всего человека (но лишь разумную часть его души), христианство говорит о Боге, из любви к людям ставшем человеком, чтобы спасти по возможности каждого человека, спасти навсегда и во всём его душевном и телесном составе — как преображённую личность. В христианстве человек становится богом не созерцая эйдосы в их благоупорядоченности, а подражая воплотившемуся Богу в Его любви.
Как в своём восприятии Платона, так и в своём восприятии христианства мы, даже не осознавая того, нередко находимся под влиянием «текстоцентричной» парадигмы Шлейермахера. Будучи не только выдающимся платонове-дом, но и видным протестантским богословом, Шлейер-махер оставался верен тезису Реформации sola scriptura («только Писание»), сводя всю полноту христианской истины к Писанию, которое каждый по своим способностям может толковать на свой лад. Такого рода свободное толкование Писания привело Шлейермахера к созданию собственной христологии. По сути отрицая Боговоплощение как выражение любви Бога к людям, Шлейермахер утверждает, что, оставаясь человеком, Иисус постепенно проникался сознанием Бога, и каждый человек может «принять в себя» Бога точно таким же образом13. Столь же поверхностное, произвольное, оторванное от подлинной христианской традиции восприятие Христа и Писания характерно в наши дни для очень многих людей. И в этом смысле книга Слеза-ка заставляет серьёзнее отнестись к устной, живой духовной традиции как к той среде, в которой возникает текст и вне опыта которой он не может быть должным образом понят и усвоен. В случае с текстами христианского Писания это тем более важно, что они не служат выражению мысли даже такого гениального человека, как Платон, а представляет собой откровение Бога, мшущее быть понятым и претворённым в жизнь только при Его непосредственном участии, что находит своё воплощение в бытии Церкви (ср. Мф 18:20: «Где двое или трое собраны во имя Моё, там Я посреди них»). Церковь и есть то «совместное бытие» (cruvouaia), которое Платон считал непременным условием познания истины и значение которого не понимают и не желают принять «протестантски» настроенные интерпретаторы.
Именно признание стоящей за текстом реальности, о важности которой настойчиво говорит Слезак, оказывается — и для герменевтики Платона, и для понимания христианской традиции — выходом из тупика «протестантской» фиксации на одном только тексте или же «иудаист-ской» одержимости текстом в духе Ж. Деррида, когда уже сам вопрос о внетекстовой реальности исчезает из поля зрения вместе с вопросом об истине.
Если говорить о переводе немецких терминов, то ключевое для всей книги понятие «Schrift», как и его греческий прототип «удафг)», имеет одновременно значение письма (в смысле фиксирования чего-либо в письменном виде) и письменного сочинения. Поэтому в тех случаях, когда были в общем допустимы оба варианта перевода, выбор делался в пользу более принципиального понятия «письма». Понятие «Einsicht» (нередко служащее эквивалентом греческого «фQ6vr}au;») во имя терминологического единообразия везде переводилось как «понимание (вещей)» или «способность понимания», хотя вполне законным был бы и перевод «разумение» (ср. перевод понятия «understanding» в заголовке известного труда Юма). Прочие уточнения даны в примечаниях переводчика.
Специфическая черта стиля Т. А.Слезака состоит в том, что рассматривая философию Платона, он активно использует терминологию, вызывающую ассоциации с теорией информации — «коммуникация», «реципиент», «сообщение». Читателю, привыкшему к традиционному стилю в платоноведении, это может показаться несколько необычным, но никакого смысла искусственно приспосабливать текст к действующим канонам, искажая тем самым замысел автора, переводчик для себя не видел.
Русский перевод текстов Платона, цитируемых в книге, следовал переводу, сделанному самим автором, но при обязательной сверке с греческим оригиналом, представленным во всё ещё наиболее авторитетном оксфордском издании Барнета (Burnet, 1967).
По желанию переводчика в книгу в качестве приложения была помещена статья Т.А.Слезака о платоновской диалектике, подробнее освещающая некоторые важные темы, затронутые в работе «Как читать Платона».
* * *
В заключение мне кажется необходимым назвать хотя бы немногих из тех, кому эта книга обязана своим появлением на свет: помимо директора Издательства СПбГУ профессора Р. В. Светлова, без содействия которого эта книга вряд ли бы вышла в России, мне хотелось бы поблагодарить, прежде всего, самого профессора Т.А.Слезака за его доверие и постоянную помощь, моего наставника в философии — профессора кафедры философии ДВГТУ С.Е.Ячи-на (г. Владивосток) и наставницу в немецком С. В. Мищенко, профессора Л. И. Кирсанову, лектора DAAD г-жу Монику Кац, профессора философии Франкфуртского университета Б.Меркер, преподавателей Марбургского университета г-на Вилфрида Фидлера и г-жу Бригитту Каппль, приобщивших меня к греческому Платону, верного друга Араша Фархид-ния, г-жу Эрику Лариби, г-жу А. Венц-Хаубфляйш из Государственного Архива федеральной земли Гессен (г. Марбург), а также настоятеля храма свщмч. Киприана и мчц. Иустины (г. Франкфурт-на-Майне) иеромонаха Агафангела (Шкуранкова) за неизменную духовную поддержку.
Мою жену — за терпение и понимание.
М. Е. Буланенко
Марбург, 31 июля 2008 г.
Глава первая
РАДОСТЬ ЧТЕНИЯ ПЛАТОНА
Чтение Платона — это, прежде всего, ни с чем не сравнимое интеллектуальное наслаждение. Радость от соприкосновения с его мыслью не исчерпывается переживанием художественного совершенства его философских драм. К этому добавляется чувство, что читатель из простого свидетеля некоторым образом становится участником живой дискуссии, искусными мазками превращённой в непринуждённую встречу персонажей, словно бы взятых из реальной жизни.
Непосредственность и свежесть греческого искусства и всей греческой культуры издавна служат предметом восхищения. Но и в самой греческой культуре эта черта лишь немногими была реализована в той же мере, что и Платоном. Пусть он был духовным наследником столь богатых в творческом отношении эпох, как архаика и классика, пусть он сумел глубоко рефлексивным образом проработать опыт поколений поэтов и философов — всё же он заставляет почувствовать, что в запечатлённом им пёстром мире Афин философское вопрошание началось как будто с нуля, безо всяких предпосылок.
Другая, не менее важная черта литературного мира Платона — его многообразие и огромное духовное богатство. Непосредственность и подлинность при передаче атмосферы афинской жизни никоим образом не означают, что Платон как писатель находится во власти исторических случайностей и социальных условностей этого мира. Независимым жестом поэта связывает Платон свои родные Афины со всем, что произвела на свет история греческого духа. Осуществляя столь смелый замысел, он, разумеется, мог обращаться и к реальным историческим событиям, скажем, показывая в своих ранних диалогах, как крупные интеллектуалы V века до Р. X., которые и впрямь охотно посещали Афины, выступают перед афинской публикой и стремятся заинтересовать её своим новым образованием. Однако, когда в более поздних произведениях он изображает безымянного «гостя из Элеи» или даже самого Парменида (в названном его именем диалоге), прибывающих в Афины и философствующих там в обществе юного Сократа, то никакое биографическое и историческое правдоподобие совершенно не принимается им во внимание. В натурфилософском диалоге «Ти-мей» неафинский государственный деятель и учёный (судя по всему, пифагореец, хотя он и не назван таковым прямо) в небольшом кругу слушателей, лишь наполовину состоящем из афинян, говорит о структурировании космоса божественным разумом демиурга; и наоборот, в последнем произведении Платона, в «Законах», на чужой территории, а именно на Крите, оказывается уже некий афинянин (чья анонимность лишь подчёркивает его принадлежность к афинской культуре), который в беседе с двумя представителями консервативной дорийской культуры рисует масштабную картину благоустроенного общества и его духовных основ.
Создаётся впечатление, что выбор собеседника для диалога служит Платону тем художественным приёмом, с помощью которого он стремится не только расширять духовный горизонт своих произведений, но — если воспринимать их как целое — и отображать перипетии сложного исторического процесса: как новое образование на основе философии природы и общества, получившее своё развитие за пределами Афин, пришло и в этот политически мшущественный город; как здесь, во взаимодействии с заимствованным Афинами корпусом мысли, сформировалась аттическая понятийная философия, которая, едва обретя уверенность в собственных методах, придала дискуссии более фундаментальный характер, включив в неё философские основания V века до Р. X. — учения элеатов, Гераклита, пифагорейцев; наконец, как в результате такой проверки оснований родилось ответное движение, символически изображённое в «Законах» — распространение «афинянином» по всему эллинскому миру собственной морально-политической концепции, выросшей на строжайшей методической выучке. Таким образом, изменения, затрагивающие состав собеседников в диалогах Платона — от ранних до поздних — позволяют проследить исторический путь Афин от интеллектуального ученичества и критического развития усвоенного к нормативному творчеству.
Итак, непосредственность, многообразие и символическая сила диалогов, обнаруживающаяся уже при первом приближении к ним, — эти черты сделали Платона автором, чьи произведения сегодня повсюду признаются наиболее действенным средством пробуждения интереса к философии, вне зависимости от национальных и культурных различий. Кто начинает философствовать с Платоном, может быть уверен, что находится на правильном пути.
Между тем, живое воздействие платоновских диалогов не ограничивается одной лишь начальной фазой. Поистине изумительным является как раз обратное: Платон не только задал уровень для всего, что в дальнейшем могло называться в Европе философией, но столь основательным образом разработал ряд ключевых вопросов метафизики, теории познания, этики и философии государства, что даже после двух с половиной тысяч лет в высшей степени плодотворного развития невозможно обойтись без его подходов к решению, или, по крайней мере, к разработке тех или иных проблем.
Таковы, вероятно, важнейшие факторы, которыми определяется опыт чтения Платона сегодняшней аудиторией. Чувство причастности к незамутнённому перво-истоку, рождающееся при чтении диалогов, сопряжённое с убеждением во встрече с вопросами непреходящей значимости и усиленное впечатлением языкового и композиционного совершенства диалогов, сообщает восприимчивому читателю тот опыт интеллектуальной радости, с разговора о котором мы начали эту главу.
Глава вторая
ЧИТАТЕЛЬ ВКЛАДЫВАЕТ В ЧТЕНИЕ СЕБЯ САМОГО
Но сам по себе этот опыт ещё не объясняет, почему вопрос о том, как нужно читать текст, стал предметом особенно страстных и противоречивых дискуссий именно в связи с Платоном. А о том, что дело обстоит именно так, известно уже и неспециалисту. Ни у какого другого мыслителя вопрос литературной формы, в которой преподносится философское содержание, а значит, и вопрос метода, с которым читатель должен подходить к этой особенной форме, не обретает такого значения, как у Платона. Ни у какого другого мыслителя форма преподнесения не является столь непосредственно релевантной для содержания: правильное понимание диалога (как литературной формы) и правильное понимание платоновского понятия философии взаимно обусловливают друг друга. Складывается парадоксальное положение: именно автор, как никто другой способный сообщать опыт прямого, как бы естественного приобщения к философскому вопрошанию, требует, по-видимому, собственной герменевтики.
Неслучаен, разумеется, тот факт, что герменевтика произведений Платона и философская герменевтика, ставшая самостоятельной дисциплиной, дважды теснейшим образом соприкоснулись друг с другом в важные моменты своего развития. Сначала Фридрих Шлей-ермахер (1768-1834), крупный теолог и философ романтического направления, первым задумавшись об активной роли читателя, с одной стороны, построил на этих размышлениях герменевтику диалогов, которая в своих основных чертах и сегодня многими признаётся верной, а с другой, переосмыслив старинную проблему богословов, касающуюся правильной экзегезы, подошёл к универсальной герменевтике, которую можно считать подлинным началом современной герменевтической философии. А в XX веке Ханс-Георг Гадамер, с одной стороны, тоже начал собственный философский путь с Платона, углубив и конкретизировав в своём первом произведении «Диалектическая этика Платона» (Gadamer, 1931) путеводные соображения Шлейермахера о значении формы для содержания, а с другой — дал новое основание философской герменевтике в своём главном труде «Истина и метод» (Gadamer, 1960).
Дискуссия о правильном подходе к чтению Платона в конечном счёте сводится к вопросу о том, каким должен быть вклад в чтение со стороны самого читателя. Поскольку при чтении мы не можем абстрагироваться от собственного «я», отменить наши многочисленные условности, то мы сами, по общему мнению, образуем существенный фактор, влияющий на процесс чтения любых текстов. Но при чтении Платона к этому почти неизбежно добавляется чувство, о котором было упомянуто в самом начале — когда читатель перестаёт быть простым зрителем дискуссии, неким трудноопределимым образом превращаясь в её участника, что, естественно, должно сказываться и на том, как он реагирует на её содержание. И поскольку углублённое, личностное участие в событиях диалога, переживаемое каждым читателем, не возникает при чтении произведений Платона как некий случайный и уж тем более противоречащий намерениям автора эффект, то проблема, стоящая здесь перед нами, не может попросту сводиться к наиболее широкому отключению всех субъективных моментов восприятия текста.
Конечно, подлинная цель состоит в умении держаться исключительно существа дела (ср. Федон 91с); но даже находясь ещё только на пути к этой цели, будет небесполезным действовать так, как если бы она уже была достигнута, отвлекаясь от того, что главная помеха (но в благоприятном случае также помощь) для приближения к ней может быть заключена в нас самих. Очевидно, мы должны реагировать на драмы Платона всем своим существом, а не одним только анализирующим рассудком. Вопрос, стало быть, заключается в том, каким должно быть активное участие читателя и какую долю в конструировании смысла вправе занимать его непосредственный вклад.
Глава третья
ПРИМЕР ИНДИВИДУАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ
Субъективную обусловленность восприятия философии Платон сознавал ясно как никто другой. Он неоднократно даёт нам возможность воочию наблюдать, как специфическое душевное устройство может затруднить собеседнику понимание смысла сказанного.
Один из наиболее известных примеров такого рода — Калликл в диалоге «Горгий». Калликл придерживается тезиса о так называемом праве сильнейшего, в соответствии с которым некто, превосходящий остальных в силе и власти, поступает позволительно и правильно, подчиняя и бесцеремонно используя их для содействия своим собственным интересам. Господства сильнейших якобы желает сама природа; обычное понимание справедливости, ограничивающее раз1ул вожделений правом другого, есть не что иное, как идеологическая конструкция слабых, призванная с целью их защиты опорочить здоровое стремление сильного к неограниченному удовлетворению собственных влечений и желаний (ср. Горгий 482c-486d).
Платон мог бы позволить своим персонажам со спокойной отстранённостью пересказать эту концепцию с точки зрения её чисто теоретического вклада в дело принципиального обоснования этики. Вместо этого он даёт Калликлу изложить её как своё личное кредо. Это не просто интеллектуальная «позиция», но непосредственное выражение его тщеславия и безмерного эгоцентризма. Когда Сократ, опираясь на строгие доводы, доказывает ему здравость традиционного понятия справедливости и, наоборот, внутреннюю противоречивость так называемого права сильнейшего, Калликл перестаёт понимать его — но отнюдь не потому, что недостаточно умён (ибо умом он явно не обделён), а вследствие ограничений, наложенных на него его собственным характером. В диалоге совершенно открыто говорится о том, что именно его необузданные влечения мешают ему понять и принять теоретически обоснованный и нравственно благотворный взгляд Сократа (ср. Горгий 513с).
Прежде всего, Калликл имеет извращённое представление о самом себе: он отождествляет себя со своими вожделениями и влечениями (Горгий 491е-492с). Он не знает и не хочет знать, что человек не сводится к своим влечениям и что его разум предназначен не к тому, чтобы быть инструментом на их службе, но является божественной силой, которой надлежит властвовать над низшими частями души. Сократ же, очевидно, располагает соответствующей теорией о внутренней структуре человека (ср. Горгий 493а и след.) — однако видя, что Калликл явно не сумел бы ею воспользоваться, даже не пытается излагать её с должными обоснованиями, а ограничивается несколькими указаниями, всё значение которых становится понятным лишь из полного изложения учения о душе в «Государстве». Впрочем, Калликлу замечают, что он ещё не знает даже «Малых мистерий»; а посвящение в «Великие мистерии» без знания низшей ступени недозволительно (497с). Иначе говоря, подлинное решение проблемы, которое, по мысли Платона, может быть обеспечено только через обращение к внутренней структуре человека, персонажу с характером Калликла сообщать не нужно, поскольку у него отсутствуют предпосылки для адекватного восприятия таких истин1. Поэтому Калликл получает от Сократа лишь опровержение ad hominem14 15, доказывающее противоречивость его позиции на его же собственном уровне ар1ументации (494Ь и след.).
Этим блестящим примером литературной характеристики Платон со всей ясностью говорит нам, что его философия требует «всего человека». Одних только интеллектуальных способностей здесь недостаточно — необходимо внутреннее родство между предметом, предназначенным к передаче, и душой, которой его надлежит передать. Кто не готов включиться в процесс внутреннего преобразования, тот не вправе претендовать на то, чтобы узнать полное решение.
Но в положительном отношении нуждается не только существо дела, которому привержен философ. Поскольку философствование представляет собой процесс, развёртывающийся между конкретными людьми, то его необходимым условием является также благорасположенность (euvoia) к собеседнику. Платон весьма впечатляюще показывает, что именно из-за неумения Калликла подойти к собеседнику благожелательно разговор между ним и Сократом перестаёт быть полноценным общением16. Платон в самом деле убеждён, что истинное философствование возможно только между друзьями и что философская аргументация, претендующая на результативность в содержательном отношении, должна проходить только в форме «благожелательных опровержений» (eupeveaLV ёЛёухок;, Седьмое письмо 344Ь 5). Это убеждение, на котором основано изображение персонажей во всех диалогах, особенно ясно распознаётся (помимо «Горгия»), к примеру, в «Лисиде», «Пире», «Федре» и «Государстве».
Правда, «дружбу» при этом нужно понимать не как субъективно-случайную склонность, и, стало быть, нечто чисто аффективное: нет, она возникает из общей направленности на «божественное», «вечно сущее», в конечном счёте — на идею блага самого по себе.
Конечно, Калликл олицетворяет собой крайний тип характера. Платон сознательно изобразил его беззастенчивую откровенность в исповедании безнравственности столь провокационно — эта провокация адресована философским противникам, отрицательно настроенным к укоренению Платоном этики в метафизическом учении о душе и идеях. Но эта провокация обращена в то же время и к будущим читателям, т. е. к нам — ведь каждый из нас, хотя бы потенциально, имеет в себе такого Калликла. Вызывающе жизненный образ принципиального врага этики заставляет нас разобраться с собственным сознательным — и, в ещё большей степени, бессознательным — отношением к «праву сильнейшего».
Глава четвертая
ОШИБОЧНЫЕ УСТАНОВКИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ У ЧИТАТЕЛЯ
Что же касается благорасположенности к собеседнику, необходимой для всякого подлинного понимания, то мы как читатели вместо живого визави имеем дело с мыслью, изложенной в письменной форме. Это обстоятельство, несомненно, затрудняет формирование правильного отношения к изложенному, поскольку книга — в противоположность собеседнику-человеку — не может исправить ошибочных установок в случае их возникновения у тех, кто вступает с ней в контакт. Поэтому задачей решающей важности является распознание определённых раздражителей, способных проявить себя при чтении Платона, и противодействие им. Заметим, что речь идёт о раздражителях, воздействию которых, по свидетельству опыта, бывает подвержен именно принципиально отзывчивый, интересующийся философией читатель, обладающий, к тому же, хорошим вкусом и образованием. Необходимо понять, что они являются следствием платоновского представления о правильном способе философской коммуникации, а значит, в конечном счёте, следствием его понятия философии; только таким образом можно предотвратить превращение временных раздражителей в постоянную помеху, затрудняющую освоение платоновской мысли.
(1) Когда в апоретических диалогах1 после долгого и тщетного поиска решение не достигается и при последнем заходе, то читатель, которому неведом смысл этого странного блуждания, легко приходит к мысли, что всё прошло вхолостую или, во всяком случае, оказалось чрезмерно затянувшимся прооймионом17 18 к плодотворному философствованию, которое, однако же, ещё только ожидает своего часа.
(2) Когда в конструктивных диалогах при соприкосновении с наиболее существенными проблемами говорится, что «сейчас» они не мшут быть рассмотрены, или что их обсуждение нужно отложить до другого раза, то читатель нетерпеливо спрашивает себя, почему столь стоящие темы словно бы только выставляются на обозрение и тут же вновь удаляются, и есть ли у этих постоянных указаний на нечто более существенное вообще какое-нибудь соответствие в философии Платона, или же из читателя делают некоего Тантала, внушая ему представление о существовании плодов, которых на самом деле нет.
(3) Наконец как ранние, так и поздние диалоги объединяет неизменное превосходство ведущего собеседника над его партнёром по разговору. Можно ещё смириться с тем, что «афинянин» в «Законах» непрерывно поучает своих неискушённых дорийских друзей, черпая из неиссякаемого запаса непревзойдённого знания, или что «гость из Элеи» имеет значительное преимущество перед молодыми людьми, с которыми он общается; однако в диалогах агонального характера19 кажется нарушенным требование честности состязания — когда собеседники слишком неравны, и «Сократ» всякий раз словно бы без труда торжествует над своими противниками. Вправду ли, спрашивает себя изумлённый читатель, может существовать столь выдающийся чемпион в словесной борьбе, способный с равной лёгкостью одолеть любого, будь то разносторонний Гиппий, радикальный Калликл, вспыльчивый Фрасимах или же прославленный Протагор и достойнейший Горгий. Что-то кажется здесь необычным, почти неправдоподобным; инстинктивно хочется большего равновесия, большего паритета, а иной раздражённый читатель даже, пожалуй, начнёт восставать в душе против непобедимого Сократа.
Такая реакция совершенно понятна. Но стоит только мысленно восстановить её контекст, и мы увидим, что она связана с типичной для нас — как для людей нового времени — потребностью в паритете и полном раскрытии всех предпосылок, предположительно составляющих фон дискуссии. Как люди демократического, плюралистического и враждебного авторитетам XX века, мы настолько прочно настроены в своем восприятии на господствующий релятивизм, что вольно или невольно встречаем скепсисом или даже внутренним сопротивлением недосягаемое превосходство «Сократа» или «афинянина», которые осмеливаются называть единственно верной ту ориентацию, которой сами придерживаются! Мы воспринимаем их игры с апориями как недостаток открытости, а препровождение к познаниям, приобретение которых должно стать делом будущего — как уклонение от требований момента. Вместо этого мы должны спросить себя, не хочет ли Платон такой концепцией взаимоотношений персонажей сообщить нам нечто особенное, уже утратившее для нас непосредственную понятность, и не ведёт ли эта концепция к такому понятию философии, которое существенно отличается от убеждений XX века, но именно в силу этого способно дополнить и обогатить их.
Отсюда мы видим, что провоцируемая самим текстом целостная (а не только интеллектуальная) реакция на происходящее в диалоге вместе с тем таит в себе определённую опасность. Не осознав себя искажающим фактором, читатель рискует не продвинуться дальше поверхностного понимания. Но искажение не обязательно имеет чисто индивидуально-субъективную природу. Не только индивиды вкладывают в чтение самих себя, но и целые эпохи. Это может приводить к тому, что в ходе поколений какие-то вещи в тексте перестают замечаться или учитываться просто по причине их несоответствия образу мысли нашего времени. Как это происходит, мы продемонстрируем на следующем примере.
М.Б.
Глава пятая
НЕЛЬЗЯ УВИДЕТЬ ТО, ЧЕГО НЕ ЗНАЕШЬ
МОТИВ «УТАИВАНИЯ» В ДИАЛОГАХ
Со времени открытия Шлейермахера, установившего, что форма для Платона не является чем-то безразличным по отношению к содержанию, задачей интерпретаторов стало изучение драматической техники диалогов как в целом, так и в частностях. К сожалению, нельзя утверждать, что исследовательская работа по выполнению этой задачи продвинулась очень уж далеко. Тем не менее, некоторые драматургические средства, такие как смена собеседника, а также отдельные повторяющиеся мотивы, например, обращение к словам поэтов, были неоднократно описаны. Но один мотив, казалось бы, заслуживающий тщательного описания и интерпретации из-за своей необычности и необъяснённо-сти, а, главное, из-за той значительной роли, которую он играет в произведениях Платона, остался практически незамеченным. Я имею в виду мотив утаивания и намеренного сокрытия знания.
Этот мотив необычен для нас — поскольку в Европе уже давно утвердился постулат ничем не ограниченного публичного распространения результатов философского и научного труда, а потому никто не рассматривает всерьёз даже саму возможность того, что кто-то может сознательно скрывать сколько-нибудь существенное знание. Заметим, однако, что выбор в пользу принципиальной публичности духовного труда, как показал американский социолог Роберт Мертон (Merton, 1973. Р. 273 и далее), был сделан лишь в XVII веке, причём не без затруднений, и потому приписывать эту установку более ранним эпохам как нечто самой собой разумеющееся было бы наивным, а точнее, неисторичным.
Что же касается частоты появления мотива сокрытия, то регулярность, с которой к нему обращается Платон, поистине поразительна. Собеседники Сократа то и дело навлекают на себя подозрение в том, что не хотят открывать своё знание или не хотят делиться им в полной мере — будь то просто из желания оставить его при себе (как, по-видимому, поступают последователь Гераклита Кратил и эксцентричный Евтифрон, мнящий себя теологом), или же для того, чтобы испытать других (как в ситуации, когда такое намерение приписывается софисту Продику), или даже чтобы ввести других в заблуждение (как в эпизодах, где допускается возможность подобного поведения со стороны Крития, Калликла, Гип-пия и рапсода Иона)20. Положим, в перечисленных случаях отсутствие подобающего внимания к явно важному для Платона мотиву ещё в какой-то мере извинительно. Но не заметить того, что в одном из наиболее совершенных по форме диалогов, а именно в «Евтидеме», сокрытие знания составляет структурообразующий, а также в значительной степени смыслоопределяющий мотив, без понимания которого невозможно полностью постичь смысл всего диалога, — это уже кажется прямо-таки невероятным. Содержание «действия» «Евтидема» составляет попытка Сократа заставить софистов Евтидема и Дионисодора прекратить свои несерьёзные трюки и запутывающие рассуждения и продемонстрировать, что они могут предложить из серьёзной философии. Тем самым Сократ приписывает им обладание важными познаниями, которые они, однако, до сих пор намеренно скрывали. Когда ему не удаётся выманить у софистов их «серьёзное» знание, он советует им и впредь не разбрасываться своей мудростью, а оставаться такими же скрытными, какими они были доныне, ибо, как он поясняет, «ценны редкие вещи» (Евтпидем 304Ь); вопросом о том, как следует толковать поведение Сократа, нам ещё предстоит заняться чуть ниже.
Однако сознательное скрывание философского знания Платон представляет себе не только в качестве возможного решения со стороны отдельных индивидов, но равным образом и в качестве государственной меры при организации образования. Уже в относительно раннем «Протагоре» не без привнесения юмористических черт рисуется вымышленный образ «настоящей»
Спарты, подлинной силой которой является не ведение войн, а философствование. Но к превеликому сожалению, этот древнейший и значительнейший источник философии в Греции остаётся совершенно неведом остальным грекам, поскольку спартанцы никому не дают к нему прикоснуться: либо общаются со своими ведущими мыслителями тайком, либо инсценируют пресловутые изгнания чужеземцев, истинной целью которых является возможность философствовать без свидетелей (Протагор 342а-е).
Картину более внушительную, чем этот шутливый вымысел, предлагают два утопических государственных проекта. В «Государстве» уже сам временной план обучения элитарного сословия правителей подразумевает, что знания, составляющие содержание их образования, не являются общедоступными. К примеру, предписание, согласно которому к созерцанию идеи блага должно приводить только самых способных, причём лишь по достижении ими возраста пятидесяти лет (Государство 540а), было бы попросту бессмысленным, если бы уже двадцатилетние, а среди них и обладатели дарований средних и посредственных, которых следует отстранять от «наиболее точного образования» (503d), могли бы повсеместно приобретать сведения — возможно, даже в письменной форме — о том, чем занимаются на последнем этапе философского обучения. Долгая и сопряжённая с большими трудами задержка на пропедевтических дисциплинах и планомерный, безо всякого забегания вперёд, переход к очередному этапу обучения, представимы лишь в том случае, если обладатели более высоких форм знания распоряжаются ими ответственно, а значит, допускают к ним только тех, кто в достаточной мере подготовлен к их восприятию. (Ниже мы увидим, что и сам Сократ в диалоге «Государство» ведёт себя точно в таком же духе.) В более позднем платоновском проекте идеального государства, в «Законах», верховный орган государственной власти, так называемый «ночной совет», с самого начала окружается ореолом тайны — простой гражданин критского идеального государства не имеет никакого доступа ни к решениям этого совета, ни к тем сведениям и тому образованию, на основе которых члены совета принимают свои решения (Законы 951d-952b, 961ab, ср. 968de).
САМ СОКРАТ СКРЫВАЕТ СВОЁ ЗНАНИЕ
Опираясь на вышеизложенное, можно с определённостью утверждать, что для Платона — в отличие от XX века — скрывание знания имело характер центрального представления, явно обладавшего большой актуальностью. Это станет ещё яснее, если мы посмотрим на поведение Сократа в «Евтидеме». Сократ, как мы только что упоминали, приписывает софистам Евтидему и Диони-содору такой образ действий, при котором они намеренно предлагают своим собеседникам одну лишь «игру», в то же время скрывая за ней ещё и «серьёзное» философское знание. Однако попытка выведать их «серьёзные» взгляды, настойчиво возобновляемая им на протяжении всего диалога, всё яснее показывает, что кроме глупых лжезаключений, которыми эти софисты дурят головы молодым людям, у них, в действительности, ровным счётом ничего нет. Сократ распознаёт это с самого начала — в его упорных поисках «серьёзного» знания, намеренно скрываемого софистами за «игрой», не содержится ничего, кроме неприкрытой иронии.
Но почему Сократ выбирает именно такой способ высмеивания своих противников? Его поведение можно объяснить, взглянув на те философские теории, к которым он сам отсылает в этом диалоге, правда, не прибегая к их изложению с использованием обоснований: этому «Сократу» явно известно платоновское учение об анам-несисе и идеях, включая теорию диалектики. Правда, сегодняшний читатель может по-настоящему убедиться в этом лишь путём тщательного сравнения высказываний Сократа в «Евтидеме» с его же рассуждениями в других диалогах, прежде всего в «Меноне», «Федоне» и «Государстве». И только расширив таким образом свой философский горизонт, можно собрать фрагментарные и неожиданным образом разбросанные по тексту намёки в одно осмысленное целое. Это означает, что если бы после Платона остался только «Евтидем», то понять философскую позицию его главного действующего лица мы были бы не в состоянии — точно так же, как в самом диалоге явно не понимают Сократа его собеседники. Иными словами, Сократ действует в «Евтидеме» «эсоте-рически»: он располагает более глубоким знанием обосновывающего характера, но не видит никакой нужды излагать его участникам этого разговора, отчасти не имеющим достаточной предварительной подготовки, а отчасти принципиально непригодным к философии. Таким образом, умение при необходимости скрывать своё знание (если того требуют обстоятельства) Платон изображает положительным свойством настоящего философа. И когда Сократ, расточая язвительные похвалы, приписывает это положительное свойство псевдофилософам Евтидему и Дионисодору, явно далёким от подобных претензий, то его слова нужно воспринимать как проявление едкого сарказма21.
Поэтому тот, кто понял тонкую иронию «Евтидема», никогда не ошибётся, принимая насмешку Сократа над охранением тайны в этом и других диалогах за выражение антиэсотерической установки Платона, но увидит здесь указание на то обстоятельство, что к разумному сокрытию знания, т. е. к его ответственной передаче, учитывающей особенности реципиента, способен лишь истинный философ.
Противоположной установкой — когда собственное знание несут на рынок, расхваливая его во весь голос, подобно торговцу, и стремясь продать его как можно большему числу слушателей, не учитывая ни их потребности, ни образовательный уровень — является для Платона позиция софиста. Софист по существу своему — антиэсотерик. Неудивительно, что защитительное слово в пользу принципиальной открытости при передаче знания Платон вкладывает в уста именно Протагору, наиболее значительному уму в софистике V века до Р. X. (Протагор 317Ьс).
ДИАЛОГИ ОТСЫЛАЮТ ЗА СВОИ ПРЕДЕЛЫ
Сколь мало сочеталось бы с Сократом, являющим собой литературный образ идеального философа, обыкновение сбывать своё знание всем без разбору, также показывают — наряду со многими другими примерами22 — диалоги «Хармид» и «Государство». В обстоятельно разыгранном рамочном действии «Хармида» с использованием вполне прозрачной метафорики говорится о некоем лекарстве (фарракхуу) из Фракии, которое Сократ мог бы дать юному Хармиду для исцеления головной боли, но которое он ему, однако же, не даёт, поясняя при этом, что пользу оно принесёт только тому, кто прежде разрешит «заговорить» свою душу (Хармид 155е). Таким образом, и здесь лекарство уже имеется в наличии, но сознательно не применяется, поскольку получатель ещё не настолько развит философски, чтобы принять его с пользой для себя.
Содержание сквозного «действия» «Государства» составляет попытка двух братьев, Главкона и Адиманта, вынудить Сократа к сообщению своих воззрений на справедливость. Несмотря на то что Сократ высоко ценит обоих братьев, такая откровенность не кажется ему само собой разумеющейся, напротив, чтобы заставить его ещё немного приоткрыть свои воззрения, всякий раз требуется новое «принуждение». А главное, «принуждение», применяемое Главконом и Адиман-том, действенно лишь до определённого пункта: хотя Сократ рисует картину идеального государства, даже говоря при этом, в чём состоит справедливость, однако, когда его понуждают точнее изложить свои взгляды на идею блага как на принцип всех вещей, он объявляет, что очень многое, причём самое существенное — рассмотрение «сущности» (tl ecrTiv)23 блага — он оставляет в стороне (509с, вместе с 509 de). А когда спустя некоторое время Главкон вновь начинает настаивать, желая точнее узнать от Сократа о философской диалектике, которую тот обрисовал в самом общем виде, то Сократ сообщает ему и основание, по которому он умышленно ограничивает своё философское сообщение: этим основанием является сам Главкон, поскольку более точные рассуждения, к которым Сократ, со своей стороны, и способен, и готов, не по силам его интеллекту (Государство 533а).
Разбирая этот пример, мы вместе с тем коснулись центральной структурной особенности платоновских диалогов: сцены, подобные описанной, имеются не только в «Государстве», напротив, почти все диалоги обнаруживают в выделенных композиционными средствами эпизодах одно или несколько высказываний, которыми ведущий собеседник недвусмысленно даёт понять, что как раз о наиболее существенных аспектах предмета обсуждения он мог бы сообщить нечто большее и более важное, но здесь и сейчас делать этого не станет. Эти эпизоды, важность которых для правильного понимания Платона весьма велика и рассмотрением которых нам ещё не раз предстоит заняться, мы будем в дальнейшем называть «эпизодами умолчания» (Ausspa-rungsstellen).
Однако всё то, что было описано нами на предыдущих страницах, а именно: постоянное повторение ситуации, когда собеседники подозреваются в том, что скрывают своё знание; затем, пояснение Платоном смысла этого мотива посредством «действия» «Евтидема»; далее, ограничение доступа к занятиям философией в проектах идеального государства; в дополнение к этому — действие всех тех диалогов, где обнаруживается, что строго ориентированный на адресата, т. е. «эсотери-ческий», подход к философскому сообщению практикуется самим Сократом; наконец, даже эксплицитные высказывания на эту тему в эпизодах умолчания — всё это, сколь бы оно ни бросалось в глаза, сколь бы ни требовало для себя объяснения, для последних поколений интерпретаторов Платона не играло практически никакой роли. Чего-то они даже просто не замечали, как не была ими замечена тонкая игра Сократа с упрёками в «эсоте-ричности», а что-то, как, например, эпизоды умолчания, было осмыслено ими лишь частично и вследствие такого сужения перспективы систематически подвергалось ошибочной интерпретации24.
Основание этого, как мы уже отмечали, заключается в том, что начиная с века Просвещения вся наша «современная» — а равно и так называемая «постсовременная» — эпоха перестаёт находить какое бы то ни было применение сознательному ограничению философского сообщения, а значит, перестаёт и понимать его. Ведь видят только то, что знают.
Платон писал не для современной книжной культуры XIX и XX веков. Пока мы не отнесёмся всерьёз к этому элементарному, но фундаментальному соображению, мы сами будем преграждать себе доступ к его замыслу философии.
Рассмотрев критику письменности в «Федре», мы сможем понять отношение Платона к проблеме передачи философского знания (см. гл. 12). Перед тем как перейти к этой теме, нам нужно провести «опись» существенных формальных (но вместе с тем содержательно значимых) особенностей платоновского диалога (гл. 6 и 7), а также ответить на следующие вопросы: во-первых, можно ли установить, для какой публики писал Платон (гл. 8), и во-вторых, придерживался ли он какой-то определённой теории истолкования текстов, опираясь на которую он писал собственные произведения (гл. 9 и 10).
Глава шестая
ОСОБЕННОСТИ ПЛАТОНОВСКОГО ДИАЛОГА
Нижеследующие наблюдения представляют собой попытку охватить важнейшие особенности платоновских диалогов, в совокупности образующие их морфологический остов. В своей взаимосвязи эти особенности отражают определённое представление о передаче философского знания, а значит, косвенным образом, и определённое понятие философии.
Учитываться будут только те особенности, присутствие которых в диалогах не знает или почти не знает исключений и обнаруживается на всех этапах платоновского творчества (по этой причине в перечень не будет включён, например, апоретический исход, характерный для некоторых ранних диалогов). Столь фундаментальные особенности, в общем-то, должна объяснять всякая теория платоновского диалога; однако вопреки ожиданиям (и это следует подчеркнуть уже сейчас) именно антиэсотерической теории диалога, господствовавшей в XIX и XX веках, удается объяснить эти особенности лишь частично — и это явный признак того, что она должна быть заменена новой парадигмой, в большей степени приближающейся к убеждениям Платона.
(1) Все без исключения философские произведения Платона представляют собой разговоры. Но в рамках разговора могут встречаться и длинные монологические речи.
(2) Разговор происходит в определённом месте и в определённое время. Его участниками выступают индивиды, изображаемые с большой жизненной достоверностью, личности, чьё существование, за редким исключением, может быть подтверждено исторически.
(3) В каждом диалоге имеется персонаж, который уверенно берёт ведение разговора в свои руки. Поначалу ведущий собеседник выступает под именем «Сократа». Как и другие участники разговора, он наделяется индивидуальным обликом, правда, с самого начала отмеченным известной тенденцией к идеалистическому возвышению. В более поздних диалогах ведущий собеседник может носить и другое имя; в подобных случаях он остаётся менее заметным как личность, нежели его собеседники.
(4) Ведущий собеседник всякий раз разговаривает только с одним собеседником. Его разговоры более чем с двумя собеседниками распадаются на отдельные части, в которых он ведёт разговор с каждым из собеседников попеременно. Разговоры большой продолжительности с участием трёх собеседников отсутствуют. Ведущий собеседник может приостанавливать разговор с реальным собеседником, заменяя его модельным диалогом с воображаемым собеседником.
(5) Ведущий собеседник способен ответить на все возражения. В разговорах агонального характера он может опровергнуть всех остальных участников, всегда оставаясь неуязвимым. Все элементы, по-настоящему определяющие развитие разговора, привносятся в обсуждение им (правда, иной раз он делает это «майевтиче-ски»25, выводя на свет «чужие» мысли).
(6) Разговор не развивается поступательно, а как бы рывком поднимается на качественно более высокую ступень, чаще всего в ходе отражения полемического нападения.
(7) Ведущий собеседник не ведёт свою ар1умента-цию к органическому завершению, а отсылает собеседников к будущим темам, предметам доказательства и областям работы, рассмотрение которых хотя и было бы необходимым с точки зрения сути дела, но, по его словам, выходит за пределы текущего исследования. В каждом платоновском диалоге имеются один или несколько эпизодов умолчания.
Глава седьмая
ВОПРОСЫ К ПЕРЕЧНЮ ОСОБЕННОСТЕЙ
Наиболее очевидные из вышеперечисленных особенностей большей частью опрометчиво истолковывались в духе общепринятых схем мышления нашей эпохи. И поскольку исследователи полагали, что правильные ответы у них уже имеются, они раз за разом упускали возможность задать по данным диалогов те вопросы, которых требовало существо дела. Некоторые из привычных недоразумений, жертвой которых нам становиться непозволительно, будут перечислены ниже, вместе с важнейшими вопросами, неизбежно возникающими при рассмотрении перечня особенностей платоновских диалогов.
К пункту (1). Считает ли Платон, что философствование может существовать исключительно в диалогической форме? Привязано ли оно к «экзистенциальной коммуникации» (как её понимает экзистенциализм XX века), и является ли диалогическая форма единственно мыслимой легитимной формой преподнесения философии?
Здесь нужна осторожность. Не стоит забывать, что именно в том диалоге, где Платон изображает Сократа особенно настойчиво выступающим против софистической «длинной речи» (ракрод Хоуод, макрос логос) в пользу вопросно-ответного метода, а именно в «Протагоре», он вместе с тем показывает Сократа, который произносит длинную непрерывную речь (342а-347а) и вдобавок прерывает на время живую дискуссию с Протагором ради воображаемого разговора (об этом художественном приёме Платона см. ниже, вопрос к п. 4). Таким образом, результат, к которому приходит Сократ, по своему содержанию совершенно не зависит от того, что ему отвечает Протагор1. В подтверждение этому можно вспомнить, что Платон порой изображает Сократа размышляющим в одиночестве или показывает, как тот обращается к гомологиям26 27 и дискуссиям, якобы имевшим место в прошлом, или к наставлениям, полученным им от третьих лиц28: всё это отчётливо демонстрирует, что ведущий собеседник далёк от того, чтобы всякий раз приниматься за разработку всего необходимого впервые hie et nunc29; скорее наоборот, основные мыслительные средства и результаты он привносит в дискуссию в готовом виде.
Это должно предостеречь нас от наивных гимнов «диалогическому» и «живому процессу дискутирования». Значение диалогичности мышления этим не отрицается. Но речь идёт именно о диалогичности мышления — в том смысле, в каком мышление, по Платону, есть разговор души с самой собой (Теэтет 189е, Софист 263е).
Найденное в уединённом размышлении также должно выдерживать перепроверку в обсуждении с другими; недаром Сократ говорит о всеобщей потребности представлять найденное другим людям и проверять его вместе с ними (Протагор 348d). Однако это в первую очередь означает именно принципиальную перепроверяе-мость, и если для Сократа важно подвергать всё проверке с участием наилучшего вопрошающего и отвечающего, как он уверяет в «Протагоре», то ведь его, пожалуй, придётся отослать не столько к Протагору, сколько к его собственному мышлению. Но столь принципиальной диалогичности может удовлетворять и недиалогическое по форме изложение. Достаточно ясно это демонстрируют недиалогизированные партии в трудах Платона, к которым относятся пятая и значительная часть шестой книги «Законов», речь об Эросе в «Федре» и, прежде всего, великолепный монолог заглавного героя в «Ти-мее»: всё это является столь же подлинным выражением платоновской философии, как и метод коротких вопросов и ещё более коротких ответов.
Использование Платоном формы диалога не должно склонять нас к мысли о том, будто он стремился сохранить «анонимность», прячась за взглядами своих вымышленных персонажей. Как бы ни была до сих пор распространена вера в «анонимность» Платона, сколь бы уважаемыми исследователями она ни разделялась30, в основе своей она есть не что иное, как довольно наивное недоразумение. Пусть констатация того факта, что Платон нигде не говорит от своего имени, а лишь драматически выстраивает борьбу чужих мнений, и, правда, может на первый взгляд показаться плодом утончённой рефлексии, однако до намеренной анонимности отсюда ещё далеко. Философом, который действительно какое-то время оставался анонимом, был Сёрен Кьеркегор, защищавший противоречащие друг другу взгляды под разными псевдонимами, вроде «Климакуса» и «Анти-Климакуса»: и если кто-то вообще догадывался, что за ними скрывается один и тот же аноним, то ему оставалось только в растерянности спросить себя, каковы же истинные взгляды этого автора. Ничего подобного мы не найдём у Платона: никаких сведений о том, что он когда-либо пускал какое-либо из своих произведений в оборот под вымышленным именем, не существует, а его истинные взгляды остались неясны разве только в апоретиче-ских сочинениях (хотя ведь и эти диалоги часто весьма определённы в том, что они отрицают).
Что сам Платон верил, к примеру, в бессмертие души, даже если аргументы в защиту этого взгляда он излагает «всего лишь» от лица Сократа, Тимея и «афинянина», — в этом вряд ли сомневался хоть один античный читатель, да и мы, прямо скажем, не продемонстрировали бы утончённой способности суждения, если бы вздумали усомниться в этом сегодня.
К пункту (2). Ограничение рамок диалога определённым местом и временем, равно как и введение индивидуальных, исторически реальных персонажей, настойчиво указывает на то, что приобщение к философствованию может состояться только при условии личной самоотдачи каждого из желающих. Но и здесь можно по недоразумению счесть, что всем этим подчёркивается временная обусловленность достигнутых результатов — ведь существует мнение, будто Платон полагал, что философ не может «утверждать ничего такого, что он тотчас же не поставил бы под вопрос». Подчиняясь этому убеждению, Платон вполне мог бы показать относительность искомой истины уже тем, что разбил разговор на индивидуализированные и персонализированные партии.
Но, во-первых, Платон никогда не придерживался такого понимания философии, а во-вторых, следует обратить внимание на то, что «историчность» ситуаций и персонажей диалогов — это историчность, смягчённая гораздо большей поэтической вольностью. Цель участников диалога, как и его читателя, — сбросить свои индивидуальные оковы и прорваться к незыблемым истинам. Поэтому обусловленность платоновских разговоров временем и ситуацией — это обусловленность «идеального» или показательного характера. И только благодаря этому мы можем узнать в ней свою собственную обусловленность. Если бы персонажи Платона были исключительно историческими фигурами, они не могли бы волновать нас так глубоко, как волнуют на самом деле. К счастью, они индивидуальны не в исторически-случай-ном смысле, но, если так можно выразиться, в смысле универсально-значимом.
К пункту (3). Вне всякого сомнения, Платон вполне мог бы воспользоваться возможностью предоставить «Сократу» или соответствующему ведущему собеседнику равного ему в интеллектуальном и личностном отношении собеседника, либо наоборот, изображать «Сократа» и прочих «диалектиков» не столь недосягаемыми для остальных участников дискуссии. Как это ни странно, отсутствие разговора между равными собеседниками не только редко замечалось, но ещё реже воспринималось как проблема. Мы обойти этот вопрос не сможем; он теснейшим образом связан с вопросом о том, почему ведущий собеседник либо идеализируется, либо изображается неброско, а оба эти вопроса, в свою очередь, отсылают к платоновской концепции передаче философского знания. Изображая двух равных по силе противников, Платон вынужден был бы оставить без ответа основополагающие вопросы; столь принципиальная апо-ретика у Платона, как известно, отсутствует (в противоположность этому апоретика ранних диалогов никогда не является следствием паритета сторон, и кроме того, преодолевается в «Государстве»). Нам предстоит заняться вопросом о том, какое понятие философии стоит за концепцией расстановки персонажей, основанной на неравенстве собеседников.
К пункту (4). Избегание разговора с участием трёх собеседников означает, что каждый из участников остаётся привязан к ведущему собеседнику, который и поправляет соответствующего участника по ходу разговора — соприкосновение же прочих позиций не сделает их плодотворными. Если обсуждение какой-либо позиции с соответствующим собеседником проходит недостаточно результативно, то ведущий собеседник может властно преодолеть ограниченность фактических возможностей, продолжив аргументацию уже с воображаемыми собеседниками. Такими воображаемыми собеседниками являются, например, атеисты из десятой книги «Законов», Диотима в «Пире» или безымянный сосед Сократа по дому в «Гиппии большем». Кстати, два последних примера показывают, что Платон может вносить в «исторический» облик ведущего собеседника поистине любые дополнения.
К пункту (5). Решение Платона доверить ведение каждого диалога только одному из участников ещё не обязывало бы его наделят^ эту фигуру таким преимуществом перед остальными, которое делает её недосягаемой для них в любой ситуации. Это настолько плохо соотносится с современным эгалитарным мышлением, что даже желание Платона изобразить Сократа всепобеждающим в борьбе мнений попросту оспаривалось. Однако более конструктивным, нежели отрицание имеющихся данных, и здесь является вопрос о том, какое понятие философии находит своё выражение в этом драматургическом решении.
К пунктам (6) и (7). Значение нападения на достиг-нугый результат, за которым следует целенаправленная «помощь», подкрепляющая этот результат на более высоком уровне более изощрёнными мыслительными средствами и более глубокими обоснованиями, раскрывается только при рассмотрении проблемы письма в конце «Федра». Поскольку этот важнейший текст до сих пор не использовался в качестве путеводной нити для описания структуры платоновского диалога31 32, то и скачкообразный подъём уровня ар1ументации, всё же замеченный некоторыми интерпретаторами, так никогда и не был истолкован правильно, а именно — как выражение требования Платона, согласно которому философ должен опережать свой логос.
Платоновский ведущий собеседник может сознательно выбирать разные уровни философствования — а то, какой из уровней выбирает «Сократ», зависит от собеседника, его потребностей и способности усваивать сказанное. Без должного основания он не переходит к следующей ступени: истинная философия не стремится услужить интересующемуся, но желает, чтобы её добивались. Поскольку же вместо того, чтобы попытаться понять это, исследователи предпочитали думать о якобы назойливом Сократе, философствующем на улице с первым встречным, непонятным оставалось и то, почему Платон намеренно ограничивает восходящее развитие аргументации. Как было упомянуто выше, эпизоды умолчания не получили ни корректного описания, ни осмысления своей функции, которая, в конечном счёте, состоит в том, чтобы через написанное отослать читателя к устной философии Платона.
Глава восьмая
ДЛЯ КОГО ПИШЕТ ПЛАТОН?
Важнейшее значение для нашей оценки перечисленных выше особенностей платоновских диалогов имел бы ответ на вопрос о том, для какой публики писал Платон. Задавая этот вопрос, мы не только откликаемся на призыв так называемой рецептивной эстетики — направления в литературоведении, всего лишь продолжающего давние усилия классической филологии по выявлению конститутивной роли потребностей и ожиданий первоначальной целевой аудитории в процессе возникновения и формирования литературных произведений. Скорее, мы исходим из проделанных нами на данный момент наблюдений, уже не раз приводивших нас к выводу, что Платон ясно сознавал значение различий в восприятии знаний философского содержания разными людьми. Вело ли осознание им этого обстоятельства к решению писать для определённой аудитории?
Однозначным высказыванием Платона на этот счёт мы не располагаем, да и ожидать чего-то подобного, учитывая его выбор в пользу сквозной драматизации изображаемого, было бы невозможно. Таким образом, в этом вопросе мы можем опереться только на заключения, основанные на содержании и интонации диалогов.
Однако картина, предлагаемая диалогами, в этом отношении далеко не единообразна. На одном конце широкой шкалы возможных вариантов находится короткий диалог «Критон»: с его трогательным женским образом, олицетворяющим законы, которые увещевают Сократа сохранять повиновение родному городу, и отсутствием изощрённой аргументации этот диалог как будто предназначен именно для лояльно настроенных философствующих любителей. На другой конец шкалы можно было бы поместить «Тимея»: он содержит не только глубокое учение о принципах природы, но и узкоспециальные выводы различных естественнонаучных дисциплин (во второй своей части); очевидно, что подобное произведение опирается на систематическую проработку и основательное знание специальной литературы, а потому может быть подобающим образом воспринято в первую очередь специалистами или, быть может, заинтересованными лицами, имеющими соответствующую подготовку. К тому же отказ от диалогиза-ции и отчасти намеренно тёмная манера выражения требуют от читателя немалой выносливости. Терпения и большой проницательности требует и вторая часть «Парменида»: хотя она и имеет форму вопросов и ответов, но из-за напряжённой сосредоточенности на логике абстрактных понятий «единого» и «многого» сознательно избегает изящества и живости, обыкновенно присущих Платону.
Эта часть «Парменида» понимается как «упражнение» (yupvaota, 135d 7), где партнером ведущему собеседнику выбирается самый юный и неискушённый из присутствующих (137Ьс). Юные адепты философии становятся участниками дискуссий и в других поздних диалогах — «Тимее», «Софисте», «Политике» и «Филебе», в которых, по сравнению с ранними диалогами, появляется нечто школьно-профессиональное. В этих произведениях также выделяется аспект методического упражнения (ср., напр., Политик 285с-287а, реАётт] — «упражнение», 286b 1).
Если по адресатам вопросов в диалогах судить о том, кому адресованы диалоги, то можно предположить, что они были написаны в первую очередь для слушателей Академии, служа учебным руководством и основой для их дискуссий. Получив предварительную подготовку в платоновской философии, слушатели наверняка были в состоянии разрешить загадки и апории текста или воспроизвести недостающие обоснования. Тогда и отсылка за пределы самих себя, имеющаяся в диалогах, получила бы своё соответствие в их предполагаемом практическом назначении в рамках преподавания философии в Академии или даже нашла бы в нём своё объяснение. Такое предположение, бесспорно, ведёт к осмысленному прочтению по меньшей мере ранних апоретических произведений (Merkelbach, 1988. Введение, S. 5-10; Erler, 1987).
Пока всё выглядит так, будто мы имеем дело с тремя различными группами адресатов: любителями, читателя ми, имеющими предварительную научную подготовку, и слушателями Платона в Академии. Между тем, стремление строго разграничить эти группы было бы несколько произвольным. Слушатель, только что переступивший порог Академии, по уровню своего образования вряд ли будет отличаться от интересующегося философией любителя; с другой стороны, можно предположить, что способный «ученик» благодаря обычной для Академии интенсивности научных занятий уже в относительно короткий срок становился «специалистом» в той или иной дисциплине. И не будем забывать, что ни один диалог не лишён интереса для подготовленного читателя, равно как ни один диалог33 не является настолько сложным, чтобы даже начинающий не получил пользы от его прочтения.
В «Федре» Платон объясняет, что ценность лучших из письменных сочинений (которые в целом не стоят по-настоящему серьёзного отношения) состоит в том, что знающим они служат подспорьем для припоминания (Федр 278а 1); философ пишет ради игры и ещё для того, чтобы заготовить средство припоминания на свою старость — себе и всякому, кто пойдёт по тому же следу (276d 1-4). Кто эти идущие по тем же следам, что и Платон? Можно ли ограничить их кругом слушателей Академии? Допустим на мгновение, что диалоги действительно в первую очередь были «сборниками упражнений для использования в процессе преподавания» — разве это означет, что они были «литературой, не рассчитанной на широкую аудиторию»? (Merkelbach, 1988. См. S. 6). Ведь кто-кто, а Платон знал, что будучи единожды написанной, книга может быть распространена среди самых разных читателей (Федр 275е) — и он наверняка принял бы меры, препятствующие распространению его сочинений, если бы хотел, чтобы они оказались недоступны широкой читательской аудитории. Между тем, сочинения Исократа представляют нам современное Платону свидетельство в пользу того, что его труды читались и вне пределов Академии, а изощрённая литературная форма таких шедевров, как «Федон» и «Пир», «Евтидем» и «Федр», не оставляет сомнений в том, что они были написаны в расчёте и на литературно образованную общественность. В свою очередь, политические аспекты таких произведений, как «Апология», «Менон», «Горгий» и «Государство», вряд ли найдут достаточное объяснение, если допустить, что эти произведения были предназначены единственно для младших единомышленников. Наконец, стоит напомнить о сильном заинтересовывающем (протрептическом) воздействии, исходящем от всех произведений раннего и среднего периода творчества Платона и всё ещё ощутимом даже в отдельных частях его поздних произведений: это воздействие направлено на тех посторонних, которым ещё предстоит обращение к философии.
Таким образом, несмотря на весьма различные интеллектуальные требования, предъявляемые каждым диалогом в отдельности, первичной целевой аудиторией Платона оказывается образованная публика. Однако из этой публики невозможно с уверенностью исключить ни одну группу. Проще говоря: Платон пишет для всех.
Глава девятая
ГОВОРИТ ЛИ ПЛАТОНОВСКИЙ ДИАЛОГ НЕСКОЛЬКИМИ ГОЛОСАМИ? СОВРЕМЕННАЯ ТЕОРИЯ ДИАЛОГА
Итак, Платон, как мы видели, знал, что однажды опубликованная книга может попасть в руки читателя любого типа. Он также знал — как об этом свидетельствует дискуссия вокруг стихов Симонида в «Протагоре» (которой мы ещё займёмся подробнее чуть ниже), — что из одного и того же текста читатели разных типов склонны выносить для себя разное. И он сознательно писал — во всяком случае, так создавались его творения в своей преобладающей части — для всех.
Можно ли исходя из этого утверждать, что он ставил своей целью через один и тот же текст одновременно обращаться к разным типам читателей с учётом специфики каждого из типов? Располагал ли он литературной техникой, позволявшей посредством одного и того же текста доносить до одних читателей одно, а до других, в то же самое время — другое? И если такая техника была ему известна, использовал ли он её, сознательно сообщая то главное, что хотел сказать, таким образом, чтобы это могли уяснить для себя только читатели какого-то определённого типа?
Занимающий нас вопрос неожиданным образом получает ясное освещение в размышлениях Людвига Витгенштейна, включенных им в одну из ранних редакций предисловия к его «Философским заметкам»: «Если книга написана лишь для немногих, это обнаружится именно в том, что её понимают лишь немногие. Книга должна автоматически создавать среди читателей разделение на тех, кто её понимает, и тех, кто её не понимает. [...] Если ты не хочешь, чтобы определённые люди входили в комнату, то повесь замок, от которого у них нет ключа. Но говорить с ними об этом бессмысленно, если ты, конечно, не хочешь, чтобы они восхищались комнатой снаружи! Приличия ради повесь на дверь такой замок, который заметят только те, кто может его открыть, другие же — нет» (Wittgenstein, 1977. S. 23).
Стало быть, Витгенштейн полагает, что автор не только может, но и должен снабдить свой текст «замком», который сразу же увидит, а значит, тут же сможет и открыть, только определённый читатель. Витгенштейн рассчитывает на то, что этот «замок» автоматически поделит читателей на тех, кто понимает книгу, и тех, кто её не понимает.
В своих размышлениях Витгенштейн отнюдь не имел в виду Платона. Однако к тому времени, как он их записывал, уже более ста лет существовала теория платоновского диалога, приписывавшая Платону намерение «автоматически разделить» читателей своими книгами и обещавшая обнаружить и открыть «замок», повешенный Платоном перед своими диалогами. Я говорю о не раз уже упомянутой нами теории, возвещённой Фридрихом Шлейермахером — мы вполне можем назвать её «современной теорией платоновского диалога» по причине того широчайшего распространения, которое её основные положения получили в XIX и XX веках.
В соответствии с этой теорией, диалог сам может выбирать себе читателей в силу своей способности отстранять неподходящих кандидатов. Кроме того, он отнюдь не повторяет всё время одно и то же, поскольку при каждом новом прочтении раскрывает свои новые смысловые слои, отвечая таким образом на вопросы подходящего читателя. В этом смысле платоновский диалог и сам может отразить нападения невежд, потому что невеждам его глубочайшие уровни совершенно недоступны, тогда как сомнения сведущего читателя разрешаются благодаря новым «ответам». Такие свойства диалога-книги превращают его, согласно этой теории, в «активный текст», в «собеседника», общения с которым должен искать читатель.
Отметим для начала, что перечисленные положительные свойства «активного» диалога-книги возникают из отрицания тех недостатков, которые Платон приписывает в «Федре» письменному сочинению (урафг)) как таковому. Письменное сочинение, говорит Платон, всё время повторяет одно и то же, не может отвечать на вопросы, выбирать себе читателя и защищать себя от нападений (Федр 275de). Платон нигде не говорит о том, что некая форма письменного изложения, способная преодолеть эти принципиальные недостатки написанного, существует или, быть может, появится в будущем. Этими недостатками не отягощено одно лишь устное философствование: «знающий» может сам, в живом разговоре, выбирать себе собеседника; на вопросы он не будет отвечать всегда одними и тем же словами, он может защитить себя от возражений (276а, е).
Убеждённость современной теории диалога в том, что письменный платоновский диалог по сути не уступает «живой и одушевлённой (т. е. устной) речи знающего» (Федр 276а 8), а потому самим Платоном предназначен к тому, чтобы охватить ту же область, что и устное философствование, — эта убеждённость не может опереться ни на одно свидетельство в платоновском тексте — ни в «Федре», ни в каком-либо ином произведении. Понимание диалога как единственной формы использования письма, преодолевающей свой книжный характер34, является существенным дополнением Платона, оправданность которого нам надлежит проверить в дальнейшем.
Прежде чем приступить к этой проверке, необходимо сделать два замечания, характеризующих эту теорию в целом.
(1) Современная теория диалога с самого начала имела антиэсотерическую целевую установку, которую она сохранила и по сей день. До появления трудов Шлейермахера В.Г.Теннеманн в своей двухтомной «Системе платоновской философии», обосновывал мысль о том, что Платон никогда не имел намерения полностью изложить свою философию в письменной форме (Tennemann, 1792, 1795). В противовес такому пониманию Платона Шлейермахер35 разработал концепцию, согласно которой диалогическая форма изложения в конечном итоге равноценна устному разговору, а потому и призвана исчерпывающим образом представлять философию Платона если не при помощи одного только прямого сообщения, то уж точно благодаря использованию непрямого.
Со времён Шлейермахера «непрямое сообщение» общепризнанно считается литературной техникой, исключающей эсотерику. Правомерность этого представления также потребует отдельной проверки.
(2) Из-за этой тенденции современную теорию диалога можно обозначить как «антиэсотерическое истолкование Платона» и в этом смысле противопоставить её «эсотерическому» толкованию, которое в XX веке было представлено в первую очередь именами Леона Робэна (Leon Robin), Пауля Вильперта (Paul Wilpert), Ханса Кре-мера (Hans Kramer) и Конрада Гайзера (Konrad Gaiser). К сожалению, это противопоставление одновременно служит и источником недоразумений, ибо Шлейермахер отнюдь не устранил и не преодолел платоновскую эсотерику, но — в соответствии с общей направленностью немецкого романтизма — попросту интериоризировал её, переместив во внутренний мир реципиента, или, по его собственным словам, превратил её в «свойство самого читателя». Ведь и Шлейермахер, и его последователи разделяют с «эсотеристами» представление о том, что в намерения Платона отнюдь не входило в открытой форме предлагать всем желающим всё то, к чему он сам относился с серьёзностью. Они лишь оспаривают, что Платон целенаправленно ограничивал философское сообщение, и заверяют, что всё главное присутствует в тексте, оставаясь, однако, прикрытым техниками непрямого сообщения. От читателя же требуется возвысить себя до уровня «истинного слушателя Внутреннего» (Шлейермахер) или, обращаясь к метафорике Витгенштейна, увидеть «замок» и открыть его. В результате мы получаем позицию, которую можно корректно охарактеризовать только понятием «внутридиалоговая эсотерика». Конститутивное для эсотерики разделение на «подходящих» и «неподходящих» реципиентов (при исключении последних) является определяющим и для этой позиции, с той лишь разницей, что, в соответствии с ней, разделение «автоматически» производится самой книгой.
Таким образом, нам приходится выбирать не между «антиэсотерическим» и «эсотерическим» толкованием Платона, а между двумя формами эсотерики: эсотерике, имманентной тексту (её ещё можно назвать «герменевтической»), противостоит внедиалоговая или «историческая» эсотерика, признающая историческую реальность учения о принципах, которое никогда не было облечено в письменную форму и к которому предпочитает обращаться Аристотель, критикуя Платона в «Метафизике».
Чтобы выбор в пользу одной из этих позиций был обоснованным, нам потребуется привлечь к рассмотрению античные теории множественного смысла письменных сочинений, изложить отношение к ним Платона и, прежде всего, подробнее ознакомиться с его критикой письменности (см. ниже, гл. 10 и 12). Однако и наши предшествующие наблюдения дают нам кое-какие критерии для понимания этого вопроса.
Во-первых, в глаза бросается то обстоятельство, что современная, шлейермахеровская по духу, теория диалога игнорирует эпизоды умолчания. Игнорировать или преуменьшать их значимость ей приходится потому, что они принципиально не вписываются в создаваемую ею картину. В рамках витгенштейновской метафорики «комнаты» и «замка» на её «двери»36 платоновским эпизодам умолчания соответствовало бы не указание на существование невидимого многим замка (а стало быть, не такой способ воздействия на читателя, который для себя лично Витгенштейн открыто отвергает), но, скорее, утверждение, что имеются и другие «комнаты», перед которыми читателю пока даже не довелось постоять. Наверное, Витгенштейн отверг бы и такое утверждение, поскольку он, кажется, полагает, что весь разговор о границах сообщения имеет один-единственный мотив — желание автора оставить читателей «восхищаться комнатой снаружи»; по этой причине он и считает установку неприметного замка более «приличной». Ведь и иной читатель из подобных же соображений считает любого рода эсотерику так или иначе предосудительной. И тем не менее, легко увидеть, что мотив, названный Витгенштейном, не единственный из возможных: например, Платон очень даже хотел, чтобы его «комнаты», включая самые потаённые из них, посетило как можно больше людей, правда, после соответствующей подготовки. Мысль о том, чтобы кто-то любовался ими снаружи, была ему, напротив, совершенно безразлична. Будучи настроен подобным образом, он мог открыто указать на существование других «комнат», ни в малой мере не покусившись на витгенштейновское «приличие».
Во-вторых, современная теория диалога ставит сообщение важнейших познаний (их непрямое сообщение) в зависимость от одних только интеллектуальных качеств читателя. Ибо умение открывать глубинный, «подлинный» смысл некого текста или хода рассуждений там, где другим всё кажется лежащим на поверхности и не составляющим никакой проблемы, — это заслуга языковой наблюдательности, логического анализа, памяти и комбинаторных способностей, короче, заслуга интеллекта. Однако уже при беглом рассмотрении рамочного действия «Хармида» (см. выше, с. 58) мы увидели, что применение «лекарства», которым обладает Сократ, ставится в зависимость от того, даст ли Хармид сначала «заговорить» свою душу, иначе говоря, готов ли он к стяжанию нравственной добродетели «благоразумия» (aaxj)QO<TUVT]). Равным образом мы увидели, что Калликл в «Горгии» отлучён от «Великих мистерий» не из-за нехватки ума, но из-за своего нравственного устроения. Наконец, в «Государстве», где Платон высказывает глубоко принципиальные соображения о требуемых свойствах «философских натур», этические достоинства подчёркиваются не меньше, нежели интеллектуальные (Государство 485Ь-487а). И если теория, трактующая о сообщении «подлинного», совершенно не замечает этого условия, то она заслуживает достаточно осторожного подхода.
Глава десятая
ПРИМЕР АНТИЧНОЙ ТЕОРИИ ИСТОЛКОВАНИЯ
Мысль о том, что текст может говорить несколькими — по меньшей мере, двумя — голосами, имеет отнюдь не современное происхождение. Уже во времена Платона эта мысль не была нова — по крайней мере, аристократическая аудитория какого-нибудь Феогнида (стихи 681-682) или Пиндара (Олимпийские песни 2, 83-86)1 была с ней давно знакома37 38. Особую значимость она стала приобретать начиная с VI в. до Р. X. для экзегезы Гомера. В течение архаической эпохи поэмы Гомера завоевали авторитет в греческом мире не только в качестве эстетических моделей, но и как обширнейший опыт толкования мира людей и богов. Философ-поэт Ксенофан выразил это одной формулой: все «с самого начала учились по Гомеру»39. Этот же Ксенофан принадлежал и к числу наиболее влиятельных критиков, возмущённых гомеровским антропоморфизмом в изображении мира богов. Быки, если могли бы, создали бы быкоподобные образы богов, язвил Ксенофан, а кони — конеподобные. Касаясь поведения этих богов, Ксенофан находил, что Гомер и Гесиод приписали богам всё то, что на людей навлекает осуждение и позор40. Гераклит, ещё один резкий критик традиционной поэтической теологии, даже считал, что Гомера надо изгнать с праздничных игр41.
Однако власть традиции с давних пор была достаточно сильна, чтобы противодействовать любым попыткам неповиновения ей; с другой стороны, эта новая философская критика была слишком убедительна, чтобы оставить традицию в неприкосновенности. Установилось убеждение (первое дошедшее до нас свидетельство о нём связано с именем Теагена из Регия42 и относится к концу VI в. до Р. X.), что своими внешне грубоватыми историями об обмане, борьбе, ревности и любви в мире богов
Гомер сообщает глубинную мудрость, недоступную поверхностному пониманию. Аллегорическое толкование Гомера быстро превратилось во всеобщее достояние греческого образования, значительно способствовав тому, что его роль учителя греков даже после ранней философской критики не то чтобы пошатнулась, а, наоборот, укрепилась. В последующие века свой вклад в совершенствование экзегезы поэтических текстов внесли как Стоя, так и неоплатонизм. И поскольку речь в данном случае шла не об отдельных разъяснениях, а о полноценном методе, то его применение к другим «теологическим» текстам не заставило себя ждать. В своих «Вакханках» Еврипид предлагает нам впечатляющий пример толкования «скрытого смысла» мифа жрецом: Тиресий объясняет неверующему Пенфею, каково «подлинное» значение предания о рождении Диониса из бедра Зевса (Вакханки 272 и след.). Схожий образчик экзегезы орфического текста, принадлежащий неизвестному автору, сохранился на папирусе, обнаруженном в захоронении IV в. до Р. X.43
О том, что этот метод, предназначенный в первую очередь для экзегезы поэтических текстов, применялся и к прозе, свидетельствует Исократ. Во второй части «Па-нафинейской речи» (12. 240 и след.) он описывает, как сравнение Афин и Спарты, проведённое им в первой части и отдающее явное предпочтение Афинам, одним из его учеников понимается таким образом, что похвала Афинам оказывается лишь внешним сообщением, предназначенным для поверхностного читателя, тогда как внимательный читатель откроет за ней истинное убеждение Исократа, состоящее в его приверженности Спарте. Похвальная речь Афинам задумана им якобы «не просто» (оих атсЛах;, 12. 236), но с умыслом: проверить, помнят ли ученики ранее высказанные взгляды наставника и воспринимают ли его речь философски44. Умение писать такие «двусмысленные речи» (Aoyoi арффоАса), дающие повод к различным толкованиям и контроверзам, называется «прекрасным и философским» (kccAov ml фгАостофо^ 12. 240). Но что самое удивительное, Исократ не высказывает своего отношения ни к этой теории иносказательного письма, ни к попытке истолковать собственное порицание Спарты в противоположном смысле45.
А что же думает Платон об этой теории истолкования и об умении «говорить загадками» (aiviTTcaQai), при котором читателю нужно держаться потайного «скрытого смысла» (imovoia)?
Естественно, он знает, что есть более высокий и более низкий уровень понимания философской мысли. В «Хармиде» он вкладывает в уста Сократа намеренно поверхностное, превратное толкование понятия «заниматься своим» (та аптои праттеiv), но не с целью опровергнуть определение «благоразумие — это умение заниматься своим», а для того, чтобы в заключение констатировать, что благоразумие не может быть умением «заниматься своим» в том смысле, который Сократ пытался найти в этом выражении поначалу; по словам Сократа, автор определения предпочёл выразиться «загадкой», а не сказать, что имеет в виду на самом деле (Хармид 161cd, 162а). Но в каком ещё смысле можно разумно использовать это понятие, Сократ умалчивает, что можно истолковать только как призыв Платона к читателю самому заняться поиском этого смысла.
Между тем, в противоположность упомянутому ученику Исократа из «Панафинейской речи» Платон нигде не называет написание двусмысленных логосов «прекрасным и философским». Передача знаний имеет своей целью гарантировать их «ясность и достоверность (или прочность)» (Федр 275с 6 аафед ка1 рёраюл/, 277d 89 рераютт]та ка1 crac^rjveiav, ср. 278а 4-5 то evaqykc; ка1 xeAeov, «очевидность и совершенство»). Этой цели может достичь только живой устный логос; но поскольку Платон понимает письменный логос как отображение (elbcoAov) устного (Федр 276а 8-9), то и письменное сочинение должно держаться той же цели, пусть оно никогда и не сможет её достичь (подобно тому, как чувственно-воспринимаемые предметы, являясь отображением своих первообразов, идей, стремятся к их совершенству, никогда не достигая его: Федон 75аЬ).
Представление о том, что преднамеренная амфиболия (двусмысленность) может повысить ясность и прочность подлежащих передаче познаний, совершенно определённо не является платоновским. Платон отвергает «иносказательное» сообщение сокровенных истин о богах в поэтически-мифологической форме в будущем идеальном государстве, поскольку слушатель не умеет уверенно отличать «скрытый смысл» (u7iovoia) от прямого (Государство II, 378d). Пусть это поначалу говорится о юном реципиенте, но та же проблема возникает и у подготовленного слушателя или читателя, когда он оказывается перед «загадками» соответствующей сложности. Недаром сразу в самом начале «Государства» Пла-
тон показывает, как дискуссия вокруг изречения Симонида, в котором Сократ предполагает «загадку»46, заканчивается абсурдным результатом и дезориентацией собеседника (Государство I, 331d-336a). Следует напомнить и об ироничном обращении Платона с методом этимологического толкования скрытого смысла имён богов в «Кратиле» (400d и след.), а также о его общей обесценивающей характеристике аллегорического толкования мифов в «Федре» (229с-230а), названного там излишним мудрствованием.
Откровенно пренебрежительное отношение Платона к экзегезе, нацеленной на поиск скрытого смысла поэтических текстов, его отказ открыто применять этот метод в философской прозе или тем паче выказать себя приверженцем двусмысленного письма как некоего философского умения — всё это, подтверждая сказанное (ср. выше, с. 87-89), сводит к минимуму вероятность того, что соответствующая литературная техника могла иметь для него центральное значение.
Глава одиннадцатая
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СТИХОВ СИМОНИДА В «ПРОТАГОРЕ»
Значительный интерес для нашей темы также представляет эпизод в центральной части «Протагора» (338е-347а), где Платон с блестящим мастерством, и при этом затрагивая глубоко принципиальные темы, драматически изображает попытку собеседников продвинуться в обсуждении философского вопроса с помощью интерпретации некоего текста. Платон показывает, как два исключительно компетентных интерпретатора, а именно Протагор и Сократ, приходят к противоположным точкам зрения в истолковании одних и тех же стихов.
Для Протагора умение подобающе истолковывать литературные произведения вообще является важнейшей частью образования (338е); поэтому он хотел бы предложить Сократу вопросы именно из этой области. Он напоминает о стихах Симонида, которые, как уверяет Сократ, известны и ему, и которые он считает хорошими. И вот в этих-то стихах, по утверждению Протагора, Симонид противоречит сам себе, говоря поначалу, что стать добротным47 мужем тяжело, а несколькими строками ниже упрекая Питтака за его изречение, что труд-но-де быть благородным — так мшут ли быть «хорошими» стихи, которые обнаруживают в себе подобное противоречие (339b-d)?
Первоначально дав этим стихам положительную оценку, Сократ обязан теперь «помочь» поэту и самому себе («помогать этому мужу», porjGelv тф av&Qi, 340а 1, ср. 341с 8-9), т. е. доказать правоту стихов и своего суждения о них. Платон даёт ему пустить в ход необычайно развитую методику интерпретации: он делает наблюдения над особенностями языка Симонида, использует синонимику Продика, т. е. наиболее современную на тот момент семантическую теорию; он предпринимает своего рода реконструкцию духовно-исторического горизонта, выявляя скрытые предпосылки разбираемых стихов; он раскрывает истинное намерение Симонида, состоявшее в том, чтобы поправить Питтака.
Однако несмотря на всю свою методическую оснащённость и рефлексивность, интерпретация Сократа едва ли верна во всех пунктах. В двух существенных моментах «Сократ» привносит в интерпретацию своё (т. е. принадлежащее Платону) понимание вещей, тем самым существенно дополняя, а значит и упуская, замысел Симонида. Во-первых, он устраняет противоречие, на существовании которого настаивает Протагор, проводя следующее различие: стать хорошим человеком вполне возможно на короткое время, а вот быть хорошим для человека в течение длительного времени невозможно — тем самым Симонид, далёкий от метафизики поэт поздней архаики, оказывается нагружен платоновским онтологическим разделением становления и бытия, а вместе с ним и платоновским понятием философии, в соответствии с которым кратковременное достижение цели возможно в воспарении мысли, длительное же пребывание у цели для человека невозможно48; а во-вторых, Сократ обнаруживает у Симонида основное положение своей этики, состоящее в том, что добродетель является знанием. В обоих пунктах невозможно обойтись без некоторых натяжек, что, по-видимому, сознаёт и Платон.
Кажется, будто этой первой в истории европейского духа детальной интерпретацией литературного произведения Платон хочет сказать, что ошибочность, по крайней мере, частичная, присуща любой интерпретации. Ни развитая методика, ни выдающиеся интеллектуальные способности интерпретатора никак не могут изменить имеющегося положения, покуда неустранима его причина. А причина эта заключается в том, что интерпретатор неизбежно привносит в толкование собственную точку зрения.
Поэтому закономерно, что вслед за этим Сократ радикально обесценивает саму попытку добиться достоверной интерпретации смысла стихов. Он сравнивает задержку у «чужих» взглядов с поведением необразованных симпосиастов, общающихся друг с другом посредством голоса нанятой ими флейтистки. И подобно тому, как сколько-нибудь уважающие себя симпосиасты не нуждаются во флейтистках и танцовщицах, предпочитая общаться своими силами, так и собравшимся здесь собеседникам следует отложить в сторону мнения поэтов и обратиться непосредственно к сути дела (347с-348а). Ведь поэтов всё равно не расспросишь, о чём они говорят, а противоречащие друг другу толкования смысла, подразумеваемого ими в стихах, верифицировать невозможно49.
Таким образом, истолкование текста Платон резко противопоставляет самостоятельному говорению и мышлению, ориентированному на суть дела (на «истину», 348а 5). Такое противопоставление «чужого» и «своего» голоса, разумеется, не связано с тем, что разбираемый в данном случае текст принадлежит поэту (не философу). Это означает, что всякое «говорение чужим голосом», т. е. всякое интерпретирование, имеет для Платона подчинённое значение. И второй недостаток тоже присущ не только поэтическому тексту: тот недостаток, что автора текста — поскольку его нет рядом — нельзя расспросить лично, а значит, предположения о том, что он хотел сказать, так и останутся непроверенными.
Оба пункта критики уводят от использования текста и направляют к устному философствованию, сосредоточенному на самой сути дела и побуждающему своих участников говорить собственными голосами. Это противопоставление опосредованности всего письменного и непосредственности устного философствования Платон делает предметом принципиального рассмотрения в заключительной части диалога «Федр».
Глава двенадцатая
КРИТИКА ПИСЬМЕННОСТИ В «ФЕДРЕ»
На последних страницах «Федра» (274Ь-278е), в части, получившей известность под названием «критики письменности», Платон обсуждает значение письма в целом и отношение философа к собственным сочинениям в частности. Поскольку единство идейного содержания «Федра» схватывается не так уж легко, эта часть диалога слишком часто рассматривалась изолированно от его общего контекста, а вопрос о конкретной связи между её содержанием и структурой остальных диалогов даже и не возникал. Тем не менее, принципиально важно понимать, что критика письма является кульминационным пунктом «Федра», потому что только при таком понимании она также становится ключом к пониманию структуры платоновского диалога вообще.
«Федр» начинается сравнением речей (Aoyoi): юный Федр зачитывает отточенную речь Лисия, которым сам искренне восхищается (230е-234с), Сократ противопоставляет ей две импровизированные речи (237b-241d, 243e-257b) на ту же тему, а именно на тему Эроса. В этом сравнении дело с самого начала идёт не только о формальном совершенстве, но прежде всего о том, кто обладает лучшим пониманием природы рассматриваемого предмета. В самих речах обсуждается вопрос о том, какой любовник нужен молодому человеку — должен ли это быть влюблённый или же не влюблённый в него поклонник; а поскольку в своей второй речи Сократ представляет Эроса подлинной движущей силой философии, то вопрос об истинном эротике превращается в вопрос об истинном философе.
И вот эти линии, начатые в первой части, в критике письма оказываются сведены воедино таким образом, что в итоге свою предельно универсальную формулировку получают те условия, выполнение которых обязательно для всякой речи, задуманной с целью превзойти другую, причём указанием этих условий одновременно проясняется вопрос о том, каким знанием должен обладать философ и каким должно быть его отношение к собственным сочинениям.
Под речью (Лоуод) Платон понимает как устную (импровизированную или заранее подготовленную, монологическую или диалогическую) речь, так и её письменное «отображение». А значит он ищет критерии, которые действенны в обеих областях — как в области устного, так и в области письменного. При этом не подлежит никакому сомнению, что превосходством в его глазах обладает живая устная коммуникация, и что область устного является тем мерилом, в соответствии с которым должно оцениваться письменное.
Достоинство логоса зависит от того, составлен ли он «как того требует искусство» или нет. Философское искусство речи предполагает не только овладение предписаниями общепринятой риторики, регламентирующими формальное построение речи — они носят скорее предварительный характер (266d-269c). Искусство логоса опирается на гораздо более изощрённые и обширные способности: а именно на знание природы вещей, о которых трактует речь, и на знание душ, к которым она намерена обратиться (277Ьс). И то, и другое — философское знание самих вещей и душ — не может быть приобретено ни через эмпирический опыт, ни через присущую здравому человеческому рассудку сообразительность, но только через напряжённое изучение философии идей, которую Платон называет «диалектикой»1, понимая её как «длинный обходной путь», на который в самом диалоге можно лишь намекнуть, но не вступить50 51.
Опираясь на такое представление о назначении «истинного», т.е. философски фундированного, искусства речи, Платон развивает в критике письма специальный вопрос об «искусности» (eu7iQ£7i£La, 274b 6) в обращении с письмом. Речь в первую очередь идёт не о том, что «может» или чего «не может» письмо; этот вопрос, скорее, рассматривается лишь в рамках другого вопроса, который, собственно, и является основным: как должен обращаться с письмом человек, желающий стать «любезным бшу» (ср. 274Ь 9), т. е. философ. А «божественной» для Платона является область идей (ср., напр., Госу-dapcmeo 611е 2; Федон 80а 3); соответственно, «любезные бшу» речь и поведение — цель приверженца философии идей (Федр 273е).
Сначала Сократ приводит миф о египетском боге Тевте, который в interpretatio Graeca отождествлялся с Гермесом и считался изобретателем письма. Обращение к такой форме мифологического мышления, как «первоизобретатель» (7iqo)to<; епдетг)<;), показывает, что к рассмотрению проблемы письма Платон приступает самым принципиальным образом — ибо по убеждению мифологического мышления незыблемая сущность вещей была определена в изначальную пору их создания. Итак, бог Тевт преподнёс письмо вместе с другими изобретениями царю Тамусу, расхваливая его как средство, способное сделать египтян «более мудрыми и памятливыми» (аофсотёроид ка1 pvrjpoviKcuTEQoug, 274е 5).
Тевт, стало быть, олицетворяет собой ту иллюзию, что благодаря письму, т. е. «извне, посредством посторонних (душе) знаков», можно достичь мудрости и понимания вещей. От этой иллюзии Тамус не оставляет камня на камне. Письмо не помогает, а вредит памяти, т. е. способности души извлекать вспоминаемые предметы изнутри себя; оно есть только средство припоминания. Используя письмо, не становятся умнее, но под влиянием многократного перечитывания «без обучения» (dveu 5i5axfj£, 275а 7) оказываются в плену одной лишь воображаемой мудрости. Только biba^r\, обучение в личном общении, может сообщать ясное и прочное понимание (274е-275с).
Если бы Платон разделял веру современной теории диалога (и упоминавшегося выше ученика Исократа из «Панафинейской речи») в то, что вопреки всему письмо способно передавать ясные и непреходящие познания, пусть даже только немногим избранным, умеющим понимать те тонкие указания, которыми отличается двусмысленный способ выражения, то здесь и было бы самое место продемонстрировать это убеждение. Вместо этого на следующих страницах Платон продолжает настаивать на том, что письмо имеет принципиальные недостатки, обусловленные его природой. Но если нечто обусловлено самой природой предмета, то устранить это более или менее искусным обращением с ним невозможно. Положим, психологически можно понять, почему современные приверженцы книговерного бога Тевта со времён Шлейермахера ощущали потребность переменить приговор Платона, уверяя, что письмо загадками и намёками для понимающего читателя как раз и приведет к желанному результату — «ясности и прочности» понимания. Однако мы должны с полным спокойствием и безо всякой полемичности заявить, что в данном случае мы имеем дело с методически недопустимым дополнением смысла текста, причём таким дополнением, следствия которого полностью противоречат намерениям Платона.
Систематическое отграничение устного от письменного осуществляется Платоном сначала путём перечисления тех особенностей устного логоса, которые исчезают при переходе к письменному, а затем с помощью одного запоминающегося сравнения. Начнём с последнего.
Чтобы понять сравнение между поведением разумного земледельца и поведением философа или «диалектика» (Федр 276Ь-277а), необходимо иметь представление о значении «садов Адониса», наиболее раннее упоминание о которых содержится как раз в нашем отрывке. Обыкновенно по завершении летней жатвы греческие земледельцы выделяли из общего урожая малую часть посевного зерна, которую затем высевали в плошки или корзины, оставляли в темноте и поливали, так что уже довольно скоро, а именно в самые жаркие дни года52, это зерно давало обильные всходы. Зеленеющие плошки или корзины выставлялись на солнцепёк, где побеги стремительно увядали, не принеся, разумеется, никакого урожая зерна. Увядшие «сады Адониса» женщины выбрасывали в море или в ручьи под ритуальный плач об Адонисе.
Смысл этого странного ритуала был лишь недавно разгадан Герхардом Бауди (Baudy, 1986). Мы имеем дело с аграрным обрядом, известным также и в других формах: это пробный посев, целью которого является проверка жизнеспособности нового посевного зерна.
Однако этот аспект ритуала должен занимать нас столь же мало, как и его связь с мифом об Адонисе, поскольку в качестве tertium comparationis53 Платон, исходивший из знакомства читателя с предметом, избрал совсем не эти стороны обычая.
Скорее он показывает, что разумный земледелец не станет всерьёз сеять семенное зерно, с которого желает получить урожай, в сады Адониса, чтобы через восемь дней порадоваться прелестным всходам; нечто подобное он сделает разве что играючи, отдавая дань празднику Адониса. Собираясь же сеять всерьёз, он, в соответствии со своими познаниями в искусстве земледелия, поместит семя в подходящую почву (а значит, не в глиняные плошки) и будет доволен, когда по прошествии восьми месяцев его посев созреет (276Ь). Столь же разумно распорядится своим посевным зерном и «диалектик»: он не будет всерьёз высаживать его в адонисовы сады письма посредством логосов, не способных ни помогать самим себе, ни полноценно учить истине. Сады письма он будет засевать только играя, когда, к примеру, «рассказывает истории» (|Liu0oAoy£lv, 276е 3; разъяснение выражения см. ниже, с. 116-117) о справедливости и родственных предметах. А вот к чему он относится серьёзно, так это к применению «искусства диалектики», которое он пускает в ход, беря «подходящую душу» и высаживая в ней логосы, способные помочь самим себе и тому, кто их посадил, и не остающиеся бесплодными (276с-277а).
Для своего сравнения Платон привлекает следующие аспекты ритуала адонисовых садов.
Аспект урожая.
(1) . Подобно тому как в саду Адониса невозможен никакой «урожай» (картход) «семенного зерна» (сшёррата)54, так и письменное сочинение в понимании Платона заведомо неплодоносно, безурожайно; знание и воодушевление, которые могут сообщаться письменными сочинениями, сравнимы с коротким призрачным расцветом сада Адониса, за которым наступает стремительное увядание.
(2) . Поскольку «урожай», желанный для земледельца, заключён в зерне, а не в «искусстве земледелия», которое, скорее, направляет посевную деятельность (276Ь 6), то и «урожай» диалектика («логосы, имеющие в себе семя», Aoyot exovxeg отхёрра, 277a 1) необходимо понимать в содержательном смысле, т. е. он должен заключаться в определенных знаниях философского содержания (а не только, к примеру, в передаче «искусства диалектики» как некоего умения, не имеющего определённого содержания).
Аспект срока.
Садик Адониса всходит за восемь дней, серьёзное земледелие приводит к цели через восемь месяцев. Теперь мы понимаем, почему диалоги, будучи «садами письма», постоянно подчёркивают, что диалектика — это «длинный путь», по своей протяжённости многократно превосходящий тот, что предлагается читателю в данном сочинении55. Ускоренный метод обучения на основе письменных сочинений, будучи принципиально недостаточным (276с 9), по мнению Платона, ни при каких условиях не может стать адекватной заменой устной диалектики.
Аспект отбора.
(1). Подобно тому как толковый земледелец сеет в «подходящую почву» (276Ь 7), так и диалектик должен выбрать для своих философских семян «подходящую душу» (276е 6). Поскольку письменное сочинение никогда не способно само выбирать себе читателя, для философского сева «посредством искусства диалектики» (276е 5) оно не представляет интереса. (2). Разумный земледелец ни в коем случае не будет высевать всё посевное зерно в сады Адониса — иначе он лишился бы всякого урожая, а потому перестал бы быть разумным земледельцем. Точно так же диалектик посеет в садах письма лишь некоторую часть своих «семян» и попридержит именно те из них, от которых он ожидает урожая (276с 3-9, вместе с 276Ь 2-3). В этом месте диалога сравнение образа действий земледельца и диалектика перекрывается противопоставлением «игры» и «серьёзности», что вело некоторых интерпретаторов к ошибочному предположению, будто Платон намеревался противопоставить автора, который всерьёз высевает всё своё посевное зерно в собственные сочинения, тому автору, который точно так же направляет весь свой посев в письмо, но лишь ради игры. Однако давать такую интерпретацию означает пренебрегать исходным сравнением: ведь засевание сада Адониса всегда означало для греков расходование лишь некоторой части посевного зерна. И только потому, что этот ритуал не является у нас больше употребительным, а равно и потому, что мы, будучи людьми книговерного XX века, имеем ирациональные предрассудки против эсотерической установки Платона, мы оказываемся на пути ложного истолкования. Платон никогда не помышлял о том, чтобы доверить всю свою философию письму.
То, почему в обращении с письмом диалектик будет проявлять скрытность, объясняется принципиальными недостатками письма, которые Платон перечислил ещё до того, как перейти к сравнению.
1. Книга говорит со всеми как с понимающими, так и с теми, кто ничего не может извлечь для себя из её содержания; она не может выбирать себе читателя и не может молчать, приходя в контакт с определённым читателем (275е 2-3). Личный выбор собеседника по критерию его пригодности и возможность, когда потребуется, сохранить молчание, являются для Платона главнейшими преимуществами устного философствования (276а 6-7,е6).
2. Книга всегда говорит одно и то же. Это становится очевидным, когда у слушателя или читателя возникает вопрос по поводу сказанного в книге: единственным «ответом» является дословное повторение уже известного текста. Такое положение кажется Платону настолько далёким от настоящей коммуникации, что письменное сочинение он в данном отношении уподобляет безжизненным образам живописи (275d 4-9).
3. Книга не может защитить себя, когда её незаслуженно унижают; она постоянно нуждается в защите своего автора (275е 3-5). Живой устный логос «знающего», т. е. диалектика, как раз и отличается этим умением: он может помогать самому себе. Умение оказывать помощь логосу и его создателю диалектик также может передавать «подходящей душе», т. е. восприимчивому к философии ученику (276е 5-277а 3).
Здесь стоит вновь со всей категоричностью повторить то, о чём мы уже имели случай сказать по поводу эпизода с Тевтом (см. выше, с. 106). Если бы Платон в духе современной теории диалога верил, что письменная речь всё-таки обращена не ко всем (поскольку способна целенаправленно обращаться к подходящим читателям), что она не повторяет всегда одно и то же (поскольку всякий раз сообщает читателю нечто иное в соответствии с уровнем его развития), и что она всё-таки каким-то образом способна помогать себе, то он безусловно должен был заявить об этом своём убеждении. Однако же в тексте отсутствует всякое указание на то, что какой бы то ни было способ использования письма, будь то уже известный или такой, который только появится в будущем56, мог бы адекватно выполнять задачи устного логоса. Из этого мы, правда, не обязаны делать вывод, что Платон не был знаком с «непрямым сообщением», использующим намёки и скрытые указания, которые должен наполнить смыслом сам читатель57. Но из этого точно следует, что «непрямое сообщение» не могло играть той определяющей роли в его понимании значения и функции письма, которую этому способу коммуникации приписывал Шлейермахер и его бесчисленные последователи в XIX и XX веках. Нетрудно понять и то, почему это было невозможным: искусство составлять говорящие намёками «двусмысленные речи» (Aoyoi арффо-Aoi) может выполнять задачи устной речи только в метафорическом смысле, в чём нам ещё предстоит подробнее разобраться ниже (с. 235). Однако выбор подходящего собеседника, молчание в обществе неподходящих, помощь посредством новых ар1ументов — всё это для Платона не метафоры, а основополагающие условия передачи философского знания, которые необходимо понимать буквально.
Поскольку письменные логосы не могут обеспечить выполнение названных условий, то ценность лучших из них сводится для Платона к их способности служить простыми средствами припоминания для знающего (elboxcov U7iopvr]CTiv 278а 1, ср. urcopvrjpaTa 0t)aau-Qitopevog, «заготовляющий средства припоминания», 276d 3). Правда, письменное сочинение может служить средством припоминания не единственным образом, но Платон, к сожалению, не пояснил, о каком из способов использования письма в подобном качестве он думал в первую очередь. Так, в недавнее время в качестве подобного рода средств припоминания было предложено понимать апоретические диалоги: в таком случае ученики Академии Платона оказались бы теми «знающими», которые на основании определённой предварительной подготовки умеют решать учебные задания, представленные апориями58. Вполне возможно, что Платон имел в виду и нечто подобное. Только нужно напомнить, что конструктивные диалоги, которые всё же с гораздо большим основанием могут считаться «лучшими сочинениями» Платона, если и могут быть средствами припоминания, то уж точно не в этом смысле. Кроме того, сомнительно, чтобы учеников, которым пока ещё требуется устраивать проверки с использованием таких письменных учебных заданий, Платон отнёс бы к «знающим» (ведь в прочих случаях это выражение в «Федре» относится только к диалектику). Наконец, спорным является уже то, что ученик, знавший, к примеру, учение об анамнесисе хотя бы в той форме, в какой оно представлено в «Меноне», действительно нуждался в учебных заданиях в виде апорий того же «Евтидема».
Как бы то ни было, в отрывке Федр 276d 3 Платон говорит о том, что философ заготовляет средства припоминания не только для своих единомышленников, но и для себя самого, в расчёте на забывчивый старческий возраст. Для этой цели апоретические диалоги явно не годятся. Подчёркивание функции припоминания наводит нас, сегодняшних читателей, в первую очередь на мысль о таких трудах, как «Тимей» и «Законы», изобилующих естественнонаучными или, соответственно, юридическими и историческими подробностями. В какой мере Платон мог иметь в виду также «гипомнемати-ческие» записи в узком смысле — скажем, собрания материалов по разнообразнейшим отраслям знаний, включая диэрезы59 и дефиниции — с определённостью ответить нельзя60 61. Не будем, однако же, забывать, что «заготовка» средств припоминания не является единственным смыслом существования для письменных сочинений философа — Платон упоминает также «игру», удача которой приносит радость автору (276d 4-8). Нет никакого основания не относить эти слова лично к Платону, тем более, что сразу вслед за ними он вставляет в текст довольно прозрачную отсылку к своей собственной «мифологической игре», каковой является рассказывание историй о понятии справедливости в «Государстве»62. Драматическое и психагогическое63 выстраивание философских разговоров Платон воспринимал как интеллектуально изощрённую и приносящую радость игру. Своим существованием диалоги не в последнюю очередь обязаны и потребности этого гениального писателя в художественной игре.
Глава тринадцатая
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЛОСОФА ИЗ ЕГО ОТНОШЕНИЯ К СОБСТВЕННЫМ СОЧИНЕНИЯМ
Размышления Платона об относительной ценности устных и письменных логосов отливаются в послание, которым Сократ снабжает Федра для передачи Лисию — однако это послание обращено не к одному только Лисию, но также к Гомеру и Солону; причём все эти три имени обозначают не индивидов, а целые области литературы: Гомер — всю поэзию (278с 2-3); Лисий — нефилософскую прозу, Солон — философию, в особенности философию морали и права. В то же время эти три имени олицетворяют собой и три эпохи в истории греческого духа, и вне всякого сомнения призваны символическим образом представлять совокупную литературную традицию греков.
Вот что «Сократ» поручает передать всей этой традиции: если автор составлял свои произведения, «зная, какова истина, и будучи в силах помочь (им), если он вступает в проверочный разговор о том, что написал, умея в устном суждении («говоря сам», Aeycov аитод) показать, что написанное — неполноценно (фаиЛа), то называть такого автора надлежит в соответствии не с их (произведений) обозначением, а в соответствии с тем, на что были направлены его серьёзные устремления.
Ф е д р: Какое же имя ты ему определяешь?
Сократ: Во всяком случае, называть его “мудрым”, Федр, представляется мне чем-то величественным и уместным только по отношению к богу, а “друг мудрости” (ф1Лоаофо<;) или нечто в этом роде, пожалуй, и ему самому больше подойдёт, и будет более подобающим.
Ф е д р: И отнюдь не неверным по существу.
Сократ: Если же некто, с другой стороны, не имеет ничего более ценного (xov pf) exovxa xipicoxeQa), чем то, что он, долго поворачивая так и сяк, склеивая и разбирая, составил и записал, к такому ты, пожалуй, с полным основанием будешь обращаться как к “поэту” или “составителю речей”, или же “законописцу”?
Ф е д р: А как же иначе?» (Федр 278с 4-е 3).
Всех имеющихся авторов Платон делит здесь на две очень неравные группы. Одна группа, несомненно составляющая большинство, может иметь разные названия — «поэты», «составители речей» или «законопис-цы» — в соответствии с создаваемой ей литературной продукцией. Другая группа получает название, которое не только отделяет её от бога, но и связывает с ним: ибо лишь в имени филдсофос находит свой отзвук отличительное свойство бога — быть мудрым (софдс). Эта большая приближенность к богу подобает «дру1у мудрости» (фьЛбаофод) из-за его «знания»: «знающий, какова истина» (elbcbg ijj то аЛт]0ёд ёхы, 278с 4-5), есть не кто иной, как диалектик, ведающий о справедливом, прекрасном и благом (276с 3) и умеющий на деле применять искусство диалектики, а, стало быть, мыслитель, занятый познанием истины вещей исходя из учения об идеях (ср. тж. 277Ь и в дополнение к этому 273d-274a).
Этому знанию идей ф1Лосгафод обязан тем превосходством над собственным письменным сочинением, которое так выделяет его среди остальных: он в силах помочь своему сочинению, вступая в процесс проверки и «опровержения» (еЛеуход), и к тому же способен в устном изложении показать неполноценность того, что написал (Suvaxog та yeypappeva файЛа атго-6el£ai, 278с 6-7). Совсем к другой группе, к группе нефилософов, принадлежит автор, который «не имеет ничего более ценного, нежели то, что он составил или записал, долго вертя это так и этак, склеивая и разбирая» (278d 8-е 1).
Таким образом, философ способен устно помочь своему сочинению путём привлечения лучших обоснований — а как иначе он мог бы в то же самое время показать и незначительную ценность своего сочинения? Мысль, верная по существу, может, тем не менее, быть «плохо» (фаиЛсод) высказана — так происходит в том случае, если ей не хватает достаточного обоснования (ср. Государство 449с 4-8). Эти-то лучшие обоснования Платон и обозначет здесь понятием «более ценное», охватывая выражением «не имеет ничего более ценного» (tov рт) Ixovta xipicoxeQa, 278d 8) всё то, чего недостаёт нефилософу, т. е. знание идей, а значит, умение «помогать» своему сочинению и выявлять незначительную ценность написанного. Из этого отрицательного выражения, составляющего антитезу «знающему» (278с 4), следует, что «обладание чем-то более ценным» (ex£LV тцпсотсда), нежели собственные сочинения, является для Платона положительным признаком диалектика.
Такое определение философа из его отношения к собственным сочинениям имеет, однако, импликации, которые нам предстоит продумать.
Допустим, автор не всегда, а лишь иногда имеет наготове «предметы, более ценные», нежели то, что он написал. В таком случае он иной раз сможет «помочь» своему сочинению, а иной раз — нет. Следовательно, иной раз он будет заслуживать имени фь\6аофос;, а иной раз — нет. Однако же против такой возможности говорит то обстоятельство, что различие между философом и нефилософом имеет для Платона по-настоящему фундаментальный характер. Стать философом значит испытать «переворот души» (фих^д перихусоуф Государство 521с 6, ср. 518d 4), в результате которого изменяется вся жизнь человека. Философа создаёт полностью изменённое отношение к действительности — лишь он способен к познанию идей. Всюду, где Платон прибегает к понятию фь\6аофо<;, он указывает на эту онтологическую переориентацию (ср. Федон 101е, Пир 204Ь и след. [Эрос как фь\6аофо<;], Государство 474Ь и след., Федр 249с, Те-этет 172с-177с, Тимей 53d). Поэтому допущение, что здесь, в критике письма, Платон вдруг решил поставить имя ф1А6аофод в зависимость от некой изменчивой предрасположенности, практически невероятно64. В действительности, и в самом тексте ничто не указывает на то, что автор, сегодня заслуживающий имени ф1Л6стофод, немного погодя может быть понижен до класса поэтов или составителей речей.
Следовательно, фь\6аофод в платоновском смысле всегда располагает «более ценными предметами» (tl-рклгиера, muMuomepa). И здесь вновь возникают две возможности. Первая: он письменно фиксирует всё, что намеревался сказать, и может неограниченно подкреплять написанное новыми обоснованиями. Однако в этом случае оказалось бы, что процесс обоснования имеет в понимании Платона характер бесконечного регресса, никогда не достигающего своего завершения. Но, как известно, в основании платоновской концепции философии лежит прямо противоположное представление: диалектика ведёт к некоему безгипотесному принципу (dvimoeexov)65, или, говоря иначе: «путешествие» диалектика имеет свой «конец» (тёЛод тт)д nopeiag, Государство 532е 3). И ещё одно обстоятельство говорит против этой возможности: в данном случае диалектик повёл бы себя иначе, нежели толковый земледелец, который никогда не станет высевать всё своё посевное зерно в сады Адониса.
Таким образом, остаётся лишь вторая возможность, на которую сравнение с земледельцем (276Ьс) будет работать в той же степени, что и подчёркивание умения молчать, когда того требует ситуация (276а 7). Только если мы признаем, что платоновский автор действительно должен вести себя подобно разумному земледельцу, мы сможем непротиворечиво истолковать определение философа, содержащееся в критике письма: только если философ сознательно воздержался от того, чтобы внести свои предельные обоснования в адонисовы сады письма, мы можем быть уверены, что он принципиально способен превзойти собственное сочинение, обращаясь к «более ценным предметам»; только при этом условии мы сможем расстаться с тем явно неплатоновским представлением, что за одним и тем тем же автором можно то признавать, то отрицать свойство быть философом — в зависимости от непредсказуемого успеха его импровизированной ad hoc помощи66; и только при этом условии всегда доступная помощь не должна будет выливаться в неплатоновский regressus ad infinitum67.
Глава четырнадцатая
ЗНАЧЕНИЕ ПОНЯТИЯ «БОЛЕЕ ЦЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ» (TIMIQTEPA)
В нашем толковании критики письма мы отнесли слово TipicoxeQa к предметам, составляющим содержание философствования: под «более ценными предметами» Платон подразумевает понятия и теории, положения и их обоснования, которым подобает большее философское значение в сравнении с другими положениями и обоснованиями. Но поскольку выражение тщкйтера часто понималось неверно (см. ниже, с. 130-132), будет правильным, если мы сначала выверим его значение из контекста в диалоге «Федр» и в схожих по смыслу эпизодах в других произведениях Платона.
В критике письма речь идёт о том, что устный логос философа в принципе должен быть в состоянии превзойти его же собственный письменный логос, оказывая тому помощь лучшими мыслительными средствами. Но о превосходстве одного логоса над другим говорится (см. выше, с. 102-103) уже в первой части диалога: после того, как Федр зачитал Сократу записанную речь Лисия (230е-234с), в ходе дальнейшей беседы выясняется, каковы свойства речи, которая могла бы превзойти только что предложенную (234е-236Ь). Новая речь должна предложить больше в отношении содержания, причём это касается не только её размера, но и её философской значимости: требуется не только «более обширное», но «иное» и «лучшее» содержание, содержание «большей ценности»1. Таким образом, читатель с самого начала знает, каким условиям должен удовлетворять сильнейший логос, и речи об Эросе, произнесённые Сократом, в самом деле целиком и полностью отвечают этим условиям. Стало быть, критика письма по сути только высказывает в общей форме то, что Платон прежде продемонстрировал самим ходом диалога. Толкование, рассчитывающее понять TipiooTega, отправляясь не от философского содержания, тем самым разрывает важную идейную связь, ясно обозначенную самим Платоном. А связь эту, дабы не допустить ни малейшей неясности, Платон продлевает и за пределы критики письма, до самого эпилога «Федра»: там, во вполне прозрачном vaticinium ex eventu68 69 об Исократе (который в свои ранние годы, как и Лисий, составлял для других судебные речи, но затем поменял профессию, став уважаемым учителем красноречия и автором сочинений на темы политики и теории образования), говорится, что он превзойдёт Лисия и вскоре обратится к «предметам более значительным» (279а 8). И в этом выражении также мгновенно узнаётся синоним «более ценных предметов»70. Таким образом, на протяжении всего диалога мы постоянно имеем дело с одной и той же мыслью: достоинство логоса определяется достоинством его философского содержания. Соответственно, появление «более ценных предметов» (тцисотера) в процессе устной помощи философа своему логосу означает, что устно он будет излагать предметы в философском отношении более значительные, нежели представленные в письменном сочинении.
Иного значения этого понятия — т. е. вне его связи с содержанием — с точки зрения словоупотребления Платона нельзя было и ожидать. «Самыми значительными и достойными (ценными) предметами» (та рёуктта ка1 т1|Д1С0тата) являются, согласно «Политику» (285е 4), бестелесные сущности мира идей; точно так же и в «Федре» идеи в своей совокупности называются тфих, стало быть, обладают «(высоким) достоинством или ценностью» (250Ь 2). О различии между «частями» большего и
меньшего достоинства в пределах самого мира идей один раз упоминается в «Государстве» («более/менее ценная часть», TipiorceQov/aTipoTeQov pepog, 485b 6). Высшим источником «достоинства» и «ценности» является для Платона идея блага самого по себе71 как принцип всего. Но достоинству блага причастно и знание72, причём, естественно, в той мере, в какой оно устремлено к первоистоку. Достоинству же знания причастны логосы, его выражающие, поскольку, согласно отрывку Тимей 29Ь, они сродни тому, на что направлены. Знание, в общем, обладает более высоким достоинством, чем правильное мнение (TipicoxeQov ётистт^рг) OQ0fjg 66£i]g, Ме-нон 98а 7), поскольку то правильное, что есть во мнении, знание «связывает» основаниями73. Предельное обоснование должно исходить из «принципа всего» (архЛ Tidvxcov); однако восхождение к принципу является ступенчатым, от гипотесы к «более высокой (avco0ev) гипо-тесе» вплоть до «безгипотесного» (avuTioOexov, ср. Федон lOlde, Государство 51 lb). В свою очередь, обоснование, в общем являющееся «достойным» или «ценным», от ступени к ступени должно возрастать в достоинстве, при условии, что ему удаётся привязывать способность понимания к обстоятельствам, более непосредственно относящимся к принципу, а более непосредственно относятся к нему «соприкасающиеся с принципом предметы» {Государство 51 lb 8). Стало быть, «обладать более ценным» (exeiv тцисотера) означает для диалектика то же, что уметь обосновать имеющееся изложение какого-либо предмета таким образом, чтобы «связывание» основаниями получило «точку привязки», расположенную «более высоко» в ряду гипотес.
Из сказанного также следует, что «более ценный» или «более достойный» логос должен быть и более научным, более строгим. Отсюда становится понятным, почему в устном философствовании диалектик видит «серьёзное дело», а в писании для публики, неизбежно смешанной и не имеющей научной выучки, — свою «игру». В сравнении с устным письменное является «плохим» (cjxxuAov, Федр 278с 7), что в данном случае следует понимать в хорошо подкреплённом источниками значении «непрофессиональное, нетехничное».
Заметим между прочим, что употребление слова Tipiov («ценное») у Аристотеля и Теофраста побуждает воспринимать его как terminus technicus1 для обозначения онтологического достоинства принципа (архЛ' аРхэ) в 74
Древней Академии75. Платоновскую мысль о том, что достоинство знания определяется достоинством его объекта — а ведь эта мысль, как известно, лежит в основе учения об идеях (ср. Государство 474Ь-480а) — сохранил и Аристотель, как это показывает, например, начало трактата «О душе»76: «Если мы исходим из того, что знание относится к предметам благородным и ценным (tcov koAcov кт xipCcov), причём одна форма знания больше, чем другая — по причине ли её точности или поскольку она направлена на лучшие и более удивительные предметы (PcAtiovcov те ка1 баираслштёрал;), то, в соответствии с обоими этими взглядами, мы с полным основанием причислим исследование души к самому важному» (402а 1-4). Из всего этого следует, что ни один из членов Древней Академии или Перипаты не мог сомневаться в том, что платоновские «предметы более высокой ценности» (тцлсотера) нужно относить к знаниям, составляющим содержание философствования, и что своим достоинством они обязаны возведению обоснований к принципу (архп)/ являющемуся источником всякого достоинства и всякой ценности.
Распространённое же недоразумение касательно «более ценных предметов» возникает оттого, что остаются незамеченными широко разбросанные по всему «Федру» связи, не учитывается словоупотребление Платона, а затем в пределах такого суженного горизонта предпринимаются попытки отрицать отношение «более ценных предметов» к знаниям, составляющим содержание философствования: под ними, дескать, разумеется деятельность устного дискутирования, которое уже само по себе следует предпочитать письменному сочинению. Подлинной движущей силой, стоящей за отрицанием того очевидно верного толкования, каким является толкование содержательное, выступает, конечно, антиэсоте-рическое предубеждение XX века: недопустимой считается сама мысль о том, что платоновский диалектик мог сознательно выпускать из своих рассуждений какие-либо существенные по своему содержанию сведения. (Правда, вслед за этим такие интерпретаторы также отказываются признавать, что в «Федре» наличествуют два ясных указания на умолчание важных областей: 246а и 274а.)
Коротко рассмотрим те следствия, к которым привела бы эта интерпретация, окажись она верной. Если исключить необходимость более содержательных доводов со стороны философа, то устная защита написанного будет протекать не иначе, чем это известно нам из самых разных областей жизни и повседневного опыта, а именно как сглаживание шероховатостей и попытка более доходчивого разъяснения в ходе дальнейшего разговора — на том же уровне рефлексии, в пределах которого движется и требующее помощи сочинение. Но такого рода помощь обычно рассчитана скорее на то, чтобы показать истинность и основательность собственного сочинения, тогда как платоновский диалектик устной помощью покажет «неполноценность» своего сочинения. Кроме того, к обычной помощи, не использующей более достойных по своему содержанию обоснований, уж наверняка способен любой сколько-нибудь смышлёный автор; это, однако, означало бы, что всякий не совсем бездарный автор мог бы удостоиться имени фьЛоаофод, причём даже в том случае, если он никогда не имел дела с платоновской диалектикой идей. И действительно, среди новых интерпретаторов находились такие, кто полагал, что в разбираемом нами отрывке Платон будто бы «предлагает» это имя всем и всяческим авторам, при условии, что они выказывают «сдержанное отношение» к собственному тексту. Но мы уже видели, что только знаток платоновской философии идей и диалектики (ср. 276е 5-6, 277Ь 5-8) может быть «знающим», о котором говорит критика письма (276а 8, с 3-4; 278а 1, с 4). Да и ввиду того значения, которое имело для Платона имя ф1Лоаофод (ср. выше, с. 119-121), решение, допускающее, что этот титул вдруг может стать легко доступным любому, является не очень убедительным. Вдобавок ко всему, это решение было придумано при очевидном незнании того факта, что многочисленные эпизоды в диалогах вполне ясно показывают, как осуществляется устная «помощь» диалектика, целиком и полностью подтверждая содержательное толкование «более ценных предметов».
Глава пятнадцатая
«ПОМОЩЬ ЛОГОСУ» В ДИАЛОГАХ
Поскольку диалоги — это «отображения» живой речи знающего (ср. Федр 276а), они могут отображать и то характерное, что отличает устную деятельность диалектика — его «помощь» своему логосу. Наличие такого рода устной помощи в письменном сочинении может на первый взгляд показаться противоречием. Между тем, противоречие имело бы место только в том случае, если бы письменный диалог утверждал, будто он содержит в себе ту помощь, в которой сам нуждается. Но дело, как известно, обстоит как раз наоборот: в эпизодах умолчания диалоги отсылают, не сообщая их здесь и сейчас, к теоремам1, которых они требуют для своего собственного обоснования, т. е. — в качестве помощи. То обстоятельство, что в платоновском диалоге один письменный логос оказывает помощь другому, также письменному, не заключает в себе никакого противоречия и совершенно не является проблематичным, покуда читатель ясно сознаёт, что и помогающий логос, будучи письменным,
1 Понятие «теорема» употребляется автором не в строгом смысле, а в более общей связи с понятием «теория» — как обозначение теоретического положения или же комплекса теоретических положений (в том числе какого-либо учения или воззрения Платона). - М.Б.
наёт, что и помогающий логос, будучи письменным, тоже, разумеется, нуждается в помощи, которую он сам себе обеспечить не в состоянии. Иначе говоря: противоречие возникло бы только в том случае, если бы Платон доверил письменному сочинению высшие ступени помощи, в перспективе ведущие к познанию принципа (архл)* Но этого условия платоновские диалоги совершенно очевидно не нарушают.
Ситуация «помощи» (pof|6eia, боэтейя), т. е. такая ситуация, в которой логос подвергается нападению, а от его создателя требуется ему помочь, является центральным структурным принципом платоновских диалогов. В некоторых случаях слово «помогать» (f3orj6elv) употребляется прямо, в других же оно заменяется аналогичными ему выражениями — но основная ситуация остаётся одинаковой. Вопрос неизменно состоит в том, способен ли создатель логоса помочь ему новыми и более весомыми мыслительными средствами и ар1ументами, т. е. «более ценными предметами» (TipicoTCQa), — и если да, значит, он — ф1Лоаофод. Ведущий собеседник, олицетворяющий собой фи1уру диалектика, сталкиваясь с таким заданием, всегда показывает себя достойно; все же остальные с этим заданием не справляются — ибо лишь представитель философии идей и есть, собственно, ф[Л6аофод. Обратимся теперь к свидетельствам источников77.
ТРИ ПРИМЕРА ПЛАТОНОВСКОЙ «ПОМОЩИ»
I. В «Федоне» вслед за возражениями Симмия и Ке-бета против бессмертия души (84с-88Ь) пересказываемый диалог прерывается. Данный приём всегда имеет у Платона одну функцию: привлечь особое внимание к тому, что произойдёт дальше. Эхекрат, являющийся слушателем в рамочном диалоге, хочет знать от рассказчика, Федона, как Сократ отреагировал на кризис в разговоре, возникший из-за фиванских друзей: был ли он раздосадован или же «спокойно оказывал помощь логосу? И достаточна была его помощь или недостаточна?» (nQqicoc; cpo^Gci tcjJ Аоуср; ка1 LKavcog ё£от]вг|а^ f\ evbcajg, 88d 9-е 3). Таким образом, Эхекрат спрашивает о личностном и ар1ументативном аспектах реакции Сократа. Федон же, продолжая, повествует о том, как Сократ показал себя достойным восхищения образом в обоих этих отношениях. Своей помощью логосу (porjGelv тф Аоуф) ему удалось удовлетворить критиков, что получает одобрительный комментарий во время второго прерывания пересказываемого диалога, призванного, естественно, ещё более акцентировать значимость первого ^(102а). С целью опровержения доводов Кебета Сократ на время оставляет тему души (начиная с 96а) и излагает обширную теорию причин всякого возникновения и уничтожения («ибо нам нужно исследовать причину возникновения и уничтожения вообще», бАсос; yap 5е1 ticqI уcvcaecog Kai фворад xf)v aixuxv Ьихтсраурахебе-crGai, 95e 9-96a 1); эта теория ведёт, как известно, к гипотезе об идеях (99d и след.), в рамках которой проблема души может быть рассмотрена как своего рода подчинённый частный случай (105Ь и след.).
В качестве особенностей этой части диалога можно отметить следующие.
1. Успешное «помогание логосу» (porj6etv тф Лоуф) осуществляется ведущим собеседником (понятно, что не Симмием или Кебетом).
2. Чтобы помочь своему первому логосу (о душе), Сократ сначала заводит речь об иных предметах (об идеях, etc.). Он временно меняет тему (при этом не теряя из виду основную тему — бессмертие).
3. Эта «другая» тема затрагивает теорему большей значимости, приближающую к познанию первооснов. Гипотесный метод предусматривает последовательное восхождение к некоему «достаточному» (Licavov), которое, очевидно, следует понимать как архП (101 de, ср. тж. 107Ь). Поскольку помогающий логос содействует получению более обширных и лучше обоснованных знаний, то в содержательном смысле вполне оправданно говорить здесь о теории «более высокого достоинства».
II. В начале второй книги «Государства» мы становимся свидетелями нападения Главкона и Адиманта на справедливость, которую Сократ успешно защитил от Фрасимаха в первой книге. От Сократа требуется помочь справедливости (и, конечно, тем самым и своему первому логосу в защиту справедливости), что он также признаёт своим долгом. В этом контексте слово «помогать» (|3or|0clv) появляется не менее пяти раз78. «Помощь», которую Сократ оказывает справедливости, длится в продолжение всего хода его ар1ументации вплоть до десятой книги. Чтобы выстроить теорию справедливости, он меняет непосредственный предмет разговора и заговаривает о наилучшем государстве и о душе; в свою очередь, для того, чтобы защитить своё представление о государстве, он заговаривает о различии между идеей и единичной вещью, о природном устроении философов и их воспитании, а в рамках последней темы — о «величайшем предмете обучения» (рёуkjtov рабгцта) вообще, об идее блага, яляющейся «принципом всего». Таким образом, «помощь» справедливости представляет собой ступенчатое восхождение79, если и не прямо к познанию архЛ — его «сущность» (tl ecrxiv) как раз-таки выносится за скобки (506 de), — то всё же к его окрестностям. Благо само по себе есть достойнейшее как таковое («благо по его свойству следует почитать как более ценное [чем знание и истина]», peiCovox; xipr)xeov ttjv той ауабой e£iv, 509а 4-5, ср. b 9), поэтому устремлённые к нему разъяснения было бы уместно назвать xipicoxeQa в сравнении с теориями и ар1ументами, нацеленными на нечто менее значительное.
III. Наибольшее сходство с той помощью, которую Сократ оказывает справедливости в «Государстве», обнаруживает помощь закону против безбожия со стороны афинянина в «Законах». Уже одна только практически идентичная ссылка на религиозно понимаемый долг по оказанию помощи80 достаточно показывает, что оба эти процесса имеют одно и то же значение. Афинянин предвосхищает критику только что сформулированного закона со стороны атеистов. Этот закон, как и все вообще законы, будет в письменном виде доведён до сведения граждан задуманного к основанию нового критского государства (891а); но у его составителя уже сейчас, в устном разговоре с Клинием и Мегиллом имеются наготове ар1ументы, которыми можно будет при случае защитить написанное. Причём имеется в виду не юриди-чески-политическая защита, к которой, естественно, должен быть готов каждый законодатель, даже и не являющийся философом. Скорее, ведущий собеседник просто медлит с переходом к «защищающим логосам» (eTiapuvovxeg Aoyoi)81, ибо они неминуемо заставят «выйти за пределы законодательства» (люровеошд ёкто<; (3aLveiv, 891d 7). И действительно, в ходе оказания помощи афинянин оставляет обычный уровень рассуждения, равно как и предшествующую тему, и для того, чтобы упрочить основание закона против безбожия, привлекает к рассмотрению понятия движения, самодвижение души, первенство души над телом, роль благого и дурного в комосе и деятельность богов по управлению космосом (891Ь-899с). Таким образом, «Законы» (как и «Государство») подтверждают все особенности помощи, которые нам довелось отметить в случае «Федона». Кроме того, этот текст с образцовой ясностью заявляет, что платоновская помощь осуществляется «не иначе» (prjbapfj етерсод) как обязательным «выхождением за пределы» (ектод (3aiv£iv), т. е. сменой темы (891d 7-el), и что эта процедура приближает к «первоначалам всего» (nQCOTa tcov 7tdvTCuv, 891с 2-3, вместе с е 5-6).
Итак, платоновская «помощь» ((Зот^веих) — это метод ведущего собеседника (являющегося представителем типа «диалектик») по защите своего попавшего под критику логоса путём временного отхода от темы и дальнейшего продвижения по пути познания принципов (aQXaC apxau) с целью продемонстрировать, что прочной основой для его первоначального логоса являются теоремы «более высокого достоинства».
ВСЕГДА ОДИНАКОВАЯ СИТУАЦИЯ «ПОМОЩИ» (BOH0EIA)
В качестве платоновских выражений, обозначающих помощь, помимо (3or]0elv («помогать» — «ему», «логосу» или «логосам», соответственно: аитф, тф Абуср или той; Aoyoig) нам известны ещё dpuveiv/dpuvacr0ai («защищать», ср. выше ercapuvovTet; Aoyoi) и emKOUQelv либо eniKouQov yiyvecr0ai. Хорошо известная нерасположен-ность Платона к постоянной терминологии82 заранее заставляет предполагать, что и это ключевое понятие его критики письма претерпевало в его произведениях дальнейшие языковые вариации. Чтобы отыскать синонимы этого понятия, нужно отправляться от исходной ситуации, которая всегда одинакова: сформулирован некий логос («душа бессмертна», «справедливость лучше несправедливости»), приведены первые обоснования — однако «отец логоса» (7гатт]д тои Абуои) угождает в эленхос83 т. е. от него требуется привести свой логос к его более глубоким основаниям, показав этим, что сам он, его создатель — фьАбсгофос;.
Важным является то обстоятельство, что философы и нефилософы, по свидетельству отрывка Федр 278cd, распознаются на основании этого вида эленхоса. Стало быть, следует ожидать, что в эленхос будут вступать самые разные типы людей, но выдержать его сможет только один тип — диалектик. Важным является также и то, что диалектик способен передавать своё умение помогать (Федр 276е-277а): в учителе, который оказался к этому неспособен, мы именно на этом основании и узнаем не-философа.
Таков случай Горгия: его ученик Пол хотел бы «восстановить в правоте» (£7iavoQ0coaaa0ai) логос учителя после критики Сократа (Горгий 462а 2). Но Пола, как вслед за ним и Калликла, постигает неудача, поскольку его учитель — не ф[Аоаофо<; в платоновском смысле, а значит, он и не мог никого научить «восстанавливать логос в правоте» (eTiavoQ0coaaa0aL xov Aoyov) (= (3oT]0eIv тф Аоуср)84.
Несколько менее прозрачна, по причине пронизывающей её едкой иронии, ситуация в «Гиппии большем». Сократ пытается стилизовать Гиппия под непревзойдённого учителя, у которого хотел бы поучиться, чтобы после своего мнимого поражения в разговоре с безымянным третьим «в следующий раз отстоять этот разговор» (avajaaxonjaevog xov Aoyov, 286d 7). To, что Гиппий предлагает для возобновления этого разговора, и самим Сократом (иронически) оценивается как помощь («что ты, как кажется ... мне помогаешь», otl pot бокеТд ... (3crr|0£lv, 291е 5). В действительности, безымянный третий — это всего лишь прозрачная маска, за которой скрывается внутренний голос Сократа (ср. особенно 304d), а сам Сократ, таким образом, и в этом диалоге остаётся торжествующей стороной, не в последнюю очередь благодаря пространному отступлению на более обширные темы в ходе экскурса, предпринятого им после нападения Гиппия (ЗООЬ и след.).
Острейшей иронией отмечен и другой, более короткий разговор с Гиппием. Под действием некоего «приступа» (катт](ЗоЛт], Гиппий меньший 372е 1) Сократ поддерживает морально несостоятельный тезис, от которого он, правда, хочет «исцелиться» с помощью Гиппия. Призыв «не откажи исцелить мою душу» (pf) ф0о\п]спз<; iaoaoQai xf]v рои, 372е 6-7) в контексте
ситуации диалога означает не что иное, как «помоги своему логосу» (|3of)0r|aov тф ааитои Лауср), ведь Гиппий и впрямь придерживался правильного в этическом отношении воззрения — и если бы он ещё мог дать ему более глубокое обоснование, то смог бы излечить и «приступ» Сократа; однако Гиппий — не фьЛосгофод, поэтому «исцеление», а равно и какая бы то ни было помощь его логосу, так и не приходит.
Ироническое возвеличивание противника доведено до крайности в «Евтидеме». Оба эристика призываются на помощь «словно Диоскуры» (293а 2). Их благословенное вмешательство вполне можно было бы сравнить с ожидавшимся от Гиппия «исцелением души». А поскольку Сократ уже саркастически возвысил эристиков до уровня божественных помощников в нужде — Кастора и Полидевка, то и говорит он более не о «помощи», а сразу о «спасении» («призывая обоих чужеземцев... спасти нас ... от девятого (букв, третьего) вала [нашего] логоса» ~ «призывая помочь нашему логосу», beopevoc; xolv £evoiv ... CTdxjai fjpag ... ёк xfjg TQiicupiac; той Aoyou ~ Seopevoc; poT]0fj<jai тф Лоуср r|pd)v, 293а 1-3)85. Таким образом, к эристикам обращена просьба прийти на помощь чужому логосу: ведь умение диалектика — как показывают диалоги «Кратил» и «Теэтет» — включает в себя и эту способность (в том случае и в той мере, в какой подобное вмешательство допускает сам нуждающийся в помощи логос). В названных диалогах Сократ пробует до некоторой степени защищать позицию Кра-тила (присутствующего при этом лично) и, соответственно, Протагора (представленного его учеником Феодором); характерно, однако, что за других вынужден вступаться он сам, а его помощь, в конечном итоге, не приводит к значительному успеху: выдержать любой элен-хос способна только позиция, опирающаяся на философию идей. «Помощь» в платоновском смысле — это вопрос не интеллектуальной гибкости, но правильной онтологической ориентации.
Идея, которая в «Гиппии большем» представлена в комическом виде — что Сократ после своего поражения в разговоре ищет обучения у кого-то «более мудрого» — вновь, на этот раз без комического оттенка, разрабатывается Платоном в «Пире». Сократ, якобы находившийся в плену тех же заблуждений, что и Агафон (Пир 201е), обратился с расспросами к мудрой Диотиме, дабы разузнать что-нибудь об Эросе. И на этот раз надежды его не обманули. Вот только мантинейская прорицательница Диотима — такая же вымышленная фигура, как и безымянный третий в «Гиппии большем». А стало быть, вновь не кто иной, как Сократ, направляет дальнейший ход дискуссии. И невозможно не заметить, что в пересказе речи Диотимы он выходит далеко за пределы своего разговора об Эросе с Агафоном, излагая предметы большей философской значимости, приближающие к познанию архф
Но довольно параллельных ситуаций и синонимичных выражений. Мы, пожалуй, сумели убедиться в следующем: понятие «помогание логосу» (por)0elv тф Лбусо) обозначает структурный принцип платоновского диалога, состоящий в целенаправленном повышении уровня обоснования в направлении предельного обоснования из
«рхл-
Глава шестнадцатая
ВОСХОЖДЕНИЕ К ПРИНЦИПАМ И ОГРАНИЧЕНИЕ ФИЛОСОФСКОГО СООБЩЕНИЯ
О том, что восхождение к высшему, трансцендентному принципу является целью познания, Платон говорит неоднократно. Он может говорить о восхождении от гипотесы к гипотесе вплоть до «достаточного» (iicavov) (Федон 99d-107b) или о восходящем познании прекрасного от созерцания прекрасных тел через познание нравственно прекрасного к созерцанию прекрасного самого по себе (Пир 210а и след.), или об иерархии способов познания, высшим из которых, разумом или умозрением (v6r\oiq), познаётся принцип всего (Государство 509d-51 le)86. Во всяком случае, и в прежние времена значение этих мест не было недооценено, а в тенденции к «восхождению» и «превосхождению» была усмотрена сущность платонизма.
Гораздо реже обращали внимание на то, что именно восходящее движение является подлинной темой драматического мимесиса87 в диалогах. И если этот факт всё же попадал в поле зрения исследователей88, то они почти всегда выдвигали на первый план восхождение как таковое, забывая при этом, что диалоги неизменно приоткрывают лишь некоторую часть восходящего движения, при этом достаточно ясно указывая на намеренное ограничение этого процесса. Только правильное понимание критики письма впервые позволяет понять, почему обоюдно связаны друг с другом восхождение и ограничение при его передаче в письменном сочинении, «помощь» посредством «более ценных предметов» и «молчание» там, где это необходимо (cnyav uqoc; oug 6el). Ведь и приведённые выше примеры платоновской «помощи» (с. 135 и след.) являются не только примерами обращения к «более ценным предметам» (xipicoxeQa), но и примерами явных эпизодов умолчания.
Платоновские xipicoxeQa в конечном счёте ведут в направлении познания принципов, а это совсем немаловажно — в свете того факта, что Аристотель в «Метафизике» и других произведениях сообщает о таком учении Платона о принципах, которое мы в этой форме в диалогах не находим. Данное расхождение приводило к путанице в платоноведении, по сути, совершенно излишней. Исследователи не решались признать, что Аристотель, проживший двадцать лет в Академии Платона, мог знать теорию принципов Платона в подробностях, не доступных современному платонику, опирающемуся исключительно на диалоги. Отсюда возникали попытки максимально принизить значение аристотелевских свидетельств: одни стремились ограничить вырисовывающееся в общих чертах учение о принципах определённой фазой жизни Платона, а именно, его позднейшими годами — тогда получалось бы, что престарелому Платону просто, что называется, не хватило времени написать об этом ещё один диалог; другие полагали, что эти свидетельства можно понимать как образцы чистой интерпретации, принадлежащие самому Аристотелю. Надолго закрепившаяся неспособность принять подлинное учение Платона о принципах проистекала, помимо прочего, и из отсутствия ясных представлений о возможных причинах скрытности философа в собственных сочинениях.
Но почему именно та область философии, которая трактует о принципах, должна быть ограждена от письменного распространения? С учётом критики письма ответ прост: чем сложнее предмет, тем больше вероятность пренебрежительного отношения к нему со стороны людей несведущих, от которых само сочинение в отсутствие автора защититься не может (ср. Федр 275de). Подобное пренебрежительное отношение было Платону, по-видимому, не совсем безразлично — что становится вполне понятным, если учесть, что мир идей имел в его глазах «занебесный» и «божественный» статус89. Но возможно ещё более важным является то обстоятельство, что Платон попросту не видит смысла сообщать кому-либо сведения, для восприятия которых данный реципиент подготовлен ненадлежащим или же не вполне достаточным образом. Знания подобного содержания он называет «предметами, о которых не следует сообщать преждевременно» (d7iQOQQr)Ta, anpoppema), поскольку будучи сообщёнными преждевременно, т. е. до того, как реципиент созрел для их восприятия, они «ничего не проясняют» (Законы 968е 4-5). Поскольку же теория принципов является областью философии, имеющей наибольшее число предпосылок, то и должная для неё подготовка на основе письменных сочинений — которые, как известно, «неспособны достаточным образом учить истине» (Федр 276с 9), — полностью исключена, а значит, и письменная фиксация этой теории лишь привела бы к результатам, противоположным ожидаемым.
Вместо того чтобы позаимствовать из диалогов эти простые, но фундаментальные соображения и приложить их к самим же диалогам, исследователи опасались, что в этом случае придётся приписать Платону какое-то «тайное учение»90, а единственный способ оградить его от этого подозрения видели в том, чтобы отказать ему в теории принципов. Другие исследователи конструировали ту искусственную трудность, будто допущение существования неписаной теории принципов обязывает также допустить, что Платон делил свою философию на две различные предметные области — одну для письменного философствования, другую — для устного91. Это мнение опирается на ошибочную оценку отношения сфер устного и письменного у Платона: речь идёт не о двух различных предметных областях, а о континуальном философствовании, рассматривающем одни и те же проблемы при постепенном повышении уровня обоснования.
Обе попытки отделаться от аристотелевских свидетельств о «неписаном учении» Платона обречены на неудачу. Невозможно ни доказать, что эти свидетельства представляют собой образцы чистой интерпретации92 (напротив, здесь, как, впрочем, и везде, Аристотель проводит очень ясное различие между тем, что говорили его противники, и тем, что на его взгляд, следует из их допущений93), ни принять хронологическое ограничение учения о принципах поздними годами Платона. Не только воспитание философов-царей в «Государстве», имеет своей кульминацией диалектическое постижение идеи блага в качестве адхт) всего (504а и след., 532е и след., 540а); уже относительно ранние диалоги «Хармид» и «Лисид» обнаруживают мысль о восхождении, которое не должно прерываться прежде достижения первейшего в своём роде, некоего адхф постижение сути дружбы (фьЛш) требует возвращения к некоему «первичному дружественному» (7igd)xov фСЛсл/, Лисид 219cd); желание узнать о благоразумии приводит к тому, что на горизонте появляется рассмотрение «науки о благом и дурном» (Хармид 174Ьс)94. Именно в этом разговоре о благоразумии в «Хармиде» и встречаются — как было кратко упомянуто выше на с. 58 — понятия «лекарство» (фсфракол/, формакон) и «заговор» (£7тср6ц, эподэ) в том их прозрачном метафорическом значение которое поможет нам понять отношение Платона к письменному рассмотрению принципов (aQXa0: Сократ утверждает, что у него имеется лекарство для излечения болезни юного Харми-да; тем не менее, лекарство не попадает в руки Хармида, поскольку действует оно только в сочетании с заговором, а без него бесполезно (155е 8), а также по той причине, что Сократ поклялся фригийскому жрецу, передавшему ему заговор и лекарство, ни при каких условиях не поддаваться на уговоры и не отдавать лекарство, не заговорив прежде душу получателя (157Ь 1-с 6).
Наличие за «лекарственной» метафорикой указания на правильный способ передачи философского знания не подлежит никакому сомнению95 96. Платон даёт понять, что, будучи диалектиком, «Сократ» располагает познаниями, которые вполне можно сообщить и прямо, но которые он в данный момент не сообщает совершенно намеренно, осознавая, что покуда Хармид не получил подобающей подготовки (в форме пропедевтических «заговоров») для понимания этого «средства»11, оно не принесёт ему никакой пользы. Итак, фсфракол/ означает здесь центральные положения диалектической науки о благом и дурном, которые сами по себе вполне изъясни-мы — речь здесь никоим образом не идёт о невыразимом в философии, — а значит, могут быть изъяснены и распространены также и в письменном виде. В дальнейшей передаче «средства» Сократу препятствует только «клятва», которую он принёс своему фракийскому учителю — стало быть, у диалектика имеется обязательство, которое он считает равносильным религиозному обету: передавать «более ценные предметы», которыми он располагает, только в том случае, если налицо имеются когнитивные и этические условия для их адекватного восприятия. А письменное сочинение, как мы знаем, никоим образом не может обеспечить этих условий.
Мысль, которую ранний диалог «Хармид» сообщает метафорически, поздний «Тимей» высказывает буквально: именно о принципах нельзя сообщить всем. Мифологическая фигура «демиурга» в рамках космологии «Тимея» несомненно служит обозначением принципа миропорядка. Этого изготовителя и отца космоса, по словам Платона, трудно найти, но, найдя его, сообщить о нём всем, — невозможно (Тимей 28с 3-5). Согласно другому отрывку, те «ещё более высокие принципы» (ai Ъ' ётг TOUTCuv aQxact ava)6ev), что известны (только) богу, а среди людей — тому, кто дружен с богом (53d 6-7), именно в силу такого их статуса и должны быть оставлены за пределами текущего изложения.
Это замечание появляется в «Тимее» вслед за тем, как элементами или «принципами» чувственно-воспри-нимаемых тел объявляются элементарные треугольники (53cd). О каких из принципов ещё допустимо сообщать «всем» (т. е. письменно), а для каких это уже не является уместным, — указать, сообразуясь с неким общим правилом, нам, как читателям диалогов, не представляется возможным. Взятый нами пример даёт небольшое представление о том, как чувственный мир возводится Платоном к своим умопостигаемым принципам; граница сообщаемого проводится здесь сразу после того, как возведение совершает свой первый шаг, ведущий в предметную область геометрии (о том, что «ещё более высокими принципами», нежели элементарные треугольники, являются числа, мы можем с уверенностью утверждать благодаря Аристотелю97). Считал ли сам Платон эту границу раз и навсегда определённой, мы сказать не можем — но всё-таки более вероятно, что вопрос о том, сколько «посевного зерна» посеять в «садике Адониса», он всякий раз решал на своё усмотрение, и «предел» для каждого конкретного диалога ставил в процессе его написания. Уже Плутарх отметил, что в старости Платон склонялся скорее к тому, чтобы называть подразумеваемые им принципы не скрывая (Об
Исиде и Осирисе 48, 370 F), но нам следовало бы всё же добавить, что основная мысль Платона — о том, что существуют предметы, письменное сообщение о которых не должно иметь места, поскольку при преждевременном сообщении они ничего не проясняют, а значит, являются «бесполезными», — эта мысль остаётся неизменной начиная от «Хармида» с его «лекарственной» метафорикой и вплоть до двенадцатой книги «Законов», где, наконец, формулируется выразительное понятие anpoppema (aTiQOQQTjTa, 968е).
Глава семнадцатая
ОТДЕЛЬНЫЕ ЭПИЗОДЫ УМОЛЧАНИЯ
Неизменным остаётся и то, что из указаний на отсутствующее никогда нельзя с достаточной ясностью заключить, чем это отсутствующее является по своему содержанию. Мы никогда не смогли бы выяснить, что представляют собой «принципы, ещё более высокие», чем элементарные треугольники, если бы опирались исключительно на само это место в отрывке Тимей 53d. Должную ясность в данном случае, как уже было упомянуто, вообще привносят лишь аристотелевские свидетельства о неписаном учении Платона98. То же относится и к знаменитому эпизоду умолчания в «Государстве» (506de), где Сократ недвусмысленно разъясняет своему собеседнику Главкону, что сущность (т1 eaxiv) блага не подлежит рассмотрению, поскольку является темой, выходящей за рамки текущего разговора. И хотя не кто иной, как сам Ханс-Георг Гадамер полагал, что подразумеваемое здесь определение сущности блага, указующее на то, что благо есть единое, «также имплицитно» заключено «в построении “Государства”» (Gadamer, 1978. S. 82), однако, пожелай вдруг кто-нибудь сделать отсюда вывод, что нужно лишь тщательно вникнуть в построение «Государства», чтобы увидеть, в чём заключалась сущность (t'l ecFTtv) блага, о которой не сообщил Платон, то в своём рассуждении он оказался бы жертвой порочного круга: ибо на самом деле мы можем «косвенно» вывести равенство «единое = благо» также и из построения «Государства» только потому, что находим прямое сообщение у Аристотеля, согласно которому в Академии отождествляли единое само по себе и благо само по себе, сущностью (ойстшс) же этого предмета считали единое (Метафизика N 4,1091b 13-15).
Таким образом, в эпизодах умолчания, отсылающих к теории принципов из устной философии, мы можем уяснить смысл отсылки только в том случае, если соответствующий ключ к разгадке предоставляет нам вне-платоновская традиция.
К счастью, существует и другой тип эпизодов умолчания. С первым типом его объединяет то, что он также не представляет собой загадку, которую можно разгадать исходя из самого её текста путём одних только напряжённых размышлений и тщательных наблюдений над составом текстом. Скорее и здесь дело обстоит так, что содержание отсутствующего невозможно реконструировать без дополнительной информации со стороны инстанции, внешней по отношению к соответствующему произведению. Однако в отличие от эпизодов умолчания первого типа, информация, необходимая для восполнения содержания этих эпизодов умолчания, обнаруживается в других произведениях Платона. Ценность этих эпизодов заключается в том, что они предоставляют нам аутентичное подтверждение нашего толкования эпизодов умолчания со стороны самого Платона: благодаря им мы можем, не выходя за пределы корпуса платоновских творений и без обращения к «неписаному учению», доступному нам исключительно из косвенной традиции, проверить и доказать наше предположение о том, что платоновские эпизоды умолчания представляют собой не расплывчатые обещания, но совершенно конкретные отсылки к чётко очерченным теоремам, и не загадки, чьё решение в основе своей имманентно тексту, но прямые указания на философские результаты, изложенные в иных произведениях.
В нескольких из таких эпизодов затрагивается учение о душе. И это совершенно неудивительно, если учесть, насколько важной является теория души для онтологии, теории познания, космологии и этики Платона. А в «Федре» Платон и буквально говорит, что знание природы души невозможно без знания природы мирового целого (270с). Соответственно этому мы видим, что наиболее сведущим в вопросах природы мирового целого называется тот из персонажей диалогов, кто снабжает своих собеседников наиболее чёткими данными о душе (а таковым является Тимей из Локр) (Тимей 27а), и что в ходе своего выступления он действительно теснейшим образом связывает друг с другом космологию и учение о душе. Поскольку же обширные философские предпосылки теории души невозможно было излагать всякий раз заново и поскольку предельные обоснования и без того захватывали бы область тех принципов (арха0/ ° которых не следует сообщать всем, то и относительно большое количество эпизодов умолчания в этом контексте объясняется без затруднений.
В пространном мифе об Эросе в «Федре» вслед за доказательством бессмертия души, исходящем из её самодвижения, Платон переходит к разговору о её виде (246а)99. Поскольку объяснение её устройства принадлежит всецело божественному и длинному изложению, то здесь, в более кратком и человеческом изложении, может быть только сказано, чему она подобна (246а 4-6).
Исследователи полагали, что из противопоставления «божественного» и «человеческого» изложений неизбежно следует, будто более кратким «человеческим» изложением и исчерпывается всё, чего в принципе может достичь человек. Между тем, познание, свойственное «богам», у Платона не является априори недоступным человеку — напротив, реализуя высшую из своих возможностей, человек становится «другом мудрости» (фьЛбсгофод), поскольку он непосредственно приближается к богу, являющемуся «мудрым» (сюфбд), через познание идей. Поэтому и в «Тимее» говорится, что отличающее бога познание принципов (арха0 доступно тем из людей, кого любит бог (53d), а в «Федре» сходным образом утверждается, что душа философа посредсгвом анамнесиса по возможности постоянно удерживается в мире идей, познание которых делает бога божественным (249с), и что благодаря этому философ становится «совершенным». В действительности, из самого же «Федра» и можно извлечь те требования, которые должен выполнить анализ природы души, пожелай он предложить нечто большее, нежели образное сравнение с крылатой упряжкой (246а и след.) в качестве «человеческого» изложения. Подобного рода анализ должен поставить перед собой следующие вопросы: является ли душа простой или составной, и в чём состоит её способность (дюномис) в отношении действия и страдания, если она является составной (270d 1-7). Ясно, что миф не подходил к этим вопросам критически и не претендовал на то, чтобы разрешить их при помощи аргументов, но безо всяких аргументов ответил на них гениальным порывом поэтического сравнения. Но столь же ясно и то, что в платоновских диалогах эти вопросы могут также решаться в рамках критически-аргументативного подхода, что и происходит в четвёртой книге «Государства». Там (435е и след.) тщательным образом обосновывается, почему душу нельзя рассматривать как нечто единое, почему необходимо различать именно три «части» души и каковы способности каждой из них.
Означает ли это, что в четвёртой книге «Государства» мы располагаем «божественным» изложением вопроса о природе души в письменном виде? Это было бы слишком сильным утверждением, ведь представленная там теория души сопровождается серьёзным ограничением (более подробным рассмотрением которого мы сейчас займёмся); однако ни один рассудительный читатель не сможет оспорить, что аргументы четвёртой книги «Государства» выполняют программу философской психологии из отрывка Федр 270d (ср. тж. 271 d) гораздо лучше, и во всяком случае в большей мере приближаются к «божественному» изложению, нежели живописный образ колесницы души.
Помимо углублённого знания природы души диалектику как представителю философски фундированной риторики требуется прежде всего знание сущности вещей, истину о которых он стремится донести до собеседника (Федр 273d-274a, ср. 277Ьс). И здесь также делается указание на «длинный обходной путь», требующий «большого труда», но в итоге приводящий человека к умению говорить и поступать так, как любезно богам (Федр 273е 4-5, е 7-8, 274а 2). «Путь», который подразумевает здесь Платон — это путь или путешествие (7ioQeta, Государство 532е 3) диалектики; как и всегда, этот путь предстаёт в изображении Платона путём действительно проходимым, т. е. реальной, известной ему возможностью человека, путём, ведущим к чётко очерченной цели, от достижения которой зависит счастье человека. Не подлежит никакому сомнению, что это — путь устной диалектики; диалог может на него указывать, но в письменном сочинении на него ещё невозможно вступить.
В «Горгии» Платон отсылает к своей теории души в такой форме, которая о «виде» (16га, идеи) души позволяет узнать гораздо меньше, чем даже образ «трёхчастной» колесницы. Собеседник Сократа Калликл, как мы видели выше (с. 41-43), по причине своего слепого эгоцентризма и одержимости влечениями сталкивается с затруднениями в понимании ключевых положений сократовской этики; его наиболее серьёзным изъяном является примитивное отождествление себя самого с собственными вожделениями (491е-492с). Такой позиции Сократ противопоставляет совершенно иной образ человека, который он — дабы подчеркнуть удалённость этого образа от мира мысли Калликла — преподносит как представление о человеке чужеземных, не названных им по имени «мудрецов» (сгофоь). Согласно этому представлению, неразумные — это непосвящённые (493а 7): они не знают, что жизнь в теле (стсора) — это как жизнь в могиле (crfjpa), и что непрестанное удовлетворение влечений и желаний — это не что иное, как наглядно изображаемая мифом о Данаидах попытка ситом наполнить дырявую бочку (492е 8-493с 3).
В сократовском понимании этого образа «бочка» соответствует некой области души, она изображает «то в душе, где заключены желания» (493а 3, b 1). Следовательно, душа есть структурированное целое, в котором «сито» призвано обслуживать потребности «бочки»; но очевидно, что это справедливо только по отношению к образу жизни людей неразумных и подвластных своим влечениям, подобно тому, как и для Калликла единственная функция способности понимания (фр6\т|отс;, 492а 2) состоит в том, чтобы служить влечениям. Обращение к мифу о Данаидах, соединённое с адресованным Кал-ликлу призывом выбрать вместо жизни в безудержном и принципиально ненасытимом удовлетворении страстей жизнь человека, владеющего собой (493cd), означает, что вожделения и влечения составляют не всю душу, но лишь одну её часть — ту часть, которая подчинила себе способность понимания только у неразумных людей, не ведающих, что душе известна и другая жизнь — жизнь разумной души в бестелесном состоянии.
Кроме того, поскольку принятый Калликлом идеал человеческой добротности100 оценивается в соответствии с системой платоновских кардинальных добродетелей101 (489е, 491 с-е), опирающейся, в свою очередь, на теорию трёхчастности души в «Государстве», то понятно, что для полного освобождения от своих заблуждений относительно себя самого, а значит, и относительно того, к какой форме жизни следует стремиться в наибольшей степени, Калликлу в первую очередь было бы необходимо просвещение относительно структуры души. Только так он мог бы понять, что значит «властвовать над самим собою» (airtov ёаитои apxeiv, 491d 8). Однако такого просвещения Калликл не получает — видимо, потому, что его моральное состояние исключает когнитивный прогресс. О том, что существенные для данной дискуссии предметы намеренно замалчиваются (хотя без них содержательно полноценное обсуждение затронутых проблем было бы невозможным), Калликлу (и читателю диалога) намекают средствами мистериальной метафорики: счастлив Калликл, язвит Сократ, если он посвящён в «Великие мистерии», не узнав прежде «Малых мистерий» (497с). Хотя всякий тогдашний читатель знал, что в элевсинских мистериях подобное было недопустимо, всё же Платон нарочно вкладывает в уста Сократу эти слова: читатель должен сообразить, что посвящения в «Великие мистерии» Платона здесь, в «Горгии», ожидать не приходится102.
Решающий прогресс Калликлу обеспечило бы уже одно только введение в платоновское учение о разделении души в той его форме, в какой оно изложено в четвёртой книге «Государства». В свою очередь, для Сократа — персонажа, представляющего в диалоге фи1уру «диалектика», даже этот вариант изложения безусловно не равнозначен проникновению в «Великии мистерии». Отказавшись от мистериальной метафорики, он вместо этого с прозаической ясностью констатирует — ещё до того, как приступить к аргументативному выстраиванию своей теории, — что метод, применяемый им в настоящем разговоре с Главконом и Адимантом, недостаточен для «точного» ответа на вопрос о частях души.
«И будь уверен, Главкон, что, по моему мнению, теми методами, которые мы сейчас применяем в наших рассуждениях, мы никогда не постигнем этого точно — ибо к этому ведёт другой путь, более длинный и протяжённый — ...» (Государство IV, 435с 9-d 3).
Этими словами заранее ограничивается значимость философского обоснования теории, лежащей в основе учения о добродетели и проекта нового государства.
Но Платон не останавливается на однократном указании. Он подчёркнуто возвращается к нему, собираясь вводить дру1ую основополагающую теорему. Когда в шестой книге Сократ приступает к объяснению того, почему правители-философы в будущем идеальном государстве должны будут обладать основательным знанием о благе, он сначала напоминает о решении, принятом в четвёртой книге — обсуждать теорию души в пределах сознательно пониженного уровня обоснования (504а). Показательно, что поначалу его собеседник этого не припоминает: складывается полное впечатление, что, опираясь на своё непревзойдённое знание человеческой души, Платон захотел в данном случае в карикатурном виде изобразить неспособность признать явственное самоограничение его диалогов. Однако Сократ настаивает на своём, и в конце концов тот же вид ограничения одобряется и применительно к новой теме — идее блага.
Вступить на «более длинный путь» в данный конкретный момент не представляется возможным: при взгляде изнутри драмы — из-за недостаточной подготовки участников разговора (ср. 533а), если же брать «Государство» как кни1у — то из-за тех границ, которые налагаются на философскую коммуникацию письменным сочинением. Знаменательно, что теперь, приближаясь к обсуждению «высшего предмета обучения» (peyiaxov рабгцда, 503е, 504de, 505а), Сократ намного сильнее, чем в четвёртой книге, подчёркивает ущербность отказа от «более длинного пути» (504b-d). Наконец, он объявляет, что не намерен разбирать вопрос о сущности идеи блага (506de), что и предложенное в качестве замены сравнение с солнцем тоже во многом неполно, и что он намерен и впредь излагать только то, что «возможно на настоящий момент» (oaa у ev хф rcapovTi buvaxov, 509с 9-10); оба эти эпизода абсолютно ясно дают понять, что ограничение изложения не обусловлено, скажем, невыразимостью его предмета, как порой утверждалось, но что у Сократа имеется определенное «мнение» о благе, однако же он совершенно намеренно не раскрывает его.
«Но, о счастливцы, что же, собственно, есть благо, это мы пока оставим в стороне; ибо это, кажется мне, слишком велико, чтобы мыв нашей настоящей попытке смогли бы сейчас достичь хотя бы того, что является моим мнением об этом» (506d 8-е 3).
«— И не останавливайся ни в коем случае, сказал он, но разбери хотя бы это сравнение с солнцем ещё раз — если ты (пока) что-нибудь пропускаешь.
— Ну, сказал я, я многое пропускаю.
— Даже мельчайшего, сказал он, не обходи.
— Думаю, сказал я, даже весьма многое (читай: я обойду); тем не менее, из того, что возможно на настоящий момент, я ничего умышленно пропускать не буду (509с 5-10)».
А что стоит за намерением Сократа излагать только «возможное на настоящий момент», становится понятным из его отказа в седьмой книге разъяснить Главкону содержание и методы диалектики в форме краткого очерка: «Ты более не сможешь следовать за мной, милый Главкон — ибо с моей стороны отнюдь не было бы недостатка в готовности» (533а 1-3).
Итак, отказ от «более длинного пути», о котором известно и «Федру» (274а, см. выше, с. 160-161), в главном произведении Платона затрагивает, с одной стороны, учение о душе, с другой стороны — философию блага, а вместе с ней и всю область платоновской диалектики, ведущую к познанию наивысшего архЛ- Как было упомянуто выше (с. 155-156), содержательное наполнение этой области поддаётся лишь частичной реконструкции на основе косвенной традиции. Однако что касается первой темы «более длинного пути», учения о душе, то уже в «Государстве» Платон начал обозначать по меньшей мере контуры недостающего, а благодаря некоторым данным «Тимея» мы можем получить ясные и достоверные сведения даже по одному из центральных пунктов.
В десятой книге «Государства» Платон в два этапа вносит крайне значимое дополнение в психологию своего главного произведения: сначала он доказывает бессмертие души, которое до сих пор не играло никакой роли в рассуждении (608с-611а). Затем он продолжает (611а-612а): мы не должны думать, что душа «по своей истиннейшей природе» устроена так, какой она представлялась нам до сих пор, то есть полной многообразия, несоразмерности и раздора. Сложенному из многого и не самым лучшим образом нелегко быть непреходящим. Однако нужно взглянуть на душу в её чистой форме, т. е. на душу, свободную от всего того вторичного нароста, который образовался на ней из-за соединённости с телом. Её «древнюю природу» (aQX«i«v фиасу, 61 Id 2) можно распознать, взглянув на её «любовь к мудрости» (ф1Лоаоф(а): тогда становится ясно, с чем она соприкасается и какого общения жаждет, будучи родственной божественному и вечно сущему. Подобное рассмотрение открыло бы её «истинную природу», будь она многовидна или единовидна; сейчас же мы, напротив, рассмотрели её претерпевания (гсавт)) и формы (eibrj) в человеческой жизни.
Таким образом, в данном эпизоде Платон резко противопоставляет некое будущее рассмотрение души тому, которым собеседники были заняты в диалоге до настоящего момента. Правда, оба рассмотрения подчинены одному и тому же вопросу — имеет ли душа части, и если да, то какие; ибо вопрос о том, многовидна ли душа или единовидна (612а 4), по своему смыслу ничем не отличается от вопроса из четвёртой книги — обнаруживает ли она или нет те «части», которые можно было наблюдать на её увеличенной модели, т. е. в государстве (435с 4-6). Однако лишь будущее исследование раскроет «древнюю» или «истинную» природу души и сможет сказать, является ли она многосоставной или односоставной.
Мы видим, что психология «Государства» — это подчёркнуто посюсторонняя, так сказать, «эмпирическая» психология. Её выводы, как специально подчёркивается, вполне справедливы для той области, в которой они были получены (611с 6, 612а 5-6). Но ей недоступно важнейшее — «истинная природа» её объекта.
С точки зрения формулировки вопрос о многовид-ности или единовидности души оставлен открытым (612а 4); решить его сможет лишь то полноценное исследование души, которое в данном диалоге отсутствует. Эта видимая открытость вопроса приводила к тому, что Платону либо приписывали неверный ответ на него, либо даже заявляли, что здесь он якобы и сам ещё не знал, как должно выглядеть решение.
В действительности, платоновское понимание истинной природы души можно вывести как из нашего отрывка, так и из других мест «Государства», хотя, к сожалению, не с той необходимой однозначностью, которая могла бы обязать к всеобщему консенсусу по этому вопросу. Предположение о том, что «истинная природа души» может быть многосоставной в том же смысле, что и душа в её посюсторонней, отягощённой телом жизни, исключается уже самой резкостью контраста между двумя способами рассмотрения. А уж констатация того, что истинная душа родственна божественному и вечно сущему, явственно показывает, что подразумеваться под ней может только «мыслящая душа» (AoyiaxiKOv, логистикой), а, стало быть, высшая из частей трёхчастной души. На это же указывает и представление о том, что она могла бы «всецело следовать» вечно сущему, т. е. миру идей (611е 4), — особенно, если учитывать, что сказано о «родстве» и склонностях трёх частей души в девятой книге (ср. 585Ь и след.): поскольку лишь «мыслящая душа» (AoyuJTiicov) «обращёна к вечно тождественному и бессмертному и истине», а, следовательно, лишь она одна уподобляется этой области (ср. 500с), то лишь она и может быть обозначена как «божественное» в человеке (589d 1, е 4; 590d 1). Этим, собственно, уже предполагается, что только мыслящая душа может быть бессмертной, поскольку две другие части души ориентируются на смертные предметы и «следуют» им. Чуть ли не ещё более ясным является место в седьмой книге, где говорится, что добродетель «разумности» (фроутрси) — в противоположность другим добродетелям, являющимся едва ли не телесными — есть функция «чего-то более божественного», «никогда не теряющего своей силы» (518de).
Итак, на основе приведённых эпизодов выстраивается следующая модификация учения о душе: в трёхчастной душе бессмертна только мыслящая душа (AoyicmKOv); поэтому только она представляет собой неразрушимую «древнюю» или «истинную» природу души, в то время как две другие части, хотя и отграниченные надлежащим образом друг от друга и от мыслящей души в четвёртой книге, по своей сущности являются не чем иным, как преходящим наростом, возникающим из-за связи «истинной» души с телом.
Но в точности такой же образ человеческой души обнаруживается в диалоге «Тимей». Демиургом производится на свет или, по выражению Платона (35а, 41 d), «смешивается», одна только мыслящая душа; а значит, только она одна является неразрушимой. Две другие части «прилаживаются» к ней подчинёнными богами в качестве смертных добавлений (69cd); по сущности своей они направлены на смертное, а именно на вожделения и тщеславие (90Ь), тогда как перед высшей частью (AoyicmKOv) поставлена иная задача: мысленно охватывая круговращения вселенной, достигать уподобления небесному порядку и гармонии (90cd) «в соответствии со своей древней природой» (ката xf]v apxak*v фисггу, d 5, ср. Государство 611d 2).
Эту дихотомичную структуру души, характеризую-щуяся онтологическим разрывом между бессмертной и двумя смертными частями, Платон отчётливо обозначил также в «Политике» (309с) и в «Законах» (713с) и, по-видимому, исходил из неё в «Федоне». Но в заключительной части «Государства» мы не находим ни определенного обозначения этой структуры, ни, тем более, объяснения природы души из её отношения к умопостигаемому — предположительно потому, что такое объяснение было бы невозможным без привлечения дальнейших сведений о мире идей, в то время как «более длинный путь» собеседникам не по силам. Даже только что названные места диалогов, где Платон высказывается отчётливее, не позволяют с полной ясностью установить возможное содержание того результата, который предъявило бы подобное раскрытие «истинной природы» души. (Правда, остающаяся неопределённость касается только сущности и конституции мыслящей души (AoyiCTTLKOv); в том, что под «истинной природой» подразумевается мыслящая душа и что только она может быть бессмертной, нет более никаких сомнений.) Когда Платон говорит об «уподоблении» и «родстве», под этим он, пожалуй, подразумевает не просто тождество сущности; быть может, он думал и об определении сущности мыслящей души, помещающем её в ту упомянутую Аристотелем срединную онтологическую область между идеями и чувственными вещами, к которой также принадлежат математические объекты103. Во всяком случае, известное из «Тимея» «смешивание» мировой души (являющейся чистой мыслящей душой) в соответствии с математическими соотношениями (35a-36d) наводит на мысль о такой возможности104.
Отправляясь от «Тимея», нам, возможно, удастся понять и ту поначалу кажущуюся странноватой формулировку, согласно которой будущее исследование показало бы истинную природу души, «многовидна ли она, или единовидна, или как бы она ни была устроена» (с!те 7ToAu£iftf]g eke povoeibfjg, eke бтгг] exeL ка107icog, Государство 612a 4). Вряд ли Платон сомневался в том, каким будет результат этого исследования. Если исходить из учения о разделении души в четвёртой книге «Государства», то ответ однозначно будет гласить: истинная древняя природа души единовидна (povoEib^g), так как две другие «части» (elbrj) обращены к смертному, а значит, сами являются смертными. И если Платон останавливается на «открытой» формулировке, то основанием этого, возможно, является как раз то обстоятельство, что теперь он думает не только о разделении души, изображённом в четвёртой книге, но вместе с тем уже и о «смешивании» мыслящей души из различных «частей», даже если в итоге эти «части» оказываются в «Тимее» чем-то совершенно отличным от «частей» рассмотренной нами трихотомии души.
Значение ограничения, которое Платон налагает на теорию души своего главного произведения в отрывке 611а-612а, не может вызывать никаких сомнений: поскольку содержание будущего более точного исследования — по меньшей мере, в его центральном пункте — с полной уверенностью может быть восполнено из других диалогов, мы имеем гарантию того, что говоря о «более длинном пути», Платон отсылает нас к конкретным результатам своей философской работы также и в тех случаях, где он не предоставил нам возможности для подобной проверки.
Отрывок Государство 611а-612а примечателен ещё и в другом отношении: мы установили, что, отсылая к более точной психологии, ещё только дожидающейся своего часа, данный текст с помощью намёков уже загодя предвосхищает содержание предстоящего исследования. А это вновь возвращает нас к столь важному для герменевтики платоновских диалогов вопросу о роли намёков, а также указаний, ожидающих содержательного наполнения со стороны читателя. Должны ли мы всё же повысить значение намёков в сравнении с тем, как мы оценивали их до сих пор? Прежде чем ответить на этот вопрос (см. ниже гл. 19), мы хотим обратиться ещё к одному платоновскому тексту, который посредством намёков также отсылает к результатам, имеющим более фундаментальное значение, нежели те, что представлены в самом тексте.
Глава восемнадцатая
УЧЕНИЕ ОБ АНАМНЕСИСЕ И ДИАЛЕКТИКА В «ЕВТИДЕМЕ»
В диалоге «Евтидем» читатель то и дело сталкивается с внешне бессмысленными лжезаключениями, которыми Дионисодор и Евтидем хотят запутать своих собеседников. Однако же немалая часть этих ложных умозаключений обнаруживает разумный смысл, если интерпретировать их, исходя из платоновского понимания научения и теории анамнесиса (Keulen, 1971. S. 25-40, 4956; Friedlander, 1964. S. 171,177-178).
Сначала юному Клинию предлагается вопрос: кто учится, мудрые или незнающие (Ы стофо1 rj ol арабеХд, 275d 4)? Ответ: «мудрые» опровергается, после чего Кли-ний делает выбор в пользу незнающих, будучи, однако, равным образом опровергнут (275d 3-276с 7). Пока это кажется чисто софистической игрой, да и сами драматические персонажи, выдающие эти опровержения — Евтидем и Дионисодор — тоже, по-видимому, не считают это чем-то большим. И всё же можно сразу заметить, что для автора, для Платона, за этим кроется нечто большее — стоит только привлечь к рассмотрению отрывки Пир 203 е и след. иЛисид 218а: из них следует, что тот, кто учится, не является ни знающим, ни незнающим. Однако это «ни — ни», только благодаря которому оба упомянутые опровержения и получили бы свой смысл, в «Евтидеме» отсутствует, равно как и сопряжённое с этим двойным отрицанием понимание Эроса и философии.
При втором вопросе: чему учатся — тому, чего не знают, или тому, что знают? — также опровергаются оба возможных ответа (276d 7-277с 7). В «Меноне» мы встречаемся с точно таким же выводом — невозможно учиться ни тому, что знаешь, ни тому, чего не знаешь — в качестве «эристического аргумента», который Сократ преодолевает, излагая теорию анамнесиса (80de). Но в «Евтидеме» это решение отсутствует.
Впрочем, оно отчётливо проступает в одном из последующих эпизодов: эристики доказывают, что тот, кто знает что-то, знает всё (293Ь-е), что всякий человек знает всё (294а-е) и что всякий человек всегда всё знал (294е-296d). То, что звучит здесь исключительно нелепо, становится прозрачным и осмысленным при обращении к «Менону»: отправляясь от одного единственного «воспоминания», познающий имеет возможность разыскивать всё, поскольку все вещи связаны родством; кроме того, поскольку до вхождения в тело всякая душа созерцала идеи, то любой человек действительно потенциально знает всё; на примере тех геометрических знаний, которые Сократ выуживает из необразованного раба, принадлежащего Менону, можно видеть, что всякий человек потенциально знал всё всегда (Менон 81 cd, 85d-86b; ср. Федр 249Ь о созерцании идей до рождения).
Затем двое эристиков доказывают, что их собственный отец в то же время является отцом их собеседника, а кроме того и отцом всех людей, и даже всех животных, включая всех морских ежей, поросят и собак (298Ь-е). Но ведь это курьёзное «родство» людей и зверей всех родов по своему замыслу является карикатурной вариацией положения, заключающего в себе онтологический фундамент учения об анамнесисе: «...поскольку всё в природе родственно» (ате yap xrjg фиассод апаот\с; cruyycvoug oucjrjg, Менон 81с 9).
Итак, уже ясно, что при составлении немалого числа ложных умозаключений в «Евтидеме» принималось во внимание учение об анамнесисе. Однако эта теория здесь не только не разъясняется, но и вовсе не упоминается. Слово «душа» (295Ь 4) могло бы напомнить, что только на фоне платоновского учения о душе бестолковые розыгрыши эристиков могли бы наполниться смыслом. Однако это указание — если оно отвечает своему назначению — может быть понято только тем, кто уже что-нибудь знает о платоновском учении об анамнесисе и душе.
Имеются в тексге намёки и на учение об идеях (что можно было почти предугадать по причине тесной содержательной связи, существующей между теорией анамнесиса и теорией идей). Сократ, очевидно, знаком с проблемой отношения единичной вещи и идеи (301а 24); в его понимании, «прекрасное само по себе» отлично от единичной прекрасной вещи, однако последняя прекрасна благодаря «присутствию» прекрасного (ср.
7idQ£CTxiv, 301а 4). На уровне, который представляет эри-стик Дионисодор, эта мысль приобретает тот вид, что присутствие быка должно делать Сократа быком (301а 5).
Поскольку теория идей в «Государстве» также связана с детально разработанной концепцией отношения наук между собой, то неудивительно, что и эта тема находит здесь своё выражение. Математика, как мы узнаём из 290cd «Евтидема», не может быть искомой высочайшей наукой, потому что в последней производство (или же приобретение) и применение должны совпадать, тогда как математика уступает добытое ей диалектике, подобно тому, как полководец оставляет захваченный им город заботам политики. Такая трактовка отношений математики и философии в «Евтидеме» никак не подготовлена ходом диалога, да и к тому же остаётся непонятной в его рамках; лишь покинув его пределы и вооружившись сведениями из «Государства» (510с и след., 531с и след.), можно уяснить, что имеется в виду. Стало быть, Платон подразумевает больше, чем говорит.
В ходе поисков самой главной и высочайшей «науки» или «искусства» среди прочих подвергается проверке — и отвергается — искусство составления речей (f) Лоуо710икг) 289с 7). Основанием для признания
его неподходящим служит указание на «некоторых составителей речей» (289d 2), у которых производство и применение собственной же продукции оторваны друг от друга: они пишут речи, но не выступают с ними, в то время как их клиенты хотя и пользуются этими речами, но составить их самостоятельно не сумели бы. Собеседники признают, что высочайшим искусством, приносящим человеку счастье, это искусство речи быть не может — и всё же Сократ подумал было, что оно найдётся «где-то» в этой области (289d 8-е 1). Но ведь из этих наводящих формулировок мы наверняка вправе заключить, что помимо отвергнутого могло бы существовать и иное «искусство речи», которое удовлетворяло бы критериям «искомой науки» (е 1). Подразумеваемым искусством, очевидно, является диалектика в том её аспекте, который получает свою разработку в «Федре»: диалектика как идеальное искусство речи. /Диалектика понимается там как устное философствование, в процессе которого «речи», впервые только и производимые философом в личном разговоре с подходящим адресатом, одновременно получают правильное применение соответственно его знанию душ и вещей105. В «Федре» можно также прочесть, что логосы (Aoyoi) диалектики обеспечивают наивысшую эвдемонию, какой только может достичь человек (277а 3).
В целом складывается впечатление, что «Евтидем» имеет богатый философский фон, который, однако же, лишь подспудно определяет ход мысли в диалоге, не задавая его открыто. Столь важные составные части платоновской философии, как учение об анамнесисе и идеях и теория диалектики, хотя по сути и наличествуют в диалоге, но нигде не называются открыто, и в ещё меньшей степени излагаются в связном виде или тем паче обосновываются. Потому они и не замечаются собеседниками в диалоге, как остались бы навсегда незамеченными и нами, читателями, не имей мы примеров открытого обучения соответствующим теоремам в других диалогах.
Глава девятнадцатая
ЗНАЧЕНИЕ НАМЁКОВ ПРИ ЧТЕНИИ ПЛАТОНА
Теперь, когда у нас под рукой имеется достаточно примеров, мы можем вновь вернуться к рассмотрению вопроса о намёках у Платона106. Вопрос, естественно, состоит не в том, есть ли в его диалогах намёки и указания, которые должен заставить заговорить лишь сам читатель, активно мыслящий вместе с диалогом, — разумеется, у Платона они есть; но поскольку нечто подобное, как мы ещё увидим, имеется и у других авторов, то для выявления специфики философско-литературного творчества Платона мы должны сформулировать свой вопрос точнее: какое общее значение имело для Платона письмо намёками.
До сих пор мы не находили никаких признаков того, что Платон питал веру в возможность приблизиться к устному философствованию в своих письменных сочинениях путём изощрённого использования тонких отсылок, косвенных указаний и зашифрованных намёков. В это, скорее, наивно верил Фридрих Шлейермахер, связывавший со своей верой то антиэсотерическое убеждение, что благодаря искусству «непрямого» сообщения Платону не было нужды закреплять важные части своей философии за областью устного философствования. Но ведь письменное сочинение остаётся принципиально зависимым от устного дополнения в виде «предметов более высокой ценности» (тириотеда). Представление о том, что письменные отсылки могут выполнять функцию этого устного дополнения, является современным недоразумением, о котором нам ещё придётся подробнее поговорить ниже. Но прежде на примере различных типов намёков и отсылок мы продемонстрируем, что у Платона они вовсе не имеют функции, предписывающей им вступать в конкуренцию с прямым сообщением, будь то письменным или устным.
(1) Пожалуй, простейшей формой намёка является напоминание о подразумеваемом путём цитатной отсылки. Эта форма представлена в отрывке Федр 27ве 2-3, где Платон в качестве примера письменной «игры» называет «рассказывание историй» (pu0oAoyelv) о справедливости и родственных предметах. Поскольку «Государство» трактует справедливость и прочие добродетели и поскольку сам этот диалог в двух местах (376d, 501е) обозначает себя как «рассказывание историй» (|iU0oAoye!v), то не может быть никакого сомнения в том, что в данном отрывке Платон отсылает к своему собственному главному произведению как к образцу письменной философской «игры». Но распознать эту отсылку как таковую и сделать на её основе верный вывод — что собственные произведения Платона также подпадают под действие критики всего написанного, — эта задача оставляется на долю находчивости читателя.
Не оказывается ли тогда, что ответ на важнейший вопрос критики письма даётся всё же посредством простого намёка? Никоим образом. Потому что вопрос о том, подпадают ли диалоги Платона наряду с прочими письменными сочинениями под критику письма или нет, и возникает-то только в современной теории диалога, вследствие своих антиэсотерических предпосылок жизненно заинтересованной в том, чтобы исключить диалоги из-под действия критики. Платон изначально не ставил перед собой этот вопрос, ведь свою критику он направлял против «письменного сочинения» (урафт)) как такового. И читателю, не склонному к искажению ясного смысла текста под действием предрассудков нового времени, тоже ведь прямо, а не одними только намёками, говорится о том, что критика направлена и на диалоги, если уж она направлена на всё написанное. Тот читатель, который уяснил это, уяснил главное, а вот сумеет ли он затем ещё и распознать в неприметной отсылке к «Государству» собственно отсылку — это, в сравнении с главным, вполне безразлично.
Относительно позднее обнаружение этой неприметной отсылки, выявленной В. Лютером лишь в 1961 году (Luther, 1961. S. 536-537), вполне объяснимо. Удивителен тот факт, что и после выявления этой связи — с содержательной точки зрения совершенно однозначной — большинством интерпретаторов она либо игнорируется, либо считается сомнительной. Выясняется, насколько прав был Платон: ничего «ясного и прочного» с помощью письменного сочинения сообщить невозможно, и даже при вынесении суждения по поводу столь простого и «достоверного» намёка остаётся немало места для субъективных оценок. Почему же мы должны допускать, что именно Платон вдруг понадеялся на однозначность отсылок? Ведь критика письма достаточно ясно показывает, что от полагающейся для этого наивности он давно избавился.
(2) В связи с «ещё более высокими принципами» (арха1 Тимей 53d), не получившими в этом диалоге никакого разъяснения, мы имели случай напомнить об одном пассаже в «Законах», где затрагивается вопрос о возникновении (yeveCTig, гёнесис) всех вещей (см. выше, с. 155, прим. 1). Вот этот текст: «Какой же процесс должен происходить, чтобы совершилось становление вещей? Очевидно, что это возможно только тогда, когда имеется некоторое начало (архп), и оно претерпевает возрастание и так достигает второго развития (peTdpaaiv), а отправляясь от него — следующего, и когда, достигнув третьего, оно может быть воспринято существами, обладающими восприятием. Путём такого изменения и такого перехода возникает всё; оно имеет действительное бытие, покуда остаётся таковым; переходя же в другое состояние, оно полностью уничтожается» (Законы X, 894а 1-8; в оригинале — перевод Рудольфа Руфенера).
Никто не сможет поспорить с тем, что это место, как выразился Конрад Гайзер, «прежде всего нужно признать загадочным» (Gaiser, 1968. S. 187). Таковым оно остаётся даже в том случае, если тщательно учитывается окружающий его контекст в десятой книге «Законов». Подлинная ясность, как показал именно Гайзер, достигается лишь с привлечением свидетельств о неписаной теории принципов; тогда в этом пассаже обнаруживается намеренно туманная передача математического положения о переходе от первого измерения через второе к третьему — положения, которое одновременно используется Платоном в качестве модели для объяснения обстоятельств онтологического порядка (Gaiser, 1968. S. 173-189, особенно S. 175 и S. 187-189; ср. тж. Gaiser, 1984. S. 148-149).
Так можно ли сказать, что главное здесь сообщено намёком? Нет, потому что здесь, по существу, ничего не «сообщено», во всяком случае тому читателю, который уже загодя не располагает информацией из других источников; без источников, получивших слово благодаря Гайзеру, наш отрывок навсегда остался бы до крайности невнятным, превратившись в объект приложения субъективных приёмов интерпретации. Да и по отношению к собственному замыслу десятой книги «Законов», призванной показать, что в космосе правит разумная мировая душа, объяснение возникновения (yeveaig) всех вещей в терминах трёх пространственных измерений не является «главным». А вот о том, что знания, составляющие содержание философского образования руководителей государства, относятся к предметам, преждевременное сообщение которых было бы бессмысленным (a7TQ0QQr|Ta), читатель узнаёт не из туманного намёка, а из прямого сообщения в конце произведения (968е, ср. выше, с. 148).
(3) В связи с изложением философских познаний, проступающих за внешне бессмысленными и запутывающими рассуждениями в «Евтидеме» (см. выше, гл. 18), нам уже доводилось настоятельно указывать, что ни одна из «загадок» этого диалога не может быть разрешена без знакомства с незашифрованным учением об анамнесисе и с понятием диалектики в «Меноне», «Фе-доне» и «Государстве». Таким образом, «загадки» «Евти-дема» вовсе не являются загадками в духе архаического литературного жанра alvog (айнос), соль которых состоит в том, что реципиент разгадывает задуманное без посторонней помощи, исходя из самого текста. Эдип должен был разрешить загадку Сфинкс, не имея каких-либо специфических предварительных данных, доступных лишь ему одному — вся его слава разгадывателя загадок тут же развеялась бы, приступи он к решению этого задания на особых условиях. Напротив, «загадка», гласящая, что всякий человек знает всё и даже знал всё всегда (Евшидем 294а-е, 294e-296d), разрешима только при наличии специфически платоновских предварительных данных, без них же она действительно была бы тем, чем кажется неподготовленному читателю — откровенным вздором.
Желая, однако, показать, что фоном здесь служит нечто особенное и значительное, Платон прибегает не к неопределённым намёкам, а к драматургическому приёму прерывания пересказываемого диалога; об этом мы поговорим в следующей главе (см. ниже, с. 197-199).
(4) При обсуждении эпизода умолчания (Государство 611-612) мы отстаивали тот взгляд, что результат более точного рассмотрения души, не предпринятого в диалоге, всё же можно вывести из отдельных указаний, содержащихся в тексте (см. выше, с. 168 и след.). Значит, здесь намёк все же имеет функцию сообщать главное в зашифрованной форме?
Конечно, Платон, прямо не говорит, что истинная природа души единообразна, потому что в своей «очищенной» форме душа идентична высшей из трёх своих «частей» — мыслящей (AoyicrTiKOv). Но если учесть, что этот вывод весьма естественно следует из указания, согласно которому истинную природу души можно установить по её «любви к мудрости» (ф1Аоаоф(а), её общению и родству с божественным и вечно сущим (611е), то остаётся спросить себя, в каком смысле здесь ещё нужно говорить о «зашифрованном» сообщении — скорее, мы имеем дело с простым напоминанием о предыдущих выводах, сделанных в ходе диалога (см. выше, с. 168 и след.). Показательно, однако, что даже это простое «задание», предлагающее читателю связать предыдущее с обсуждаемым в данный момент, не привело к требуемой «ясности и достоверности» познания, напротив, намерение Платона ограничить бессмертие души лишь её мыслящей частью раз за разом оспаривалось107.
Все же решающим для оценки этого эпизода является то, что вопрос, оставленный открытым в отрывках 611-612, в рамках самого «Государства» может получить лишь приблизительный ответ: «истинную природу» души следует отождествлять с одной из трёх её частей. А вот что могла бы означать многосоставность самой истинной души — об этом из содержания «Государства» невозможно даже догадаться; лишь прямое сообщение об ингредиентах «смешения души», имеющееся в «Ти-мее» (35a-36d), может дать нам некоторое представление о её дальнейшем онтологическом анализе.
Подводя итог, мы можем констатировать, что, хотя Платон охотно использует самые разнообразные типы отсылок, намёков и указаний, он нигде не обнаруживает намерения отвести литературной технике намёка центральную роль в философском сообщении108.
Знаменитое изречение Гераклита о том, что бог дельфийского оракула «не утверждает и не утаивает, но намекает»109, является замечательным описанием способа сообщения, характерного для таких жанров, как оракул и загадка (alvog, aiviypa). Однако Платон намного перерос эти архаические малые литературные формы; он может при случае использовать их — и использует мастерски, но всегда только в их служебной и дополняющей функции. Желая понять, в чём состоял его собственный замысел как философского писателя, нужно прежде всего вспомнить о его выборе в пользу новой крупной литературной формы — прозаической драмы — и задаться вопросом о том, с помощью каких драматургических средств он даёт понять, что является для него главным. Однако мерилом оценки всех толкований по-прежнему остаётся критика письма.
Но современная теория диалога, закрепляющая за письменными намёками важнейшую функцию — обучение философии (причём функцию, которая сделала бы ненужной эсотерическую устную философию принципов), — двояким образом противоречит духу критики письма. Во-первых, она забывает, что, согласно Платону, «ясность и достоверность (прочность)» познания письменным сочинением обеспечена быть не может (Федр 275с 6-7, 277d 7-8); её представление о том, что неизбежно неопределённый намёк может перескочить этот барьер, укоренённый в самой сущности письма, основывается на наивном оптимизме, никогда не разделявшемся Платоном, а также полностью опровергнутом историей рецепции произведений Платона. Во-вторых, она упускает из виду, что выбор «подходящей души», являющийся у Платона предпосылкой к подлинному обучению философии (в отсутствие подходящей души философ будет молчать), принципиально неосуществим средствами письменности. Зашифрованный намёк может быть дешифрован любым читателем, обладающим необходимым для этого интеллектом. Примером тому является давно потерянный для дела философии Алкивиад, возвещающий в «Пире», что нужно лишь «раскрыть» сократовские логосы, чтобы получить всё необходимое для того, чтобы стать прекрасным и благородным человеком (Пир 221d-222a)110. Однако Платон требует от «подходящей души» не только наличия интеллектуальных способностей, но и внутреннего родства с делом философии, подразумевающего также полное развёртывание в этой душе кардинальных добродетелей (Государство 487а, ср. тж. Седьмое письмо 344а).
Остаётся изумлённо спрашивать себя, как эта огромная пропасть, отделяющая характерное для нового времени доверие к обучающей функции намёков и «непрямого сообщения» от платоновского представления о философском использовании письма, могла столь долго оставаться незамеченной. Пожалуй, это было возможным лишь потому, что с самого начала, т. е. со времён Фридриха Шлейермахера, изощрённые рассуждения по поводу платоновского диалога направлялись стремлением антиэсотериков выдать желаемое за действительное. Шлейермахер действительно верил, что целью Платона было устроить использование письма таким образом, чтобы в передаче знаний оно почти не уступало устному обучению. В «Федре», который Шлейермахер считал ранним сочинением, Платон, по его мнению, ещё не надеялся, что сумеет этого добиться, однако позже это ему будто бы удалось (Schleiermacher, 1804. I, 1. «Введение», S.15), так что «он не кончил верой в столь далеко заходящую несообщаемость философии» (Schleier-macher, 1804.1,1. «Введение» к «Федру», S. 52).
Таким образом, полагал Шлейермахер, в критике письма Платон занимал позицию, позже им преодолённую. На этой вере он построил свою теорию диалога, которая и сегодня ещё для многих остаётся авторитетной. Между тем, сегодня мы знаем, что «Федр» — это сравнительно позднее произведение, написанное не ранее 370 г. до Р. X., и что это произведение содержит глубоко продуманную и окончательную точку зрения Платона на философское использование письма. Поэтому с современной теорией диалога, базирующейся на ложных предпосылках и желающей взвалить на намёки и указания задачу, выполнить которую по силам только устному философствованию, мы можем распроститься — как с теорией неплатоновского характера6. 111 112
Глава двадцатая
ДРАМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА ПЛАТОНА: НЕСКОЛЬКО ПРИМЕРОВ
Как было упомянуто выше, в понимании диалогов не следует ориентироваться на герменевтику архаических малых литературных форм оракула (xQT]apog) и загадки (alvog, alvLypa), но нужно исходить из возможностей прогрессивной крупной формы драмы. И в самом деле, Платон располагает всеми техниками развитой драматургии и умеет продуманно применять их для выражения своего понятия философии. Полное описание драматической техники Платона здесь не предусмотрено — подобного рода попытка потребовала бы написания ещё одной книги, по меньшей мере такого же объёма. Всё, что может быть здесь предложено — это несколько примеров, способных проиллюстрировать ту давнишнюю мысль, что форма платоновского диалога не является чем-то внешним по отношению к содержанию, но существенным образом связана с ним. И хотя интерпретаторы последних поколений неизменно исповедовали это убеждение, однако чаще всего они делали это лишь на словах; конкретных следствий для интерпретации это программное заявление о единстве содержания и формы практически никогда не имело. Здесь у нас
будет возможность путём точных наблюдений над литературными средствами и истолкования их результатов в свете критики письма получить кое-какие неожиданные заключения113.
СКВОЗНОЕ «ДЕЙСТВИЕ»
Тот факт, что платоновский диалог, как правило, имеет сквозное «действие», в общем привлекает к себе мало внимания. Приёмом, посредством которого Платон помогает читателю удерживать это «действие» в памяти, является повторение мотива.
Содержание сквозного действия «Евтидема», как уже упоминалось выше на с. 53, составляет разоблачение эристиков Евтидема и Дионисодора с целью показать, что они не являются эсотериками, а для Платона это означает: не являются философами. В ходе диалога шаг за шагом демонстрируется, что у них нет в запасе «более ценных предметов», которыми они могли бы воспользоваться для оказания помощи своему логосу в случае нападения. Мотивами, движущими действие и разбивающими его на фазы, являются, с одной стороны, мотив «утаивания», с другой — мотив противопоставления «игры» и «серьёзности». Тактика Сократа состоит в том, что он воспринимает эристический вздор, которым желают блеснуть Евтидем и Дионисодор, как их «игру», и раз за разом призывает их открыто выступить с тем «серьёзным» знанием, которое они, разумеется, пока утаивали за «игрой». После того, как окончательно выясняется, что помимо дешёвых лжезаключений ничего более ценного у них нет, Сократ саркастически советует им и впредь скрывать своё знание таким весьма эсотери-ческим образом.
От интерпретаторов не утаилось то обстоятельство, что в этом диалоге «Сократ» располагает учением об идеях и анамнесисе, равно как и платоновским понятием диалектики2. Однако значение этого факта в контексте данного диалога не было ими понято, поскольку скрытое знание Сократа, отчётливо угадывающееся в диалоге, они не сумели поставить в связь со сквозным действием. Но стоит посмотреть на такое превосходство в знании (которое Сократ, правда, иронически утаивает в ходе диалога) с точки зрения действия, как сразу становится ясно, что сам Сократ и есть тот, чей статус он в шутку присваивает эристикам: знающий, сознательно скрывающий своё «серьёзное» знание. Теперь мы можем выразить содержание действия диалога и таким образом: истинный эсотерик Сократ разоблачает двух шарлатанов, уличая их в том, что никаким «серьёзным» знанием (которое они могли бы скрывать) они не располагают; иронически переворачивая действительность, он изображает их эсотериками. Стало быть, в диалоге высмеивается не эсотерическое сокрытие знания, а как раз наоборот — неспособность к нему. Положительный смысл этого таков: послание «Евтидема», расслышать которое можно, лишь принимая во внимание его лейтмотив и сквозное действие, гласит, что истинный философ должен быть эсотериком.
В «Хармиде» содержанием сквозного действия является своего рода «обращение» юного Хармида, т. е. его внезапная и безоговорочная решимость вверить себя Сократу как идеальному учителю. Мотивом, связанным с этим действием, является мотив «лекарства» и «заговора», который необходимо проводить перед применением лекарства3. Темой диалога является добродетель благоразумия.
Взаимосвязь же действия, лейтмотива и темы, коротко говоря, такова. В конце диалога Хармид решается избрать Сократа своим учителем, что несомненно является знаком уже имеющихся в его душе задатков благоразумия. Однако подлинное решение остаётся за Сократом — он специально указывает на то, что именно от него зависит, разгласить «заговор» или нет (Хармид 156а). Он мог бы даже прямо пустить «лекарство» в ход — однако этому препятствует предостережение его фракийского учителя: ни под каким предлогом не поддаваться
соблазну выдать лекарство без предварительного «заговора» (157Ьс). Таким образом, и Сократу, как учителю, тоже, в свою очередь, требуется добродетель благоразумия — и он доказывает, что обладает ею, когда, желая провести наставление так, как того требует его предмет, он скрывает своё более глубокое философское знание («лекарство», фаррако\>), покуда ученик не станет готов к его восприятию благодаря предварительным разговорам (e7TCf)6q). И вновь переплетение лейтмотива, действия и темы показывает, что истинный учитель в философии должен быть способен к эсотерическому сокрытию знания.
Как третий пример мы подробнее проанализируем сквозное действие «Государства»114. Содержание действия таково: несколько друзей хотят «принудить» Сократа сообщить о своих воззрениях на справедливость, наилучшее государственное устройство и, наконец, на благо и на диалектику как путь к идее блага. Мотив, артикулирующий содержание действия и претерпевающий всё новые вариации на протяжении всего диалога, возникает уже на первой странице произведения: Сократа хотят «схватить» и ни за что не «пускать»; он же думает, что ему удастся мирно уговорить друзей отпустить его (Государство 327а-с). Таким образом, уже начальная ситуация ясно показывает, что в мудрости Сократа нуждаются другие, а он сам счёл бы вполне возможным для себя и уклонение от разговора. Но поначалу он уступает, и друзьям удаётся побудить его к изложению важных предметов: он готов, начиная со второй книги, «прийти на помощь» справедливости (а тем самым и своему собственному логосу в защиту справедливости из первой книги). Он не только готов, но и блестящим образом подготовлен к этому — он привносит в дискуссию поистине «более ценные предметы», намного превосходящие понятийные рамки первой книги и ведущие собеседников ко всё более принципиальным вопросам. Однако по мере того, как рассуждение постепенно приближается к принципам (архдО/ склонность Сократа делиться с собеседниками убывает, пока, наконец, ему не удаётся мирно уговорить их «пустить» его — в ответ на просьбу изложить своё мнение о благе, а также о путях диалектики и о её содержании; его уверение, что в этой области Глав-кон уже не сможет следовать за ним (533а), принимается последним без возражений.
Таким образом, действие «Государства» началось с символической пробы сил: друзья в шутку угрожали втянуть Сократа в разговор даже против его воли (327с). Но из этой пробы сил диалектик в итоге выходит победителем. Остальным приходится признать, что решение вопроса о том, какую долю своих философских знаний он передаст другим, должно оставаться за ним. Сократ недвусмысленно даёт понять, что сообщает о своих взглядах, сообразуясь с тем, отвечает ли его собеседник определённым требованиям или нет, иначе говоря, что строго ориентированное на адресата (или «эсотериче-
ское») обращение с философским знанием является его методом. Тот, кто понял действие «Государства», понял также и то, что о благе как о высшем принципе Платон мог сказать больше, чем написал в этой книге. Даже без помощи сведений, имеющихся у Аристотеля, на основе одного только главного произведения Платона мы можем знать, что какая-то устная платоновская теория принципов существовала.
ПРЕРЫВАНИЕ ПЕРЕСКАЗЫВАЕМОГО ДИАЛОГА
Особого рода драматургическим средством, при случае применяемым Платоном, является прерывание пересказываемого диалога вставками из рамочного диалога. Так, «Евтидем» с формальной точки зрения — это рассказ Сократа Критону о том разговоре, который за день до этого состоялся между ним и двумя эристиками в Ликее. В ходе этого рассказа мы узнаём, что юный Клиний высказался об искусстве диалектики следующим образом: по его мысли, оно забирает себе «добычу» математики, подобно тому, как политика забирает себе добычу стратегики, к примеру, захваченный город (290cd)5. В этом высказывании подразумевается определённое отношение между математикой и диалектикой, которое можно понять только исходя из теории науки, развитой в «Государстве» (510с и след., 531с и след.), а в «Евтидеме», где отсутствует какое бы то ни было преду-
готовление к такому выводу, он напоминает эрратический валун.
Желая подчеркнуть значение того соображения, что математика находится в подчинённом положении по отношению к диалектике, Платон прерывает пересказываемый диалог, позволяя Критону спросить, правда ли юный Клиний изрёк нечто столь мудрое; и если это был он, тогде ему нет нужды продолжать образование у кого-либо из людей (290е). К нашему изумлению, Сократ отказывается поручиться за то, что это был Клиний; по его словам, это мог быть и Ктесипп; однако, когда Кри-тон равным образом отвергает и это его предположение, Сократ высказывает догадку, что эту мысль, возможно, внёс в разговор «некто более высокий», находившийся в тот момент среди присутствовавших (291а 4). Нам не нужно долго гадать, чьим голосом мог воспользоваться неизвестный бог. Бесспорно то, что диалектика затрагивает область «более высокого», область «божественной» философии. Таким образом, Платон не рассчитывает, что скупая отсылка к его теории науки будет распознана, но использует намного более доходчивый драматургический приём прерывания пересказываемого диалога, давая читателю понять, что за диалогом таится нераскрытое философское богатство, которое так же соотносится с тем, что обсуждается открыто, как область божественного с областью человеческого.
Прерывается пересказываемый диалог и в «Федоне», причём даже дважды (об этом мы упоминали выше на с. 135-136). Тем самым внимание читателя обращается на значение «помощи» собственному логосу, к оказанию которой должен быть способен философ. Помощь, которую на деле умеет оказывать себе Сократ, ясно демонстрирует, что философ при этом не может (как нередко полагают) оставаться на том же уровне, что и требующий защиты логос. Это обстоятельство акцентируют оба случая прерывания пересказываемого диалога, что в сочетании с темой восхождения от гипотесы к гипотесе проливает свет на то, почему трансцендирующее помо-гание призвано служить центральным структурным принципом платоновского диалога вообще.
СМЕНА СОБЕСЕДНИКА
В немалом числе диалогов первый собеседник Сократа в ходе разговора уступает место другому, чаще всего — но не всегда — своему единомышленнику. Смена лиц часто отмечает изменение уровня аргументации и, как правило, сопряжена с одним из случаев «помощи логосу».
В «Горгии» расспросам Сократа о предмете и назначении своего искусства (T£xvr|) подвергается сначала великий софист, именем которого назван диалог. Сократ обходится с ним вежливо; лишь на его ученика Пола он начинает наседать с более трудными и принципиальными вопросами; когда же становится ясно, что тот уже не справляется с дискуссией, в разговор вступает Калликл, представляющий политическую риторику.
Последовательность собеседников объясняется исходя из критики письма. Диалектик может передавать подходящему ученику умение помогать логосу, а тем самым и создателю логоса (Федр 276е-277а). Поэтому если Горгий и двое его приверженцев подвергаются расспросам, это значит, что Горгию устраивается проверка, в ходе которой должно выясниться, является ли он истинным учителем в философии. Оказывается, что ни наставник, ни ученики неспособны оказать своему логосу философски основательную помощь. Правда, в ходе проверки горгиевской позиции обнажаются её более глубокие основания; но только основания эти складываются не из «более ценных предметов» (TipicoxeQa). Наконец, когда доходит очередь до Калликла, в его позиции обнаруживает себя брутальное отрицание всякой этики с позиции так называемого «права сильнейшего». Таким образом, двукратная смена действующих лиц в «Горгии» образует восходящую линию, поскольку дискуссия ведёт ко всё более фундаментальным вопросам, а драматическое напряжение столкновения непрерывно возрастает. Эта восходящая линия захватывающим образом перекрещивается с противонаправленным движением, поскольку позиция противной стороны становится всё менее респектабельной в содержательном отношении, опускаясь всё ниже.
Аналогичную драматургическую технику с последовательностью Кефал — Полемарх — Фрасимах Платон применил и в первой книге «Государства», ведь и сами образы Фрасимаха и Калликла являются, по-видимому, двумя попытками драматического воплощения одного и того же содержания. В «Государстве», где противник также изображается отрицательно, дискуссия не останавливается на его опровержении. Когда Фрасимахово определение справедливости как «выгоды сильнейшего» оказывается отвергнуто, причём без какого бы то ни было рассмотрения действительной сущности (tl ccttlv) справедливости, то разговор мог бы этим и закончиться; и в той мере, в какой он касается Фрасимаха, он действительно окончен.
Но вот в начале второй книги на сцену выходят братья Главкон и Адимант. В своих пространных выступлениях (358Ь-362с, 362е-367е) они возобновляют начатое Фрасимахом нападение на справедливость. Тем не менее, разговор с ними, занимающий Н-Х книги «Государства», не имеет никакого сходства с разговором Фрасимаха. Различие обусловлено характером собеседников: в то время как Фрасимах, по-видимому, ведёт борьбу с традиционным понятием справедливости по внутреннему убеждению, Главкон и Адимант своими ар1ументами в пользу несправедливости стремятся лишь спровоцировать основательное опровержение. По-человечески они убеждены в превосходстве справедливости, но не располагают ар1ументами, необходимыми для её защиты — услышать их они хотят, скорее, от Сократа.
И вот Сократ, уже было подумавший, что завершил разговор (357а), ради братьев Главкона и Адиманта вступает в дискуссию совершенно иного рода: место апоре-тического разговора, сознательно оставлявшего открытым вопрос о сущности (tl ecrTiv) обсуждаемого предмета (347е, 354Ь) и однозначного лишь в своём отказе от ложного понимания справедливости, занимает теперь конструктивный разговор, обнаруживающий небывалое богатство положительных суждений и обоснований, а на обходном пути через учение о душе достигающий, наконец, и определения справедливости (443с-е). Но оба эти разговора — что является чрезвычайно важным — проводятся непосредственно один за другим в один и тот же день в одном и том же кругу. Ясный смысл этой драматургической конструкции таков: Платон даёт нам понять, что за апориями диалогов о добродетели, будто бы не способных сформулировать определения добродетелей мужества, благочестия, благоразумия и справедливости, в действительности кроется систематическое учение «Государства» о душе, государстве и добродетели; и вместе с тем он показывает, что изложение таких «более ценных предметов» (Tipкатера) может состояться только при условии, если собеседники стремятся выказать требуемые для такого наставления черты характера. Однако исключение неподходящих собеседников не имеет ничего общего с охранением тайны: Фрасимаху можно присутствовать при дальнейшем разговоре, он лишь более не является его адресатом. Разговор с ним застрял в апо-ретическом преддверии философии, тогда как Главкону и Адиманту Сократ готов раскрыть сущность (т1 ecmv) справедливости. Но строго ориентированный на адресата (или эсотерический) способ передачи философского знания соблюдается, как мы уже видели выше (ср. с. 196-197), и в общении с ними: к познанию сущности (xi ecmv) блага они не подготовлены, а потому и не допускаются к нему.
Ощутимо отличается от этих двух случаев использование драматургического приёма смены собеседника в «Пире». В то время как Пол и Калликл в «Горгии» и Главкон и Адимант в «Государстве» присутствуют при разговоре с самого начала, Алкивиад врывается в круг симпосиастов после того, как восхваление Эроса уже достигло своей кульминации в речи Сократа о Диотиме (Пир 212с). Правда, тот образ, который рисует пьяный Алкивиад, описывая характер Сократа, сам создаёт второй кульминационный пункт диалога; только тема при этом смещается от сущности Эроса к осуществлению философского Эроса в личности Сократа.
Рассказ Алкивиада всецело определяется его личными переживаниями. Выясняется, что Алкивиад был человеком, как будто обладавшим философским дарованием, по каковой причине он некоторое время привлекал к себе «эротическое» внимание Сократа. Однако его непостоянный характер лишил его возможности полностью довериться философскому руководству Сократа; наконец, он совершенно ускользнул из-под его влияния. Таким образом, Алкивиад приволит эпизоды своей философской автобиографии, в которых он предстаёт человеком, призванным к философии, но в итоге не сумевшим соответствовать этому призванию. Алкивиад — это молодой философ, не оправдавший возложенных на него ожиданий.
Этому статусу соответствует и его роль в рамках действия «Пира». Он — опоздавший, человек, который не присутствовал при разговоре с самого начала и не услышал самого прекрасного и высокого в нём — «инициации» в сущность Эроса Диотимой. Да и в действительной жизни этот человек в своё время превратно понял «эротику» Сократа, истолковав её как сексуальный интерес (Пир 217c-219d, особенно 218с).
Платон демонстрирует нам пример тонкой драматической иронии, избирая именно Алкивиада — некогда испытанного Сократом и признанного им слишком легковесным — для попытки охарактеризовать Сократа в его существе. Конечно, он говорит о Сократе много верного и важного — того, что ему удаётся воспроизвести благодаря остроте своей памяти о пережитом. Но там, где он пробует описать его логосы, обнаруживается вся его отдалённость от истинного Сократа. Ведь Алкивиаду представляется, что из-за своих аналогий с кузнецами, сапожниками и дубильщиками эти логосы поначалу кажутся смешными; однако же, полагает он, их нужно «раскрыть», чтобы понять, что одни только эти логосы разумны и содержат в себе божественные изваяния добродетели (Пир 221d-222a).
Очевидно, на какой тип сократовских логосов ориентируется Алкивиад: на разговоры по случаю, изображаемые в ранних диалогах и постоянно разрабатывающие аналогию с тёхнэ, пытаясь на основе «знания» «искусника» («технита») получить выводы о знании этически действующего индивида. К этому типу эленктиче-ски-апоретического разговора относится и краткий словесный обмен между Сократом и Агафоном, следующий за речью последнего (Пир 199с-201с). Ничего иного Ал-кивиад, кажется, не знает. Но в «Пире» эленктический разговор с Агафоном является лишь прелюдией к изложению совершенно иных разговоров, тех наставительных философских бесед, неоднократно происходивших между Сократом и «Диотимой», в ходе которых Сократ получал обучение положительным, незашифрованным знаниям об Эросе. Алкивиаду, опоздавшему, совершенно неизвестны разговоры подобного рода. Отсюда то специфическое значение, которое он придаёт аналогиям с сапожниками и дубильщиками, а также необходимости «раскрытия» подобных логосов. Слова Сократа, которых он сподобился наедине в «эротической» ситуации и которые несут в себе отчётливые отголоски мысли об иерархии прекрасного из речи о Диотиме (Пир 218d-219а), сам Алкивиад в решающий час, очевидно, не сумел «раскрыть», иначе он более не надеялся бы на телесную любовь (219Ьс) и не отпал бы позже от неповторимого учителя «добродетели» (аретт)).
Итак, если мы верно усматриваем в опоздании Ал-кивиада сознательное и исполненное смысла драматургическое решение Платона, то, признавая в «раскрывании» диалогов (т. е. в расшифровке скрытых намёков) верную и важную герменевтическую максиму, мы не должны упускать из виду, что Платон весьма явно изображает «раскрывание» герменевтикой тех, кто ничего не знает о более конструктивных философских логосах, ведущих далее ввысь на пути к принципам (арха0- Ал-кивиад — это не только наш платоновский источник по вопросу «раскрывания»; он также является тем примером, на котором Платон показывает, что раскрывание не может увенчаться успехом без прямого обучения главнейшим философским знаниям.
Глава двадцать первая ИРОНИЯ
Из всех выразительных средств Платона наиболее знаменитым, пожалуй, является ирония. Изысканная лёгкость, изящество и тонкость нюансов его иронического тона не знают себе равных во всей мировой литературе, отнюдь не бедной на иронию, и являются неисчерпаемым источником восхищения для образованного читателя.
Возможности применения иронии многочисленны: ею может определяться весь ход действия (как в «Евти-деме»); в свете иронии может целиком изображаться некий персонаж (как Евфтифрон или Гиппий) или же средствами драматического контекста может быть иронически снижено его появление (как мы это только что видели в сцене появления Алкивиада в «Пире»); иронически окрашена может быть просто единичная реакция какого-либо персонажа, в остальном не затронутого иронией (например, забывчивость Адиманта в отношении тех ограничений, которым подчиняется разговор, Государство 504а-с)\ 115
Но сколь бы многосторонним ни было применение иронии116, для Платона она всё же является изобразительным средством ограниченной значимости. Принципиально важно не смешивать платоновскую иронию со всепронизывающей романтической иронией, являющейся специфическим феноменом нового времени. Романтическая ирония направлена не на какого-либо определённого противника, а на всех и вся, ею пронизана исходная позиция самого ироника — она-то как раз в первую очередь; такая ирония по существу своему является самоиронией, и её важнейшая функция — не дать ничему, а значит именно ничему, избежать насмешки. Для романтика недопустимо существование чего-то абсолютного, что было бы избавлено от иронической релятивизации. У Платона же, напротив, ирония неизменно останавливается перед тем, что он называет «божественной» областью вечно сущего, и перед «божественной» «любовью к мудрости» (ф1Лоаофих), стремящейся ноэти-чески117 охватить область вечно сущего. Часто отмечалось, что установка, с которой Платон говорит об идеях, несёт на себе явный религиозный отпечаток118. Иронию Платон использует только как средство для того, чтобы подготовить подобную установку и у читателя — путём демонстрации ошибочности и смехотворности установок противной стороны.
Таким образом, наличие чувства иронии при чтении Платона несомненно важно. В то же время мы должны избегать заблуждения, будто ирония служит для Платона центральным — а не просто вспомогательным — средством обучения. Такое понимание иронии встречается у интерпретаторов, которые, с одной стороны, видели, что апоретические диалоги о добродетели не содержат таких апорий, решение которых могло бы ещё казаться спорным самому Платону, а с другой стороны, не желали признавать, что Платон задаёт «загадки», которые без обращения к другим источникам информации — будь то его устная философия или же учение о добродетели в «Государстве» — неразрешимы; отсюда делался вывод, что уже самой по себе иронической подачи изображаемого должно быть достаточно для уяснения собственного замысла Платона. Сколь бы привлекательной ни казалась эта мысль, опыт подобных интерпретаций неизменно показывает, что для ответа на открытые вопросы ранних произведений требуется нечто большее, нежели простое исправление иронически обрисованных ошибочных установок и суждений.
отрицать, что по отношению к идеям Платон испытывал чувство не меньшее, чем благоговение?» (Vlastos, 1973. S. 397).
Достаточно одного примера. В «Гиппии меньшем» «доказывается» положение, согласно которому поступающий несправедливо по своей воле «лучше» того, кто делает это не по своей воле. Собеседник Сократа Гип-пий, удостоенный изрядной доли едкой иронии, хотя и оспаривает это положение, однако же ничего не может противопоставить намеренно ошибочной ар1ументации Сократа. И здесь замена всего того, что в Гиппии показывается в ироническом свете, на нечто противоположное не принесёт никакой пользы, покуда мы не располагаем сократовским положением, гласящим: «никто не поступает неправильно по своей воле». Стоит только ознакомиться с этим положением, как все парадоксы «Гиппия меньшего» разрешаются без труда. Но ни в одном месте диалога его не удастся получить простым упразднением иронии. Чтобы чтение было результативным, читатель уже должен знать это положение, в противном случае он не сможет разобраться в этом диалоге. Нынешние «иронические» интерпретаторы благодаря нашей культурной традиции с самого начала оснащены необходимым знанием; только по этой причине они и могут воображать себе, будто извлекли это знание из данного диалога «безо всяких предпосылок»119.
Не замечать того, что ирония у Платона является средством, ограниченным по своему значению и функциям, совершенно недопустимо. Один только тот факт, что в важных произведениях, охватывающих средний период его творчества, она уже отходит далеко на задний план, в главном произведении, в «Государстве», появляется лишь на периферии, а в таких произведениях, как «Тимей» и «Законы» почти полностью отсутствует, должен был бы оградить исследователей от романтической переоценки значения иронии для Платона.
Глава двадцать вторая МИФ
«Мифологический» слог, к которому прибегает Платон, побуждает к сравнению с используемой им иронией сразу по нескольким аспектам. Во-первых, его мифы столь же знамениты, как и его ирония; во-вторых, для восприимчивого читателя они являются таким же источником неослабевающего литературного наслаждения; в-третьих, они столь же многообразны по своей форме и функциям; и, наконец, порой их точно так же переоценивали.
С одной стороны, Платон ставит миф в ясную оппозицию к логосу. С другой стороны, нельзя не заметить, что, невзирая на ясную семантическую оппозицию, он сознательно размывает границу между мифом и логосом в том или ином конкретном случае. Мы наблюдаем это уже при преподнесении мифа из постороннего источника120: в диалоге, названном его именем, Протагор предлагает слушателям выбрать между изложением своей позиции в форме мифа или же логоса (Протагор 320с); ему предоставляют решать самому, в ответ на что он начинает с «более изящной» формы — мифа. Проговорив довольно долго, он заявляет, что теперь намерен предложить уже не миф, но логос (324d 6) — однако к этому моменту внимательный читатель давно заметил, что миф уже значительно раньше (а именно, в 323а 5, или точнее, пожалуй, уже в 322d 5) без обозначения чёткой разграничительной линии перешёл в логос.
Не иначе решает Платон и подачу собственных мифов. История об изобретении письма Тевтом (Федр 274с-275Ь) обладает всеми признаками «мифа»: её действие происходит в незапамятные времена, действующими лицами её выступают боги, которые изображены говорящими; темой истории является изначальное божественное «изобретение», т. е. установление сущностных признаков вещи на все времена. Но едва только Сократ закончил свою историйку, как Федр упрекает его в измышлении этого египетского логоса; стало быть, для себя Федр отделил от этого рассказа его мифологическую оболочку и, уловив его прозрачное послание, распознал в мифе логос — этот подход Сократ неявно одобряет, подчёркивая, со своей стороны, что важно лишь то, схвачена ли при этом суть дела или нет (275Ьс).
В этом же диалоге содержится пространная речь Сократа об Эросе, ядро которой — история о выезде божественных и человеческих душ-колесниц в занебес-ную область (Федр 246а и след.) — представляет собой откровенно мифологический рассказ. А вот саму себя эта речь называет «доказательством» (d7i65ei£i<;) тезиса о том, что Эрос даётся богами для величайшего счастья любящего и возлюбленного — однако же умники, говорит Сократ, не сочтут его заслуживающим доверия, зато мудрые — сочтут (245с 1-2). Это указание на различие в оценке и восприятии объяснить нетрудно: с одной стороны, Платон принимает в расчёт тех читателей, которые видят в этом рассказе только миф, а потому отказывают ему в доверии, и в то же время он надеется на тех, кто понимает, что недоказанное в этом мифе не просто нуждается в доказательстве, но и способно предоставить его — ведь на это Платон даже специально указывает121 — и потому, уловив в мифе логос, принимает его послание. Кстати, «доказательство» этого тезиса начинается доказательством бессмертия души (245с 5-246а 2), протекающим отнюдь не в мифологически-повествовательной, а в строго понятийной форме.
О том, что мифологический образ трёхчастной колесницы души находит своё оправдание в ар1ументах четвёртой книги «Государства», мы уже упоминали (с. 159). Поэтому с точки зрения мифа в «Федре» «Государство» следовало бы назвать логосом; но мы уже видели (с. 181), что к своему главному произведению Платон отсылает как раз такими словами про философа, «рассказывающего истории о справедливости» (бишю-слЗлд]^ тсё(н pu0oAoyouvTa, Федр 276е 3). Конечно, и «Государство» как утопический проект, ещё ожидающий своего осуществления, имеет сильный мифологический уклон: многое предоставлено здесь творческой фантазии его создателя и не поддаётся проверке опытом. Но, пожалуй, «мифологический» характер главного произведения Платона может быть объяснён в первую очередь тем, что его важные положения, будучи обосновываемыми в принципе, фактически не получают обоснования122.
В этом смысле назван «правдоподобным мифом» и весь натурфилософский проект «Тимея» (29d, 68d, 69b), так как онтологический статус его предмета исключает возможность исчерпывающего обоснования или, соответственно, исчерпывающую достоверность обоснования.
Как нельзя более яркий контраст натурфилософии «Тимея», оперирующей отчасти новыми и чрезвычайно сложными понятиями, являют собой мифы о потустороннем мире, изображающие посмертную судьбу справедливых и несправедливых людей в духе традиционных религиозных повествований. Даже здесь Платон играет с противопоставлением мифа и логоса, предваряя, скажем, миф в «Горгии» словами Сократа о том, что хотя Калликл и сочтёт его последующий рассказ мифом, но для самого Сократа он является логосом, ибо он истинен (Горгий 523а). Разумеется, мы не должны понимать это в том смысле, будто Платон полагает истиной повествование, согласно которому при Кроносе и в начале правления Зевса суд о жизни человека выносился ещё до его смерти, в его последний земной день, причём судьями, которые и сами ещё пребывали в земной жизни (523Ь-524а). Однако незыблемой является для Платона истина веры в бессмертие и того убеждения, что наша будущая судьба в потустороннем мире зависит от этичности нашего поведения в этой жизни. Поскольку же Калликл ничего не знает о внутренней структуре души (ср. выше, с. 161 и след.), а значит, не знаком и с философским понятием справедливости, выводимым из этой структуры (на которое Сократ намекает в 526с 3-4), то и логос в мифе он распознать не может, по каковой причине и отвергает его как «чистый миф». Различие в оценке повествования о потустороннем мире, который Сократ считает логосом, а Калликл — мифом, всецело соответствует ожидаемой двойственности в оценке речи об Эросе в «Федре», о которой только что шла речь (ср. с. 214)123.
На этом фоне стоит рассмотреть интенсивно обсуждавшийся вопрос о том, занимает ли миф у Платона подчинённое положение по отношению к логосу, или же он сообщает более высокую истину, недоступную логосу.
Это последнее предположение о большей истинности мифов берёт своё начало в самоощущении современных иррационалистических течений и не может найти опору в размышлениях Платона. С другой стороны, неприемлема и мысль о подчиненности мифа логосу, если такая подчинённость должна означать, что миф представляет собой некоторое более или менее необязательное украшение, чисто иллюстративное переложение познаний, полученных иным образом. Если бы понимание Платоном роли мифа было таково, то едва ли он стал бы предоставлять ему столь обширное место в своих произведениях. Разумеется, диалектическое осмысление действительности, осуществляющееся в аргументирующем логосе, является конечной целью философа. Но в то же время он не может отказаться от использования пси-хагогической силы мифа; кроме того, способность образов и историй к целостному и интуитивному представлению того или иного положения вещей является незаменимым дополнением понятийного анализа. С этой точки зрения миф оказывается вторым, наряду с логосом, подходом к действительности, который хотя и не может быть независим от логоса в содержательном отношении, однако в сравнении с ним обнаруживает некий плюс, не заменимый ничем другим124.
Глава двадцать третья
МОНОЛОГ И ДИАЛОГ С ВООБРАЖАЕМЫМИ СОБЕСЕДНИКАМИ
В диалогах мифы преподносятся в форме непрерывной речи, образуя нагляднейшее доказательство того, что ведущий собеседник может оставлять диалог, прибегая к «длинной речи» (цакрод Хоуод). Два наиболее длинных и философски значимых мифологических монолога такого рода — выступление Тимея и пространная речь об Эросе в «Федре» — по преимуществу трактуют о предметах, которые в общепринятом понимании вряд ли можно отнести к разряду мифологических — стало быть, под именем мифа ведущий собеседник совершил отказ от диалогической коммуникации и перешёл к монологическому обучению.
Другим способом оставить диалог является переход к диалогу в диалоге. Здесь я имею в виду не литературную технику использования рамочного диалога в той её форме, в какой она применяется, помимо прочего, в «Федоне» и «Евтидеме», а временное прекращение ведущим собеседником продолжавшегося до сих пор разговора и вовлечение в диалог воображаемого лица, в качестве ли мысленной возможности, или же при пересказе некогда будто бы состоявшегося разговора. Правда, с формальной точки зрения это выглядит так, словно к разговору всего лишь привлекается ещё один собеседник, как это неоднократно происходит в платоновских диалогах. Но поскольку от лиц, присутствующих при разговоре, новое «лицо» ощутимо отличается тем, что не обладает собственной индивидуальностью, а является лишь олицетворением определённой позиции или склада мышления, то в нём легко распознаётся конструкция, созданная ведущим собеседником, который, таким образом, использует этот приём, сохраняя форму диалога, но в действительности приостанавливая фактический диалог, продолжавшийся до настоящего момента, с целью придать ему желаемое направление.
Эта литературная техника Платона ещё нигде не была описана, хотя к ней Платон обращается отнюдь не редко и её значение для понимания диалога как литературной формы не так уж мало. Самым знаменитым из воображаемых собеседников-субститутов является Дио-тима. Конечно, в Мантинее некогда могла существовать прорицательница с таким именем (некоторые археологи даже называют фигуру на одной мраморной стеле V века до Р. X. изображением Диотимы); однако разговоры Сократа с Диотимой со всей очевидностью задуманы в качестве продолжения разговора, который Сократ вёл со своим реальным собеседником Агафоном (ср. Пир 201е). И вот, когда роль, принадлежавшую Агафону, Сократ берёт на себя, разговор получает возможность подняться до высот, которые с таким собеседником, как Агафон, показались бы невероятными. И хотя свой вклад в прославление Эроса Сократ совершает в форме диалога (правда, лишь до 208Ь — начиная отсюда «Диотима» говорит монологически), но по сути он делает это в одиночку, как до него поступали и другие участники собрания.
Освещение важных аспектов обсуждаемого вопроса и получение важных выводов по нему достигается путём обращения к безымянным третьим и в десятой книге «Законов», где «афинянин» предвосхищает ответы и реакции будущих атеистов с тем, чтобы уже сейчас обеспечить философскую защиту закону против безбожия (Законы 893а и след.), или в «Протагоре», где безымянные представители толпы получают от Сократа просвещение относительно истинного смысла своего гедонизма (Протагор 353а и след.). Но наиболее явственно своё назначение в качестве маски диалектика обнаруживает тот безымянный третий в «Гиппии большем», который даже живёт в доме Сократа и по его возвращении «домой» (Гиппий больший 304d 4) указывает ему путь к более подобающему — по сравнению с тем, что может предложить Гиппий — рассмотрению проблем. Наконец, в «Федоне» Сократ сообщает нам в пространной «цитате» (66Ь 3-67Ь 2), что сказали бы друг дру1у (7iqo<; dAArjAoog) «те, кто воистину философствует», о поиске истины и об отношении тела и души.
Литературная техника с использованием воображаемого диалога в диалоге, имеет, как кажется, двойственный философский смысл. Преподнесение в диалогической форме даже тех познаний, которые диалектик привносит в разговор из своей собственной сокровищницы, не привлекая реального собеседника, должно означать, что мышление как разговор души с самой собой является диалогичным в некотором фундаментальном смысле: мышление, желающее претендовать на интерсубъективную значимость, должно принципиальным образом удовлетворять требованию, обязывающему его открыться критике со стороны противника и выдержать её; поэтому даже выводы, полученные «дома» в уединённом размышлении, Платон изображает выводами, принятыми в результате совместной проверки. С другой стороны, глядя на применение этой техники, мы можем также убедиться, что платоновский диалектик (пусть даже его мышление и удовлетворяет априорному требованию интерсубъективной (диалогической) проверяемости) фактически ни в один момент времени не оказывается в зависимости от какого-либо определённого собеседника или ситуации. Напротив, те важнейшие познания, которые он привносит в разговор, даются им в готовом виде; на своё благоусмотрение он может изложить их и без обращения к реальному собеседнику, выдавая их за результат прежних гомологий, достигнутых с воображаемым собеседником. Но он может и умолчать о них, если сочтёт нужным (ср. Федр 276а 6-7).
Глава двадцать четвертая
ИСТИННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ДИАЛОГА
Собрав достаточно наблюдений, мы можем теперь вернуться к нашему перечню важнейших особенностей платоновского диалога, чтобы поставить вопрос об их исконном смысле. Ключевые аспекты интерпретации диалога как литературной формы определены критикой письменности в «Федре». Лишь эта платоновская путеводная нить может дать нам гарантию того, что мы не предпочтем предрассудки и привычки мышления нового времени намерениям самого Платона.
Теперь рассмотрим перечисленные выше (см. гл. 6) особенности платоновского диалога в обратном порядке.
(7) Исходить нужно из того фундаментального соображения, что ни одно письменное сочинение, а значит, и ни один платоновский диалог, не в состоянии оказать самому себе необходимую помощь в случае нападения. Диалектика или «друга мудрости» (фьЛбаофод), напротив, отличает именно умение устно помогать своему сочинению; в ходе такой помощи он извлечёт на свет «более ценные предметы» (тир катера), показав тем самым (сравнительную) неполноценность своих сочинений. Если же диалоги Платона являются сочинениями
«друга мудрости» (ф1Лосгофо<;) — а это предположение непросто будет подвергнуть сомнению — то за ними должен таиться резерв философских «более ценных предметов» (TipicoTeQa), в принципе поддающихся и письменному сообщению, но сознательно оставляемых автором за пределами своих сочинений. Таким образом, наличие за диалогами устной философии — это прежде всего следствие, строго вытекающее из приложения критики письма к собственным сочинениям Платона. С другой же стороны, её существование получает впечатляющее прямое подтверждение эпизодами умолчания. Будучи истолкованными в свете критики письма, эпизоды умолчания передают весьма ясное послание; этими эпизодами Платон говорит буквально следующее: «данное сочинение написал ф1Лоаофо<;, который устно может точнее обосновать изложенное здесь — с привлечением познаний и теорем, в сравнении с которыми изложенное на письме предстало бы менее значительным».
(6) Основной ситуацией, изображаемой в диалогах, является ситуация «помощи» ((3o7]6eia). Она служит тем методом, с помощью которого устанавливается, является ли некто философом, или нет. Когда бы ни высказывался тот или иной тезис, он подвергается нападению: его автор должен продемонстрировать, что может защитить его, прибегнув к более глубоким обоснованиям. К такому качественному повышению уровня аргументации, столь характерному для структуры диалогов, неизменно способен только один персонаж: всегда одинаковый по своему типу платоновский диалектик. Прохождение проверки на звание философа — это не просто вопрос ума (иначе Протагор и Горгий должны были бы уметь помогать своему логосу), оно имеет своим условием знание идей и основательное знакомство с платоновской диалектикой.
(5) Теперь также становится понятным, почему диалектик неизменно оказывается непобедимым и почему даже мелкие поражения или случайные промахи не уравнивают его с менее значительными по своему масштабу собеседниками. Имея в своём резерве «более ценные предметы», он подвергает проверке остальных, он — «знающий» (elbcog, Федр 276а, 278с), достигший познания идей; в сравнении с ним остальные принципиально являются «учащимися» (pavQdvovTeg, ср. Федр 276а 5), поскольку им недостаёт философии идей. Диалоги постоянно изображают один и тот же процесс: поиск диалектиком «подходящей души» (ср. Федр 276е 6).
Непобедимость диалектика, смущавшая многих читателей диалогов, устанавливается, кстати, не только из фактического хода разговоров, но и декларируется прямо: по словам Алкивиада, в разговоре Сократ побеждает всех, и причём всегда (Пир 213е 3-4); и для познания блага, говорит Сократ в «Государстве», диалектик должен без ущерба выдержать все попытки опровержения (534с 13). Таким образом, и здесь мы видим, что теоретический образ философа у Платона полностью согласуется с литературным портретом диалектика в диалогах.
(4) Следствием принципиального превосходства диалектика является и то, что он всякий раз изображается в разговоре только с одним собеседником125. Благодаря своему авторитету ведущий собеседник может позволить себе удерживать концентрацию на одной теме в общении с кем-либо одним из участников разговора. Одновременное и паритетное внимание к нескольким позициям только отвлёкло бы от фундаментального различия между тем, кто уже пережил «переворот души» яерихусоут], Государство 521с 6, ср. 518с 8-d 4) в философии идей, и тем, кому он только предстоит. Философская удалённость от диалектика должна шаг за шагом заново выявляться в разговоре с каждым собеседником, но не для того, чтобы унизить, а чтобы подготовить его к возможному превосхождению. Позиции, расходящиеся с философией идей, не могут сделаться плодотворными даже в ходе взаимного обсуждения; поэтому в разговоре и нет таких фаз, когда диалектик отступал бы и временно передоверял дискуссию другим (попытка Гиппия в отрывке Протагор 347ab ввести в дискуссию собственный логос, наряду с логосами Протагора и Сократа, ясно показывает, что Платон не просто случайно, а сознательно избегал этой возможности: Гиппий встречает отказ).
Если же диалектик вступает в дискуссию, начатую другими, как поступает Сократ в «Кратиле», то именно он (а не прежние оппоненты) сопоставляет друг с другом воззрения обеих сторон, чтобы в итоге дать им оценку на основе своей собственной позиции. Ведь нельзя же ложное оценивать на основе ложного, напротив, мерой для оценки всякого разномыслия является «истинная философия». Поскольку же все люди сохраняют смутную память о том, что их душа некогда созерцала в бестелесном состоянии и более ясной памятью о чём обладает только представитель философии идей, то всеми ими движет стремление, пусть даже неосознанное, к знанию диалектика. Поэтому, в конечном счёте, именно собеседник нуждается в разговоре с диалектиком, а не наоборот. Действие диалогов демонстрирует это вновь и вновь, хотя и с разной степенью ясности; можно напомнить, к примеру, о «Лахете» и «Хармиде» с их поиском подходящего учителя, или о «Пире», где Сократ из ухаживающего любовника превращается в обхаживаемого возлюбленного, но, прежде всего, о действии главного произведения, которое вращается исключительно вокруг того, что остальные не хотят «пускать» диалектика126, поскольку без его познаний они не надеются продвинуться в вопросах, волнующих их самих. Диалектик, со своей стороны, никогда не находится в зависимости от какого-либо определённого собеседника, что он сам ясно демонстрирует: он может приостановить разговор и с помощью воображаемого «собеседника» направить его туда, куда считает нужным.
(3) Таким образом, диалог имеет независимого ведущего собеседника. Правда, виртуозное изобразительное мастерство Платона зачастую может порождать впечатление, будто Сократ с безупречной вежливостью подчиняется тем представлениям о разговоре, которые имеет его собеседник. Ясно, однако, что это лишь видимость, сохраняемая из соображений учтивости; более тщательное наблюдение неизменно показывает, что диалектик держит нити разговора в своих руках. В «Протагоре» он навязывает знаменитому софисту свой метод коротких вопросов и ответов (в диспуте о методе: 334с-338е), в «Государстве» он сам определяет, до каких пор друзьям позволено теснить и «принуждать» его. Наконец, вопрос «властвования» в разговоре получает и открытое выражение: когда Сократ упрекает Менона в том, что он «властвует», то явная ирония, содержащаяся в этом упрёке, служит ясным указанием, что эта привилегия может принадлежать лишь ему самому127.
Разговор между равными у Платона отсутствует. В тот единственный раз, когда он в «Тимее» сводит вместе мужей равного духовного масштаба128, он избегает диалога: Тимей произносит перед Сократом, Критием и Гермогеном многочасовой монолог. Изображение разговора нескольких состоявшихся диалектиков автору с литературным талантом Платона должно было бы представляться самой благодарной задачей из всех возможных. Отсутствие такого рода разговора — неразрешимая загадка для всех тех интерпретаторов, кто полагает, будто Платон намеревался доверить свою мысль письму во всей полноте и для этой цели выработал самодостаточную форму письменного сочинения, каковой является диалог. Однако загадка разрешается без труда, если за мерило в этом вопросе принять критику письма: разговор между духовно равными друг другу диалектиками должен был бы тотчас взойти к тем областям теории принципов, обращение к которым философ намеренно закрепляет за устной помощью. Случись, скажем, Ти-мею под натиском критических вопросов Сократа помогать своему «мифу», ему пришлось бы открыть и те «ещё более высокие принципы», сведения о которых он старательно удерживает вне обсуждения (Тимей 53d), или даже раскрыть сущность демиурга, о которой, однако же, «всем», т. е. письменно, согласно отрывку (Тимей 28с), сообщить невозможно. Недаром «Тимей» — единственный диалог, в котором нет ведущего собеседника: этим слушателям не нужен никакой «ведущий». Но он же является и единственным диалогом, в котором отсутствует дискуссия: диалектическое собеседование участников этого разговора уже не предназначалось бы «для всех».
(2) Если же мы сравним выбивающийся из общего ряда диалог «Тимей» с остальными произведениями, нам сразу бросится в глаза, что в нём также отсутствует привычная живая обрисовка места и времени встречи и индивидуальных характеров участников. Это не может быть случайным: как известно, в «Федоне» Сократ говорит, что нужно отвлечься от его личности и сосредоточить внимание на одной только истине (91с). Правда, способность к этому приобретается лишь длительным упражнением; продолжение разговора в «Федоне» достаточно ясно демонстрирует, что присутствующие при нём слушатели оказались бы к этому неспособны. Слушатели, перед которыми выступает Тимей, по-видимому, находятся на другом уровне: их индивидуальные черты изображаются Платоном весьма скупо, а то, что он сообщает об их индивидуальности, не оказывает никакого влияния на ход рассуждения.
Отвлечение от индивидуального является, таким образом, задачей «учащегося». Задача диалектика формулируется иначе: в процессе поиска подходящих собеседников он просто не может в то же время отвлекаться от их индивидуальных обстоятельств и особенностей, которые каждому на свой лад затрудняют приобщение к философствованию. Ведь цель философски фундированной «риторики» состоит в том, чтобы уметь предложить каждой душе подходящие ей «речи» (Федр 277Ьс). Это умение диалектика и иллюстрируют диалоги.
Изображаемые в диалогах персонажи — это сплошь «пёстрые» души (ср. Федр 277с 2), т. е. души неуравновешенные, ещё недостаточно философски очищенные. И если диалектик подыскивает для каждой из них надлежащие логосы, то это значит, что он действует вне области, являющейся его целью — области чисто понятийного познания (ср. Государство 511Ьс), ведущего ввысь к принципу, а от него — обратно, к множественности идей.
Таким образом, явственное подчёркивание уникального и индивидуального в диалогах напоминает нам не только о том, что посвятить себя «истинной философии» каждый из нас должен лично, т. е. как человек с индивидуальным характером, имеющим те или иные недостатки и ограничения, но и о том, что чисто индивидуальное есть нечто, что философия поможет преодолеть ради деперсонифицированного, ориентированного исключительно на «действительность» (ovxa) поиска истины, и, наконец, также о том, что Платон в своих сочинениях хотел изобразить те фазы, которые предшествуют этому строгому диалектическому поиску истины, тогда как сам поиск с необходимостью остаётся закреплён за устным философствованием.
(1) В соответствии со всем вышесказанным, создание Платоном произведений в жанре разговора не может означать ни того, что единственным способом приобретения философских познаний является общение с другими — в общении с воображаемыми персонажами, т. е. с самим собой, диалектик часто может достичь большего, нежели в общении с реальным визави129, — ни того, что диалог является единственной легитимной формой передачи философских достижений и познаний — Тимей, как мы видели, может прибегать и к непрерывной последовательности ар1ументов. Также не играет решающей роли и бытие-в-диалоге как форма жизни, потому что длительное пребывание вместе и даже более того, «совместное жительство», о которых говорит «Седьмое письмо» (cruvouaia, cruCrjv, 341с 6, 7)130, как раз таки не может быть отображено в диалоге. Платон считал главным изображение достигнутого в диалоге соглашения (гомологии), в то время как современные концепции делают упор исключительно на самом процессе ведения диалога. Присутствие возвышающейся над всеми фи1у-ры диалектика, знающего «истину» о своём предмете, придаёт совместно выработанной гомологии требуемую весомость. Даже в отсутствие предельного обоснования то, в чём достигают согласия собеседники под руководством «Сократа», «гостя из Элеи» или «афинянина» — это не праздная болтовня людей, которые, не чувствуя ответственности по отношению к истине, сегодня определяют для себя одно, а завтра — другое. Целью Платона является выстраивание гомологии, способной отвечать за себя. Результат, к которому приходит диалектик вместе со своими собеседниками — это результат, которым должно увенчаться согласие разумных людей. Платон настолько далёк от того, чтобы прятаться за взглядами и высказываниями своих персонажей, оставаясь «анонимом», что, напротив, неустанно выступает с изображением правильной гомологии, на которую должен ориентироваться читатель. Выделение правильного как именно правильного средствами ведения действия и управления симпатиями читателя может (как, скажем, в «Горгии» или «Федоне») достигать такой однозначности, полнее которой нельзя и желать. А потому, если и небезосновательно говорить о «непрямом сообщении» в формальном смысле, но утверждать, что оно присутствует здесь и по существу, означало бы крайне искажать действительное положение дел. Платон не ставит возможности драматического жанра на службу наибольшей амбивалентности131, а, как правило, ведёт читателя зачастую двусмысленными шагами к ясному заключению132 и к столь же ясному уверению, что дальнейшее обоснование и обращение к «ещё более высоким принципам» пока только предстоит, но при этом является необходимым и возможным.
Глава двадцать пятая
В ЧЁМ СОСТОЯЛИ НЕДОРАЗУМЕНИЯ ПО ПОВОДУ ДИАЛОГА И ПОЧЕМУ ОНИ ВОЗНИКАЛИ
Оглядываясь теперь на современную теорию платоновского диалога (см. выше, с. 81-89, особенно с. 82-83), отводящую письменному диалогу ту задачу, которую Платон закрепляет за устным философствованием, мы можем сказать, что эта теория является не только неплатоновской — в том смысле, что она не может опереться ни на один текст Платона (см. выше, с. 84), но и антипла-тоновской — в том смысле, что она противоречит духу и букве критики письма и намеренно притворяется, будто не слышит постоянных и вполне внятных указаний Платона на его устное учение о принципах.
Современная теория диалога занимается реабилитацией письменного сочинения вопреки его критике, исходящей от самого Платона, и, в конечном счёте, уравниванием письменного и устного в том решающем аспекте, каким является сообщение философом «более ценных предметов» (TiptcoxeQa).
Между тем, реабилитация письменного диалога достигается только благодаря использованию ряда метафор. Мысль о том, что диалог сам «ищет» себе читателя, имеет иной смысл, нежели слова Платона о диалектике, берущем себе для философствования «подходящую душу» (Лсфагу x|wxt)v nQoerqKOuaav, Федр 276е 6): ибо последнее означает активный выбор, тогда как применительно к диалогу-книге «поиск» всего лишь подразумевает, что иной читатель, скучая, отложит ее в сторону, а иной — нет. Но это ещё не создаёт диалогу особого положения (поскольку равным образом относится и к биржевым сводкам). Или, в случае, когда неподходящий реципиент всё-таки читает диалог, а последний будто бы «молчит», поскольку «скрывает» от него свой более глубокий смысловой слой, мы вновь имеем дело с обыкновенной метафорой, описывающей тот простой факт, что не всякий читатель схватывает все аспекты смысла диалога; аналогично этому и «ответы» диалога, и та «помощь», которую он якобы может оказать себе — это лишь метафора, означающая, что его понимание читателем может с течением времени углубляться. Но и в этом другие формы использования письма ничем не отличаются от диалога.
Под выбором собеседника, под возможной приостановкой разговора, под молчанием и «помощью» Платон разумеет не действия, в ходе рецепции пассивно претерпеваемые логосом философа, но способы поведения, используя которые, диалектик активно определяет ход разговора. Поэтому возможность их метафорического перетолкования применительно к письменному диалогу отпадает. Попытаться реабилитировать определённый способ использования письма (например, собственные диалоги) при наличии критики письма, имеющей глубоко принципиальный характер, вряд ли показалось бы Платону здравой мыслью. Письменному сочинению, которое он рассматривает в самом общем смысле, Платон противопоставляет устное философствование, а не диалог-книгу, якобы занимающую особое положение. Подобного рода особого положения для Платона не существует: ни одна книга не сможет преподнести читателю новые ответы на его новые вопросы, поскольку её текст окончательно установлен и «всегда передаёт лишь одно и то же» (Федр 275d 9).
Мысль об особом положении диалога не только лишена какой бы то ни было поддержки в размышлениях Платона о философском использовании письма — она является чрезвычайно спорной и с точки зрения самой сути дела. Один лишь диалог — полагает современная теория диалога — должен быть изъят из-под действия вердикта критики письма. Но стоит лишь признать метафорическое понимание допустимым, и быстро окажется, что многие другие формы письменного изложения тоже «сами выбирают себе читателей», поскольку «молчат» в присутствии неподходящих, да и в ответ на вопросы не говорят «всегда одно и то же». Кто захочет отказать в этих (метафорических) способностях лирике Гёльдерлина, романам Достоевского или Умберто Эко, пасторальному роману Лонга, драмам Еврипида или даже глубокомысленному историческому труду Геродота?133 Здесь нужно упомянуть и Феогнида с Пиндаром, которые ясно говорят о том, что истинное послание их стихов предназначено лишь тем, кто подготовлен к его восприятию134 135. Будь метафорическое перетолкование слов Платона легитимным, все авторы, создающие подобные «активные» письменные произведения, должны были бы вдруг превратиться в философов, а критика письма потеряла бы весь свой критический смысл, поскольку исключений оказалось бы больше, чем правил.
Платон, без сомнения, тоже надеялся на «правильного» читателя — но это лишь ставит его в один ряд с другими поэтами и писателями, которые, по его мнению, не заслуживали имени фцЛосгофод. Несомненно и то, что Платон тоже прибегал к «непрямому сообщению» и сообщал какую-то либо информацию только посредством намёков — но и поступая так, он всё ещё оставался в кругу авторов-нефилософов. Однако критика письма недвусмысленно говорит, что ф[А6аофод отличается от других авторов именно своим отношением к письменному сочинению. Будучи философом, Платон оставляет привычную практику, сознательно доверяя письменному сочинению не всё (даже в зашифрованной форме), а закрепляя «более ценные предметы», относящиеся к его теории принципов, за сферой устного — в качестве помощи собственным произведениям. Техники же «непрямого сообщения» остаются для него исключительно вспомогательным средством философской коммуникации, принципиально непригодным к тому, чтобы заменить собой устную эсотерику, поскольку это средство не позволяет достичь той «ясности и достоверности» познания, которой философ достигает в диалектическом разговоре.
Возвращаясь к выразительной метафорике Людвига Витгенштейна из его «Заметок на различные темы» (ср. выше, с. 82), можно сказать, что Платон не пренебрёг установкой на «двери» своих «комнат» «замков», которые должны обратить на себя внимание лишь некоторых читателей, только и способных открыть их. Однако он не остановился на этом виде защиты, бывшем и остающемся в ходу у авторов от Феогнида до Витгенштейна и далее: помимо «замков» он установил и хорошо видимые всем указатели, которые безо всякого секретничанья и «скрытого смысла» говорят, что кроме «комнат» диалогов существуют и другие помещения, в которые попадёт только тот, кто готов принять на себя труды «более длинного пути» устной диалектики.
Наконец, остаётся спросить, как могли возникнуть описанные выше недоразумения, сейчас, правда, постепенно отступающие перед новым образом Платона.
Этому способствовала понятная и широко распространённая, но, в конечном счёте, наивная склонность приспосабливать великих людей прошлого под воззрения своего времени. Поскольку же для нового времени, начиная с эпохи Просвещения, несомненным фактом является победа неограниченной публичности при передаче знания, а эсотерика, соответственно, перестаёт казаться приемлемой альтернативой, то исследователи захотели обнаружить эту новую установку и у Платона. С учётом данного обстоятельства становится понятной общая неспособность платоноведения XIX и XX веков всерьёз отнестись к критике письма и применить её к самим диалогам.
В частности, недоразумениям способствовали живучие предрассудки относительно противоположной позиции: казалось, что серьёзное отношение к теории принципов Платона приведёт к «обесцениванию» диалогов, «догматичному» Платону или «тайному учению». Между тем, «обесценивание», как мы видели, исходит от самого Платона, а мы, не имея возможности овладеть устной философией в её оригинальной форме, повторить за ним при всём желании не сможем. Почему при устном рассмотрении принципов Платон должен был бы оказываться более догматичным, чем, скажем, в учении о душе, известном нам из диалогов, вразумительно объяснить невозможно. Бояться тайного учения также нет необходимости: свои мысли относительно принципов Платон считал не тайными (а7годдг|та), а «не предназначенными к преждевременному сообщению» (d7iQOQQr)Ta, ср. выше, с. 148). Поскольку же привычные предрассудки затрудняют понимание этого платоновского различения, попробуем разъяснить его несколько подробнее.
Глава двадцать шестая
РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ ЭСОТЕРИКОЙ И ОХРАНЕНИЕМ ТАЙНЫ
Невозможно полностью понять философско-литературное творчество Платона, не поняв прежде различия между эсотерикой и охранением тайны. Это различие станет ясным при сравнении дошедшего до нас под именем Платона «Седьмого письма» и пифагорейского предания, рассказывающего о профанации определенных учений союза.
По свидетельствам Аристотеля и Аристоксена, охранение тайны было характерной чертой ранних пифагорейцев1. Позже появились рассказы о том, будто один из членов союза по имени Гиппас (или Гиппарх) первым нарушил молчание и сделал общедоступным математическое открытие Пифагора. Реакцией союза стало исключение Гиппаса и сооружение ему гробницы: отныне для остальных пифагорейцев он был «мёртв». В наказание за свой проступок он волею некоего божества утонул в море136 137.
Независимо от того, имеет ли эта история какое-либо истинное зерно или нет, она во всяком случае показывает, что подразумевает охранение тайны. Ведь предание полагает, что кара божества была справедлива: это может лишь означать, что пифагорейцы клятвенно обязывались не подвергать профанации общее знание (не приноси они религиозного обета, богам не было бы нужды проявлять свою активность). Должно быть, в то время, пока политическая власть союза оставалась несокрушимой, бойкотирование отступника путём объявления его мёртвым являлось действенной санкцией. Мотивом для бойкота едва ли была забота об адекватном восприятии содержания знания, предназначенного к сокрытию: ведь речь шла о математической теореме, а, стало быть, о знании такого содержания, которое скорее других может распространяться без оглядки на внутреннюю предрасположенность реципиента к его восприятию. Очевидно, речь шла в первую очередь о привилегии на знание. Поэтому неудивительно, что Гиппасу впоследствии также приписывались симпатии к демократии138: тот, кто профанирует привилегированное знание, очевидно, и в остальном признаётся разлагающим власть союза.
Сравним с этим установку, обнаруживающуюся в «Седьмом письме». (Является ли это письмо подлинным или нет, в данном случае столь же несущественно, как и возможное историческое ядро рассказа о Гиппасе: речь здесь идёт исключительно о различии между двумя основными установками, которые незаслуженно часто путают между собой.)
Дионисия не упрекают в нарушении клятвы. Платон не призывает на него кару богов, более того, он даже не думает о том, чтобы запретить память о нём в кругу своих друзей из числа философов и политиков в Академии и Сиракузах, напротив, он говорит о Дионисии и нечто положительное, а также отказывается поддержать войну против него (338d 6, 340а, 350cd). Но одного упрёка, причём весьма тяжкого, Дионисию избежать не удаётся: упрёка в том, что он осуществил распространение в книжной форме тех сведений о конечных целях философствования Платона, которые в своё время услышал от него в ходе личного наставления; его мотивом могло быть только «отвратительное тщеславие» (344е 2); в противоположность самому Платону (344d 7) Дионисий не испытывал никакого «благоговения» перед обсуждаемыми предметами и не остановился перед распространением сведений о таких вещах, понимание которых приходит только после длительной философской подготовки и изъяснение которых в наибольшей степени подвержено опасности ошибочного понимания и искажения со стороны чуждых философии или даже злонамеренных реципиентов. Таким образом, Платона не заботит власть и влияние Академии; а вот превратная оценка его философского замысла и возможность пренебрежительного отношения к тем вещам, в объективной ценности которых он глубоко убеждён, для него мучительна.
Реакцией Платона на опубликование обрывков его устной философии является не моральное возмущение, а неописуемое человеческое разочарование.
Теперь противоположность двух этих основных установок становится ясно различимой: охранение тайны держится на принуждении. Разглашающий тайну нарушает свою клятву и подвергается санкциям со стороны своей прежней группы. Охранение тайны направлено на удержание привилегированного знания во владении группы для упрочения её власти: таким образом, хранимое в тайне знание является средством для достижения внеположной ему цели.
Эсотерика — это веление разума, а не следствие группового принуждения. Презревший эсотерическую скрытность не подвергается никаким санкциям; своими действиями он вредит не общине, но существу дела, в котором участвует: опирающаяся на значительное число предпосылок философия принципов не сможет произвести своего положительного воздействия, если по причине нехватки надлежащей подготовки она окажется воспринятой неправильным образом. Философское знание является самоцелью, а не средством достижения какой-либо иной цели, а потому должно передаваться с подобающей осмотрительностью и как того требует суть дела, а не распространяться механическим образом. Говоря коротко: эсотерика ориентирована на существо дела, охранение тайны — на власть.
Тем не менее, при взгляде через оптику XX века это различие может показаться маловажным: можно упорно считать главным то обстоятельство, что при обеих основных установках всё равно практикуется ограничительный подход к распространению знания. На это стоит ответить, что односторонняя оптика XX века не может иметь обязывающего значения для оценки Платона. Наше современное убеждение в желательности неограниченного распространения любых научных исследований и любых знаний исторически утвердилось лишь в XVII веке и в последовавшую за ним эпоху Просвещения и веры в прогресс. Седьмое письмо, напротив, считает передачу устной философии Платона всем без разбору нецелесообразной (341е 1-2). Согласие с точкой зрения, выраженной в критике письма (Федр 275е 1-3), здесь очевидно. Было бы совершенно неисторичным приписывать Платону выбор в пользу принципиальной публичности, характерной для нового времени. Но если эта установка отпадает, то тем важнее становится различие между двумя формами «ограничительной» передачи знания. А если учесть, какое значение в философии Платона имеет свободное, определяющееся разумом решение, то придётся незамедлительно признать фундаментальное значение и за различием между эсотерикой и охранением тайны.
Глава двадцать седьмая
ПЛАТОНОВСКОЕ ПОНЯТИЕ ФИЛОСОФИИ И НАЗНАЧЕНИЕ ДИАЛОГОВ
Тенденция любой ценой приспосабливать Платона к привычкам современного мышления не обошла стороной и его понятие философии. Немалому числу интерпретаторов хотелось обнаружить у него инфинитизм139, возникший в недрах немецкого романтического движения. Философия по Платону оказывается тогда бесконечным «нахождением-на-пути» мышления, непрестанным стремлением и поиском, который, однако, никогда не достигает конечной цели; философ, со своей стороны, не может утверждать ничего такого, что он тотчас же не поставил бы под вопрос; в соответствии с этим, философские положения всегда носят предварительный характер, а философская истина всегда является истиной по требованию.
Сегодня, в первую очередь благодаря систематическим и историческим работам Ханса Кремера и Карла Альберта, мы знаем, что это представление ни в коей мере не соответствует платоновскому понятию философии (Kramer, 1982; 1988. S. 583-621; Albert, 1989).
Повсюду в произведениях Платона диалектика представляется не утопически-нереальным видением иного, сверхчеловеческого способа познания, но реальной возможностью, проходимым путём, ведущим к достижимой цели. Достигнув цели и «конца странствия», душа находит отдохновение от трудов, сопряжённых с исканиями (ср. Государство 532е). Целью является идея блага, доступная познанию человеческого нуса140, подобно тому, как её аналог из области чувственного — солнце — доступен зрению человеческого глаза (Государство 516Ь, 517Ьс). Познание принципов принадлежит бшу, а среди людей — тому, кто близок с богом, т. е. философу (Тимей 53d). Таким образом, в процессе познания принципов и идей совершается «уподобление 6oiy», являющееся одновременно онтологической и этической целью человека (ср. Государство 500с, 613Ь, Теэтет 176Ь, Федр 253Ь, Тимей 90d, Законы 716с). Знание же идей — это прочное знание (Стотт]рт|), оно «связывает» правильное убеждение основаниями, делая его устойчивым (Менон 98а) и тем самым ограждая от непрерывного оспаривания и переформулирования. Правда, уподобление богу не снимает онтологического различия между человеком и богом. Но состоит это различие не в том, что человек якобы не может достичь подлинного познания идей и принципа — о достижении цели говорят, помимо прочих, «Пир» (210е), «Федр» (249с), «Федон» (107Ь) — а в том, что он может лишь временно удерживаться в этом познании, составляющем сущность бога, постоянно возвращаясь к занятию несущественным. Поэтому Эрос и воплощает сущность философии: хотя он и достигает того, к чему стремится, однако достигнутое вновь ускользает от него (Пир 203е)141.
Философская речь никогда не может избежать опасности ошибочного понимания; диалоги полны соответствующими примерами. Ничего не поделаешь — к познанию идей невозможно вынудить. Ведь объекты познания очень неравноценны: бестелесное, будучи «наиболее прекрасным и значительным», обладает более высоким онтологическим достоинством, но и познаётся труднее (Политик 285d 10-286b 2). В самой области бестелесного равным образом существуют различия в достоинстве (Государство 485Ь 6), причём трудность познания, как показывает притча о пещере, возрастает в зависимости от онтологической близости к вершине (Государство 515с 4-517Ь 7). И чем ближе мысль подходит к трудному познанию принципов, тем меньше она может положиться на свободную коммуникацию. А уж письменное сочинение никогда не достигает той степени «ясности и достоверности» познания, которая так необходима диалектику именно в области познания принципов
(«ехаО-
Из этого Платон заключил, что философ поступит правильно, не доверив письму свою мысль во всей полноте. Мотивом его скрытности служит ответственное отношение к существу дела «божественной» философии. Поскольку Платон апеллирует к разуму пишущего (Федр 276Ьс, ср. Седьмое письмо 343а, 344cd), он полагается на его свободное решение: стало быть, скрываемое в принципе поддаётся передаче, в том числе и в письменном сочинении. Своим содержанием оно имеет нечто «более ценное», т. е. обоснования, исходящие из «ещё более высоких принципов».
Соответственно, диалоги не претендуют на исчерпывающее изложение всей философии Платона. Не показывают они и последних достижений его мысли на тот или иной момент. Однако то, что они показывают, есть нечто бесконечно ценное: они открывают пути к философии, искомые и проходимые индивидуальными людьми, отягощенными теми же недостатками и ограничениями, что и мы. Благодаря своей живой жизненности диалоги обнаруживают несравненную протрептиче-скую, т. е. обращающую к философии, силу. Однако протрептика — это ещё не всё: вместе с участниками диалога мы переживаем не только сгремление к философии и прорыв к ней, но и проходим важные шаги на пути философии по направлению к принципам. Про-трептику невозможно отделить от обсуждения значительных предметов, ведь именно объективная значительность «более ценных предметов» оказывается источником наиболее сильного протрептического воздействия. Стало быть, эти предметы нужно каким-то образом показать, пусть и с учётом тех ограничений, которые критика письма налагает на использование письма философом.
Таким образом, диалоги следует читать как фрагменты философии Платона, имеющие отсылающий характер. При этом их форму нужно понимать в её существенной связи с содержанием. Это значит, что диалоги следует читать как драмы: как пьесы со сквозным действием и продуманной расстановкой персонажей. Действие диалогов раз за разом показывает, что философское наставление не предоставляется по желанию, как какой-то товар, лежащий наготове для любого покупателя, но преподаётся исключительно с учётом интеллектуальной и моральной зрелости реципиента; во-вторых, действие показывает, что к повышению уровня аргументации в череде «актов помощи», а тем самым и к прохождению проверки на звание философа, способен только один тип персонажей, а именно представитель философии идей. Этим предопределяется всегда одинаковая, но никогда не надоедающая расстановка персонажей: диалектик как человек, обладающий недосягаемым философским превосходством, противостоит личностям, которые могут быть весьма бездарными или весьма одарёнными, но которые, во всяком случае, ещё неразвиты, ещё недостаточно подготовлены. В условиях такого неравновесия диалектику приходится брать ведение разговора на себя; он ведёт собеседников к гомологии (соглашению), отвечающему уровню их знаний. Однозначность расстановки персонажей гарантирует, что достигнутая гомология будет не произвольной и несущественной для обсуждаемого предмета, но образцовой — т. е. наилучшей из достижимых при данных конкретных предпосылках. Таким образом, тот вывод, который по прохождении собеседниками различных обходных путей оказывается скреплённым гомологией, должен быть принят всерьёз как подлинное заключение самого автора. Однако всерьёз нужно принять и эпизоды умолчания, которые по своему положению в диалогах являются не высказанными a parte142 замечаниями, но включёнными в ход действия структуроопределяющими элементами: они обращают наше внимание на способность ведущего собеседника вести разговор к дальнейшим, глубже обоснованным гомологиям.
Таким образом, последовательной реализацией своей литературной техники диалоги отсылают читателя к устной философии Платона. И этим они показывают, что являются произведениями «друга мудрости» (фьЛосгофос;) в том смысле, в каком это понятие употребляется в критике письма.
БИБЛИОГРАФИЯ
1. Васильева Т.В. Платоновский вопрос сегодня и завтра // Вопросы философии. 1993. № 9.
2. Васильева Т.В. Неписаная философия Платона // Вопросы философии. 1977. №11.
3. Гегель Г. В. Ф. Лекции по истории философии в 3 кн. СПб.: Наука, 1994.
4. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов / Пер. М. Л. Гаспарова; общ. ред. А. Ф. Лосева. М.: Мысль, 1986.
5. Мочалова И.Н. Метафизика Ранней Академии и проблемы творческого наследия Платона и Аристотеля // Материалы и исследования по истории платонизма. Платон в Академии и проблема «неписаной» философии. СПб.: AKADEMEIA, 2000. Вып. 3.
6. Платон. Сочинения в 4 т. / Ред. А.Ф. Лосев, В.Ф. Асмус. М.: Мысль, 1994.
7. Albert К. Philosophie als Religion. St Augustin, 2002.
8. Albert K. Uber Platons Begriff der Philosophie // Beitrage zur Philosophie I. St. Augustin, 1989.
9. Anscombe G. E. M. Modem Moral Philosophy I I Philosophy. 1958. Vol. 33, N 124.
10. Baudy G. ]. Adonisgarten. Studien zur antiken Samensym-bolik I I Beitrage zur klassischen Philologie. Heft 176. Frankfurt a. M., 1986.
И. Burnet ]. Platonis Opera. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit Ioannes Burnet. 5 vol. Reprint of the edition 1900-1907. Oxonii: E Typographeo Clarendoniano, 1967.
12. Cerri G. Platone sodologo della communicazione. Prefa-zione di Bruno Gentili. Milano, 1991.
13. Chemiss H. Aristotle's Criticism of Plato and the Academy. Baltimore, 1946.
14. Chisholm R. A Realistic Theory of Categories: An Essay on Ontology. New York, 1996.
15. «Derveni-Papyrus». Der orphische Papyrus von Derveni // Zeitschrift fiir Papyrologie und Epigraphik. 1982. Bd. 47. S. 1-12, nach. S. 300.
16. Diels H., Kranz W. Die Fragmente der Vorsokratiker, griechisch und deutsch. 3 Bde. Berlin, 1951 (I u. II), ND 1992; 1952 (III), ND 1990.
17. Edelstein L. Platonic Anonymity // American Journal of Philology. 1962. Vol. 83. P. 1-22.
18. Erler M. Der Sinn der Aporien in den Dialogen Platons. Ubungstucke zur Anleitung im philosophischen Denken // Untersuchungen zur antiken Literatur und Geschichte. Bd. 25. Berlin; New York, 1987.
19. Erler M. Hilfe und Hintersinn. Isokrates' Panathenaikos und die Schriftkritik im Phaidros // Understanding the Phaedrus. Proceedings of the II Symposium Platonicum (International Plato Studies I) / Ed. L. Rossetti. St. Augustin, 1992.
20. Friedlander P. Platon. 3 Bde. Berlin, 1964 (I, II); 1975 (III).
21. Gadamer H.-G. Die Idee des Guten zwischen Plato und Aristoteles / Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften Philos.-histor. Klasse. Heidelberg, 1978. Abhandl. 3.
22. Gadamer H.-G. Platos dialektische Ethik. Phanomenolo-gische Interpretationen zum Philebos. Leipzig, 1931.
23. Gadamer H.-G. Wahrheit und Methode. Grundziige einer philosophischen Hermeneutik. Tubingen, 1975.
24. Gaiser K. Platone come scrittore filosofico. Saggi sull'er-meneutica dei dialoghi platonici, con una premessa di Marcello Gigante / Istituto Italiano per gli Studi Filosofid. Lezioni della Scuola di Studi Superiori in Napoli 2. Napoli, 1984.
25. Gaiser K. Platons ungeschriebene Lehre. Studien zur systematischen und geschichtlichen Begriindung der Wissenschaften in der Platonischen Schule. Stuttgart, 1963.
26. Griswold Ch. L. Jr. Self-Knowledge in Plato's Phaedrus. New Haven; London, 1986.
27. Hegel G. W. F. Werke (Theorie-Werkausgabe). 21 Bde. Frankfurt a. M., 1970ff. Bd. 19: Vorlesungen fiber die Geschichte der Philosophie 2. Frankfurt a. M., 1971.
28. Hosle V. Hegels «Naturphilosophie» und Platons «Timaios» — ein Strukturvergleich // Philosophiegeschichte und objektiver Idealismus / Hrsg V. Hosle. Miinchen, 1996. S. 37-74.
29. Hosle V. Wahrheit und Geschichte — Studien zur Struktur der Philosophiegeschichte unter der paradigmatischer Analyse der Entwicklung von Parmenides bis Platon. Stuttgart; Bad Cannstatt, 1984.
30. Keulen H. Untersuchungen zu Platons «Euthydem» / Klassisch-Philologische Studien, Heft 37. Wiesbaden, 1971.
31. Kramer Н. ]. Das neue Platonbild // Zeitschrift fiir philo-sophische Forschung. Bd. 48.1994.
32. Kramer H.J. Fichte, Schlegel und der Infinitismus in der Platondeutung // Deutsche Vierteljahrsschrift fiir Literatur-wissenschaft und Geistesgeschichte., 1988. Bd. 62. S. 583621.
33. Kramer H.J. Arete bei Platon und Aristoteles. Zum Wesen und zur Geschichte der platonischen Ontologie / Abhand-lungen der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Philos.-histor. Klasse. Heidelberg, 1959; Amsterdam, 1967.
34. Kramer H.J. Platone e i fondamenti della metafisica. Saggio sulla teoria dei prindpi e sulle dottrine non scritte di Platone con una raccolta dei documenti fondamentali in edizione bilingue e bibliografia, introduzione e traduzione di Giovanni Reale / Pubblicazioni del Centro di Ricerche di Metafisica. Sezione di metafisica del Platonismo nel suo sviluppo storico e nella filosofia patristica. Milano: Studi e testi 1,1989.
35. Kripke S. Naming and Necessity. Cambridge (Mass.), 1980.
36. Lanata G. Poetica pre-Platonica. Testimonianze e frammenti, testo, traduzione e commento a cura di G. Lanata / Biblioteca di Studi Superiori. Filosofia Antica, Num. 43. Firenze, 1963.
37. Luther W. Die Schwache des geschriebenen Logos. Ein Beispiel humanistischer Interpretation, versucht am sogenannten Schriftmythos in Platons Phaidros (274 В 6 ff.) // Gymnasium. Bd. 68.1961. S. 526-548.
38. McDowell J. Mind and World. Cambridge (Mass.), 1994.
39. Merkelbach R. Platons Menon // Hrsg., ubersetzt und nach
dem Inhalt erklart von R. Merkelbach. Frankfurt a. M., 1988.
40. Merlati P. From Platonism to Neoplatonism. Den Haag, 1968.
41. Merton R. K. The Sociology of Science. Theoretical and Empirical Investigations / Ed. N. W. Storer. Chicago; London, 1973.
42. Muller G. Die Mythen der platonischen Dialoge // Nachrichten der Giefiener Hochschulgesellschaft. Bd. 32. 1963. S. 77-92.
43. Muller G. Platonische Studien // Bibliothek der klassischen Altertumswissenschaften. Neue Folge, 2 Reihe. Bd. 76 / Hrsg. von A. Graeser, D. Maue. Heidelberg, 1986. S. 110-125.
44. Nagy G. Homerische Epik und Pindars Preislieder. Miind-lichkeit und Aktualitatsbezug // Zwischen Festtag und Alltag. Zehn Beitrage zum Thema, Mundlichkeit und Schriftlichkeit / Hrsg. von W. Raible. Tubingen: Script Oralia, 1988. Bd. 6.
45. Oehler K. Aristoteles in Byzanz // Aristoteles in der neueren Forschung / Hrsg. von P. Moraux. Darmstadt,1968.
46. Putnam H., Nussbaum M. Changing Aristotle's Mind // Essays on Aristotle's De Anima / Eds. M. Nussbaum, A. Oksenberg Rorty. Oxford, 1992. P. 22-61.
47. Reale G. Per una nuova interpretazione di Platone. Rilettura della metafisica dei grandi dialoghi alia luce delle «Dottrine non scritte» // Pubblicazioni del Centro di Ricerche di Metafisica. Sezione di Metafisica del Platonismo nel suo sviluppo storico e nelle filosofia patristica. Milano: Studi e testi 3,1991.
48. Robin L. La theorie platonicienne des idees et des nombres d'apres Aristote. Etude historique et critique. Paris, 1908; ND Hildesheim, 1963.
49. Rose V. Aristotelis qui ferebantur librorum fragmenta / Collegit Valentin Rose. Stuttgart, 1886; ND 1967.
50. Ross W. D. Aristotelis fragmenta selecta. Recognovit brevique adnotatione instruxit W. D. Ross. Oxford, 1955; ND 1970.
51. Ross W. D. Aristotle's Metaphysics, a revised text with introduction and commentary by W. D. Ross. 2 vols. Oxford, 1924.
52. Ross W. D. Plato's Theory of Ideas. Oxford, 1951; ND 1976.
53. Sayre K. Plato's Literary Garden: How to Read a Platonic Dialogue. Notre Dame, 1995.
54. Schaerer R. La question platonicienne. Etude sur les rapports de la pensee et de l'expression dans les dialogues / Memoires de l'Universite de Neuchatel. T. 10. Paris; Neuchatel, 1938,1969.
55. Schleiermacher F. Platons Werke. Berlin, 1804ff., 1817ff. Bd. I. Teil. 1.1804,1817.
56. Stein H. Sieben Bucher zur Geschichte des Platonismus. Untersuchungen tiber das System des Plato und sein Verhaltnis zur spateren Theologie und Philosophic. 3 Teile. Gottingen, 1875; ND Frankfurt a. M.,1965.
57. Strawson P. Individuals: an essay in descriptive metaphysics. London, 1959.
58. Swinburne R. The Christian God. Oxford, 1994.
59. Szlezak T. A. Die Liickenhaftigkeit der akademischen Prinzi-pientheorien nach Aristoteles' Darstellung in Metaphysik
М und N // Mathematics and metaphysics in Aristotle. Mathematik und Metaphysik bei Aristoteles. Akten des X Symposium Aristotelicum 1984. Berner Reihe philoso-phischer Studien. Bd. 6. / Hrsg. von A. Graeser. Bern; Stuttgart, 1987. S. 45-67.
60. Szlezdk T. A. Friedrich Schleiermacher und das Platonbild des 19. und 20. Jahrhunderts // Protestantismus und deutsche Literartur / Hrsg. von J. Rohls u. G. Wenz. Gottingen, 2004.
61. Szlezdk T. A. Platon und die Schriftlichkeit der Philosophie. Interpretationen zu den friihen und mittleren Dialogen. Berlin - New York, 1985.
62. Szlezdk T. A. Platone e la scrittura della filosofia. Milano, 1992.
63. Szlezdk T. A. Sokrates' Spott iiber Geheimhaltung. Zum Bild des фьЛостофод in Platons Euthydemos // Antike und Abendland. Bd. 26.1980. S. 75-39.
64. Szlezdk T. A. Unsterblichkeit und Trichotomie der Seele im zehnten Buch der Politeia // Phronesis. 1976. Vol. 21. P. 3158.
65. Tennemann W. G. System der Platonischen Philosophie. 4 fide. Leipzig, 1792-1795.
66. Vlastos G. Review of Kramer, Arete bei Platon und Aristoteles (1959) // Gnomon. 1963. Vol. 35. P. 641-655.
67. Wehrli F. Die Schule des Aristoteles. Texte und Kommentar / Hrsg. von F. Wehrli. 10 Hefte. Basel 1944ff., ND Basel -Stuttgart 1967-1968 (zwei Suppl. Bde. 1974 u. 1978); Heft 2: Aristoxenos, 1945,1967.
68. Weizsiicker С. F. Ein Blick auf Platon. Ideenlehre, Logik und Physik. Ditzingen, 1981.
69. Wilpert P. Zwei aristotelische Friihschriften liber die Ideenlehre. Regensburg, 1949.
70. Wittgenstein L. Vermischte Bemerkungen. Eine Auswahl aus dem NachlaJS / Hrsg. G. H. v. Wright, M. v. H. Nyman. Bd. 535. Frankfurt a. M: Bibliothek Suhrkamp, 1977.
УКАЗАТЕЛЬ ЦИТИРУЕМЫХ МЕСТ
Курсивом указаны места, цитируемые в сносках Аристоксен / Aristoxenos О частях животных / Фрагменты (Wehrli) фрагм. 43 241 De partibus animalium644b 25 230644b 32 230 Аристотель / AristotelesМетафизика / Metaphysica Физика / Physica209b 15 27 983а 5-7 130987Ь14-18 1711026а 21 2301028b 19 1711074b 21 2301091b 13-15 256 Фрагменты (Rose) фрагм. 192 242Пер! тауабои (О благе, в кн.: Ar. fragm. sel., Ross) фрагм. 2 153 Никомахова этика /Ethica Nicomachea Афанасий Александрийский / Athanasius Alexandrinus 1100а 32-b 22 2221100b 6 2221101b 11 230 О воплощении / De incamatione 54 29 1102а 4 2301102а 20 2301141а 20 2301141b 3 2301178а 1 230 Гераклит / HerakleitosФрагменты (Diels — Kranz)22 В 42 9122 В 93 187О душе / De anima 402а 1-4 130
Гиппас / Hippasos Фрагменты (Diels — Kranz)
18.4 241
18.5 242
Еврипид / Euripides
Вакханки / Bakchai 272 и след. 92
Финикиянки / Phoenissae 469 13
Исократ / Isokrates
Панафинейская речь / Panathenaikos (= 22-яя речь)
12.236 93 12.240 93 12.240 и след. 92 12.265 94
Ксенофан / Xenophanes Фрагменты (Diels — Kranz)
21В 10 91 21 В 11 91 21В 15 91
Пиндар / Pindaros
Олимпийские песни / Olympica 2.83-86 90,238
Платон / Platon Апология Сократа /
Apologia Socratis 23cl 21
Гиппий больший / Hippias maior
286d7 141
291e 5 142
300b и след. 142
300cd 52
304d 67,142
304d 4 221
Гиппий меньший / Hippias minor
370e 52
372e 1 142
372e 6-7 142
373b 52
Горгий / Горгий
462a 2 141 482e-486d 41 489e 162 491e-e 162 491d 8 163 491e-492c 42,161 492a 2 162 492e 8-493c 3 161 493a 67 493a 3 161 493a 7 161 493a и след. 42 493b 1 161 493c d 162 494b и след. 43 497c 43,163 499bc 52 513c 42 523a 216 523b-524a 216 526c 3-4 216
Государство / Politeia 327а-с 195 327с 196 331d-336a 96 332b 9 96 347е 202 354b 202 357а 201 358b-362c 201 362d 9 137 362е-367е 201 368b 4 137 368b 7 137 368b 7-с 1 138 368c1 137 368c 3 138 368c5 137 376d 116,181 378d 95 435c 4-6 168 435c 9-d 3 164 435d 3 110 435e и след. 159 443c-e 202 445c5 137 449c 4-8 120 474b-480a 130 474b и след. 121 485b-487a 89 485b 6 128, 248 487a 189 500b-d 148 500c 169, 247 501e 116,181 503d 54 5Q3e 165
504a 164
504a и след. 150
504a-c 207
504b 2 110
504b-d 165
504de 165
505a 165
505a 3 67
506d&-e3 165
506d e 59,137,155,165
508e 2-509a 4 128
509a 4-5 128,137
509b 9 137
509b 9-10 128
559c 59
509c 5-10 166
509c 9-10 165
509d-511e 145
510c и след. 177,197
511b 128
511b 8 129
511bc 231
515c 4-517b 7 248
516b 247
517bc 247
518c 8-d 4 226
518d 4 121
518de 169
519d 2 20
521c 6 121,226
531c и след. 177,197
532e 247
532e 3 123,160
532еислед. 150 533а 59,165,196 533а 1-2 166 533е 140 534а 7 110 534с 1-3 225 540а 54,150 585Ьислед. 169 589d 1169 589е4 169 590d 1 169 608с-611а 167 611а-612а 167,173 611Ь 9-10 67 611с 6 168 611d 2 167,170 611е 186 611е 2 105 611е 4 169 611-612 187 612а 4 168,172 612а 5-6 168 613Ь 247
Евтидем / Euthydemos
275d 3-276с 7 174
275d 4 174
276d 7-277с 7 175
287d 6 228
289с 7 177
289d2177
289d 8—e 1 178
289e 1 178
290cd 177,197
290e 198
291a 4 198
293a 1-3 143 293a 2 142 293b-e 175 294a-e 175,185 294e-296d 175,185 295b 4 176 298b-e 176 301a 2-4 176 301a 4 177 301a 5 177 304b 53
Евтифрон / Euthyphron
3d 52
lib 52
14c 52
15e 52
Законы / Nomoi 713c 170 716c 247 890d4 138 891a 138 891a 5-7 138 891b-899c 139 891b 3-4 139 891b 4-6 139 891c 2-3 139 891d 7 139 891d 7-е 1 139 891e 5-6 139 893a и след. 221 894a 155 894a 1-8 183 951d-952b 55 961ab 55 968de 55 968е 154,185 968е 4-5 148
Ион / Ion 541е 52
Кратпил IKratylos 383b-384a 52 400дислед. 96 427de 52
Критон / Kriton 49a 67
Лисид I Lysis
218a 174 219cd 150
Менон / Menon 80de 175 81a 67 81c 9 176 81cd 175 85d-86b 175 86de 228 87bc 140 98a 7 128 98a 247
Парменид / Parmenides 127bc 229 135d 7 77 136d l-137a 6 110 137bc 77
Пир / Symposion 175b 67 199c-201c 205 201e 144,220 203e 248 203еислед. 174 204b и след. 121 208b 221 210a и след. 145 210e 248 210e 3-5 20 212c 203 213e 3-4 224 217c-219d 204 218c 204 218d-219a 205 219bc 205 220cd 67
221d-222a 187,189, 204
Письма / Epistulae 7,338d 6 243 1,340a 243 7,341c 6-7 232 7,341e 1-2 245 7, 343a 249 7,344a 189 7,344b 5 44 7, 344cd 249 7,344d 7 243 7,344e 2 243 7,350cd 243
Политик / Politikos 261e 140 285c-287a 77 285d 10-286b 2 248 285e 4 127 286b 1 77 304c 10-d 2 215
309с 170
Протагор / Protagoras 317bc 58 320с 213 322d 5 213 323а 5 213 334d 6 213 334е-338е 228 338е 97 338е-347а 97 339b-d 98 340а 1 98 341с 8-9 98 341d 52 341d 8 141 342а-347а 67 342а-е 54 347аЬ 226 347с-348а 100 347е 3-7 100 348а 5 101 348d 68 351е 8-11 228 353а и след. 221 353Ъ 4 228
Софист / Sophistes 254с 2 20 263е 68
Теэтет / Theaitetos 150d 29 172е-177с 121 176b 247 176b 1 20 189е 68
Тимей / Timaios 27а 157 28с 229 28с 3-5 152 29Ь 128 29d 216 35а 170
35a-36d 172,187 41d 170 53cd 153
53d 121,155,159,183, 229, 247
53d 6-7 152
68d 216
69b 216
69cd 170
90b 170
90cd 170
90d 247
90d 5 170
Федон / Phaidon 66b 3-67b 2 221 75ab 95 80a 3 105 84c-88b 135 88d 9-e 3 135 91c 40, 230 95e9-96al 135 96a и след. 135 99d и след. 136 99d-107b 145 100b 5 67 lOlde 128,136 lOle 121 102a 135 105b и след. 136
107Ь 136,248
Федр / Phaidros 229с-230а 96 230е-234с 102,125 234e-236b 126 235Ь 126 236Ь 126 237b-241d 102 243e-257b 102 245с 1-2 214 245с 5-246а 2 214 246а 104,131,158,214 246а 4-6 158 246а 5 110
246а и след. 145,159, 214 247с и след. 148 247de 145 249b 175
249с 20,121,159,248 250b 2 127 253b 247 266с1 104 266d-269c 104 270с 157 270d 160 270d 1-7 159 271d 160
273d-274a 120,160 273e 105 273e 4-5 160 273e 7-8 160 274a 104,131,166 274a 2 110,160 274b-278e 102 274b 6 104
274b 9 104 274c-275b 213 274e-275c 106 274e 5 105 275a 7 106,215 275bc 213 275c 6 95 275c 6-7 188 275d 4-9 112 275d 9 237 275de 83,148 275e 79 275e 1-3 245 275e 2-3 111 275e 3-5 112 276a 84,133, 225 276a 5 225 276a 6-7 112,222 276a 7 123 276a 8 84,132 276a 8-9 95 276b 108 276b-277a 107 276b 2 109 276b 2-3 111 276b 6 109 276b 7 110 276bc 123, 249 276e-277a 108 276c 3 120 276c $-4 132 276c 3-9 111 276c 5 109 276c 9 110,148 276d 9
276d 1-4 78 276d 3 114 276d 4-8 116 276е 84
276е-277а 114,199
276е 1-3 И6
276е 2-3 181
276е 3 108,215
276е 5 104,110
276е 5-277а 3 112
276е 5-277а 4 122
276е 5-6 132
276е 6 110,112, 225, 236
277а 1 109
277а 3 178
277b 120
277b 5-8 132
277bc 104,160,231
277с 2 230
277d 7-8 188
277d 8-9 95
278a 1 78,114,132
278a 4-5 95
278c 225
278c 2-3 118
278c 4 121,132
278c 4-e3 119
278c 4-5 20,119
278c 6-7 120
278c 7 129
278cd 140
278d 8 120
278d 8-е 1 120
279a 8 127
Хармид / Charmides 155e 58 155e 8 151 156a 194 157b 1—c 6 151 157bc 195 161cd 94 162a 94 163d 140 169a 113 174b 52 174bc 150
Плутарх / Plutarch
Об Исиде и Осирисе /
De Iside et Osiride 48,370 F 154
Теофраст / Theophrastos
Метафизика / Metaphysica
6b 28 130
7b 14 130
10b 26 130
11a 23 130
Теаген / Theagenes
Фрагменты (Diels — Kranz) 8 A1-4 91
Феогнид / Theognis 681-682 90,238
Приложение
ПЛАТОНОВСКАЯ ДИАЛЕКТИКА: ПУТЬ И ЦЕЛЬ143 Часть 1. Диалектика как задача
Судьба того человека, о котором Сократ рассказывает в притче о пещере — что он, будучи освобождён от оков, поднялся из пещеры к свету верхнего мира, где, в конце концов, узрел и само солнце, познав в нём, в известном смысле, причину всего, что увидел, а затем по доброй воле спустился вниз к месту, откуда начал своё путешествие — это, как известно, судьба самого же Сократа: он погибает от рук «вечных узников» в попытке избавить их от оков (Государство 517а 5-7).
А вот в будущем идеальном государстве диалектика, поднявшегося до познания идеи блага как принципа всего, и тем не менее вновь «спустившегося» вниз и взявшего на себя труды правления, ожидает совсем иное предназначение: умирая, философы-правители переселяются на Острова блаженных, а государство заботится о памятниках и жертвоприношениях в их честь, почитая их либо как даймо-нов, т. е. существ, занимающих промежуточное положение между богами и людьми, если это подтвердит Пифия, а если нет — как счастливых и божественных людей (Государство 540Ь 6-с 2). Посмертным уделом диалектика является, таким образом, героизация и собственный государственный культ.
Итак, диалектик — это человек, в каком-то смысле покинувший область человеческого. Он поднимается на уровень, возвышающийся над человеческим существованием и приближающий его к бшу: он становится даймоном.
Имеем ли мы здесь дело с заблаговременной мистификацией будущей, чисто утопической фигуры философа-правителя? В начале диалога «Софист», в одной весьма «реалистичной» и совершенно не «мистифицирующей» сцене математик Феодор также говорит о том, что для него все философы «божественны» (216с 1). А Сократ говорит в «Федре», что сочтя кого-либо диалектиком, он идёт за ним по пятам, как за богом (266Ь 6-7).
Обоснование этой манеры выражения — нам, людям сегодняшнего дня, определённо кажущейся странноватой — Сократ даёт в «Государстве»: предметы, которым посвящает себя философ, божественны, а человек всегда уподобляется тому, чему он в восхищении следует. Так и философ, уподобляясь божественному — или, как об этом говорится в другом месте: через уподобление бшу (opoicoaig веф, Те-этет 176b 1) — сам по мере возможности становится «божественным» (Государство 500b 8-d 2).
То, что подаётся здесь как факт и реальный процесс, естественно, может быть сформулировано и как задание. Мы должны восстановить свою изначальную природу, — читаем мы в «Тимее», — выправляя запутанные движения своей мысли по образцу гармоничных круговращений космоса, благодаря чему познающее становится подобным познаваемому, и мы достигаем цели, установленной для нас богами, — наилучшей жизни, которая только доступна человеку (Тимей 90b 1-d 1, особенно d 1 и след.; аналогично Государство 611Ь 10-612а 6).
Здесь мы встречаемся с динамическим образом человека у Платона: человек должен прежде сформировать себя самого (eauTOv Tt/VaTTEiv Государство 500d 6, ср. 540b 1, 592b 3; Федр 252d 7), а определяется он своим «общением» (opiAia 611е 2, ср. 500с 6, 9). В этом заключён решительный призыв: мы должны искать духовного, чтобы вернуться к своей древней, истинной природе. И поскольку ничто и никто не стремится расстаться с собственной сущностью, то все мы тяготеем к познанию умопостигаемого, вечно сущего и «божественного», для чего, в конечном итоге, и нужна диалектика. О том же говорит и первое предложение аристотелевской «Метафизики»: «Все люди от природы стремятся к знанию» (TiavTEg dveQamoi той eibevai opeyovTai фйсгЕ1).
Часть 2. Как стать диалектиком? Устный характер диалектики
Итак, мы должны стать диалектиками, поскольку уже являемся ими по своей истинной природе.
А как нам стать диалектиками? Современному платонику наиболее естественным покажется ответ: путём чтения диалогов. Ибо в диалогах Платона, надо думать, содержится диалектика; а то, что сохранено письменным сочинением, может быть сообщено и восприимчивому читателю, чтобы впервые пробудить в нём подлинно философское понимание вещей.
Мне лично нечего возразить против этого взгляда. Я уже давно рекомендую всем читать Платона и сам занимаюсь этим охотно и со страстью. Однако есть некто, несогласный с обоими пунктами, хотя в этом отношении его редко принимают всерьёз: по его мнению, диалектику Платона нельзя найти в диалогах, а письменное сочинение в принципе не подходит для того, чтобы служить первоисточником подлинного знания.
Этим кем-то — этим нарушителем согласия — является, как известно, сам Платон. И я хотел бы коротко напомнить о трёх его высказываниях по этому вопросу.
(1) В седьмой книге «Государства» Главкон требует от Сократа описания рода (tqottoc;) диалектической способности, её деления на виды (eibrj), а равно и её «путей» (oboi). Это описание должно походить на только что данное описание математических исследований пропедевтического назначения (532d 6-е 1). Мало кто из интерпретаторов отдаёт себе отчёт в том, что это значит: математические исследования были обрисованы лишь с точки зрения стороннего наблюдателя, их метод был охарактеризован лишь в самых общих чертах, отдельные дисциплины были очерчены лишь в самом грубом виде (Государство 522c-531d) — Сократ отнюдь ещё не вступил в область собственно математики. Подобного же сжатого очерка «извне», но уже о диалектике, просит Главкон. Таким образом, его просьба исключительна скромна. Но и в ней Сократ ему наотрез отказывает: «Милый Главкон, сказал я, ты уже не сможешь следовать за мной — ибо с моей стороны не было бы недостатка в готовности» (533а 1-2). Просьба Главкона, если я ничего не упустил, является единственным местом в корпусе произведений Платона, где читатель на мгновение смеет надеяться на авторитетное объяснение специфики (tqottoc;) диалектики и на предоставление обзора, охватывающего все основные аспекты её «видов» и «путей», под которыми, видимо, разумеются способы постановки вопросов или частные области (etbrj) и методы (66ol).
Ни одно место в каком-либо ином диалоге не пробуждает подобного ожидания — за исключением, естественно, диалогов «Софист» и «Политик»; если брать их как целое, они кажутся первой и второй частью трилогии, третья часть которой будет называться «Философ». Но так уж сложилось, что этого диалога не существует — Платон предположительно запланировал его лишь в вымышленном драматическом контексте, а не б действительности, в двух же остальных диалогах нет ни одного пассажа, который обещал бы обширное описание диалектики144. Тем доходчивее и действеннее оказывается построение несомненно хорошо просчитанного эпизода умолчания в седьмой книге «Государства»: вместе с Главконом читатель исполняется ожиданием, прямолинейный отпор которому делает тем более ощутимым тот пробел, который «Государство» и весь корпус сочинений Платона оставляют на месте более детального описания диалектики в качестве высшего предмета изучения (pdGrjpa).
(2) В «Федре» Сократ говорит, что диалектик будет поступать как толковый земледелец, избегающий всерьёз высевать посевное зерно, которым он дорожит и от которого ожидает урожая, в сады Адониса, где ростки хотя и дают прелестные всходы через восемь дней, но не приносят урожая. Подобным же образом и диалектик будет засаживать свои «сады Адониса», т. е. сочинения, играючи, тогда как серьёзно он по-прежнему будет относиться к применению искусства диалектики, которому в притче соответствует опять-таки серьёзное земледелие (Федр 276Ь 1-е 7). Сосредоточивать интерпретацию исключительно на противопоставлении «играючи — всерьёз», как это часто имеет место, означает упускать смысл притчи. В результате интерпретаторы приходят к той точке зрения, что диалектик записывает в своих сочинениях всё, что намеревается сказать, но делает это с игривой или игровой установкой, тогда как автор-нефилософ хотя и делает то же самое, но со всей серьёзностью.
Если бы речь шла только о противопоставлении «серьёзность — игра», то притча о земледельце была бы излишней и, более того, сбивала бы с толку, ведь оба эти земледельца, толковый и бестолковый, в притче делают со своим посевным зерном отнюдь не одно и то же, в то время как философ и нефилософ, если следовать этому толкованию, делают фактически одно и то же — публикуют всё, — но с разными установками145 146. Таким образом, противопоставлением «игра — серьёзность» смысл притчи не исчерпывается. И действительно, вместе с введением образа садов Адониса и прежде этого в притче также вводится и иное противопоставление, непосредственно понятное античному читателю, знакомому с ритуалом адонисовых садов. Это противопоставление меньшей части посевного зерна, отправляемой в садик Адониса, и большей части семенных зёрен, высеваемой на пашне. Для толкового земледельца и речи нет о том, чтобы «играючи» не высеять все семена в садик Адониса, поскольку в результате он не получил бы следующим летом никакого урожая и его семье пришлось бы умереть с голоду; он ео ipso147 148 не был бы разумным земледельцем (vouv excov yecopyog). Стало быть, если мы не хотим сделать притчу о земледельце бесполезной, мы должны признать, что, приводя её, Платон и со стороны диалектика равным образом исключает вариант поведения, при котором тот доверит всё «посевное зерно» — т. е. всё то, что он как диалектик имеет по части ходов мысли, анализа, ведения доказательств — письменному сочинению. Часть этого «зерна», причём существенно большая часть, может принести урожай лишь в том случае, если она «высаживается» в «правильную» почву, т. е. в души подходящих слушателей, причём с использованием правильного метода — «искусства собеседования» (ЬихЛектист) тёхут]).
(3) Третий отрывок, о котором я хотел бы напомнить — это заключение «философского экскурса» в «Седьмом письме». Обладающий разумом не станет доверять поистине серьёзное и то, к чему относится серьёзнее всего (та ovxcog аттоиЬаТа, та сгттоиЬаютата, 344с 2, 6), письменному сочинению (344с 1-d 2, ср. 343а 1-4). Здесь опять обращение к разуму, как и в притче о разумном земледельце. Стало быть, представимо и иное поведение; знания, имеющие своим содержанием подразумеваемые Платоном предметы, наверняка могли бы быть изложены в письменной форме и распространены. Поступая в согласии с разумом, что равным образом означает — по свободной воле, — диалектик откажется от этого.
Каков смысл ограничений, обнаруживающихся в трёх вышеприведённых отрывках? Часть ответа мы уже знаем из первого отрывка: «Ты уже не сможешь следовать за мной», — говорит Главкону Сократ. То, что здесь персонализировано, обобщается в «Седьмом письме»: предметы, к которым с «серьёзностью» относится Платон, оказываются источником огромных трудностей. Хуже всего то, что одного только ума для их познания недостаточно: помимо этого рассматриваемый нами текст требует специфического «родства» с существом дела (344а 2-b 1), а это требование — в соответствии с каталогом необходимых правителям добродетелей, приведённым в «Государстве» (485а-487а) — также предполагает, что будущий диалектик очистился нравственно. Предметы, которыми занимается философия, с одной стороны, и человеческие средства познания — с другой, устроены таким образом, что философское понимание никогда не может быть вызвано принудительным образом. Желающий ему воспрепятствовать, настроенный на софистическую обструкцию, всегда будет выходить победителем в глазах нефилософов (343с 5-344с 1). Письменное произведение, которое, как известно, само себя защитить неспособно (Федр 275е), ещё более усиливает впечатление беспомощности диалектика перед лицом критики, не учитывающей особенности обсуждаемых предметов. Написанное не может учить истине достаточным образом (Федр 276с 8-9). Отсюда призыв даже не пытаться использовать эту форму распространения знаний, когда дело доходит до самых важных тем — не говоря уже о том, что и достоинство самого предмета запрещает его профанацию (Седьмое письмо 344d 7-9).
Сегодня нам, по-видимому, закрыт аутентичный доступ к диалектике Платона. Мы должны искать к ней иной способ доступа, нежели прямое обучение через книги.
Часть 3. Как становились диалектиками во времена Платона?
Философское «совместное жительство» (avC,f\v)
Попробуем коротко ответить на вопрос, как, по свидетельству диалогов, становятся — или становились — диалектиками. В этом вопросе диалоги предлагают нам двойственную картину.
(1) При жизни Сократа определяющим в этом отношении было, по-видимому, только общение с ним самим. Безоговорочная решимость персонажей рамочных диалогов в «Пире», «Теэтете» и «Пармениде» перейти к пересказам бесед непосредственно с ним самим сполна демонстрирует это. Готовность изложить собственное понятие диалектики Сократ выказывает в разговоре с Главконом (Государство 533а 2). Однако «более длинный путь» диалектики не таков, чтобы его можно было пройти в одном из диалогов, всегда представляющих собой отдельные разговоры. На это неизменно указывают сами диалоги (Государство 435с 9-d 3, 504b 1-d 1, 506d 8-е 3, Федр 246а 4-6, ср. 274а 2, Тимей 48с 5, ср. 28с 3-5). В «Теэтете» Сократ упоминает возможность и более длительного общения с ним. Это, однако же, ни для кого не было несомненным путём к диалектике, по той именно причине, что успех этого пути и даже само проведение по нему в конечном счёте определялись «богом» и даймбнио-ном Сократа (Теэтет 150d 4, 8; 151а 2-5). Мы встречаемся здесь с платоновским убеждением (выраженным «Сократом» в квазибиографической манере) в том, что удача диалектического философствования не находится ни в руках адепта, ни в руках учителя, и не гарантируется взаимодействием их обоих, но определяется исключительно «божественным».
(2) В идеальном государстве едва ли кто-то будет ссылаться на своею даймониона, скорее всех недостойных и неподходящих властители будут отстранять от «самого точного воспитания», т. е. от образования в области диалектики (Государство 503d 7-9). Сократ понимает это как непременную меру по исправлению нынешнего неудовлетворительного положения (vuv neqi то ЬихЛёуесгвси. kokov yiyvopcvov, 537е 1-2), характеризующегося тем, что к диалектике допускается любой желающий, не имеющий к ней никакого отношения (539d 5-6). Исключение незрелых подростков является одной мерой предосторожности (£uAa(3£ia, 539b 1), строгий отбор среди более зрелых кандидатов — другой. Диалектика требует людей высоконравственных и имеющих стабильный характер (539d 4-5). Меры предосторожности имеют двойной смысл: они приносят пользу самим кандидатам, лишая их возможности приобретения качеств, приводящих к извращению диалектики до антилогики и эристики, и повышают общественное уважение к занятию философствованием (539с 8-d 1). Одно из неназванных следствий мер предосторожности заключается в том, что в идеальном государстве не будет никаких письменных описаний главнейших областей диалектики. Ибо книги могут вращаться повсеместно, и Платон это знал — он ведь говорит об этом в «Федре» (275е 1), — а если такие книги попадут в руки неподходящим, возникнет угроза возврата в прежнее состояние.
То, что Платон говорит о Сократе и о порядках в идеальном государстве, мы не можем непосредственно перенести на условия обучения в Академии. Но неправильно было бы делать вид, будто уже доказано, что первое и второе не могут иметь между собой ничего общего. Более умеренным и реалистичным, чем две эти крайние позиции, кажется мне предположение, что Платон по крайней мере старался внедрить в своей Академии оптимальные условия в той степени, в какой это было возможно, не имея рядом Сократа с его не ошибающимся даймонионом и не учреждая тут же самостоятельно идеальное государство. Опираясь на это предположение, мы приходим примерно к следующей картине обучения диалектике в Академии.
1. Диалектик учит, «выбирая подходящую душу» (Aa|3cbv ipuxnv npoor^KouCTav, Федр 276е 6). Диалектика не была учебным курсом, на который можно было записаться. Отбор среди претендентов и постоянная проверка избранных — ёкЛоуг) («отбор») и pacravtCeiv («испытывание»). Исключать неподходящих можно и без помощи даймо-ниона. «Испытание» (nelga), которому был подвергнут тиран Дионисий И, относилось, согласно «Седьмому письму», к методу Платона (340Ь 4-341 а 7). В качестве коммуникативного процесса, имеющего в виду существо дела философии, такое испытание, несомненно, является частью диалектики.
2. К критериям отбора относилось и нравственное устроение кандидата. Хаос внутри делает философствование невозможным. Требуется «родство» с предметом, на который направлена мысль; одного ума недостаточно. Понявший это перестанет удивляться эсотерическому обращению с предметами, составляющими содержание знания: в конце концов, автор книги никогда не может предугадать нравственное состояние своего будущего читателя.
3. Занятие диалектикой — это процесс, происходящий между друзьями и занимающий необычайно много времени, в идеальном случае — целую жизнь. Седьмое письмо говорит о многих совместных усилиях и о философском совместном жительстве (cruCfjv, 341с 7). Исторически весьма вероятно, что образцом этого — даже в большей степени, чем кружок учеников, собиравшихся около Сократа, — служили пифагорейские дружеские союзы. Платон ценил общество гостей и товарищей вокруг Архита в Таренте (тоид ev TaQavxi £evoug те Kai ётацэоид, Седьмое письмо 339е 2-3, вместе с d 2).
4. Как процесс достижения понимания среди единомышленников диалектика не требует книг. Диалог «Философ», по-видимому, запланированный Платоном, так никогда и не был написан; нигде не наличествует в письменной форме и требуемый Главконом очерк, обрисовывающий всю диалектику как бы извне. Однако Дионисий II должен был, пожалуй, услышать как раз нечто подобное в устном наставлении, ибо во время пейры, как пишет Платон, претендентам надо показать, что собой представляет занятие в целом, с какими трудностями оно сопряжено и насколько тяжело (340Ь 7-с I)149. После этого разговора Дионисий написал кни1у о том, что услышал от Платона, тогда как Платон уверяет, что у него самого нет никакого сочинения (стиуурарра) об этом и никогда не будет (341Ь 3-5, с 4-5).
Что мы должны предпринять, руководствуясь полученным объяснением? Мы знаем теперь, что диалектика является процессом достижения понимания в долгих совместных беседах (ouvouaiai). Конечно, в этот процесс вовлечены знания, имеющие конкретное, письменно фиксируемое содержание. Однако поскольку их письменная фиксация ни при каких условиях не может одновременно обеспечить и приобретение понимания как таковое, разумный автор не должен излагать их в письменном виде. Слишком велика была бы в этом случае опасность злоупотребления ими непонимающими или злонамеренными реципиентами. Таким образом, по своему содержанию диалектика поддаётся передаче в письменной форме и в то же время не поддаётся ей по своей сущности, ибо форма бытия диалектики — живое мышление, процесс в душе (ср. Седьмое письмо 344с 7-8), который в этом качестве не передаётся мёртвым знакам письма. А для Платона данное обстоятель-обзор философии принципов Платона, во всяком случае в той более краткой редакции для публичного выступления, о которой, по-видимому, сообщает Аристоксен (Harm. elem. II. Р. 30 Meibom = Test. Plat. 7 Gaiser). Правда Симпликий говорит об извлечениях из этой лекции, сделанных Спевсиппом, Ксенократом, Аристотелем, Гераклидом и Гестиэем (In Arist. Phys. 151.8-10 и 453.28-30 Diels = Test. Plat. 8 и 23 В Gaiser). Эти редакции, должно быть, существенно выходили за пределы сжатого обзора (в частности, редакция Аристотеля, которая, согласно Диогену Лаэртскому («О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов». V. 22) охватывала три книги); в них, вероятно, нашли свое отражение непубличные совместные беседы (auvouoiai) Платона и его учеников в Академии.
сто является решающим. Он ни разу не изменил своему решению не писать о том, к чему относился серьёзно (7teqL cov eycb anovbdC,(o).
Часть 4. Рассеянные указания диалогов
Должны ли мы воспринимать этот отказ как знак для окончания наших усилий понять, что собой представляет диалектика Платона? К счастью, нет. Ибо если письменное сочинение и не может передать самого главного в философии, то кое-что оно всё-таки может: сохранять сведения, которые напоминают знающему о том, что он уже приобрёл иным образом — об этом мы читаем в «Федре» H7iopvr|paTa («средства припоминания») 276d 3, eiboxcuv H7i6pvr)cn.(; ( «средство припоминания для знающих») 278а 1.
Итак, попробуем исходить из того, что диалоги, вопреки недоверчивому отношению Платона к познавательному значению письменных сочинений, содержат пассажи, которые были бы призваны «напоминать» о его понятии диалектики. Небольшая трудность имеется и тут (чисто сократовское apucQOV tl — «сущий пустяк»): сегодня никто из нас не может претендовать на то, чтобы считаться «знающим» (clbcog) в области подлинно платоновской диалектики, а потому нуждаться всего лишь в напоминании о ней. Следовательно, недостоверность возникнет уже при выборе мест, которые мы захотим включить в наше рассмотрение. Мы можем только предполагать, что определённые места предназначены служить средствами припоминания (u7iopvr|цата) для тех, кто уже является знающим. Использование ключевых слов, таких как «диалектическое знание» (ЬихЛектисг) етиатгщг)) или «диалектическая способность» (г) той бихЛёуеабси buvapic;), не является надёжной путеводной нитью, во-первых, потому что Платон может сказать нечто важное и не прибегая к какой-то определённой терминологии, а во-вторых, потому, что отграничение значимого в каждом отдельном случае будет оставаться проблемой. К этому нужно добавить, что даже столь важный с точки зрения понятия диалектики диалог, как «Федр», начинает экспликацию этого понятия с утверждения, что речи Сократа об Эросе содержат примеры того, как диалектик («знающий истину», eibax; то аЛг)0ёс;), играя, может вводить своих слушателей в заблуждение — что также относится к философскому искусству речи (262с 10-d 6).
Совсем иного рода трудность, уже упомянутая нами выше, состоит в том, что ни одно из мест, которые, по нашим предположениям, могут служить средствами напоминания (u7iopvr|f-iaTa) о платоновском понятии диалектики, не содержит того обобщающего обзора целого, о котором просил Главкон. Следовательно, собирание в одно целое отдельных аспектов диалектики, представленных в произведениях Платона в разрозненном виде, всегда остаётся задачей интерпретатора.
Невзирая на эти препятствия и опасности, осмелимся поставить вопрос о том, что мы можем знать о диалектике Платона вопреки его отказу дать аутентичную картину целого. Я надеюсь, что в следующих десяти пунктах сумею назвать наиболее важное.
(1) Платоновская диалектика замещает собой уже существовавшее прежде искусство диспута. У Платона оно зафиксировано под названиями «искусство опровержения» (avTiAoyiKr|) и «искусттво спора» (EQiarucf) тёхУП)- Им занимаются сомнительные в интеллектуальном и нравственном отношении типы, которых Платон обстоятельно, но в то же время чрезвычайно забавно изображает в «Евтидеме». Во всём они являют собой прямую противоположность философу150 151.
Антилогика охотно подхватывается любящими поспорить молодыми людьми, на которых, однако же, оказывает интеллектуально дезориентирующее и нравственно разлагающее воздействие. Прелестные карикатуры на диспуто-манию юных эристиков можно найти в «Софисте» (259cd) и особенно в «Филебе» (15е-16а). Тем не менее, Платон подчёркивает не только противоположность антилогики своей диалектике, он знает также и о существующей между ними преемственности. В седьмой книге «Государства» мы встречаем предостережение против перенесения в идеальное государство ошибок, обычных в обращении с логосами и с диалектикой (то бюЛеуесгбаО «сейчас» (537e-539d), — это звучит почти так, как если бы антилогика и диалектика были по сути одним и тем же, лишь требуя в обращении с собой определённых мер предосторожности (ср. выше EvAafieia, 539b 1) во избежание возможного злоупотребления.
В ещё большей степени их преемственность подчёркивается в диалоге «Парменид», где представителем недостаточной диалектики является не сомнительный софист, а Зенон из Элеи. Старший друг Зенона Парменид заверяет юного Сократа, что метод (тфотсод) для его диалектического упражнения останется тем же, что у Зенона — с той лишь разницей, что на обращение от чувственно-восприни маемых вещей к идеям, которого Сократ требовал в ходе своей резкой критики Зенона (135d 7-е 4), Парменид без труда соглашается (129а 1-130а 2), — несомненно потому, что ему самому уже хорошо знаком такой поворот (ср. 130а 3-7, 135Ь 5-с 3). Стало быть, мы имеем тот же метод, но иную онтологическую ориентацию, а с ней, в конечном счёте, и иной предмет диалектики. Если на примере единичной чувственно-воспринимаемой вещи весьма легко показать, что она едина и в то же время множественна и вообще одновременно обладает всеми противоположными предикатами, то в применении к идеям отношение единства и множества становится наиглавнейшей философской проблемой (Парменид 129b 1-d 6, аналогично Филеб 14с 1-15с 3). Этот перенос зеноновских способов вопрошания на область умопостигаемого для старой диалектики означает качественный скачок, никак не связанный, кстати говоря, с историческим Сократом, а обязанный своим осуществлением исключительно Платону. Аристотель, прекрасно знавший о том, что Зенон был создателем диалектики старого стиля, говорит о Сократе, что в его время «диалектическая сила» (ЬихЛбктпо] icrxug) была ещё недостаточно развита (Метафизика М 4, 1078b 25-26), а в главе о Платоне в первой книге «Метафизики» он попросту заявляет: «предыдущие не были причастны к диалектике» (oi уag tiqoteqoi buxAeicTiKfjg ои pExelxov, Метафизика А 6, 987Ь 32-33).
(2) Платон называет свою новую дисциплину г) бюЛсктисг) цебобос; (см., напр., Государство 533с 7) — «диалектический метод» или «метод собеседования», а также г) ЬихЛектскг] техуг) (Федр 276е 5-6) — «диалектическое искусство» или «искусство собеседования», причём добавление техУЛ («искусство») может также выпадать: словом г) бюЛектпсл (без добавления) этот процесс обозначается, к примеру, в обобщающем и оценивающем заключении Сократа, подводящем итог его рассуждениям о предметах (рабгщата), которым должны будут обучаться правители в идеальном государстве (Государство 534е 3). Часто встречается нам и нейтральное обозначение «способность собеседования или общения» (г| той biaAeyeaOai buvapu;, Государство 511b 7, 532d 8, 537d 5, Филей 57e 7, Парменид 135c 2). На вопрос же об эпистемологических притязаниях этой «способности» ответ дают дальнейшие обозначения — «диалектическое знание» (г| ЬихАектист) £7исгтг)рЛ' Софист 253d 2-3) и «наука диалектики» (г) той ЬихАёуесгОси ЕтиатгщЛ' Государство 511с 5). Таким образом, платоновская «способность», «метод» или «искусство» собеседования притязает на то, чтобы быть достоверным знанием, наукой (стисгтлрл)- Она притязает на это столь настойчиво, что обозначение £тиатг)рг|/ А° тех поР применявшееся к математическим дисциплинам, у них отнимается и заменяется более скромными обозначениями — «рассудочное познание» (bidvoia) и «искусство» (т£ХУЛ) (Государство 533d 4-6). Лишь познание идей создаёт в душе знание (еяютгщл)/ лишь диалектический метод (ЬюАектисг) р£0оЬо(;) ведёт к познанию идей и к принципу (сцэхл) (Государство 533с 7-8). Собственное, хотя и скупое подтверждение того, что для исследования сочетаемости «родбв» (у^л), или высших диалектических понятий необходима некая наука (етиотлрл)' даётся Платоном в «Софисте» (253b 8-с 5). Гость из Элеи прибегает при этом к аналогии с наукой грамматики: подобно тому, как она добирается до «элементов» (oroixcux), т. е. предельных, далее не разложимых составных частей языка и исследует законы их сочетаемости, так диалектика обращается с «элементами» (cjToixeux) всей действительности в целом. Диалектике как дисциплине, которая, в конечном счёте, только и заслуживает имени науки (cTuarrjpr]), присуща высшая степень точности (aKQtpeia, ср. Государство 504е 2-3), а также ясности и очевидности (сгафт^£1а, 511е 3,533е 4).
(3) Диалектический метод обширен. Это тот пункт, который, вероятно, с наибольшим постоянством и настойчивостью подчёркивается во всех текстах на тему диалектики. Ни софист, ни какой-либо иной «род» (yevog), читаем мы в «Софисте», никогда не сможет похвастаться тем, что ускользнул от метода диайресиса, разраничивающего понятия по роду и виду (235с 4-6). Целью этого обширного метода является определение (Definition), а потому вполне логична мысль о том, что определений требуют все идеи (Парменид 135а 3-5, d 1). Без прохождения через всё (av£u Trjg bia navTCOv 6ic£o6ou) невозможно напасть на истину и приобрести понимание вещей (Парменид 136е 1-2). В «Теэте-те» мышление философа характеризуется как «исследующее повсюду всякую природу (или устроение) каждого отдельного сущего как целого» (naoav 7idvxr] фяЗспл> £QEUvcopcvr) tcjv ovtcov Еклотои бЛон, 174а 1). Метод численно точного установления всех эйдосов (е1Ьг|) и их определений, требуемый в «Филебе», также должен быть обязательно применим ко всякому единому и многому (Филеб 17d 6-7). То же самое имеет в виду Сократ в «Федре», когда говорит, что «относительно природы каждой отдельной вещи» (7teql otououv фисгссод), сначала должен быть поставлен вопрос о единстве последней или, соответственно, о числе её частей, затем о способности и свойствах частей (270с 10-d 7). Без этого метода ничто не может быть сказано «как того требует искусство» (texv^) (271b 7-с 1), а путь исследования без него подобен хождению слепого (270d 9-е 1).
Таким образом, платоновская диалектика стремится быть наукой обо всём, всеохватной и отыскивающей элементы (cttoixeu*) всего сущего (о чём ниже будет сказано подробнее). Против науки такого типа Аристотель выдвигает в первой книге «Метафизики» то возражение, что ей, дескать, не от чего было бы отправляться, ибо осваивающий одну науку может прежде уже знать иное, но не предмет этой науки — а поскольку в данном случае предметом было бы «всё», то никакого предварительного знания не могло бы существовать. Но это сделало бы невозможным всякое научение, ибо совершается ли оно посредством доказательства, определения или индукции, в любом случае оно использует наличные элементы знания (Метафизика А 9, 992Ь 18-33). Как на такое возражение ответил бы Платон, даёт понять сам Аристотель, сразу же вслед за этим отвергая учение об анамнесисе (992Ь 33-993а 2).
До сих пор намерение диалектики охватить в буквальном смысле всё преподносилось как факт. Мы поймём это притязание лучше, когда услышим, почему Сократ является любителем (срасттг)с;) «разделений и сведений» (biaiQEcreu; Kat cruvaycuyai): чтобы уметь говорить и мыслить (iva olog те со Acyeiv те ка1 c|>qovelv, Федр 266Ь 3-5). Стало быть, задаваясь вопросом об условиях мышления и говорения, он находит эти условия в основных операциях метода диайре-сиса. Подобным же образом, Парменид в названном его именем диалоге объясняет, что допущение существования идей и определение каждого отдельного clbog являются
теми условиями, благодаря которым мышление вообще может быть на что-нибудь направлено (Парменид 135Ь 5-с 2). Логос возникает у нас в результате взаимного переплетения эйдосов (etbrj), говорится в «Софисте» (259е 5-6). Поскольку диалектика направлена на фундаментальные условия мышления, то не может существовать ничего умопостигаемого (votjtov), способного ускользнуть от неё.
(4) Итак, мы увидели, что платоновская диалектика представляет собой улучшенное искусство диспута Зенона, получившее новую онтологическую ориентацию и стремящееся в этой новой форме стать наукой — обширной наукой «обо всём», занятой обоснованием познания. А теперь спросим вместе с Главконом (Государство 532d 8) о характерной особенности (т^оттод) этой дисциплины. Мы не можем быть полностью уверены в том, что поняли смысл вопроса Главкона, но я всё-таки предполагаю, что под tqouoc; («способом») он подразумевает нечто вроде особенности либо же сочетания особенностей, присущего всем диалектическим рассуждениям. В первую очередь здесь, пожалуй, можно будет назвать метод вопросов и ответов. Чтобы при определении идеи блага; выдержать все эленхосы и не быть поверженным (Государство 534Ь 8-с 5), диалектик должен получить воспитание, благодаря которому он сможет с глубочайшим знанием дела спрашивать и отвечать (eQoredv те ica'i d7ioKQLV£a6ai emarT]povштата, 534d 9). Как утверждает Адимант в «Государстве» (487Ь 2-с 4), многие чувствуют себя обманутыми Сократом (этим первообразом диалектика), поскольку полагают, что малыми шагами он привел их к выводу, которого те не желают — но полагают они так по своей неискушённости в методе вопросов и ответов (brdnetQiav той eQCOTav ica'i d7roKQivea6ai), т. е. по нехватке диалектической выучки.
Тесно связан с разложением мысли на вопрос и ответ второй, столь же фундаментальный, признак диалектики: она постоянно имеет дело с противоположными позициями. Требование Адиманта (не являющегося, конечно же, подготовленным диалектиком): «мы должны пройти и противоположные аргументы», кажется ещё сравнительно безобидным и непрограммным (6eI yaq 6leA6eIv r)pag ка'1 тоид Evavxioug Aoyoug, Государство 362e 2); но его требование находится совсем близко от места, с которого начинается основное рассуждение, занимающее И-Х книги «Государства», и уже своим положением оно раскрывает своё несомненно программное значение. Более профессиональный оттенок имеет, однако же, увещевание старого Парменида, обращённое к Сократу, только что показавшему себя многообещающим молодым философом: при упражнении в диалектике, в котором, по мнению Парменида, Сократ ещё нуждается, нужно выводить следствия не только из допущения о существовании какого-либо предмета, но и из противоположного допущения — о том, что данный предмет не существует (Парменид 135е 8-136а 2). Совет Парменида подводит нас к третьему, также, пожалуй, постоянному признаку диалектической аргументации, а именно к требованию исходить из допущений (гтобёсгЕк;), следствия из которых должны поначалу выводиться без установления их истинности. К примеру, если речь идёт об оспариваемом Зеноном положении, что «многое существует», то при диалектическом исследовании оно поначалу приводит к двум условным положениям: «если многое существует» (eL тгоААа ectcl) и «если многое не существует» (el prj еоп тгоААа). Следствия из этих положений могут быть выведены лишь с привлечением имплицитно предполагаемого ими противоположного понятия «единое» (ev): в таком случае необходимо спросить, какие следствия возникают при каждом из двух допущений для многого в отношении к самому себе и к единому, и точно так же для единого в его отношении к самому себе и ко многому (Парменид 136а 4-b 1). Стало быть, для диалектической дискуссии по такому скромному положению, как «многое существует» (Icm тюЛЛа), требуется четыре пункта вопросов по каждой гипотезе, итого восемь подходов. Лишь прохождение всех восьми подходов (их часто ещё называют гипотезами) и родственных им аспектов, причем прохождение не единичное, а многократное, где каждое из диалектических понятий должно быть поставлено в связь со всяким другим, позволило бы вынести суждение по вопросу об истине (136Ь 1-с 5). Когда юный Сократ говорит здесь о «неслыханном предприятии» (d|xqx<xvoc; щэауратсих, 136с 6), это значит, что он очень точно понял задачу, обрисованную ему Парменидом — но только мы, сегодняшние читатели, не должны на основании слова «неслыханное» (djxqxttvog) заключать, к примеру, что поставленная цель недостижима. Речь точно идёт не об этом.
(5) Но вот любой ли человек смог бы вывести и назвать те следствия, которые вытекают из существования и несуществования единого для него самого и для многого? В этом случае диалектика не была бы искусством (техуп)/ ААЯ овладения которым требуется долгая учёба. Будучи таким, каков он теперь, не сумел бы проделать этого даже юный Сократ в «Пармениде». Эту задачу должен взять на себя сам Парменид. Он знает, какие вопросы следует задавать. Он спрашивает о части и целом, о начале, середине и конце, о месте и времени, о сходстве и несходстве, равенстве и неравенстве, тождестве и различии, о движении и покое единого (Парменид 137с-141е). Парменид не говорит о том, как он узнал об этих понятиях, почему он применяет именно их, он не обосновывает и последовательность, в которой задаются вопросы. Диалектик владеет этим понятийным инструментарием — вот всё, что показывают диалоги. Часть этих понятий встречается нам и в «Софисте», там они называются несколькими из числа величайших или высших родов (254с 3-4, d 4). Пять таких «величайших родов» (реуюта yevT]) гость из Элеи ставит в связь друг с другом: бытие, покой, движение, различие и тождество. Откуда он их берёт и почему в данной ситуации он выбирает именно эти пять, он также не говорит. Тем не менее — в противоположность Пармениду — он отмечает, что производит выбор («избрав какие-то из родов, считающихся величайшими», щюеЛоjLiEVOi tgjv pcyiaTcov Aeyopevcov <читай: dbcov> атта, 254с 3-4). То есть можно предположить, что, получив соответствующий вопрос, он мог бы сказать нечто и о причине выбора «величайших родов», и об их происхождении (методическом выявлении). Ни в одном из тех мест в диалогах, где упоминаются «величайшие роды» (рёуктта yevrj), высшие диалектические понятия, не заметно требования завершённости или же постановки вопроса о том, может ли ряд таких понятий вообще быть завершённым.
В историческом плане за высшими диалектическими понятиями Платона (помимо зеноновского способа вопро-шания) стоит пифагорейская «сюстойхйя» (oucftoixu*) или «рядоположение» десяти понимаемых в качестве принципов (aQxed) пар противоположностей, которые Аристотель воспроизводит в первой книге «Метафизики» (Метафизика А 5, 986а 22-26). Десятерица, рассматривавшаяся пифагорейцами как совершенное число, как будто указывает на то, что число пар противоположностей и завершённость перечня принимались ими в расчёт при его составлении, — пусть и малоубедительным для нас образом. Результат, если отправляться от Платона и Аристотеля, кажется несколько неоднородным, ведь рядом с основополагающими противоположностями, такими как «единое — множество» (ev — 7iArj0og), «предел — беспредельное» (neqac; — aneigov), появляются и такие, которые могут быть отнесены лишь к определённым классам предметов, например, «правое — левое», «мужское — женское» и «квадратное — прямоугольное». Более содержательными для нас являются данные Аристотеля и об Аристотеле. Александр Афродисий-ский в комментариях к аристотелевской «Метафизике» (250.17-20) пишет, что Аристотель занимался рассмотрением высших пар противоположностей во второй книге сочинения «О благе» (Пед'г тауабои), т. е. в рамках своего изложения и критики платоновского учения о принципах. Сам Аристотель отсылает в «Метафизике» к своему произведению, называемому «Подбор противоположностей» (’ЕкАоуг) tcov EvavTicjv, 1004а 2) или «Разделение противоположностей» (AiaiQEaig tcov evavxicov, 1054а 30), в котором он представлял в качестве принципа всех противоположностей их возведение (avaycoyr|, 1005а 1) к противоположности «единое — множество» (ev — 7iAf|0og). Он считал это одним из разделов логики противоположностей. В диалектике Платона эта же противоположность, носившая название «единое — неопределённая двоица» (ev — aoQiarog 6uag) (последняя в качестве принципа множественности), несомненно имела и онтологическое значение. Однако и сам Аристотель считает, что исследованием таких понятий, как «тождественное — иное» (xauxov — £T£QOv), «похожее — непохожее» (opoiov — avopoiov), «равное — неравное» (taov — aviaov), должна заниматься основополагающая философская наука, рассматривающая сущее как сущее (ov ov,
Метафизика Г 2, 1004а 31-1005а 18), ибо основные диалектические понятия свойственны сущему как сущему, присущи ему как таковому (тф ovxi ov i&ia, 1004b 15; та vtuxqxovtcl avтф $ ov, 1005a 14). Перечень подобных понятий, упоминаемых Аристотелем во второй главе четвёртой книги (Г) «Метафизики», является более полным, нежели любой их набор у Платона.
(6) Вместе с возведением противоположностей к некой первой противоположности (dvayoryf] xarv evavxicov), замысел которого, вне всякого сомнения, принадлежит не Аристотелю, а ещё Платону, мы переключились с попытки выявить общую характеристику (хдоттод) диалектики к вопросу о «путях» (обо!), или, быть может, также о «видах» (elbrj) высочайшей дисциплины. Конечно, целесообразно исходить из допущения, что вопрос Главкона о «специфике» (хдотгод), о «видах» (cibrj) и о «путях» (66oi) имеет для Платона точный тройственный смысл. Но поскольку эта терминология, насколько мне известно, нигде более не повторяется, а Сократ на вопрос Главкона не отвечает, то в наши дни мы не всегда можем с лёгкостью сказать, куда следует относить тот или иной момент диалектики: к числу её основных признаков, специальных методов или чётко очерченных областей исследования. В одной своей статье Конрад Гайзер перечислил шесть методов диалектики: (а) эленксис, (б) диайресис и сюнагогэ' (в) анализ и синтез, (г) месотес, (д) гипотеса, (е) мимесис152. На гипотетическом подходе я остановился выше при рассмотрении специфики (tqo7toc;) диалектики, хотя и понимал, что многие предпочтут назвать его чистым методом. Мимесис, понимаемый Гайзером как «исследование соответствий [...] меж/эу служащим мерилом единым первообразом [...] и многоразличными подражаниями», мог бы быть понят как определённая область работы, равно как и месотес, понимаемый как «определение нормоустанавливающей середины между отклонениями к большему и меньшему, слишком большому и слишком малому».
Три метода, названных Гайзером в начале перечня, действительно в наибольшей степени могут быть поняты именно как методы. Первым указан эленксис, он же элен-хос, восхваляемый в «Софисте» как величайшее и главнейшее из очищений (230d 7). Нигде религиозно-нравственная значимость диалектики не обнаруживает себя столь явно, как в эленктическом методе. Диайресис-и-сюнагогэ, вне всякого сомнения, также являются лишь одним из методов, пусть даже преподнесение этого метода в «Федре» (265d-266с) легко оставляет у читателя впечатление, что им охватывается вся деятельность диалектики. К такой же мысли можно было бы прийти, прочитав о четырёх заданиях диалектика (Софист 253de), однако последующее исследование сочетаемости (koivcovux) высших родов (Софист 254с и след.), состоящее не в разделении по родам (ката yevr| biaiQELo6ai), способно избавить от этого заблуждения. Метод диайресиса ведёт к выявлению высших родов, являясь, таким образом, определяющим для того «генерализирующего» (или направленного на поиск всебщего) способа во-прошания, который Аристотель приписывал Академии; его значение неоднократно разъяснял X. Й. Кремер (как и отношение этого метода к комплементарному ему «элемен-таризирующему» направлению вопрошания, нацеленному на выявление элементарных составных частей (cjTOtxela) и использующему метод анализа и синтеза целого и частей153). Эти три метода — эленхос, диайресис-и-сюнагогэ и анализ-и-синтез объединены тем, что они применимы ко всему, но освещают всё только под одним углом зрения.
(7) Если слово Eibrj в вопросе Главкона означает «виды», а «виды» должны обозначать нечто иное, нежели обо! («пути» или методы), то под etbrj могли бы подразумеваться частные дисциплины, т. е. области задач диалектика, которые, естественно, должны были бы подразделяться в соответствии с предметными областями действительности. Диалоги содержат кое-какие сведения, с помощью которых можно было бы конкретизировать такое толкование. Во-первых, нужно напомнить о том, что образование правите-лей-философов в идеальном государстве предусматривает две отделённые друг от друга фазы занятия диалектикой, причём лишь вторая фаза, в которую вступают в возрасте пятидесяти лет, посвящена рассмотрению идеи блага (Государство 5376. 3-7, 540а 4-Ь 2). Если мы не хотим объявить это разделение образования на две фазы чистым произволом, то должны признать, что учение об идеях и теория принципов являются двумя пусть глубоко родственными и связанными по своему содержанию, но всё же ясно отграничиваемыми друг от друга частными дисциплинами одной обширной наукой (£тисгтг}рг)) диалектики. С эпистемологической точки зрения это очевидно, ведь не напрасно способы познания подразделяются в соответствии с видами предметов, как показывается в сравнении с линиями (Государство 509d-511e) и не напрасно все другие идеи — это «сущность» (оиош), тогда как идея блага — «превыше сущности по силе и достоинству» (£7i£K£iva xfjg ойошд buvapei кal 7rQ£ap£U£, 509b 9). Но «Государству» также известен предметный класс математических объектов (ра0г)ратпса). Их специально-научное исследование, разумеется, не относится к диалектике, однако те из адептов, кто отличается философским дарованием, должны быть приведены к «обозрению» (cruvoipig) родства математических специальностей друг с другом и с природой сущего (Государство 537с 1-3, ср. 531с 9-d 4; Законы 967е 2)154. Стало быть, (уществуют структурные сходства, которые связывают математические науки (равт]рата) не только между собой, но и со всей «природой сущего» (той ovxog фйснд) в целом. Исследование этих сходств, естественно, является задачей не какой-либо специальной дисциплины, но диалектики. Ибо в способности к обозрению, как говорится именно в этом контексте, проявляет себя диалектическая одарённость: кто способен к такому обозрению, тот — диалектик, а кто не способен — нет (6 pev yaQ auvoTCTiicog ЬихЛектисод, 6 be pf] ой, 537c 7). Со следующей, быть может, несколько неожиданной, частной областью диалектики мы сталкиваемся при попытке ответа на вопрос о том, как Сократ определяет в «Государстве» и «Федре» более длинный путь диалектики, который не может быть пройден в самом диалоге. В четвёртой книге «Государства» содержанием «более длинного пути» (paKQoxeQa 6bog) является точное исследование души — её единства либо многосоставности, в шестой книге — определение сущности (tl ecjtlv) идеи блага (435d 3, 504b 1-d 3). Само собой разумеется, здесь нет никакого противоречия, да и к спекуляциям на темы поступательного развития мысли Платона, согласно которым он изменил свой взгляд на этот вопрос, оба эти места не дают никакого повода155 156. Скорее обе темы являются предметом диалектики: идея блага как высшая точка умопостигаемого мира, идея души — как его нижняя кромка. Ибо и душа есть нечто умопостигаемое (vot]t6v), как прямо утверждается в «Законах» (898d 9-е 2), а постижение её истинного образа было бы, согласно «Фед-ру», задачей «божественного и длинного изложения» (0ciag ка1 paKQdg Ь1Т)уг|сг£сид, 246а 4-5), т. е. диалектического исследования11. Оно должно было бы вовлекать в себя рассмотрение «природы мирового целого» (Федр 270с 1-2), первое представление о чём даёт нам теория души в «Ти-мее».
Назвав такие тематические области, как душа, обозрение родства математических наук (равгцтата) друг с другом и с природой сущего, учение об идеях и учение о принципах, мы тем самым идентифицировали четыре крупные области работы диалектика, которые не рассматриваются в диалогах или же рассматриваются недостаточным образом, о чём прямо говорится относительно двух из этих областей — души и принципов. Но это ещё не всё. В дополнение к этому мы находим в диалогах ряд очень точно сформулированных вопросов, имеющих непосредственную значимость в контексте соответствующего рассуждения, но тем не менее сопровождающихся уверениями в том, что здесь и сейчас они не могут быть исследованы. Некоторые из этих вопросов без труда можно соотнести с какой-либо из четырёх тематических областей, в случае других возможность такого соотнесения остатся открытой, пожалуй, потому, что они затрагивают несколько областей сразу. В «Тимее» остается открытым вопрос о сущности (Identitat) демиурга, поскольку о ней невозможно сообщить всем (28с 3-5), а равно и вопрос об определении и числе принципа либо принципов всех вещей — также по причине трудности сообщения об этих предметах тем способом, который избран для настоящего диалога (или, вернее, монолога) (48с 2-6), и, наконец, мы слышим, что над элементарными треугольниками, являющимися принципами тел, имеются ещё более высокие принципы (aQxai)/ известные богу, а среди людей — тем, кто мил бшу (53d 6-7), — иначе говоря, существуют ещё более высокие принципы, они также доступны человеческому познанию, но здесь не получат развёрнутого рассмотрения. На вопрос о том, что же представляет собой ф1Л6сгофод, хотя и даётся краткий ответ в «Софисте» (253с-е), но срочно требующееся более точное исследование и более ясное раскрытие его сущности и смысла его деятельности откладываются до разговора, который должен состояться через раз — и который никогда не состоится, см. выше, с. 272 (254Ь 3-4: 7I£qL pev тоитои ка1 тах« етасжефореба оафёотерсгу, «его мы вскоре рассмотрим яснее»). Тема высшего принципа выносится из обсуждения, будучи представлена не только в форме вопроса о сущности (tl ecttiv) блага (Государство 506е), но и в форме вопроса о «точном как таковом» (аито то aKQtpcg, Политик 284d 1-2)157. О принципе дурного в мире говорится лишь, что его нужно искать где-либо в ином месте, нежели у бога (Государство 379с 6-7).
Идеальные числа нигде не становятся темой рассмотрения, хотя «число» (dQiBpog) играет значительную роль в нескольких текстах о диалектике (напр., Софист 254е 3-4, Теэтет 185d 1, Филеб 16d 8, 17е 5, 18с 5, 19а 1, Федр 270d 6, 273е 1). В этих текстах не раз всплывают фрагменты учения о категориях (например, Софист 255с 12-13, Гиппий больший 301Ь 8, Евтифрон 11а 7-8) — что речь действительно идёт об обрывках, а не о целом, открывают нам лишь более полные данные косвенной традиции158. Наконец, в «Хармиде» говорится о задаче для великого человека, которая состояла бы в исследовании того, мшут ли они направлять свою «способность» (buvapig) на самих себя, или нет (169а 1-5). Тот факт, что данный вопрос мог бы представлять важность для учения о душе и идеях, а равным образом и для логики «величайших родов» (рёуюта yevrj), не требует долгих разъяснений.
(8) Выполнима ли, по убеждению Платона, программа диалектики? Является ли амбициозная познавательная цель диалектики вообще достижимой для человека? Дух постметафизического мышления конца XX века часто заставляет сомневаться в этом159. Мы, однако же, должны остерегаться некритически переносить отрицание, знаменующее конец 2300-летней метафизической эпохи, на её начало. Из многочисленных указаний диалогов на то, что их автор считает цель диалектики достижимой, мы приведём здесь лишь немногие.
Сперва обратим наше внимание на то, что Сократ отнюдь не отвергает представление Главкона о том, что диалектика в итоге привела бы к отдохновению и к концу путешествия (тёЛод xfjg ттодеихд 532е 3): ошибка Главкона лежит не здесь. Притча о пещере сбивала бы с толку, более того, оказалась бы бессмысленной, будь её автор убеждён в недостижимости цели; ибо поднимающийся ввысь из пещеры достигает полноценного видения солнца, вместо того, чтобы — в соответствии с упомянутыми нами интерпретациями — обнаружить наверху толстый слой облаков, который никогда не рассеивается и не позволяет узнать, есть ли над ним вообще какое-нибудь солнце. Помимо этого Сократ в нескольких местах даёт понять, что существование истинных диалектиков, достигших цели на пути познания блага, для него уже сейчас — а не только в некоем будущем идеальном государстве — является данностью (например, 519d; аналогичным в этом отношении является Федр 266Ь 5с 1). Идеальное государство Платона отнюдь не является утопическим в том смысле, что осуществление власти в нём опирается на познание блага, а это заведомо невозможно. Нет, Платон подчёркивает, что такое государство возможно (499d, 502с, 521а, 540d), но состояться ему нелегко, поскольку вероятность совпадения политической власти, распростра-'ungeschriebene Lehre' nicht geschrieben? 1991 // Gnomon 1997. Bd. 69. S. 404-411; (тж. с небольшими дополнениями в кн.: Szlezdk Th. A. Die Idee des Guten in Platons Politeia. S. 133-146).
нённой повсеместно, и достаточного познания блага, имеющегося у немногих диалектиков — причём имеющегося уже сейчас, — крайне мала (что мы, в свою очередь, ошибочно обозначаем современным словом «утопично»). Добавим ещё, что совет Парменида юному Сократу поупражняться в диалектике и его готовность вести первые шаги этих упражнений (Парменид 135с-137Ь) были бы циничной насмешкой над Сократом и читателем, если бы Парменид (и стоящий за ним автор) был убеждён, что диалектика никогда не может достигнуть своей цели. И как следовало бы оценивать богов, передавших, согласно «Филебу», диалектическую теорию в дар людям (16с 5), хотя знали — будучи богами, — что их подарок бесполезен? Всё это было бы абсурдным.
Но сколь достоверно то, что диалектика в понимании Платона достигает своей цели и что философ достаточным образом (hcavcog, Государство 519d 2, ср. 518с 9-10) познаёт идею блага, столь же недопустимо забывать, что не существует никакой гарантии достижения цели. При общении с Сократом лишь те, согласно «Теэтету», делают успехи, «кому именно произволяет бог» (o1<j7T£q av 6 0£og TcaQEiKq, 150d 4). Сам Сократ, согласно «Филебу» (16b 5-7), на пути диалектики оказывается в одиночестве и недоумении. Искра познания выскакивает после долгого использования средств познания (Седьмое письмо 343е 1-344с 1), когда и у кого — предсказать невозможно. «Божественный» процесс никогда невозможно полностью подчинить человеческой режиссуре.
(9) Диалектика, будучи по существу своему живым процессом, постоянно обозначается метафорами пути, хождения и ведения. Путь освобождённого обитателя пещеры наверх к свету — это «восхождение» (dvd(3a<Jig и avobog, Государство 517Ь 4-5, 519d 1, ср. «подниматься»,
CTiaviivai, Пир 211с 2), диалектическое предприятие — это «более длинный» или «обходной» «путь» (ракдотёда обод или гседюбод, 435d 3, 504b 2), который Сократ также называет просто «диалектическим путешествием» (бихАектист] Tiogeia, 532b 4). При определении идеи блага философ «проходит, словно во время битвы, через все эленхосы», не будучи поверженным, он «продвигается через всё это» (cbcmeg ev раэд бих TiavTcuv eAeyxcov 6ie£ic6v, [...], ev тсасл toutoig алтат тф Aoyco бихтюд£иг)та1, 534c 1-3). Вообще от диалектика требуется прохождение всех вопросов, сформулированных в соответствии со всеми возможными подходами («прохождение через всё, но также и блуждание», бих navтагу 6i££o6og т£ Kai 7iAdvTi, Парменид 136e 1-3)160, или проведение через все ступени познания с перемещением вверх и вниз к каждой из них (г) 5ia Tidvxcov аитогу buxycoyrj, avсо ка1 ката; p£Ta(3aivouaa £ф' екаатоу, Седьмое письмо 343е 1-2). Оба отрывка помимо прохождения или же проведения также подчёркивают кажущуюся бесцельность «блуждания» или же попеременного движения «вверх и вниз». Однако у продвижения есть конец и цель (теАод), и диалектик не останавливается до тех пор, пока не достигнет цели (Государство 532а 7-Ь 2, Седьмое письмо 340с 6).
Что следует за «прохождением через всё» (бих 7iavTa;v 6ii£o6og)? Естественно, созерцание (беа). Вместе две фазы — сам путь и конечное узрение цели — Сократ в конце притчи о пещере именует «восхождением наверх и созерцанием того, что наверху» (xf]v dvco avdpaaiv Kai 6cav тагу av со, 517b 4). Познание в конце мыслительного процесса приходит внезапно, оно вспыхивает, как свет, зажжённый выскочившей искрой (Седьмое письмо 341с 7-d 1, ср. 344Ь 7;
e&ucjrvrjc; («внезапно») 341с 7 и Пир 210е 4). Внезапность просветления определённо является главным основанием — помимо ступенчатой инициации, переживания счастья и обязательства неразглашения — использования мистери-альной метафорики в посвящённых Эросу диалогах «Пир» и «Федр», а равно и в других произведениях161.
Является ли созерцание всё ещё частью диалектики? Оно является её целью, но поскольку вспышка понимания означает качественный скачок по сравнению с длительным «прохождением через всё», и поскольку это озарение невозможно вызвать принудительным образом, то созерцание, быть может, следует понимать как трансцендентную цель диалектики. В таком случае диалектика была бы дискурсивным воспроизведением отношений и связей в умопостигаемом мире, к которому должно добавиться подлинно ноэтическое уразумение умопостигаемых сущностей, понимаемое Платоном как интеллектуальное созерцание, как непосредственное «видение» (Lbelv, Kaxibclv, 0cdaaa0at). Чтобы прийти к этой своей цели, диалектика должна трансцендировать самоё себя, качественно преобразиться и стать умозрением (vorjaig). Прозрение происходит внезапно, т. е. не может быть измерено во времени и в этом смысле совершается вне времени, принося познающему чувство счастья — ни того, ни другого нельзя сказать о дискурсивно-сти (6ii£o5o<;).
(10) Вместе с чувством счастья, возникающим при созерцании, мы, наконец, подошли и к теологическому аспекту диалектики. Эвдемония является привилегией богов и божественного. Если она и встречается среди людей, то несомненно потому, что предоставлена божественным. Боги чисты, а потому своей первой предпосылкой диалектика, ведущая нас к божественному, имеет этическое очищение диалектика (мысль, которую XIX и XX век переваривали с трудом).
Сами боги обязаны своей божественностью непрекра-щающейся ноэтической связи с идеями (Федр 249с 6: щюс; о!стер 0eog d)v 6eI6<; ecrxiv, «именно пребывая при которых, бог существует как божественный»). Стало быть, идеи — это божественное в собственном смысле слова: чистое, неизменное, вечно сущее, в котором властвует порядок и гармония, отсутствует несправедливость и что бы то ни было дурное. На эту область должен ориентироваться познающий человек, ей он должен пытаться уподобиться (Государство 500cd, ср. 611е, 613аЬ). Это уподобление бшу определяет судьбу человека уже здесь при жизни, равно как и судьбу его бессмертной души в загробном существовании. Таким образом, уподобление бшу, возможное только благодаря справедливости и философии, определяет то, что является, должно быть, вообще самым важным для человека. Этим объясняется почти обязательно присутствующее в текстах о диалектике уверение в том, что речь идёт о великом и величайшем, в сравнении с чем все остальные интересы человека незначительны, даже смехотворны. Я цитирую только отрывок Федр 274а 2-3: «[...] длинный обходной путь, [...] который должно пройти ради великих целей» ([...] ракра г) TiEQLobog, [...] pcyaAcov yap eveKa TiepiiTEOv).
He означает ли уподобление неизменному миру идей потерю подвижного и живого, собственно человеческого бытия? Однако истинный человек — это его душа, а в душе — её мыслящая часть. Человеческое в том смысле, в каком оно есть земное и тварное, этой концепцией действительно отрицается — в пользу «высшего» или «истинно» человеческого. Однако последнее не является безжизненным, ибо мир идей — живой; ему, согласно «Софисту» (248е 6-249а 2), присущи душа (фихп), движение (idvr|(7ic;), жизнь (£сог|) и ум (voug). Идея мыслит себя самоё162. Причастность к этой высшей жизни оправдывает, по мнению Платона, отказ от всего, что могло бы оказаться помехой этой форме жизни.
Диалектика является единственным путём к познанию высочайшего принципа, идеи блага (Государство 533с 7). Лишь это познание придаёт всему прочему познанию ясность, ценность и пользу (505а, 506а). Данная нам возможность приобщиться к знанию, составляющему жизнь богов, может быть воспринята как дар богов для спасения, по сути, заблудшего человечества, брошенный с помощью как бы некоего Прометея (0ecov eu; dvOpdmoug boaic; [...] 6ia xivog Прорг|0£со<;, Филеб 16c 5-6). Всё положительное в человеческой жизни берётся, в конечном счёте, отсюда (ср. Филеб 16с 2-3). Когда Сократ говорит, что следует за тем, кого считает диалектиком, по пятам, как за богом (Федр 266Ь 6-7), его слова уже не представляются нам полукомичной риторической гиперболой: диалектик является, по меньшей мере, представителем бога, поскольку он способен передавать главный божественный дар. Приобщаясь к диалектике, мы будем не только говорить и поступать так, как любезно богу (Федр 273е и след.), что имеет определяющее значение для судьбы человека; нет, Платон дает ещё более дерзновенное обетование: философ, который, подражая богам, постоянно сосредоточен на объектах их мысли, т. е. на идеях, становится, благодаря постоянной инициации в эти совершенные мистерии (teAeoix; a£l теАетск; TEAoupEVog) единственным, кто поистине совершен (teAeck; ovtcoc; povog yiyvcxai, Федр 249с 7-8). А совершенство включает в себя эвдемонию: в той мере, в какой последняя достижима для человека, она становится достоянием диалектика (277а 3-4).
Томас Александр Слезак (р. 1940) является одним из видных представителей «тюбингенской школы» платоноведения, получившей широчайшую мировую известность благодаря своему новаторскому подходу к реконструкции философских взглядов великого греческого мыслителя,
С 1959 по 1967 год Т. А. Слезак изучал классическую филологию, философию и историю в университетах Эрлангена, Мюнхена и Тюбингена. Свою кандидатскую диссертацию на тему из области позднеантичного комментирования Аристотеля он защитил в 1969 году в Берлинском Техническом университете («Псевдо-Архит о категориях. Тексты к греческой экзегезе Аристотеля» (Pseudo-Archytas iiber die Kategorien. Texte zur griechischen Aristoteles-Exegese), вышла в печать в 1972 году). Б 1976 году в Цюрихском университете Слезак защитил докторскую диссертацию «Платон и Аристотель в учении Плотина о нусе» (Platon und Aristoteles in der Nuslehre Plotins, опубликована в 1979 году), в которой впервые подверг систематическому филологическому анализу плотиновский метод философской экзегезы «классиков» Платона и Аристотеля. После нескольких лет научной и преподавательской деятельности в должности приват-доцента в Цюрихе в 1983 году Т.А. Слезак перешел на кафедру классической филологии Вюрцбургского университета. В 1985 году вышла его книга «Платон и письменность философии». Предложенная в ней интерпретация ранних и средних диалогов показывает, что господствующее понимание платоновских сочинений в качестве самодостаточных произведений (которым по этой причине не требовалось бы дополнения со стороны устной философии Платона) опровергается самим же платоновским текстом — результат, в корне изменивший характер продолжавшейся десятилетиями дискуссии вокруг устной философии принципов Платона. Данная работа также вышла в итальянском переводе (Милан, 1989). В Италии было опубликовано и первое издание книги «Как читать Платона» (Милан, 1991).
К областям научного интереса Т. А. Слезака также относятся греческая трагедия V в. до Р. X. и «Метафизика» Аристотеля; помимо ряда статей и рецензий на эти темы, опубликованных им за прошедшие годы, следует в первую очередь упомянуть выполненный им перевод «Метафизики», вышедший в свет в Берлине в 2003 году.
С 1990 года Т. А. Слезак преподаёт на кафедре древнегреческой филологии Тюбингенского университета, а в 1995 году становится кооптированным членом философского факультета. В 1992 году он был избран членом-корреспондентом Брауншвейгского Научного общества. В 2004 году Т. А. Слезаку было присуждено звание почётного гражданина «города Платона» Сиракуз (Cittadi-nanza Onoraria di Siracusa) в знак признания его заслуг в области платоноведения. В этом же году под названием «Образ диалектика в поздних диалогах Платона» (Das Bild des Dialektikers in Platons spaten Dialogen) вышла в свет вторая часть исследования «Платон и письменность философии», а годом ранее — книга «Идея блага в “Государстве” Платона» (Die Idee des Guten in Platons Politeia).
C 1992 года и по настоящее время Т. А. Слезак занимается редакторской деятельностью в качестве члена редакционной коллегии Международного Платоновского общества (International Plato Society).
СОДЕРЖАНИЕ
Глава тринадцатая. Определение философа из его
Содержание
312
Thomas A. Szlezak. Platon lesen. — Stuttgart-Bad Cannstatt: frommann-holzboog, 1993. — 174 S. ISBN: 3-7728-1578-2.
Слезак T.A. Как читать Платона / Пер. с нем., С47 предисл. и примеч. М. Е. Буланенко. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008. — 314 с.
ISBN 978-5-288-04780-0
Книга Т. А. Слезака (р. 1940) «Как читать Платона» представляет собой ёмкое и содержательное введение в проблемы современного платоноведения. Вместе с Х.И.Кремером и К. Гайзером автор принадлежит к так называемой «тюбингенской школе», главным направлением деятельности которой является реконструкция «неписаного учения» Платона. Ставя в центр своей интерпретации «критику письма» в «Федре», Слезак понимает диалоги как драмы, цель которых — направить от письменного текста к устному обучению, способному привести ученика к совершенному знанию и духовному преображению. Перенос внимания с текста на устную традицию (как среду возникновения, передачи и нормативной интерпретации текста) позволяет Слезаку более полно воссоздать исторический облик платоновской философии.
ББК87
Научное издание
Томас Александр Слезак
КАК ЧИТАТЬ ПЛАТОНА
Редактор О. В. Кирпичникова Корректоры А. Ю. Рубцова, Е. В. Величкина Обложка художника Е. А. Соловьевой Компьютерная верстка Ю. Ю. Тауриной
Подписано в печать 27.04.09. Формат 70*100 V32. Печать офсетная. Бумага офсетная.
Уел. печ. л. 12,84. Тираж 500 экз. Заказ 170.
Издательство Санкт-Петербургского университета. 199004, С.-Петербург, В.О., 6-я линия, 11/21. Тел./факс (812)328-44-22 E-mail: editor@unipress.ru
По вопросам реализации обращаться по адресу: С.-Петербург, В.О., 6-я линия, д. 11/21, к. 21 Телефоны: 328-77-63,325-31-76 E-mail: izdat-spbgu@mail.ru
Типография Издательства СПбГУ.
199061, С.-Петербург, Средний пр., 41.
1
Название книжной серии немецкого издательства, выпустившего книгу Т.А.Слезака: «Книги, которые следует прочесть» (лат.). — М. Б.
(обратно)2
В дальнейшем эта книга будет цитироваться под аббревиатурой PSP.
(обратно)3
Общее мнение (лат.). — М. Б.
(обратно)4
Впервые обзор, ничуть не утративший научной ценности и сегодня, предложила Т. В. Васильева в статье «Неписаная философия Платона» (1977). Недавнее обсуждение этой темы можно найти в работе И. Н. Мочаловой (2000), где также приводится библиография по данному вопросу (однако произведения Слезака в этом обсуждении остаются незатронутыми).
(обратно)5
В таком порядке представлены и имеющиеся свидетельства косвенной традиции о неписаном учении в книге Конрада Гайзера (Gaiser, 1963).
(обратно)6
Схожие высказывания можно найти в «Государстве» (о том, что философ достаточным образом познаёт идею блага как принципа всего существующего: 519d 2), в «Федре» (о философе, «знающем, какова истина»: et&ax; rj то dArj0£^ Ixei/ 278с 4-5) и многих других местах диалогов.
(обратно)7
Особенно ясно это показал Карл Альберт в своей книге «О понятии философии у Платона» (Albert, 1989).
(обратно)8
Помимо уже приводившейся работы Альберта следует назвать его недавно вышедшую книгу «Философия как религия» (Albert, 2002).
(обратно)9
Назовём лишь самые основные работы этого направления. Британец Питер Стросон (Strawson, 1959) и американец Сол Крип-ке (Kripke, 1980) возвращают понятию субстанции центральное место в онтологии; немецкий физик Карл Фридрих фон Вайцзеккер (Weizsacker 1981) предпринимает попытку осмыслить с позиции платоновских диалогов «Теэтет», «Софист», «Парменид» и «Тимей» современное естествознание (в том числе, квантовую физику) и его логические основания; реалистическую (в средневековом смысле) теорию категорий создаёт Родерик Чизэм (Chisholm, 1996); на Аристотеля опирается в своих работах по философской психологии ряд видных американских философов, в том числе Хилари Патнэм (Putnam, Nussbaum, 1992. Р. 27-56); статья Элизабет Энском (Anscombe, 1958. Р. 1-19) послужила отправным пунктом для рецепции Аристотеля в современной этике (частью этого движения являются, помимо прочих, Чарльз Тэйлор и Аласдер Макинтайр); в недавнее время привлекла к себе внимание попытка Джона Мак-дауэла (McDowell, 1994) объединить в одном подходе этику, теорию познания и онтологию с опорой на Аристотеля.
(обратно)10
Скажем, в трудах преп. Иоанна Дамаскина (VIII в.) можно найти своего рода энциклопедию христианства («Источник знания», Пт|уг] yvcocreax;), органично вобравшую в себя наследие Аристотеля (особенно это относится к разделу «Философские главы» (Кеф&Лаш фьЛоаофпах), в котором значения понятий, употреблявшихся отцами Церкви, последовательно отграничиваются от исходных значений этих понятий у Аристотеля) (см. ОеЫег, 1968. S. 394-396). Примечательно, что первые в русской письменности переводы из «Философских глав» содержатся уже в «Изборнике» Святослава 1073 года.
(обратно)11
См., напр., Anscombe, 1958. Р. 18-19. — Эго допущение отражает широко распространившееся (и одновременно весьма поверхностное) представление о том, что христианство не является самостоятельной духовной и исторической силой, представляя собой одну из комбинаций иудейства и эллинства.
(обратно)12
Из многочисленных мест в самом Писании, отсылающих к устному Преданию, можно назвать хотя бы: Ин. 21:25, Деян. 1:3, Кор. 4:16 и 2 Фес. 2:15.
(обратно)13
Известный православный философ религии Ричард Суинберн (Swinburne, 1994. Р. 226-227) отмечает, что подобная христоло-гия типична для эпохи Просвещения (отрицающей традицию), но при этом является отнюдь не новым изобретением либеральной теологии, а разновидностью давно известного Церкви (и отвергнутого ею) несторианства.
(обратно)14
Об этом эпизоде см. тж. ниже, с. 161-163.
(обратно)15
Применительно к человеку (лат.). Полемический арумент, доказывающий неприемлемость позиции оппонента путём выявления не её содержательных недостатков, а тех черт в личности оппонента, которые вступают в противоречие с высказываемой им позицией. — М. Б.
(обратно)16
Ср. интерпретацию этого диалога в PSP (S. 191-207, особ. 197-198).
(обратно)17
Диалоги, в которых ставятся проблемы, не имеющие однозначного решения (от греч. aTioQia — «затруднение»); в более специальном смысле — проблема, любое решение которой неминуемо приводит к возникновению всё новых противоречий. К апоре-тическим диалогам относится, например, «Менон». — М. Б.
(обратно)18
Вводная часть произведения, вступление, зачин (греч.). —
(обратно)19
Диалоги, в которых изображается борьба (греч. dyorv) соперничающих точек зрения (например, «Протагор»). — М. Б.
(обратно)20
Ср. Кратил 383b-384a, 427de; Евтифрон 3d, 11ЬД4с, 15е; Протагор 341d; Хармид 174Ь; Горгий 499Ьс; Гиппий меньший 370е, 373Ь; Гиппий больший 300cd; Ион 541е.
(обратно)21
Для более подробного ознакомления с этой интерпретацией «Евтидема» ср. мою статью (Szlezak, 1980. S. 75-89), а также главу, посвящённую «Евтидему» в PSP (S. 49-65).
(обратно)22
Почти в каждом диалоге содержатся места, имеющие отношение к этой теме. Развёрнутую картину сократовского способа передачи философских познаний см. PSP.
(обратно)23
Собственно говоря, вопрос: «Что есть (благо)?». — М. Б.
(обратно)24
О рассмотрении эпизодов умолчания в Платонов еден и и ср. PSP (S. 324-325, вместе с прим. 144). Первым, кто ясно осознал значение этих эпизодов, был Ханс Иоахим Кремер (Kramer, 1959. S. 389 и след.).
(обратно)25
От греч. ртегткг) — «повивальное искусство». В переносном смысле — метод наводящих вопросов, посредством которых ведущий собеседник (прежде всего Сократ) помогает своему партнёру по разговору «извлекать» кроющееся в его душе истинное знание. — М. Б.
(обратно)26
Это, впрочем, не имеет ничего общего с тем обстоятельством, что от реакций соответствующего собеседника зависит, какую долю своих воззрений и познаний сообщит ему Сократ (см. ниже, с. 161-163).
(обратно)27
От греч. opoAcryia — «согласие», «соглашение». — М. Б.
(обратно)28
Пир 175b, 220cd; Критон 49а; Менон 81а; Горгий 493а; Гиппий больший 304d; Государство 505а 3, 61 lb 9-10; Федон ЮОЬ 5.
(обратно)29
Здесь и сейчас (лат.). — М. Б.
(обратно)30
Одним из первых был Генрих фон Штейн (Stein, 1862.1. S. 1112); в недавнее время влиянием пользовался Людвиг Эдельпггейн (Edelstein, 1962. Р. 1-22).
(обратно)31
6 В PSP я попытался восполнить это упущение, которое существует в платоноведении со времён Шлейермахера (создавшего первый задел для такого подхода к рассмотрению «Федра»).
[Строго говоря, первая попытка объяснения особенностей платоновских диалогов исходя из критики письма в «Федре» принадлежала В. Г. Теннеманну (о Теннеманне см. ниже, с. 84-85), см.
(обратно)32
этом статью автора (Szlezak, 2004. S. 130-13). Однако у Шлейермахера эта мысль явилась частью нового систематического похода к исследованию Платона, в основе которого лежит представление о неразделимости формы и содержания в произведениях этого «ху-дожника-философа» (philosophischer Kunstler). Поэтому здесь вполне справедливым будет говорить о новом начале, связанном с именем Шлейермахера. — М. Б.]
(обратно)33
Единственное исключение составляет, вероятно, вторая часть «Парменида».
(обратно)34
По выражению Пауля Фридлендера, «диалог — это единственная форма книги, которая, как кажется, преодолевает саму кни1у» (Friedlander, 1964.1. S. 177).
(обратно)35
Во «Введении» к своему переводу Платона (Schleiermacher, 1804. Bd I. S. 5-36).
(обратно)36
Ср. цитату на с. 82.
(обратно)37
В притчу облегши слова, предлагаю я добрым загадку, Может и подлый ее, если умен он, понять
(Феогнид, пер. А. Пиотровского.) Много есть острых стрел В колчане у моего локтя.
Понимающим ясны их речи —
А толпе нужны толкователи.
Мудрый знает многое отроду
(Пиндар, пер. М. Гаспарова.)
(обратно)38
См. тж. ниже, с. 237-238, вместе с прим. 2.
(обратно)39
Ксенофан DK (Diels-Kranz) 21 В 10.
(обратно)40
Ксенофан DK 21 В 15 и 11.
(обратно)41
Гераклит DK 22 В 42.
(обратно)42
Свидетельства представлены у DK 8 А 1-4; ср. Lanata, 1963. Р. 104 и след.
(обратно)43
Так называемый «папирус Дервени»; его текст, снабжённый отдельной пагинацией, воспроизведён в журнале Zeitschrift fur Papyrologie und Epigraphik («Derveni-Papyrus», 1982).
(обратно)44
«Ты, как мне кажется, устроил наше собрание и похвальную речь нашему городу не без тайного умысла ("не просто") и не так, как ты сам нам об этом сказал, но с намерением испытать, радеем ли мы о нашем образовании ("философствуем ли мы"), помним ли о том, что было сказано в наших рассуждениях, и способны ли распознать, на какой лад составлена речь» (... бокей; бё poi 7ioi7]aaa6ai xfjv те TtaQaicArjaLV xf]v TjpexeQav iaxi xov enaivov x6v xrjQ 7ioAecog oux ajiAcoc;, ovb' ax; 6ieiAe£ai tiqoc; fjpag, aAA' fjpdrv p£v TielQav Aafelv pouA6pevo<;, el фьЛоаофойр^ ка1 pepvt^peGa xojv ёv тай; биххффаи; Atyop^arv ка! cruvibelv 6uvrj0el|iev av ov xQOTtov 6 A6yo<; xuyxAvei yeypappivog, Исократ, 12. 236). Cp.: PSP (S. 360, вместе с прим. 42); Erler, 1992. S. 122-137.
(обратно)45
«Об остальном из произнесённого им я не сказал ничего — ни того, что он со своим скрытым смыслом угадал моё намерение, ни того, что он его не угадал, — но оставил его в том состоянии, в которое он сам себя привёл» (... tieq'i 6е tcov aAAcov ou&ev ефвеу£арг^ cov eltiev, оив' ox; etuxcv тай; unovoiau; тг|д Eprjg biavoiag, ойв' cog bu^papTEv, аАЛ' eicov aurov оитсод ex^iv cIkj7ieq> auxog auTOV 6i£0r|KEV, Исократ, 12. 265).
(обратно)46
«Симонид ... стало быть, выразился загадкой» (r|vi£aTO apa ... 6 LipcjvLbrjg, Государство 1,332b 9).
(обратно)47
Непривычное употребление этого русского слова в данном контексте оправдывается несколькими соображениями: во-первых,
исходным значением греческого ауаббд («хороший», «благой») является, как известно, добротность, годность в самом широком смысле (этот же смысл имеет и производное от него существительное £р£тг), традиционно переводимое как «добродетель» и означающее свойство, благодаря которому нечто или некто полноценно осуществляет своё назначение); во-вторых, такое словоупотребление подтверждается самим текстом стихов: в них говорится о доброкачественном сложении всего человека как целого, а равно и частей, входящих в это целое (включая ум). — М.Б.
(обратно)48
Ср. Albert, 1989: платоновское понятие философии Альберт развивает в первую очередь из «Пира» и «Федра», не затрагивая его раннее предвосхищение в «Протагоре». См. тж. ниже, с. 247.
(обратно)49
«...и поэтов невозможно расспросить, о чём они говорят, и цитирующие их — одни утверждают, что поэт разумеет это, другие же, что другое, — рассуждая о том, чего не в состоянии установить» (...оид [читай: тои<; тто1Г)та<;] бите dvepeaQai olov т' ecrriv 7iep'i arv A£youaiv, enayopevoL те auroug oL pev тamd (f>acnv t6v попусту voelv, ol 6' £tера, tulqi 7храурато<; biaAeyopevoi 6 abuvaTOuai e£eAey£at..., Протагор 347e 3-7).
(обратно)50
«,4иалектическое искусство» (бихЛектисг) texvt], Федр 276е 5), ср, «диалектик» (бихЛектисос;, 266с 1).
(обратно)51
Ср. Федр 274а и 246а — два типичных эпизода умолчания.
3 «Греческая интерпретация», особенность восприятия древними греками религиозных представлений других народов, состоявшая в отождествлении чужих и прежде неизвестных им божеств со своими собственными. — М. Б.
(обратно)52
В оригинале Hundstage, «собачьи дни» (23 июля — 23 аву-ста); ср. лат. dies caniculares, от названия которых происходит слово «каникулы». — М.Б.
(обратно)53
Предмет сравнения (лат.). — М. Б.
(обратно)54
Ср. «плодоносные» (ёукафпа, 276Ь 2), «бесплодные» (аюзцэжм, 277a 1), «имеющие семя» (ёхоvxeg сгацэра, 277a 1), «семена» (стёфрата, 276Ь 2, с 5).
(обратно)55
Ср., напр.: «...во много раз более длинных рассуждений» (тюЛЛаяЛасгlojv Aoycov, Государство 534a 7); «более длинный обходной путь» (ракротёра тхерюбск;, 504b 2); «более длинный путь» (ракротёра oboe;, 435d 3); «длинный обходной путь» (ракра тхерюбо*;, Федр 274а 2); «длинное изложение» (ракра би^у^аи;, 246а 5); «море столь обширных рассуждений» (tocjoutgjv пёЛауод Aoycov, Парменид 136d 1-137а 6, особ, а 5) (у Барнета: «столь обширное море рассуждений» (xoaourov тхёАауос; A6ycuv). — М.Б.].
(обратно)56
Через упоминание будущих событий Платон получает возможность отсылать к самому себе, одновременно позволяя Сократу избежать анахронизма. В этом смысле слова о будущем «великом человеке» в отрывке из «Хармида» (169а) с полным основанием были отнесены к Платону. Таким же образом он мог бы наметить и в «Федре» некий «будущий» способ использования письма в духе современной теории диалога.
(обратно)57
Ср. ниже, с. 204-206 о «раскрывании» сократовских логосов.
(обратно)58
Ср. выше, с. 77.
(обратно)59
Диэреза (biaipeau;, дшйресис — «разделение») — метод определения понятий, когда из наиболее общего понятия в той или иной области выделяется последовательность пар противоположных друг дру1у подчинённых понятий до тех пор, пока не будет получено искомое понятие (образцом применения этого метода
(обратно)60
может служить поиск определения понятия «софист» в одноимённом диалоге Платона). — М. Б.
(обратно)61
Предпринимались также попытки установить связь между «средствами припоминания» (итюрдл^рата) и теорией припоминания идей (теорией аномнесисо) (Griswold, 1986). Если при этом подразумевается, что знаки письма мшут непосредственно подвигнуть душу к припоминанию идей, которые она созерцала в ином мире, то такого рода толкование, разумеется, едва ли будет отвечать смыслу критики письма.
(обратно)62
«Прекрасна та игра, Сократ, которую ты противопоставляешь игре низкой: игра того, кто умеет играть, создавая речи — рассказывая истории о справедливости и других названных тобою вещах» (Федр 276е 1-3). Поскольку «Государство» само обозначает себя как «рассказывание историй» (pu0oAoyeIv, мютологёйн) (376d, 501е), то не может быть никакого сомнения в том, что здесь Платон намекает на своё главное произведение (так полагал уже Вильгельм Лютер: Luther, 1961. S. 536-537).
(обратно)63
Буквально «душеводительное», направленное на руководство душой и опеку над ней с целью её воспитания. — М. Б.
(обратно)64
Релевантным в этой связи представляется одно место у Аристотеля. Целью этики является счастье; но оно должно быть устойчивым, а значит, опираться на наиболее устойчивые свойства и способности человека, т. е. на обладание добродетелями и науками (Никомахова этика 1100а 32-Ь 22). Поставив счастье в зависимость от превратностей судьбы, счастливого человека (cubaipcov) придётся «сделать своего рода хамелеоном» (1100Ь 6). Но аристотелевскому «счастливому человеку» (eubaipcov) и его «созерцанию» (0ca)Qia) у Платона соответствует «друг мудрости» (фьЛооофод), которому «диалектическое искусство» (бюЛектпсг) tcxvt]) обеспечивает наивысшую эвдемонию, которая только достижима для человека (Федр 276е 5-277а 4): он тоже не является хамелеоном.
(обратно)65
Под гипотесой (U7io0eai^) Платон понимает установление некоторого исходного принципа, служащего предпосылкой и обоснованием для выводимых из него следствий. Соответственно, «безгипотесный принцип» является предельным основанием для всего остального, сам при этом не имея никакого иного и более фундаментального основания. — М. Б.
(обратно)66
Для данного конкретного случая (лат.). — М. Б.
(обратно)67
Бесконечный регресс (лат.). — М. Б.
(обратно)68
«...иные более обширные и обладающие большей ценностью [вещи]» (aAAa ттЛеко ка1 tiAclovoc; d£ux, Федр 235b, 236b), что является очевидным синонимом выражения TipuorEQa. К интерпретации этих мест ср. PSP (S. 28-30).
(обратно)69
Пророчество после состоявшегося события, задним числом (лат.). — М. Б.
(обратно)70
Разумеется, это не означает, что тем самым Исократ объявляется философом в платоновском смысле: ptiCcj, TipicjTtQa и TiAeiovoq d£ia («более значительные», «более ценные» и «имеющие большую ценность») — выражения сравнительной степени; то, чем занимался Исократ в конце своего творческого пути, хотя и было «значительнее», чем то, с чего он начинал, но всё ещё весьма далеко от «более ценных предметов» (тщщгие^а) платоновского философа.
(обратно)71
Государство 509а 4-5 peiCovax; хьрцтеоу ttjv той оуабои e£iv («благо по его свойству следует почитать как более ценное [чем знание и истина]»), 509Ь 9-10 npEofieia ка1 &uvapei uttcq^xovtoc; (читай: той ауабой): «благо превосходит [сущность] достоинством и силой» (7Т(эест(3€щ («достоинством») означает не что иное, как тцдг), т. е. «ценностью»).
(обратно)72
Государство 508е 2-509а 4.
(обратно)73
Восходящее к платоновскому «Менону» определение знания как «истинного обоснованного мнения», несмотря на все попытки его оспорить, и по сей день является общепризнанным. — М. Б.
(обратно)74
Специальный термин (лат.). — М. Б.
(обратно)75
Ср., напр., Аристотель, Никомахова этика 1101b 11; 1102а 4, а 20; 1141а 20, b 3; 1178а 1; Метафизика 1026а 21, 1074b 21; О частях животных 644Ь 25; Теофраст, Метафизика 6Ь 28, 7Ь 14, 10Ь 26, 11а 23 (о Спевсиппе).
(обратно)76
Аналогично Метафизика 983а 5-7, 1026а 21, О частях животных 644Ь 32.
(обратно)77
В связи с очерком ситуаций «помощи» в следующих двух разделах отсылаем читателя к подробным интерпретациям соответствующих диалогов в PSP.
(обратно)78
Государство П, 362d 9,368b 4, b 7, с 1, с 5.
(обратно)79
Ср. 445с 5: meibr) evxaOOa dvapep^Kapev той Абуои («...после того, как мы взошли на это место в нашем рассуждении»).
(обратно)80
«...мне кажется даже кощунственным («неблагочесгивым») неоказание помощи этим логосам» ~ «боюсь, что это, пожалуй, даже кощунственно ("неблагочестиво") — присутствуя при поношении справедливости, отступить и не помочь ей» (обЬё oaiov epoiye elvai фаlvстен то pf) об porj0TcIv тобтои; той; Абуок; ~ ЬеЬоиса yap pf] обЬ' oaiov rj 7iaQay£vop£vov bucaioauv^ KaKT]yoQoi;p£VT] aTiayopeoeiv ка1 pf] porjGelv, Законы X, 891a 5-7 ~ Государство II, 368b 7-c 1).
(обратно)81
Как и при начале «помощи» во второй книге «Государства», здесь также обнаруживается скопление выражений, обозначающих помощь: 890d 4 etukouqov yiyveaGai («становиться помощником») (ср. Государство 368с 3 etilkouqeIv, «оказывать помощь»), 891а 5-7 (текст выше, прим. 5), 891Ь 3-4 €7iapuvovTeq Aayoi («защищающие логосы»), b 4-6 vopou;... Pot]0cIv («помогать ... законам»).
(обратно)82
Ср. Хармид 163d, Менон 87Ьс, Государство 533е, Политик 261е.
(обратно)83
Дискуссия, имеющая своей целью критическую проверку позиции собеседника и её возможное опровержение (греч. еАеуХо^ — «изобличение», «доказательство», «опровержение»). — М.Б.
(обратно)84
Подобным же образом Протагор, являющийся для нас значительным мыслителем, в понимании Платона не был философом, по каковой причине и на решающий вопрос, обращённый к нему — сможет ли он помочь своему логосу (el о!6<; т' ёсгт^ тф сгашой Лауср [3ot]0elv, Протагор 341 d 8) — в ходе диалога даётся в целом отрицательный ответ.
(обратно)85
Многочисленные и поразительно близкие точки соприкосновения между карикатурой на философа в «Евтидеме» и образом философа из критики письма я попытался объяснить в своей статье (см.: Szlezak, 1980. S. 75-89). К утаиванию знания, которое Сократ иронически приписывает Евтидему, прибегает он сам, как на то указывают отсылки к учению об анамнесисе и к понятию диалектики (ср. с. 174 и след., с. 193-194).
(обратно)86
В этой связи, конечно же, нужно напомнить и о мифологическом образе «колесницы души», поднимающейся к «занебесной области» (Федр 246а и след.), даже если здесь среди объектов потустороннего созерцания (247de) ни один не выделяется в качестве принципа по отношению к остальным.
(обратно)87
Подражание (греч.). В более специальном смысле — «подражание» какому-либо явлению или вещи (в свою очередь, также «подражающим» собственным первообразам — эйдосам), лежащее в основе художественного (в т. ч. драматического) творчества (ср. учение о мимесисе в десятой книге «Государства»). — М. Б.
(обратно)88
Рене Шерер и Пауль Фридлендер принадлежали к числу интерпретаторов, чьи наблюдения имели путеводное значение. (Schaerer, 1969; Friedlander, 1964,1975).
(обратно)89
Достаточно вспомнить о «занебесной области» как о местопребывании идей (Федр 247с и след.) или же об «уподоблении бо-iy», которое по существу своему есть уподобление упорядоченности мира идей (Государство 500b-d).
(обратно)90
Об отличии «эсотерики» от «тайного учения», см. ниже, с. 241.
(обратно)91
Так рассуждает Грегори Властос (Vlastos, 1963. S. 653-654).
(обратно)92
Доказать эту точку зрения ставил своей целью Гарольд Чер-нис (Chemiss, 19462). Об этой попытке Черниса видный аристотелик Уильям Дэвид Росс (Ross, 1951. Р. 143) отозвался так: «Аристотель не был тем чистым путаником, которым его выставляет профессор Чернис [...]. Я нисколько не считаю, что он [читай: Чернис] сумел доказать свою точку зрения, будто всё то из сказанного Аристотелем о Платоне, что не может быть удостоверено на материале диалогов, сводится к чисто ошибочному пониманию или чисто ошибочной интерпретации».
(обратно)93
Ср. мою статью о неполноте академических теорий принципов по данным «Метафизики» Аристотеля (Szlezak, 1987. S. 45-67).
(обратно)94
В связи с идеей восхождения и представлением о наиглавнейшей науке о благом и дурном ср. PSP (S. 127-150, особенно S. 145-148); об идее архэ в «Лисиде» ср. PSP (S. 122-123), кроме того: Reale, 1991. Р. 456-459.
(обратно)95
Ср. PSP( S. 141-148).
(обратно)96
В оригинале игра слов: (Heil)mittel — «(лекарственное) средство», Besprechimgen — как «заговоры», так и «обсуждения». — М.Б.
(обратно)97
Среди многочисленных мест у Аристотеля, свидетельствующих об онтологическом приоритете чисел перед геометрическими фи1урами, особенную важность имеет фрагмент 2 Ross из сочинения «О благе» (Пс^! тауабои), сохранённый Александром Афродисийским в его комментарии к «Метафизике» (55. 20-26 Hayduck). См. тж. Gaiser, 1968. S. 148, вместе с прим. 125, S. 372.
(обратно)98
Ср. выше, с. 153, прим. 12. Хотя, как кажется, и отрывок Законы 894а намекает на ту же теорему, однако это место само нуждается в разъяснении из косвенной традиции. Ср. тж. ниже, с. 183-185.
(обратно)99
Немецкое «Gestalt», как и его греческий прототип «idea», несёт в себе значение облика, в котором зримо проступает внутреннее устройство. Вероятно, наиболее близким к нему по значению русским словом в данном контексте будет слово «вид». — М. Б.
(обратно)100
Ср. выше примеч. на с. 97. — М. Б.
(обратно)101
Кардинальные (основополагающие) добродетели — это мудрость (оофих) (в «Горгии» упоминается фоб^сти;), мужество (av&geux), благоразумие (сгсоф^эооиут]) и справедливость (Ьпсаю-ouvt|) (ср. учение о добродетели в четвёртой книге «Государства»). — М.Б.
(обратно)102
В связи с интерпретацией ограничения дискурса в «Горгии» ср.: PSP (S. 191-207, особ. S. 199-204).
(обратно)103
Аристотель, Метафизика А 6, 987Ь 14-18 и Z 1, 1028b 19; по словам Аристотеля, Платон отвёл математическим объектам промежуточное онтологическое положение (ср. тж.: Ross, 1924. Vol. I. Р. 166).
(обратно)104
К проблеме души (г|л>хп) и математических объектов (ра6т]ратиа^) у Платона ср. Merlan, 1968. Р. 13 и след., р. 45 и след.; Gaiser, 1968. S. 44 и след., S. 89 и след.
(обратно)105
Письменное сочинение, напротив, необходимо несёт с собой отрыв производства от применения: как правило, автор и читатель даже не знают друг друга. Эго «отчуждение», принадлежащее самой его сущности, является причиной, по которой письменное сочинение оказывается в принципе неспособным удовлетворить требованиям истинного «искусства речи» (Aoycuv t^xvtj).
(обратно)106
Ср. выше, с. 87-96,173.
(обратно)107
О проблемах, связанных с этим эпизодом, и об их рассмотрении в платоноведческой литературе ср. мою статью (Szlezak, 1976. S. 31-58).
(обратно)108
О «раскрывании» диалогов (Пир 221d-222a) ср. ниже, с. 204206.
(обратно)109
Гераклит DK 22 В 93.
(обратно)110
Подробнее об Алкивиаде см. ниже, с. 203-205.
(обратно)111
6 Подробную критику методических недостатков и содержательных ошибок Шлейермахера и его последователей ср. PSP,
(обратно)112
331-375 (Приложение I: Современная теория диалога).
(обратно)113
Одной из моих целей в книге «Платон и письменность философии» было выявление конгруэнции между платоновской теорией использования письма и литературным построением диалогов. Подробный анализ, содержащийся в этой книге, рекомендуется сравнить с наблюдениями, представленными на следующих страницах.
(обратно)114
Ср. краткое упоминание выше на с. 59, а также главу о «Государстве» в PSP (S. 271-326).
(обратно)115
Ср. выше, с. 164, а также PSP (S. 307-308, вместе с прим. 99).
(обратно)116
Разумеется, я далёк от того, чтобы предпринять здесь всеобъемлющую опись (или тем паче «итоговую» оценку) платоновской иронии.
(обратно)117
Мысленно (от греч. vorjaig — «мышление, умозрение, разум»). — М. Б.
(обратно)118
Это признано и интерпретаторами определённо «антимета-физической» направленносги. Так, Г. Властос пишет: «Можно ли
(обратно)119
Ср. PSP (S. 87-88); аналогичным образом я показал недостаточность интерпретаций, оперирующих исюочительно иронией, применительно и к другим ранним произведениям. Ср. тж. недавно вышедшую кни1у М. Эрлера (Erler, 1987).
(обратно)120
Возможно, что этот миф заимствован Платоном из сочинения Протагора «О первоначальном устроении» (Пер! xfjc; ev архТ] катаотаоЕох;), упоминаемого Диогеном Лаэртским в книге «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов» (IX.55). Но даже если это не так, его происхождение все равно является «сторонним» в том смысле, что он вложен Платоном в уста Протагору, а не ведущему собеседнику, в данном случае Сократу. — М. Б.
(обратно)121
Федр 246а. Об этом отрывке см. выше, с. 158-159.
(обратно)122
В отрывке Политик 304с 10-d 2 идёт речь о таком искусстве речи, которое убеждает толпу «со знанием» (т. е. как подобает искусству) «посредством рассказывания историй, а не обучения» (6ia pu0oAoyia^ aAAa pf) bi&axrjO/ [следует напомнить, что, в отличие от обычной риторики, это искусство — истинное, философское искусство речи — является «знанием» или «наукой» (ёшотт]рг|), а потому и действует «со знанием». — М. Б.]. Из этого можно было бы заключить, что для Платона всякое языковое воздействие, оказываемое не посредством обучения (т. е. личного обучения: письменное сочинение неизменно существует «без обучения» (dveu bibaxnS/ Федр 275а 7), подпадает под понятие мютологиа. Между тем, остаётся под вопросом, насколько эта характеристика приложима к диалогам: ведь они хотя и достигают «многих» — избежать этого не может ни один автор, — но не не ставят перед собой задачу убедить многих как толпу (7iAfj0og).
(обратно)123
Если Платон сознаёт, что один и тот же текст будет по-разному воспринят разными слушателями и читателями, то это, само собой разумеется, не значит, будто он жил с верой в обладание литературной техникой, способной надёжно направлять ход такой многовариантной рецепции. Об этом круге вопросов см. выше, главы 9-11 и 19.
5 В пользу равноценности мифа и логоса выступал в своём весьма тщательном разборе этой темы К. Гайзер (Gaiser, 1984.
(обратно)124
125-152, особ. S. 134-136). Мысль о подчинённости мифа логосу отстаивал, среди прочих, Г. Мюллер (Muller, 1963. S. 77-92; то же: Miiller, 1986. S. 110-125). Обилием верных наблюдений сопровождается новое рассмотрение вопроса, предпринятое Дж. Черри (Cerri, 1991. Р. 17-24).
(обратно)125
Правда, бывает и так, что одна и та же позиция обозначается двумя именами: Главкон и Адимант в «Государстве» вместе требуют от Сократа защитить справедливость, Симмий и Кебет вместе выступают в «Федоне» с сомнениями в бессмертии души, Клиний и Мегилл вместе представляют дорийскую культуру, государственной благоупорядоченности (euvopia) которой желает подражать (с намерением превзойти её) «афинянин» в «Законах». Но подобные персонажи-близнецы не формируют двух независимых позиций, да и ар1ументация диалектика в одно и то же время по большей части обращена лишь к одному из них, редко к обоим сразу.
(обратно)126
Ср. выше, с. 195.
(обратно)127
Менон 86de (ср. PSP. S. 185-186), аналогично в отрывке Евти-дем 287d 6 (оба раза apxeLV — властвовать), ср. тж. Протагор 351е 8-11,353Ь 4 (rjyepovelv — руководить).
(обратно)128
В «Пармениде» юный Сократ встречается со старым элейцем: нарочитое подчёркивание разницы в возрасте (Парменид 127Ьс) ясно указывает на разговор неравных.
(обратно)129
Фундаментальная диалогичность мышления, понимаемого как разговор души с самой собой, естественно, сохраняется и здесь (см. выше, с. 67-68 и с. 221-222).
(обратно)130
Совершенно иной смысл придан этим понятиям в русском переводе данного отрывка: «...только если кто постоянно занимается этим делом и слил с ним всю свою жизнь» (аЛЛ' ёк ттоЛЛт^ owovo'kxq yiyvopevqg tleqi to nQa.y[ia avто leal той ov^rjv) (Платон, 1994. T. 4. С. 493, курсив мой. — М. Б.). Следует, однако, отметить, что такой перевод существенно отклоняется от собственных (и характерных для словоупотребления Платона) значений этих понятий. — М. Б.
(обратно)131
Походя заметим, что и апоретические диалоги отнюдь не утопают в одних только амбивалентностях, но мшут быть весьма однозначны в своём отвержении ложного и ошибочного.
(обратно)132
Ср. у Гегеля в «Лекциях по истории философии»: «...из его (читай: Платона) диалогов совершенно отчётливо выступает его философия. [...] Исследовано обнаруживающееся различие во мнениях; проистекающий из этого результат есть истинное» (Hegel, 1971. S. 22; рус. пер.: Гегель, 1994. С. 125, с отдельными изменениями. — М.Б.)
(обратно)133
Интерпретаторы-литературоведы с полным основанием описывали ряд авторов, используя те же понятия, которые толко-
(обратно)134
вание Платона, сформировавшееся в новое время, желало бы зарезервировать для описания платоновского диалога. Отдельные свидетельства этого я собрал в PSP (S. 359, прим. 40), тж. с дополнениями в итальянском издании (Szlezak, 1992. Р. 448, прим. 40).
(обратно)135
Феогаид, стихи 681-682; Пиндар, Олимпийские песни 2, 83-86. Об этом ср. Nagy, 1988. S. 51-64, особ. 52-53.
(обратно)136
Аристотель, фрагм. 192 (Rose, 1967); Аристоксен, фрагм. 43 (Wehrli, 1967).
(обратно)137
Diels-Kranz (DK) 18.4.
(обратно)138
DK 18. 5.
(обратно)139
В данном случае под инфинитизмом подразумевается сформировавшееся в рамках романтизма представление о том, что познавательный идеал (полная и окончательная истина) и практический идеал (совершенное счастье), воплощая собой подлинное предназначение человека, никогда не достижимы для него в действительности, допуская лишь бесконечное приближение к себе. Ср. тж. выше на с. 208 о романтической иронии. — М. Б.
(обратно)140
Ум (греч. voug). — М. Б.
(обратно)141
В связи с этим ср.: К. Альберт (Albert, 1989. S. 20-30, особ. S. 27).
(обратно)142
В сторону (о реплике актёра про себя) (лат. и ит.). — М. Б.
(обратно)143
Доклад, прочитанный 25.04.2002 в университете г. Тюбингена в рамках цикла публичных лекций о Платоне. Оригинал публикации: Szlezak Т. A. Platonische Dialektik: der Weg und das Ziel Ц Perspektiven der Philosophie. Neues Jahrbuch. 2005. Bd. 31. S. 289-319.
(обратно)144
Впечатление обширности производит перечень из четырёх требований к диалектику (Софист 253d 5-е 2). Однако все они касаются «разделения по родам» (ката yevT] 6iaipela0ai, 253d 1), что не охватывает всей совокупности задач диалектика. Кроме того, это известное своей темнотой место (к его интерпретации см.: Kranz М. Das Wissen des Philosophen. Diss. Tubingen, 1986. S. 61-62) отнюдь не обещает развёрнутого описания чересчур сжато обрисованных в данном диалоге четырёх задач, скорее, это наверняка стало бы одной из тем ненаписанного диалога «Философ», отсылка к которому делается чуть ниже (254Ь 3-4).
(обратно)145
В связи с этим см.: Szlezdk Th. Л. Gilt Platons Schriftkritik auch fur die eigenen Dialoge? Zu einer neuen Deutung von Phaidros 278b 8-e
(обратно)146
// Zeitschrift fiir philosophische Forschung. 1999. Bd. 53. S. 259-267. (Эта статья была опубликована в рамках дискуссии о смысле критики письма, развернувшейся между Вилфридом Кюном (Wilfried
(обратно)147
Kiihn) и мной. В настоящее время эта дискуссия целиком воспроизведена в журнале Revue de philosophie ancienne (1999. Vol. 7. N 2. P. 362, во французком переводе.)
(обратно)148
Тем самым (лат.). — М. Б.
(обратно)149
Хорошо документированная косвенной традицией лекция сО благе», вероятно, подобно пейре предлагала обобщающий
(обратно)150
6 То, что образы эристиков в «Евтидеме» и образ философа в «Федре» во всех деталях точно соответствуют друг дру1у как негатив и позитив одной и той же фотографии, показал, в частности, автор этих строк (см.: Szleztik Th. A. Sokrates' Spott iiber Geheimhaltung. Zum Bild des фьЛоаофод in Platons Euthydemos H Antike und Abendland, Bd. 26. 1980. S. 75-89; ср. тж. Szlezdk Th. A. Platon und die Schrjftlichkeit der Philosophic. Interpretationen zu den friihen und mitt-leren Dialoge. Berlin; New York, 1985. S. 49-65). Впоследствии мысль
(обратно)151
этом зеркально точном соответствии негативного изображения эристика и позитивного изображения философа положил в основу своей книги Т. X. Чанс (Chance Th. Н. Plato's Euthydemus. Analysis of What Is and Is Not Philosophy. Berkeley, 1992).
(обратно)152
Gaiser К. Platonische Dialektik — damals und heute // Antikes Denken — Modeme Schule / Hrsg. von H. W. Schmidt, P. Wulfing. Gymnasium, Beiheft 9. 1987. S. 77-107; в этой статье см. S. 99 (теперь тж. в кн.: Gaiser К. Gesammelte Schriften / Hrsg. von Th. A. Szlezak, K.-H. Stanzel. St. Augustin, 2004. S. 177-203).
(обратно)153
Kramer Н. J. Prinzipienlehre und Dialektik bei Platon // Das Problem der ungeschriebenen Lehre Platons / Hrsg. v. J. Wippem, Darmstadt: Wiss. Buchges, 1972. S. 394-448; в самой статье см. S. 406432 об отношении двух способов вопрошания друг к дру1у. Отправляясь от свидетельств Аристотеля, многократно упоминающего в «Метафизике» об идентичности единого и блага у Платона, Кремер пытается выяснить, каким могло быть платоновское определение блага (значительный по объёму и охвату материала трактат Креме-ра был опубликован на итальянском языке в виде отдельной книги: Kramer Н. ]. Dialettica е definizione del Bene in Platone. Milano, 1989).
(обратно)154
В связи с этим ср. Gaiser К. Platons Zusammenschau der mathematischen Wissenschaften // Antike und Abendland, Bd. 32.1986. S. 89-124 (теперь тж. в книге Gaiser К. Gesammelte Schriften (см. выше, с. 292, прим. 7). S. 137-176).
(обратно)155
См. тж.: Szlezak Th. A Die Idee des Guten in Platons Politeia. Beobachtungen zu den mittleren Buchem. St. Augustin, 2003. S. 72-73.
(обратно)156
Что это «длинное изложение» не является недоступным человеческому разысканию уже просто по причине своей «божественности», я — вопреки communis opinio интерпретаторов — попытался показать, исходя из платоновского понимания «божественной» философии, в своей статье 'Menschliche' und 'gottliche' Darlegung. Zum 'theologischen' Aspekt des Redens und Schreibens bei Platon // Geschichte — Tradition — Reflexion (Festschrift fur M. Hengel) / Hrsg. v. H. Cancik u.a. Tubingen, 1996. Bd. I. S. 251-263.
(обратно)157
В имеющемся русском переводе этого отрывка (берегеi той vuv AexQ£vto<; ngdc; тi)v nepi атд т&крфё(; anodeitiv) смысл названного автором вопроса теряется: «...для точного пояснения [главного вопроса] понадобится изложенное [нами] сейчас» (Платон. Собр. соч. в 4 т. Т. 4. М.: Мысль, 1994. С. 36. Курсив и квадратные скобки в обоих случаях мои. — М. Б.). С учётом того, что предшествовавшее обсуждение в «Политике» было посвящено, с одной стороны, теме большего и меньшего в их отношении друг к дру1у/ а с другой — к должной мере, вопрос о «точном как таковом», т. е. о том принципе, который придаёт каждой вещи необходимую для неё точную меру (без которой она перестаёт быть самой собой, ср. 284а), действительно приобретает решающее значение. Возможно, более подходящим в нашем случае был бы перевод: «для изложения, касающегося самой точности, понадобится сказанное сейчас».
(обратно)158
Test. Plat. 31 Gaiser (= Simpl. In Arist. Phys. 247. 30 и след. Diels); Test. Plat. 32 § 263 Gaiser (= Sextus Emp., Adv. math. X, 263).
(обратно)159
Попытка Рафаэля Фербера (Ferber R. Die Unwissenheit des Philosophen oder Warum hat Plato die ,ungeschriebene Lehre' nicht geschrieben? St. Augustin, 1991) доказать, что мнение о недостижимости этой цели разделялось самим Платоном, и объяснить устный характер неписаного учения тем, что учение о принципах остановилось на ступени простого мнения (6о£а), поскольку его автор мог бы спокойно записать его, достигни оно статуса науки (ё7исгп)рт|), — эта попытка основывается, с одной стороны, на полном недоразумении в отношении основной мысли критики письма, с другой (в том, что касается интерпретации других текстов) — на неверной методике и на недостаточном внимании к источникам, к чему впридачу добавляются ещё и недоразумения языкового порядка; ср. мою рецензию: Szlezak Th. А. // Rezension zu: Ferber R.. Die Unwissenheit des Philosophen oder Warum hat Platon die
(обратно)160
Ср. выше, с. 290. — М. Б.
(обратно)161
Пир 210а 1 и след.; Федр 249с и след.; Горгий 497с, Менон 76е, Государство 490Ь; ср. соответствующие интерпретации этих отрывков в кн.: Szlezak Th. A. Platon und die Schriftlichkeit der Philosophic; Riedweg Ch. Mysterienterminologie bei Platon, Philon und Klemens von Alexandrien. Berlin-New York, 1987; Schefer Ch. Platon und Apollon. Vom Logos zuriick zum Mythos. St. Augustin, 1996; Lavecchia S. Philosophic und Initiationserlebnis in Platons Politeia // Perspektiven der Philosophic. 2001. Bd. 27. S. 51-75.
(обратно)162
Это соображение обосновывает в своей недавней работе Вильгельм Швабе (Schwabe W. Der Geistcharakter des «uberhimm-lischen Raumes». Zur Korrektur der herrschenden Auffassung von Phaidros 247 C-E // Platonisches Philosophieren. Zehn Vortrage zu Ehren von Hans Joachim Kramer / Hrsg. v. Th. A. Szlezak. Hildesheim: Spudasmata, 2001. Bd. 82. S. 181-331.
(обратно)
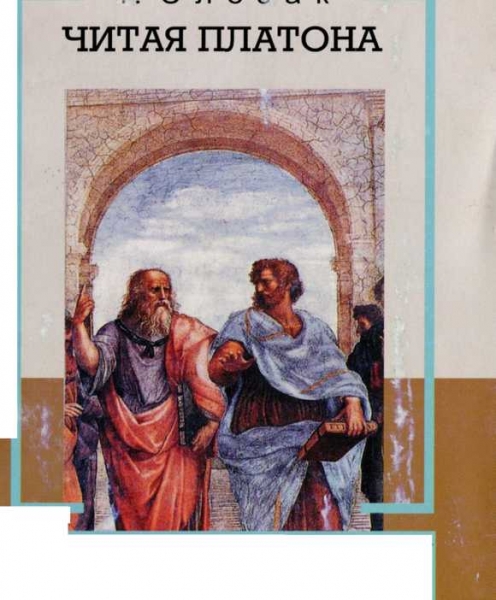

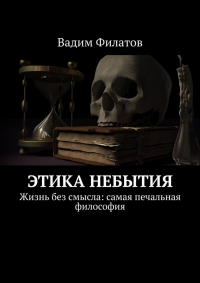
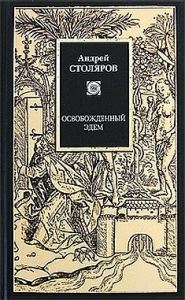
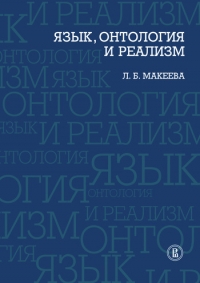
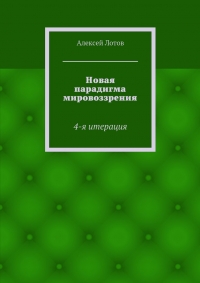
Комментарии к книге «Читая Платона», Томас Александр Слезак
Всего 0 комментариев