В.П. Даниленко Смысл жизни: учебное пособие
Памяти моей матери —
Серафимы Ефимовны Даниленко (Полещук).
Введение
Когда тебе за шестьдесят
И вечные проблемы над душой висят,
Всё чаще червь сознанье точит,
Что жизнь проходит, жизнь проходит,
жизнь проходит…
Моя мама была святым человеком. Мне она говорила: «Сынок, ты только учись!». По воскресеньям я уезжал на неделю учиться в педучилище. Каждый раз она плакала так, будто провожает меня на войну. Я любил её до беспамятства. Она мечтала об иной жизни. Очень часто я слышал от неё: «Вот так живёшь, живёшь… Ни богу свечка, ни чёрту кочерга». Она прожила мучительную жизнь. Много лет тяжело болела и умерла в больнице одна. В это время я уже жил с Ларисой в Иркутске. Помню, мама глядела на неё своими добрыми глазами с сочувствием, будто предвидя её судьбу. На смену одной великомученице пришла другая великомученица. Лучше их в моей жизни никого не было. Первая прожила 63 года, вторая — 51.
«Однова живём», — говорит какой-нибудь бодро настроенный русский человек. В этой незамысловатой, но ёмкой фразе заложен жизнерадостный смысл, указывающий на единственность и самоценность жизни. Зачем такому человеку ломать голову над вопросом о высшем смысле человеческой жизни, если он видит его в самой жизни? Зачем ему мучительно искать ответ на него в мудрых книгах, если его распирает радость от самого его существования на Земле? Очень просто и хорошо описал эту радость К.И. Чуковский: «… у меня с юности было — да и сейчас остаётся — одно драгоценное свойство: назло всем передрягам вдруг ни с того ни с сего, без всякой видимой причины, почувствуешь сильнейший прилив какого-то сумасшедшего счастья» (Чуковский К.И. Стихи и сказки. От двух до пяти. М., 1999, с. 663).
Современной молодёжи сейчас не до высоких материй. Не до жиру — быть бы живу. Вот почему мои медитации над высшим смыслом жизни, выведенные в этой книге, для большей её части — vox clamantis in deserto (глас вопиющего в пустыне). В этом нет ничего удивительного: из глубокой демографической ямы к нам выползает поколение неучей. Оно — естественный плод постсоветской действительности. Отсюда не следует, что нашему брату ничего не остаётся, как опустить крылья и ползать вместе с этим поколением в грязи исключительно прагматических интересов.
Для лучших представителей рода человеческого вопрос о смысле жизни всегда стоял на первом месте среди других. «Вопрос о смысле жизни, — писал Альбер Камю, — я считаю самым неотложным из всех вопросов» (В поисках смысла / сост. А.Е. Мачехин. М., 2004, с. 189).
Но так ли уж важен вопрос о смысле человеческой жизни, если можно припеваючи жить и не задумываясь о нём? На этом свете живут миллионы людей, не обременяющих себя этим вопросом. Неосознанно они видят его в самой жизни. К одному из таких счастливцев А.С. Пушкин обращается так:
Ты понял жизни цель, счастливый человек, Для жизни ты живёшь.Именно о таких людях писал Р. Роллан: «Когда человек полон жизни, он не спрашивает себя, зачем он живёт; он живёт для того, чтобы жить, потому что жить — чертовски славная вещь» (там же, с. 199).
Но есть люди, которые ставят счастье и смысл жизни, как ни странно, в причинно-следственные отношения. Позицию таких людей прекрасно сформулировал Ю.В. Бондарев: «Понятие „счастье“ и понятие „смысл жизни“ нельзя отделить друг от друга, как следствие от причины, и наоборот» (там же, с. 199). Подобным образом рассуждал и А. Сент-Экзюпери: «Когда мы осмыслим свою роль на Земле, пусть самую скромную и незаметную, тогда лишь мы будем счастливы» (там же, с. 189).
А что это за роль? Если уж быть предельно кратким, отвечу так: быть человеком (см. об этом подр.: Даниленко В.П. Быть Человеком! // Наша школа. Москва, 2009. № 7, с. 12–23). В самом деле, радоваться жизни может и животное, а полноценному человеку этого мало. В отличие от животного, он призван жить осмысленно. Он призван подниматься над животным до решения «вечных» вопросов, к которым принадлежит и вопрос о смысле жизни. Если ему это удаётся, он становится человеком в большей степени, чем его соседи, живущие животными потребностями по преимуществу. Он становится человечнее. А человечность — черта, отличающая человека от животного. Расстояние между ним и животным он увеличивает существенным образом. Не об этом ли писал А.А. Вознесенский: «Забвение вечных вопросов, которыми всегда мучился человек, лишает его человечности. Человека… мучают вопросы о смысле жизни и смерти, о загадке своего существования» (там же, с. 192)?
Нет ничего удивительного в том, что люди, на пути к очеловечению ушедшие дальше других, смотрели на того, кто не нашёл ответа на вопрос о смысле своей жизни, как на несчастного. К таким людям относились, например, Б. Паскаль и И.А. Ильин. Первый восклицал: «Горе людям, не знающим смысла своей жизни» (там же, с. 188). Другой вторил ему: «Несчастье современного человека велико: ему не хватает главного — смысла жизни» (там же, с. 190).
В наше запутанное, сложное, безумное, злое время особенно актуально звучат такие слова Л.Н. Толстого: «Нельзя плыть и грести, не зная, куда плывёшь, и нельзя жить и делать свою жизнь, не зная зачем» (там же, с. 198). Не менее актуальны и слова А.П. Чехова: «Призвание всякого человека в духовной деятельности — в постоянном искании правды и смысла жизни» (там же, с. 193). Есть только один бесспорный путь к решению вопроса о смысле жизни — это путь универсального эволюциониста.
Быть универсальным эволюционистом — значит быть проводником эволюционного мировоззрения. Его носитель видит в мире результат его многомиллионного развития, или эволюции. Слово «эволюция» восходит к латинскому evolutio, что значит «развёртываю, развиваю». Его антоним — «инволюция». Он происходит от латинского irwolutio (свёртываю). Развёртывающийся, расцветающий, раскрывающийся цветок — пример эволюции, свёртывающийся, вянущий, закрывающийся цветок — пример инволюции. Другой пример: движение от обезьяны к человеку (гоминизация) — пример эволюции, а обратное движение (анимализация) — пример инволюции.
Весь мир часто называют универсумом, а его эволюцию — унигенезом. Но у мира есть ещё и метафорическое название — мироздание. Следует сразу уточнить: мироздание четырёхэтажное.
На первом этаже мироздания расположилась физическая природа (вода, горы, воздух и т. д.). Её можно назвать также физиосферой. Внутри этого, нижнего, этажа происходит её эволюция — физиогенез. У физиосферы нет эволюционного возраста, потому что она вечна. Но эволюционный возраст Земли известен — около пяти миллиардов лет.
На втором этаже мироздания расположилась живая природа (растения, животные, люди). Её можно также назвать биосферой. Внутри этого этажа происходит её эволюция — биогенез. Предполагают, что жизнь возникла на Земле 3,5 миллиарда лет назад. Выходит, что эволюционный возраст биосферы — 3,5 миллиарда лет.
На третьем этаже мироздания мы обнаруживаем психику (ощущения, восприятия, представления, понятия, суждения, умозаключения, модели, образ мира). Её можно назвать также психосферой. Внутри этого этажа протекает её эволюция — психогенез. Если психическую способность приписывать всем животным, то можно сказать, что эволюционный возраст психосферы совпадает с возрастом животных.
На четвёртом этаже мироздания, наконец, расположилась культура (пища, одежда, жилище, техника, религия, наука, искусство, нравственность и т. д.). Её можно назвать также культуросферой. Внутри этого, верхнего, этажа происходит её эволюция — культурогенез. Эволюционный возраст культуросферы совпадает с эволюционным возрастом человечества, поскольку создателем культуры стал человек. Собственно говоря, наш животный предок потому и стал превращаться в человека, что он стал создавать культуру. Вот почему культурогенез можно назвать также антропогенезом или гоминизацией (очеловечением). Эволюционный возраст человечества определяется 3–5 миллионами лет. Таков и эволюционный возраст культуры.
Как благостно выглядит этот набросок четырёхэтажного мироздания! В каждом его этаже мы видим только движение вперёд, только один прогресс, только одну эволюцию! Но, увы, у эволюции имеется и её обратная сторона — инволюция (регресс). Вот почему в только что изображённое мироздание мы должны внести существенное дополнение.
Физиогенез, биогенез, психогенез и культурогенез не существуют сами по себе. Они представляют собой разные формы эволюции. Но существуют и аналогичные формы инволюции. Воспользовавшись латинской приставкой «а-7», подобной нашей «не-7», мы можем назвать эти формы афизиогенезом, абиогенезом, апсихогенезом и акультурогенезом.
В каждом этаже мироздания мы обнаруживаем единство и борьбу эволюции и инволюции — физиогенеза и афизиогенеза, биогенеза и абиогенеза, психогенеза и апсихогенеза, культурогенеза и акультурогенеза. Всё дело лишь в том, чтобы в борьбе, о которой идёт речь, эволюция одерживала верх над инволюцией. В противном случае в истории человечества произойдёт переворот, о последствиях которого мы можем сейчас лишь догадываться. Он перевернёт этот мир с ног на голову, поскольку он будет состоять в замене эволюции на инволюцию. Это означает, что силы последней начнут одерживать верх над силами первой. Эволюционное, прогрессивное движение станет уступать место инволюционному, регрессивному. Эволюция в этом случае придёт к своему исходному пункту. Для людей это не что иное, как человекообразное обезьянье стадо.
О замене эволюционной доминанты в мире на инволюционную уже и сейчас свидетельствуют очень многие факты. Возьмём для начала соотношение между физиогенезом и афизиогенезом. Теория большого взрыва предсказывает, что в далёком будущем расширение Вселенной сменится её сужением. Это, очевидно, означает, что эволюция в физиосфере (физиогенез) уступит место инволюции (афизиогенезу), поскольку конечным пунктом её сужения станет сверхплотное вещество, подобное тому, из которого произошла современная Вселенная.
До господства афизиогенеза над физиогенезом, к счастью, ещё очень далеко, но теоретически это господство по существу означает уничтожение всех этажей мироздания, возвышающихся над его первым этажом.
А как обстоит дело со вторым этажом мироздания, пока его не тронул далёкий афизиогенез? Происходит ли эволюция живой природы в наше время?
В начале 30-х годов XX в. южноафриканский биолог Р. Броом пытался остановить эволюцию живой природы. Он заявил о её конце. Более того, он утверждал, что птицы и млекопитающие перестали эволюционировать 40 миллионов лет назад. Британский палеоантрополог А. Кейтс отреагировал на заявление Р. Броома о конце эволюции таким образом: «Не существует фактов, которые заставили бы нас уверовать в то, что природа сегодня менее плодовита, чем раньше» (Галл Я.М. Джулиан Сорелл Хаксли. М., 2004, с. 188). Точку зрения Р. Броома, как ни странно, поддержал знаменитый английский биолог Дж. Хаксли. Но мы должны присоединиться к А. Кейтсу. Мы пока ещё живём в мире, где эволюция — в том числе и в живой природе — господствует над инволюцией. Но из этого оптимистического заявления вовсе не следует вывод о том, что в современной биосфере, как и физиосфере, всё благополучно. Экологи кричат об обратном. Возьмём для экономии времени только заголовки из статьи одного из них. Вот они: «Ресурсы морей и лесов почти исчерпаны; „Легкие“ земли нуждаются в лечении; Появились признаки изменения климата; В мире сохранилось не больше шести тысяч тигров; Экологическая эмиграция» // Александровский А. Планета тяжело больна. Повинен в этом человек. URL: .
Афизиогенез и абиогенез в современном мире навязаны природе ненасытными человеческими потребностями. По поводу насильственной инволюции в живой природе А. Александровский пишет: «В сегодняшней ситуации, когда леса вырубаются каждый год, в них исчезают примерно 27 тысяч видов. Это значит 74 вида в день, или 3 вида в час. А в непотревоженной природе гибнет лишь один вид в год» (там же).
Инволюционные процессы охватили сейчас всю культуру, но в особенности духовную культуру в России. Мы видим в ней сейчас настоящий инволюционный шабаш: лженаука подпирает науку, лжеискусство — искусство, лженравственность — нравственность, лжеполитика — политику и т. д.
В аннотации к своей книге «Закат человечества» (М., 2010) С.В. Вальцев написал: «2-е издание… посвящено исследованию проблемы духовного вырождения человечества, охватывающего все новые народы и государства, в том числе и нашу страну. Этот глобальный, смертоносный и апокалипсический процесс грозит существованию человека как вида. Рассмотрены причины и перспективы деградации, охватывающей все новые народы и страны, в том числе и Россию. Разбираются механизм и причины установления диктатуры денег, роста отчужденности и эгоизма, нравственной и интеллектуальной примитивизации. Показывается, что в настоящее время человечество переживает ценностный и антропологический переворот небывалого масштаба, сравнимый лишь с переходом от обезьяны к человеку, только сегодня с горечью приходится признать, что эволюция человека повернулась вспять, и этот процесс можно назвать антропологической контрреволюцией». Я называю этот процесс культурной инволюцией, или акультурогенезом.
Как видим, каждый этаж мироздания, а стало быть, и мироздание в целом, вмещает в себя не только эволюцию, но и инволюцию. Как та, так и другая должны исследоваться наукой. Каким образом мы можем представить себе классификацию базовых наук?
Каждый этаж мироздания изучается особой наукой. Его первый этаж изучается физикой, его второй этаж — биологией, его третий этаж — психологией и его четвёртый этаж — культурологией. Каждая из этих четырёх наук называется частной, поскольку она изучает лишь соответственную часть мира. Но есть ещё и общая наука, возвышающаяся над всеми частными науками, обобщающая достижения всех частных наук. Эта наука называется философией.
Классификацию базовых наук, таким образом, можно изобразить такой таблицей:
Все пять названных мной наук называются базовыми потому, что они составляют основу (базу) для других наук — входящих в эти пять базовых наук. Так, в физику входят такие науки, как астрономия, геология, гидрология и т. п., в биологию — ботаника, зоология, генетика и т. п., в психологию — зоопсихология и психология человека, а в культурологию — науки о материальной культуре и духовной культуре. В последние следует включить религиеведение, науковедение, искусствоведение, этику, политологию и лингвистику. Предметами их изучения являются шесть компонентов духовной культуры — религия, наука, искусство, нравственность, политика и язык.
Философия — наука наук. Она опирается на четыре частные науки, чтобы обобщить их в единую философскую (общенаучную) картину мира. Степень её истинности в первую очередь зависит от наличия в сознании её создателей единственно научного мировоззрения — эволюционизма. Но эволюционизм не должен оставаться привилегией философов. Он уже охватил все частные науки. Более того, он охватит в будущем обыденное сознание. Именно эволюционизм позволит человечеству выжить. Но у эволюционизма есть грозный соперник — инволюционизм.
Если эволюционизм — мировоззрение созидателей, то инволюционизм — мировоззрение разрушителей. Его представители есть повсюду — в религии, науке, искусстве, нравственности, политике, языке и т. д. Они возвращают человека к его животным предкам, анимализируют его.
От исхода борьбы между эволюционизмом и инволюционизмом в конечном счёте зависит судьба человечества. Н.Н. Моисеев писал: «…два исхода: либо нас ожидает судьба динозавров, когда-то бывших властителями Земли, либо энергия, талант, ВОЛЯ человечества как единого целого найдут и утвердят качественно новые формы своей жизни в составе нашей биосферы. Но при любом исходе это будет уже действительно другая и нам пока ещё незнакомая планета, хотя она, может быть, и сохранит своё старое название, если будет кому произносить подобные слова! Третьего исхода не дано!» (Моисеев Н.Н. Судьба цивилизации. Путь Разума. М., 1998, с. 36).
«Энергия, талант, ВОЛЯ человечества», надо полагать, вовсе не свалятся с неба. Их нужно развивать! Но это невозможно без эволюционного взгляда на мир.
Универсальный эволюционизм — мировоззрение будущего. Отсюда не следует, что мы должны отказаться от работы, приближающей это будущее. Ключевые понятия универсального эволюционизма могут быть упорядочены следующим образом:
Эволюционный смысл универсума (а человек — его частица) — слева, инволюционная атака на этот смысл — справа.
Только шесть комментариев к схеме универсума, приведённой выше.
1. Эволюция религиозного сознания осуществляется в направлении от дьявола к Богу. Это направление можно назвать теизацией. Она сыграла положительную роль в гоминизации. Но уже Средние века показали, что вред, наносимый культуре со стороны религии, преобладает над пользой. Вот почему мудрые головы видят в религии фактор, тормозящий культурную эволюцию. На его место они ставят атеизацию — движение от веры в Бога к безверию.
2. Эволюция в науке состоит в движении от лжи к истине. Это движение можно назвать сциентизацией. Без сциентизации человеческого сознания никакой прогресс в культуре невозможен. Более того, сциентизация — главный фактор очеловечения.
3. Эволюция в искусстве состоит в движении от безобразного к красоте. Это движение можно назвать эстетизацией. Без эстетизации человеческого сознания процесс очеловечения немыслим. Эстетически неразвитый человек есть человек неполноценный.
4. Эволюция в нравственности состоит в движении от зла к добру. Это движение называется морализацией. Без морализации человеческого сознания общественный прогресс невозможен. Человек безнравственный есть зверь.
5. Эволюция в политике состоит в движении от несправедливости к справедливости. Это движение — политизация. Без массовой политизации движение к справедливому политическому строю не представляется возможным. Человек аполитичный есть раб несправедливого социального режима.
6. Эволюция в языке состоит в движении от разобщения к единению. Это движение — социализация. Без социализации об очеловечении говорить не приходится. Своим существованием культурная эволюция обязана человеку социальному. Асоциальный человек есть куркуль.
Атеизация, сциентизация, эстетизация, морализация, политизация и социализация — вот шестеричный путь от животного к человеку в духовной культуре.
Систематизация ответов на вопрос о смысле жизни и их анализ — вот задачи, к которым хотелось бы хоть в какой-то мере приблизиться в этой книге. Авторы таких ответов сплошь и рядом повторяют одну и ту же мысль (например, о тщете жизни). Это даёт нам основание для их типизации. Мы можем разделить их на три типа — в зависимости от того, как тот или иной человек отвечает на вопрос о смысле человеческой жизни: 1) нет; 2) да/нет; 3) да.
1. Нет
Суета сует, суета сует, — всё суета!
ЭкклезиастСамое громогласное и долговечное «нет» смыслу человеческой жизни сказал в Библии Экклезиаст. Его имя по-гречески значит «проповедник». Л.Н. Толстой в своей «Исповеди» отождествляет автора Книги Экклезиаста с Соломоном — израильским царём, который жил в X в. до н. э. Многие люди и до сих пор так думают. Но иного мнения был С.С. Аверинцев. Он писал: «Традиционный образ Соломона сознательно взят как обобщающая парадигма для интимного жизненного опыта. Эта сознательность приёма есть черта столь же необычная на общем фоне древнееврейской литературы, сколь и подходящая к облику скептического мудреца, написавшего в IV или III в. до н. э. Книгу Проповедующего в собрании» (Аверинцев С.С. Древнееврейская литература // История всемирной литературы: в 9 т. Т. 1. М., 1983, с. 296). Таинственный «скептический мудрец», живший в III или IV в. до н. э., таким образом, вынес свой приговор будущему человечеству от лица израильского царя Соломона, жившего в X в. до н. э.
Приблизительно в это же время в Греции жили киники. В первую очередь я имею в виду основателя кинизма Антисфена Афинского (ок. 444–368 до н. э.) и Диогена Синопского (ок. 408–323 до н. э.), прославившегося тем, что жил в бочке и произнёс фразу «Ищу человека». Они не были столь радикальны в утверждении бессмысленности жизни, как Экклезиаст. Зато безвестные и нищие ученики Антисфена и Диогена оказались в одном ряду с израильским скептическим мудрецом. Они на практике подтверждали бессмысленность жизни. Очень красноречиво о них написала Т.В. Гончарова: «Всё в обществе — учение, эфебия (военная служба. — В.Д.), исполнение каких-то должностей — они считали лишь формой угнетения: везде только ложь и несправедливость, везде чего-то требуют, куда-то тащат, секут, грозят… Казалось, киников не заботит даже собственная смерть и погребение… Для этих людей, у которых оставалась лишь одна свобода — свобода бродячих собак, мир представлялся огромной бессмыслицей, а жизнь — случайным стечением обстоятельств. И эта жизнь, как считали они, не стоит того, чтобы и самому-то её продолжать, а уж тем более рождать для этого детей. И поэтому киники не имели ни семьи, ни детей, они жили как бродячие псы и так же умирали» (Гончарова Т.В. Эпикур. М., 1988, с. 68).
В предположительной форме мнение С.С. Аверинцева об авторстве Книги Экклезиаста и времени её написания поддерживает Г.В. Синило — современный знаток Танаха, еврейского Ветхого Завета: «Таким образом, за обозначением Когэлет (проповедующего в собрании — на иврите. — В.Д.) укрылся профессиональный мудрец-книжник, неведомый поэт, живший, скорее всего, в Иерусалиме в IV в. до н. э. Однако зачин книги гласит: „Слова Проповедующего в собрании, сына Давидова, царя в Иерусалиме“ (Еккл 1:1). Сыном Давида и царём в Иерусалиме мог быть только Соломон. Религиозная традиция приписывает Экклезиаст Соломону (как и Песнь Песней). Но Соломон, как известно, жил в X в. до н. э. и не мог быть реальным автором поэмы. Скорее всего, это яркий случай псевдоэпиграфики — приписывания более позднего произведения более древнему общепризнанному авторитету, часто легендарному (это явление типично для всех древних литератур). Имя же Соломона давно стало олицетворением мудрости. Возможно, неведомый автор решил прибегнуть к авторитету Соломона для придания весомости собственным размышлениям» (-i-mirovaya-poesiya/kniga-ekklesiasta-i-ee).
Как бы то ни было, а Экклезиаст очень убедительно вжился в образ Соломона. Его выражение «суета сует» стало крылатым. Его даже можно назвать формулой бессмысленности жизни. Между тем Галина Синило уточняет: «Этой строкой открывается знаменитая поэма. Выражение гавэль гавалйм „суета сует“ стало крылатым и определяет одну из главных мыслей произведения (этот рефрен повторяется в поэме около двадцати раз). Однако слово гавэль, традиционно переводимое как „суета“, или „тщета“, не имеет точного соответствия в русском языке. Его можно перевести и как „дуновение“, „дыхание“, „пар, вылетающий изо рта“… Это слово как нельзя лучше подчёркивает бренность, хрупкость, изменчивость всего существующего: всё есть гавэль» (там же).
Экклезиаст обнаружил «гавэльность» человеческой жизни по существу во всех главных её проявлениях.
Труд: «Что пользы человеку от всех его трудов, над чем он трудится под солнцем?» (Эккл. 1:2).
Цикличность жизни, отсутствие новизны: «Род уходит и род приходит, а Земля остаётся навек. Восходит солнце, и заходит солнце, и на место своё поспешает, чтобы там опять взойти. Бежит на юг и кружит на север, кружит, кружит на бегу своём ветер. И на круги свои возвращается ветер. Бегут все реки в море, а море не переполнится. К месту, куда реки бегут, туда они продолжают бежать. Всё — одна маята, и никто рассказать не умеет. Глядят, не пресытятся очи, слушают, не переполнятся уши. Что было, то и будет, и что творилось, то творится. И нет ничего нового под солнцем» (Эккл. 1:4–9).
Познание, мудрость: «Я узнал, что и это — пустое томленье, ибо от многой мудрости много скорби. И умножающий знанье умножает печаль» (Эккл. 1:17–18).
Богатство: «Я устроил себе цветники и сады, насадил в них дерев плодовых. Я устроил себе пруды — орошать из них рощи, растящие деревья. Приобрёл я рабов и наложниц, и были у меня домочадцы. А коров и овец приобрёл я больше, чем все до меня в Иерусалиме. Серебра и золота я тоже собрал и сокровищ от царей и сатрапий. Завёл я певцов, и певиц, и наслажденье людей — плясунов и плясуний. И стал велик я более всех, кто был до меня в Иерусалиме (а мудрость осталась со мною). Ни в чём, что очи мои просили, я не отказывал им. Ни от какой я радости не удерживал сердце, ибо ликовало моё сердце из-за моих трудов. Ведь была мне вся эта доля из-за моих трудов! Но оглянулся я на дела, что сделали мои руки, и на труды, над чем я трудился, и вот, всё — тщета и ловля ветра. И нет в том пользы под солнцем!» (Эккл. 2:5-11).
Пытался Соломон найти если уж не смысл жизни, то хотя бы успокоение ещё и в телесных наслаждениях, славе, в защите справедливости, борьбе со злом, и что же? Всё — суета и томление духа, потому что всех ждёт одна участь — смерть: «Одна участь праведному и нечестивому, доброму и злому, чистому и нечистому, приносящему жертву и не приносящему жертвы… Это-то и худо во всём, что делается под солнцем, что одна участь всем, и сердце сынов человеческих исполнено зла, и безумие в сердце их, в жизни их; а после того они отходят к умершим» (Эккл. 9:2–3).
Вера в рай — вот выход, который нашли христиане в борьбе со смертью. Но, начиная с эпохи Возрождения, эта вера стала всё больше и больше развеиваться[1]. Вопрос о смысле жизни всё чаще и чаще стал переноситься с неба на землю. Всё чаще и чаще люди стали обращать свой взор к человеку, чтобы найти смысл его жизни в самой этой жизни. Но что они увидели?
«Наша жизнь, — писал А.И. Герцен, — постоянное бегство от себя, точно угрызения совести преследуют и пугают нас. Как только человек становится на свои ноги, он начинает кричать, чтобы не слыхать речей, раздающихся внутри. Ему грустно — он бежит рассеяться; ему нечего делать — он выдумывает себе занятие; от ненависти к одиночеству он дружится со всеми, всё читает, интересуется чужими делами, женится на скорую руку. Кому и эта жизнь не удалась, тот напивается всем на свете: вином, нумизматикой, картами, скачками, женщинами, благодеяниями, ударяется в мистицизм, идёт в иезуиты, налагает на себя чудовищные труды, и они всё-таки легче кажутся, чем какая-то угрожающая истина, дремлющая внутри его. В этой боязни исследовать, чтобы не увидать вздор исследуемого, в этом искусственном недосуге, в этих поддельных несчастиях, усложняя каждый шаг вымышленными путами, мы проходим по жизни спросонья и умираем в чаду нелепостей и пустяков, не пришедши в себя» (Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников. Т. 2. М., 1960, с. 323). У Льва Николаевича, как вспоминал Н.Н. Гусев, «блестели слёзы на глазах», когда он слушал эти пронзительные слова А. И. Герцена.
Что это за дремлющая истина, о которой писал А.И. Герцен? Легко догадаться — о бессмысленности жизни. Эта горькая «истина» не раз посещала и самого Л.Н. Толстого. Бывало, дело доходило и до мысли о самоубийстве. Особенно глубокий приступ осознания бессмысленности жизни, отсутствия в ней смысла, а следовательно, и отчаяния Л.Н. Толстой, как он вспоминал в своей «Исповеди» (1879), пережил в середине 70-х годов. Главный вопрос, мучивший его, был вопрос «Зачем?».
«Ну, хорошо, у тебя будет 6000 десятин в Самарской губернии, 300 голов лошадей, а потом?.. Или, начиная думать о том, как я воспитываю детей, я говорил себе: „Зачем?“… „Ну, хорошо, ты будешь славнее Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всех писателей в мире, — ну и что же?“… И я ничего не мог ответить», — писал Л.Н. Толстой в этой книге (Толстой Л.Н. Указ. собр. соч. Т. 16, с. 125). Ниже он добавлял: «Со мной сделалось то, что я, здоровый, счастливый человек, почувствовал, что я не могу более жить, — какая-то непреодолимая сила влекла меня к тому, чтобы как-нибудь избавиться от жизни».
Вопрос «Зачем?» в менее драматической форме посещал Л.Н. Толстого и в другие времена. Так, много лет спустя после описанного кризиса, в конце 1901 г. он писал в дневнике: «Всякий человек закован в своё одиночество и приговорён к смерти. Живи зачем-то один, с неудовлетворенными желаниями, старейся и умирай» (Толстой Л.Н. Указ. собр. соч. Т. 20, с. 156).
Ещё горше, чем Л.Н. Толстой, сказал об одиночестве А.П. Чехов: «Как я буду лежать в могиле один, так в сущности я и живу одиноким» (Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем: в 26 т. Т. 17. Записные книжки. М., 1974–1988, с. 86).
Главными оппонентами Л.Н. Толстого в его «Исповеди» были Соломон (Экклезиаст) и А. Шопенгауэр. Последнего, пожалуй, можно назвать Экклезиастом Нового времени. В работе «О ничтожестве и горестях жизни» немецкий отшельник цитирует множество авторов, сформулировавших бессмысленность человеческой жизни. Вот лишь некоторые из них:
Гомер:
Из тварей, которые дышат и ползают в прахе, Истинно в целой вселенной несчастнее нет человека.Софокл:
Величайшее первое благо — совсем Не рождаться, второе — родившись, Умереть поскорей…Шекспир:
Да! если б мы могли читать заветы Грядущего и видеть, как неверна Судьба людей, — что наша жизнь, как чаша, Покорная лишь случаю слепому, Должна поочередно наполняться То радостью, то горем, — как бы много Счастливейших, наверно, предпочли Скорее умереть, чем жить такой Печальною, зависимою жизнью.В. Гёте:
Затем, что лишь на то, чтоб с громом провалиться, Годна вся эта дрянь, что на земле живёт. Не лучше ль было б им уж вовсе не родиться!Дж. Байрон: «Сосчитай те часы радости, которые ты имел в жизни; сосчитай те дни, в которые ты был свободен от тревоги, и пойми, что, какова бы ни была твоя жизнь, лучше было бы тебе не жить» (Шопенгауэр А. Избранные произведения. М., 1992, с. 65; 79).
Главная претензия А. Шопенгауэра к жизни — её обманчивость. Он писал: «Жизнь рисуется нам как беспрерывный обман, и в малом, и в великом. Если она даёт обещания, она их не сдерживает или сдерживает только для того, чтобы показать, как мало желательно было желанное. Так обманывает нас то надежда, то её исполнение. Если жизнь что-нибудь даёт, то лишь для того, чтобы отнять. Очарование дали показывает нам райские красоты, но они исчезают, подобно оптической иллюзии, когда мы поддаемся их соблазну. Счастье, таким образом, всегда лежит в будущем или же в прошлом, а настоящее подобно маленькому тёмному облаку, которое ветер гонит над озаренной солнцем равниной: перед ним и за ним всё светло, только оно само постоянно отбрасывает от себя тень. Настоящее поэтому никогда не удовлетворяет нас, а будущее ненадёжно, прошедшее невозвратно. Жизнь с её ежечасными, ежедневными, еженедельными и ежегодными, маленькими, большими невзгодами, с её обманутыми надеждами, с её неудачами и разочарованиями — эта жизнь носит на себе такой явный отпечаток неминуемого страдания, что трудно понять, как можно этого не видеть, как можно поверить, будто жизнь существует для того, чтобы с благодарностью наслаждаться ею, как можно поверить, будто человек существует для того, чтобы быть счастливым. Нет, это беспрестанное очарование и разочарование, как и весь характер жизни вообще, по-видимому, скорее рассчитаны и предназначены только на то, чтобы пробудить в нас убеждение, что нет ничего на свете достойного наших стремлений, борьбы и желаний, что все блага ничтожны, что мир оказывается полным банкротом и жизнь — такое предприятие, которое не окупает своих издержек; и это должно отвратить нашу волю от жизни» (Шопенгауэр А. Избранные произведения, с. 63–64).
«Отвратить нашу волю от жизни» — что это значит? Это прямой призыв если не к самоубийству, то, по крайней мере, к отвращению перед жизнью.
Если уж человеку довелось несчастье родиться, то ему ничего не остаётся, как надеяться на смерть, которая прервёт это несчастье. Вот почему смерти бояться не нужно.
А. Шопенгауэр мыслил себя борцом против страха перед смертью. Он учил спокойному её ожиданию. Люди должны учиться такому отношению к смерти у животных — например, у насекомых: «Вглядитесь осенью в маленький мир насекомых, — посмотрите, как одно готовит себе ложе, для того чтобы заснуть долгим оцепенелым сном зимы, как другое заволакивается в паутину, для того чтобы перезимовать в виде куколки и затем весною проснуться молодым и более совершенным; как, наконец, большинство из них, думая найти себе покой в объятиях смерти, заботливо пристраивают удобный уголок для своего яйца, чтобы впоследствии выйти из него обновленными, — посмотрите на это, и вы убедитесь, что и здесь природа вещает свое великое учение о бессмертии, — учение, которое должно показать нам, что между сном и смертью нет радикального различия, что смерть столь же безопасна для бытия, как и сон» (там же, с. 97).
Только что нарисованную идиллическую картинку развенчал в своей книге «Смысл жизни» Е.Н. Трубецкой. Он не увидел смысла не только в человеческой жизни, но заодно и в растительной и животной. Он писал: «Умирает каждый живой индивид, а жизнь рода слагается из бесконечной серии смертей. Это — не жизнь, а пустая видимость жизни. К тому же и эта видимость поддерживается в непрерывной „борьбе за существование“. Для сохранения каждой отдельной жизни нужна гибель других жизней. Чтобы жила гусеница, нужно, чтобы истреблялись леса. Порочный круг каждой жизни поддерживается за счет соседних, столь же замкнутых кругов, а дурная бесконечность жизни вообще заключается в том, что все пожирают друг друга и никогда до конца не насыщаются. Единое солнце светит всем живым существам; все им согреваются, все, так или иначе, воспроизводят в своей жизни солярный круг с его периодическими сменами всеобщего весеннего оживления и всеобщего зимнего умирания. Но, согреваясь вешними лучами, все оживают для взаимного истребления, все спорят из-за лучшего места под солнцем, все хотят жить, а потому все поддерживают дурную бесконечность смерти и убийства» (Трубецкой Е.Н. Смысл жизни. М., 1994, с. 36).
Но ещё хуже дело обстоит с людьми: «Чем выше мы поднимаемся в лестнице существ, тем мучительнее и соблазнительнее это созерцание всеобщей суеты. Когда мы доходим до высшей ступени творения — человека, наша скорбь о бесконечной муке живой твари, покорившейся суете, осложняется чувством острого оскорбления и граничит с беспросветным отчаянием, потому что мы присутствуем при развенчании лучшего, что есть в мире. Утомленный зрелищем бессмысленного прозябания мира растительного и суетного стремления жизни животной, глаз наш ищет отдыха в созерцании высшей ступени, душа хочет радоваться о человеке. Но вот, и этот подъём оказывается мнимым. Высшее в мире проваливается в бездну, человек повторяет в своей жизни низшее из низкого, что есть на свете, — бессмысленное вращение мёртвого вещества, прозябание растения и всё отталкивающее, что есть в мире животном. Вот, он пресмыкается, ползает, жрёт, превосходит разрушительной злобой самого кровожадного из хищников, являет собой воплощённое отрицание всего святого и в заключение умирает. Тут уже мы видим нечто большее, чем простое отсутствие жизненного смысла или неудачу в его достижении. Нас ужасает отвратительное издевательство над смыслом, возмутительная на него пародия в жизни человека и человечества» (там же).
В 1851 г. вышел в свет двухтомник А. Шопенгауэра «Parerga und Paralipomena» (Дополнительные и неизданные сочинения) (Шопенгауэр A. Parerga und Paralipomena. Л., 1991. URL: ). В этом двухтомнике их автор сформулировал основные пункты своего кредо. Вот эти пункты:
1. «Мир всё равно, что ад, в котором люди, с одной стороны, мучимые души, а с другой — дьяволы».
2. «Человек в сущности есть дикое, ужасное животное. Мы знаем его только в укрощённом и прирученном состоянии, которое называется цивилизацией: поэтому нас ужасают случайные взрывы его натуры. Но когда и где спадают замки и цепи законного порядка и водворяется анархия, там обнаруживается, что он такое… Гобино (Gobineau. Des races humaines) назвал человека l’animal mechant par excellence (злым животным по преимуществу), что не понравилось людям: они чувствовали себя обиженными. Но он был прав… Никакое животное никогда не мучит только для того, чтобы мучить; но человек делает это — что и составляет сатанинскую черту его характера, который гораздо злее, чем простой зверский…».
3. «Итак, в сердце каждого действительно сидит дикий зверь, который ждёт только случая, чтобы посвирепствовать и понеистовствовать в намерении причинить другим боль или уничтожить их, если они становятся ему поперек дороги, — это есть именно то, из чего проистекает страсть к борьбе и к войне, именно то, что задаёт постоянную работу своему спутнику — сознанию, которое его обуздывает и сдерживает в известных пределах. Это можно бы во всяком случае назвать радикальным злом, что угодило бы по крайней мере тем, для которых слово занимает место объяснения. Но я говорю: это воля, хотение жизни (der Wille zum Leben), которая, будучи всё более и более озлобляема постоянным страдальческим существованием, старается облегчить собственные муки, причиняя их другим… Ибо ненавистливость нашей натуры легко могла бы когда-нибудь из каждого сделать убийцу, если бы в неё не было вложено для удержания в известных границах надлежащей дозы страха».
4. «Мы похожи на ягнят, которые резвятся на лугу в то время, как мясник выбирает глазами того или другого, ибо мы среди своих счастливых дней не ведаем, какое злополучие готовит нам рок — болезнь, преследование, обеднение, увечье, слепоту, сумасшествие и т. д.».
5. «Мучительности нашего существования немало способствует и то обстоятельство, что нас постоянно гнетет время, не даёт нам перевести дух и стоит за каждым, как истязатель с бичом. Оно только того оставляет в покое, кого передало скуке… И, однако же, как наше тело должно было бы лопнуть, если бы удалить от него давление атмосферы; точно так же, если бы изъять человеческую жизнь из-под гнета нужды, тягостей, неприятностей и тщетности стремлений, — высокомерие людей возросло бы, если не до взрыва, то до проявлений необузданнейшего сумасбродства и неистовства. Человеку даже необходимо, как кораблю балласт, чтобы он устойчиво и прямо шёл, во всякое время известное количество заботы, горя или нужды… Работа, беспокойство, труд и нужда есть, во всяком случае, доля почти всех людей в течение всей жизни. Но если бы все желания исполнялись, едва успев возникнуть, — чем бы тогда наполнить человеческую жизнь, чем убить время?».
6. «Смерть, бесспорно, является настоящей целью жизни и нельзя указать другой цели нашего бытия, кроме уразумения, что лучше бы нас совсем не было. Это самая важная из всех истин».
В смерти Артур Шопенгауэр видел избавление от мук, неизбежных в жизни. Здесь он был прав. Не прав он был только в своей борьбе с «волей к жизни», в сведении человеческой жизни к цепи страданий, в отрицании её самоценности, в признании смерти смыслом жизни. Смысл жизни, как известно, надо искать в самой жизни, а не в её конце. Нет ничего в этом мире, что до конца уничтожило бы трагизм, проистекающий из мысли о нашей неминуемой смерти. Так пусть же она не обессмысливает наше кратковременное пребывание на этой Земле, а напротив, делает его самоценным! Так пусть же она созидает, а не разрушает! Так пусть же она заставит нас дорожить каждой её минутой, ибо другой жизни у каждого из нас больше никогда не будет.
Третьим Экклезиастом (после А. Шопенгауэра) стал в XX в. Альбер Камю. В «Мифе о Сизифе. Эссе об абсурде» он рисует обобщённый образ человека, обречённого влачить бессмысленное, иррациональное, абсурдное существование. Этот миф повествует о том, как Сизиф был наказан богами за непослушание: он должен вечно поднимать на гору камень, который опускается к нему снова и снова. Какой же смысл извлёк А. Камю из этого древнегреческого мифа?
«Этот миф трагичен, — писал А. Камю, — поскольку его герой наделён сознанием, о какой каре могла бы идти речь, если бы на каждом шагу его поддерживала надежда на успех? Сегодняшний рабочий живёт так всю свою жизнь, и его судьба не менее трагична. Но сам он трагичен лишь в те редкие мгновения, когда к нему возвращается сознание. Сизиф, пролетарий богов, бессильный и бунтующий, знает о бесконечности своего печального удела; о нём он думает во время спуска» (Камю А. Миф о Сизифе. Эссе об абсурде. URL: ).
Вот теперь нам стало понятно, почему мучаются рабочие! Они страдают оттого, что не до конца превратились в механических роботов, выполняющих свою работу абсолютно беспрерывно. Поскольку же они, как и Сизиф, всё-таки имеют некоторые перерывы в работе, они обречены на пробуждение своего сознания, которое им говорит, что они, как и Сизиф, занимаются совершенно бессмысленным трудом. Что и говорить, «весёленькую» пародию на человеческий труд нарисовал А. Камю в своём эссе «Миф о Сизифе». Да и не только на труд! Он увидел источник наших страданий ещё и в человеческом разуме, который, с точки зрения автора, только на то и годится, чтобы в перерывах от каждодневных забот осознавать бессмысленность своей жизни. Животным, выходит, легче: их разум не настолько развит, чтобы понять, что «трагедия начинается вместе с познанием» (там же).
Если А. Шопенгауэр увидел смысл жизни в отсутствии жизни, или, во всяком случае, в отсутствии «воли к жизни», в борьбе с нею, то А. Камю ушёл дальше: он увидел его в отсутствии всякого смысла в жизни. Видеть смысл жизни в его отсутствии — это абсурд. Абсурдно понимать, что жизнь бессмысленна, но всё-таки жить. Вот почему «Миф о Сизифе» имеет подзаголовок «Эссе об абсурде». Образ такой жизни А. Камю и нарисовал в эссе, о котором идёт речь: «Сизиф, вернувшись к камню, созерцает бессвязную последовательность действий, ставшую его судьбой. Она была сотворена им самим, соединена в одно целое его памятью и скреплена смертью. Убеждённый в человеческом происхождении всего человеческого, желающий видеть и знающий, что ночи не будет конца, слепец продолжает путь. И вновь скатывается камень» (там же). Вот так, как Сизиф, говорит нам в своём эссе А. Камю, живёт каждый человек.
Любимым словом А. Камю было слово «абсурд». В сборнике статей, объединённых названием «Миф о Сизифе. Эссе об абсурде», кроме анализа самого этого мифа, мы находим ещё и такие эссе: «Абсурдное рассуждение», «Абсурдный человек» и «Абсурдное творчество».
Абсурд — это бессмыслица. А. Камю искал её повсюду — в мифологии, в философии, в искусстве, в политике. Но делал он это, в конечном счете, для выполнения своей главной задачи — показать бессмысленность, абсурдность, иррациональность человеческой жизни вообще. Следовательно, его поиск абсурда был направлен, в конечном счете, на объяснение его ведущей «нравственной» установки, состоящей в показе бессмысленности человеческого существования.
В поиске абсурда А. Камю и видел своё «подлинное существование», свою «подлинную экзистенцию». Поиск абсурдного стал его болезненной страстью. Надо отдать ему должное: в этом поиске он весьма преуспел. Абсурд мерещился ему повсюду. «Чувство абсурдности, — писал он, — поджидает нас на каждом углу. Это чувство неуловимо в своей скорбной наготе, в тусклом свете своей атмосферы. Заслуживает внимания сама эта неуловимость» (там же). Овладев же тонкой методикой поиска абсурда, наш философ заявлял: «Мир абсурден, но это сказано чересчур поспешно. Сам по себе мир просто неразумен, и это всё, что о нём можно сказать» (там же).
Не мудрствуя лукаво, А. Камю ставит дальше главную проблему человеческого существования: а стоит ли нам существовать? А не разумнее ли покончить со своим абсурдным существованием разом — накинув, например, петлю на шею? Этот гамлетовский вопрос А. Камю и считал главным философским вопросом. Его обязан решить для себя каждый из нас, даже если он кому-то из нас и в голову никогда не приходил. Он пишет: «Есть лишь одна по-настоящему серьезная философская проблема — проблема самоубийства. Решить, стоит или не стоит жизнь того, чтобы её прожить, — значит ответить на фундаментальный вопрос философии. Всё остальное — имеет ли мир три измерения, руководствуется ли разум девятью или двенадцатью категориями — второстепенно. Таковы условия игры: прежде всего нужно дать ответ. И если верно, как того хотел Ницше, что заслуживающий уважения философ должен служить примером, то понятна и значимость ответа — за ним последуют определённые действия» (там же).
А дальше у автора этого эссе начинаются омерзительные апологии самоубийства. Приведу здесь только одну из них, оставив на его совести все остальные: «…если трудно с точностью зафиксировать мгновение, неуловимое движение, при котором избирается смертный жребий, то намного легче сделать выводы из самого деяния. В известном смысле, совсем как в мелодраме, самоубийство равносильно признанию. Покончить с собой — значит признаться, что жизнь кончена, что она сделалась непонятной. Не будем, однако, проводить далёких аналогий, вернёмся к обыденному языку. Признаемся попросту, что „жить не стоит“. Естественно, жить всегда нелегко. Мы продолжаем совершать требуемые от нас действия по самым разным причинам, прежде всего в силу привычки. Добровольная смерть предполагает, пусть инстинктивное, признание ничтожности этой привычки, осознание отсутствия какой бы то ни было причины для продолжения жизни, понимание бессмысленности повседневной суеты, бесполезности страдания» (Камю А. Миф о Сизифе. Эссе об абсурде.). Эти слова были обнародованы в 1942 г., когда их автору было 29 лет. История умалчивает о том, какое число почитателей А. Камю, ставшего Нобелевским лауреатом, нашли в них вдохновение для своего решения уйти из жизни[2].
Восставать против бессмысленности жизни неразумно: «К чему восставать, если в тебе самом нет ничего постоянного, достойного того, чтобы его сберечь?» (Камю А. Бунтующий человек URL: /-history/Author/Engl/C/CamusA/bunt/index.html).
Итак, Альбер Камю внёс весомый вклад в разрушение нравственности людей, оказавшихся под обаянием его творчества. Иначе и не могло быть, поскольку он довёл до логического конца шопенгауэровскую линию в экзистенциализме, ведущую в пропасть небытия. Этому способствовал его стиль мышления. Он был виртуозным мастером абсурдистского стиля мышления. Он стал им не случайно, поскольку в качестве отправного пункта своей интеллектуальной деятельности рассматривал бессмысленность человеческого существования, а бессмысленность и есть абсурд.
Не могла пройти мимо вопроса о смысле/бессмысленности жизни русская художественная литература. В стихах многих наших поэтов нашла место экклезиастическая стихия. Её начало положил В.А. Жуковский своим стихотворением «Человек». Вот что вслед за Экклезиастом он сообщил в нём своему читателю о человеке, а стало быть, и о нём:
Ничтожность — страшный твой удел! Чего ж искать тебе в сей пропасти мучений? Скорей, скорей в ничто! Ты небом позабыт, Один перун его лишь над тобой гремит; Его проклятием навеки отягчённый, Твоё убежище лишь смерть!Чтобы почувствовать бессмысленность собственной жизни, читателю требуется не воспринимать мысли Экклезиаста как отвлечённые от его персоны, а принимать их на свой счёт. Тогда он прочувствованно прочтёт:
Ничтожный человек! что жизнь твоя? — Мгновенье. Взглянул на днéвный луч — и нет тебя, пропал! Из тьмы небытия злой рок тебя призвал На то лишь, чтоб предать в добычу разрушенья; Как быстра тень, мелькаешь ты! Игралище судьбы, волнуемый страстями, Как ярым вихрем лист, — ужасный жребий твой Бороться с горестью, болезньми и собой! Несчастный, поглощён могучими волнами, Ты страшну смерть находишь в них. В бессилии своём, пристанища лишённый, Гоним со всех сторон, ты странник на земли! Что твой парящий ум? что замыслы твои? Дыханье ветерка, — и где ты, прах надменный? Где жизни твоей следы?Последняя строчка в этом стихотворении, сказанная поэтом от себя («Могила — к вечной жизни путь»), мало утешает.
Очень лаконично свёл наши счёты со смыслом жизни К.Н. Батюшков:
Рабом родится человек, Рабом в могилу ляжет, И смерть ему едва ли скажет, Зачем он шёл долиной чудной слёз, Страдал, рыдал, терпел, исчез.Неожиданное отступление от Экклезиаста позволил себе молодой М.Ю. Лермонтов в стихотворении «Смерть», где он призывает смерть, потому что устал от жизни. Ведь если продолжать жить, то сразу возникнут вопросы:
Ужель бездушных удовольствий шум, Ужели пытки бесполезных дум, Ужель самолюбивая толпа, Которая от мудрости глупа, Ужели дев коварная любовь Прельстят меня перед кончиной вновь? Ужели захочу я жить опять, Чтобы душой по-прежнему страдать И столько же любить?Но главная причина — в людях:
Пускай меня обхватит целый ад, Пусть буду мучиться, я рад, я рад, Хотя бы вдвое против прошлых дней, Но только дальше, дальше от людей.Стихотворение «С тех пор как мир наш необъятный» И.С. Никитин целиком посвятил подтверждению мысли Экклезиаста о том, что всё повторяется. Вышла невесёлая картина:
С тех пор как мир наш необъятный Из неизвестных нам начал Образовался непонятно И бытие своё начал, Событий зритель величавый, Как много видел он один Борьбы добра и зла, и славы, И разрушения картин! Как много царств и поколений, И вдохновенного труда, И гениальных наблюдений Похоронил он навсегда!.. И вот теперь, как и тогда, Природа вечная сияет: Над нею бури и года, Как тени лёгкие, мелькают. И между тем как человек, Земли развенчанный владыка, В цепях страстей кончает век Без цели ясной и великой…Щемящей болью веет от самого горестного стихотворения И.С. Никитина о своей, как ему казалось, бессмысленной, никому не нужной жизни, которую он досрочно хоронит:
Вырыта заступом яма глубокая. Жизнь невесёлая, жизнь одинокая, Жизнь бесприютная, жизнь терпеливая, Жизнь, как осенняя ночь, молчаливая, — Горько она, моя бедная, шла И, как степной огонек, замерла. Что же? усни, моя доля суровая! Крепко закроется крышка сосновая, Плотно сырою землёю придавится, Только одним человеком убавится… Убыль его никому не больна, Память о нём никому не нужна!..Все поэты, стихи которых я до сих пор приводил, писали о бессмысленности человеческой жизни применительно либо к человеку вообще, либо к себе самим. Чужую смерть они проецировали на свою. Это эгоцентризм. Не так обстоит дело со стихотворениями Ф.И. Тютчева, посвящёнными смерти Е.А. Денисьевой — его последней любви. Рана, которую ему нанесла её смерть, подвела его к черте, за которой жизнь становится бессмысленной. По крайней мере, мы можем судить об этом по некоторым его стихам. Таким, например:
Есть и в моём страдальческом застое Часы и дни ужаснее других… Их тяжкий гнёт, их бремя роковое Не выскажет, не выдержит мой стих. Вдруг всё замрёт. Слезам и умиленью Нет доступа, всё пусто и темно, Минувшее не веет лёгкой тенью, А под землёй, как труп, лежит оно. Ах, и над ним в действительности ясной, Но без любви, без солнечных лучей, Такой же мир бездушный и бесстрастный, Не знающий, не помнящий о ней. И я один, с моей тупой тоскою, Хочу сознать себя и не могу — Разбитый чёлн, заброшенный волною На безымянном диком берегу.Девять лет жизни без неё поэт прожил «как бы живой»:
Опять стою я над Невой, И снова, как в былые годы, Смотрю и я, как бы живой, На эти дремлющие воды. Нет искр в небесной синеве, Всё стихло в бледном обаянье, Лишь по задумчивой Неве Струится лунное сиянье. Во сне ль всё это снится мне, Или гляжу я в самом деле, На что при этой же луне С тобой живые мы глядели?Как понимать «живые» в последней строчке? А что значит «как бы живой»? А вот что:
Нет дня, чтобы душа не ныла, Не изнывала б о былом, Искала слов, не находила, И сохла, сохла с каждым днём, — Как тот, кто жгучею тоскою Томился по краю родном И вдруг узнал бы, что волною Он схоронён на дне морском.Люди по-разному переживают смерть любимого человека. Актёр Роман Ткачук, например, пережил свою жену только на несколько часов, а философ Алексей Лосев после смерти Валентины Михайловны прожил ещё тридцать пять лет, в течение которых при помощи Азочки он написал своё грандиозное третье восьмикнижие «История античной эстетики».
Сколько мне осталось? Бог весть. Но я борюсь, борюсь с бессмысленностью. Вот краткая история этой борьбы.
Моё горе останется со мной до конца. Я не хочу от него избавляться. Я им живу. Живу воспоминаниями о Ларисе. Она умерла в 8.20 утра 8 сентября 2010 г., а 7 августа у нас была 30-я годовщина нашей свадьбы.
Как она хотела жить! В начале августа она кричала на балконе: «Я не хочу, не хочу умирать!» Она писала в своём блокноте: «Задача: выздороветь, ходить своими ногами, закончить рвоту, набрать вес, поднять иммунитет, чтобы она (болезнь. — В.П.) не повторилась, стать лучше, чем была, и внешне. Сделать летом операцию. Надо и хочу заниматься своей жизнью сама! Надо жить, и я это делаю с большим удовольствием. Мне очень приятно заниматься своей жизнью. Я хотела, чтобы обо мне заботились, а теперь хочу сама заботиться о себе, о Валере, более всего об Арсении (сыне. — В.П.)».
8 сентября я записал в своём дневнике: «Моя ненаглядная умерла сегодня утром в 8.20. Отмучилась. Ты всегда будешь со мной! Чудовищная несправедливость! Лучше её нет человека на этом свете. Чистая, умная, добрая, светлая, интересная, красивая… И умирает в 51 год».
10 сентября: «Вот мы и похоронили тебя, родная моя. Всё было достойно. Я с тобой расстался только физически, но не духовно. Твой завет мне „Живи долго“ я постараюсь осуществить, чтобы твоя жизнь продолжалась в моей».
Я пытался бороться со своим горем вот так:
В чём моё горе и как его преодолеть?
1. Тебя нет в живых, но ты осталась в моей памяти.
2. Мне тебя невыносимо жалко, но твои страдания кончились.
3. Меня гложет вина перед тобой, но я всё-таки не был твоим палачом.
4. Ты была моей нравственной опорой, но ты ею и осталась.
5. Ты была моей помощницей и целительницей, но я справлюсь.
6. Тебя загубил А.В. Шелехов, но, может быть, он и не мог ничего существенно изменить к лучшему, поскольку до него тебя основательно сожгли радиологи?
7. Ты ушла слишком рано, но с этим теперь ничего не поделаешь.
Но моя борьба с горем оказалась бесплодной. Горе действует по законам, которые не зависят от моей воли. Вот почему я пришёл к такому выводу: нет мне утешения. Чувство тоски по тебе уйдёт со мной в могилу. Стало быть, моё горе временно: оно закончится с моею смертью. Я пью до дна чашу своего горя. Вот лишь некоторые записи из моего дневника:
• Мне её жалко, жалко, жалко, жалко… Особенно мучительными были два её последних дня. Она не сознавала своей боли, но всё её тело чувствовало эту боль — страшную, невыносимую, содрогающую её измождённое тело. Никогда не забуду её сухие, бледные, дрожащие, мертвенные губы (11 сентября 2010 г.).
• Я помню, как ты, сидя на кровати, тянула свою головку, чтобы увидеть, что там за окном происходит (17 сентября).
• Самый тяжёлый момент — пробуждение. Во сне забываешься, а проснёшься: тебя нет рядом — страшная боль (16 сентября).
• Мы были счастливы в твоё последнее лето, потому что так любили друг друга, как никогда прежде (18 сентября).
• Я вижу тебя повсюду. Выйду на балкон — вижу там тебя под зонтиком, ложусь на кровать — вижу, как ты смотришь телевизор со скорбным лицом, прихожу на кухню — вспоминаю, как ты делала салат в последний раз. Помню твои слёзы, когда я принёс тебе сирень. Нет конца этим видениям (19 сентября).
• Я наполовину умер. Наполовину живой, наполовину мёртвый. Половина моего тела и души умерла вместе с тобой. Ты была моей половинкой. Моя жизнь наполовину обессмыслилась (27 сентября).
• Вспомнил, как ты мне говорила, что прожила счастливую жизнь: «У меня прекрасный, гениальный муж, у меня хороший сын, студенты меня любят… Я прожила счастливую жизнь». Спасибо тебе, добрая душа! Но я чувствую себя виноватым перед тобой. Я был плохим мужем. Занимался главным образом своими книгами и статьями. Трудился для человечества, а надо было делать тебя счастливой. Нет мне прощения. Только во время болезни я был таким, каким должен был быть всю жизнь. Моя вина перед тобой безмерна. Я не могу ничего исправить. Эта вина, по-видимому, и сведёт меня в могилу. Туда мне и дорога. Арсений и неизданные книги удерживают. Но смерть не будет спрашивать (29 сентября).
• Горе обессиливает, делает нелюдимым, безразличным и безмолвным. Маленькое горе болтливо, а большое — безмолвно (7 октября).
• Врач:
— Лариса Владимировна, Вы меня слышите?
Ты:
— Глаза — вверх. Этого твоего взгляда я не забуду до конца своих дней (14 октября).
• Знаешь, моя жизнь теперь поделилась на ту и эту. Та — прежняя, до твоей смерти, полноценная, подлинная, счастливая и эта — неполноценная, полужизнь, рефлекс прежней. Эта мне нужна лишь для того, чтобы закончить то, что не успел доделать в той (15 октября).
• Вспомнил, как в сентябре прошлого года я лежал в больнице и писал там статьи о сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина и «Голубой книге» М.М. Зощенко. Это была моя болдинская осень. По возвращении из больницы я быстро написал ещё статьи о письмах А.С. Пушкина, две статьи об А.А. Блоке, статью о сказке Л.А. Филатова и др. Это было счастье! Но я этого не понимал. Это было счастье потому, что ты была рядом. Я читал тебе свои статьи. Далеко не всё ты принимала. Например, ты забраковала первые варианты статей о М.Е. Салтыкове-Щедрине и М.М. Зощенко. Пришлось переделывать. Да, я не понимал своего счастья. Теперь я его понимаю. Не нужно себя казнить за это. Нужно понять, что твоя смерть открыла мне глаза на ту жизнь — полноценную и счастливую. Теперь мир померк для меня. Выход один: освещать его счастьем той жизни (16 октября).
• Всё-то я расписал со своим горем, а оно не уходит (16 октября).
• Я теперь просыпаюсь всё время с одним и тем же вопросом: неужели опять жить? (21 октября).
• Не дай Бог вдоветь да гореть! Дай Бог погореть, да не дай Бог овдоветь; Лучше семью гореть, чем однова овдоветь; Видал ли ты беду? Терял ли ты жену? Не плачет малый, не горюет убогий, а плачет да горюет вдовый; Вдовец — деткам не отец, а сам круглый сирота; Горькие проводы — жена мужа (муж жену) хоронит. Вдового никто не приветит (23 октября).
• Два человека я любил в своей жизни бесконечно — маму и тебя. Обе великомученицы. Обеих нет в живых, но любовь осталась (25 октября).
• Вспомнил, как мы с тобой добрались на коляске до рынка на «Волжской» и как ты там выбирала ягоду, помидоры… Ты учила меня, как это нужно делать. Спасибо тебе, родная. Спасибо тебе за всё, что ты дала мне на этой земле (27 октября).
• Мне стыдно перед тобой. Я живу (ем, смотрю ТВ etc.), а тебя нет. Мне очень стыдно жить (28 октября).
• Где ты, моя родная? (29 октября).
• Только вчера я понял твоё состояние летом (в особенности — в августе). Глядя на экран телевизора, ты думала: «Всё это так ничтожно и так далеко от меня перед надвигающимся концом». Ты научила меня смотреть на этот мир августовскими глазами (11 ноября).
• В августе: «Мы даже не съездили на Аршан. Ты всё время писал и писал свои книги. И что ты за них получил?» (22 ноября).
• Твою одежду некому носить. После моей смерти некому будет читать мои книги (23 ноября).
• Полноценная жизнь кончена. Сулит мне труд и горе грядущего волнуемое море. Только память о тебе поддерживает меня на плаву. Она меня очеловечивает (13 декабря).
• В больнице: «Я так тебя люблю! Я так тебя люблю! Я так тебя люблю!» (20 декабря).
• Кончается этот страшный, 2010 год. Время меня не лечит. Чувствую себя так же, как на другой день после твоих похорон. Тебя нет рядом. И так будет всегда. До конца моих дней. Я тебя никогда не увижу. Никогда не поговорю с тобой. Никогда ты не встанешь из гроба и не вернёшься ко мне. И это принять? И с этим смириться? И это пережить? (31 декабря).
• Я говорю с тобой, как верующий — с Богом. Я тебя боготворю.
• Моя жизнь стала страданием. Но и оно мне дорого, поскольку оно о тебе (15 января 2011 г.).
• Как охотно ты, добрая, открытая душа, делилась с медиками своими мыслями и чувствами. Тебя слушали. Понимали, что это тебе необходимо (17 января).
• Мне снился чудный сон — ты. Перед самым пробуждением. Ты пришла ко мне на свидание. Здоровая, спокойная, ласковая. Сказала что-то о лекциях, которые тебе надо писать. Я обнял тебя, поцеловал. Меня охватило радостное изумление: я знаю, что ты умерла, и мне непонятно, как ты оказалась дома. Боюсь тебя об этом спросить. Но про себя решил вот что: ты вернулась, кончились мои страдания. Какое счастье! И — я проснулся (17 января).
• Мне было жалко не серёжек, которые у тебя украли в реанимации кардиологического отделения на 8-й Советской, мне до слёз было жалко тебя. Они были тебе так дороги! Были сделаны из золотых часов твоего папы. Вот почему ты так убивалась, когда обнаружила, что их нет на ушах. Звонила мне со слезами. Что это за человек, снявший драгоценности с больной, находящейся без сознания? А чем лучше сёстры, которые оставили тебя обнажённой перед окном, настежь распахнутым для проветривания помещения? Было страшно холодно. Ты умоляла их закрыть тебя одеялом. Не тут-то было. Они простудили твоё и без того измученное тело недели на две. Что это за люди? Эсэсовки. Они получали удовольствие от унижения беспомощного, вконец измученного человека. А сестра, которая не сняла с твоей руки катетер, хотя прошло уже пять дней? Пришлось тебя возить на коляске в хирургическое отделение на перевязку недели две, чтобы предотвратить заражение крови. А полная диетологическая безграмотность жизнерадостного хирурга, оперировавшего тебя? Он несколько раз предлагал мне отправить тебя в хоспис. Ты ушла с полной уверенностью в том, что именно он и отправил тебя на тот свет. Всех издевательств над тобой не перечтёшь! (6 февраля).
• Я много раз встречался в своей жизни с несправедливостью, но только теперь узнал высшую, чудовищную несправедливость — твою смерть. Перед нею меркнут, кажутся ничтожными, исчезают все прочие несправедливости (18 февраля).
• Твоя смерть меня раздавила. А как же я жил до встречи с тобой? (20 февраля).
• Ты умерла для других, но не для меня (25 февраля).
• Ты была лучше всех. Но преждевременная смерть забирает лучшую. Нет правды на земле (27 февраля).
• Я живу теперь вот с каким настроением: не жить собираюсь, а помирать. Надеюсь, что это пройдёт. Я возлагаю надежды на книги. По-видимому, по неразумию моему мне кажется, что я воспряну духом, когда они выйдут. Да, это будет, но недолго, потому что тебя они мне всё равно не вернут. Всё отступило на второй план. Моя подлинная жизнь — с тобой, в общении с тобой, в воспоминаниях о тебе, в жалости к тебе. Эта жизнь загоняет меня в эпикуровскую атараксию — полное безразличие к внешнему миру (1 марта).
• Изданием оставшихся книг я облегчу свою душу, но не уменьшу своё горе. Точнее надо говорить — наше горе. А твоё горе неизмеримо больше моего. Это разрывает моё сердце на клочки (3 марта).
• Л.Н. Толстой говорил о плодотворности страдания. А вот сейчас я думаю, что он не умел страдать о родных. Отсюда его умилённое состояние после смерти Маши, а раньше — Ванечки. Он никогда не был способен на такие страдания, которые испытывал Ф.И. Тютчев о Е.А. Денисьевой. Не потому ли ты недолюбливала Л.Н. Толстого? Ты считала несправедливым его отношение к Софье Андреевне (12 марта).
• У меня, Лариса, сегодня праздник: я получил свою седьмую книгу, изданную в Москве, — «Методы лингвистического анализа». Она писалась легко, но по почте шла из Москвы целых три недели. Habent sua fata libelli. Я её начал писать в больнице, на Синюшке, в 2009 г. Лежал весь июль с пневмонией. Ты вытащила меня с того света дорогим лекарством — avelox (будь здоров, лох). Ты вытащила меня из могилы во второй раз. Первый раз — в 2006-м. От инфаркта. Ты привезла мне на такси aqualize — за 20 тысяч рублей. Больше меня с того света вынимать некому. Лето 2009 было твоим предпоследним летом. Красивая, молодая, энергичная, ты каждый день ходила ко мне в гости, приносила вкусненькое. Я вспоминаю теперь об этом как о великом счастье, навсегда ушедшем в прошлое (22 марта).
• Я теперь засыпаю поздно, а встаю рано. Ночь — самое мучительное время. Как ни пытаюсь заснуть пораньше, ничего не выходит. Думаю о тебе. Сегодня ночью вспомнил, с каким воодушевлением ты спрашивала зав. отделением гастроэнтерологии о диете перед выпиской из больницы. В своём выздоровлении ты не сомневалась. Как тебя радовали продукты, которые тебе можно было есть! Теперь я вспоминаю об этом с болью. Эта беседа состоялась в конце июля, а 8 сентября ты умерла (25 марта).
• Приближается вечер — приближается моё горе. Днём я его разгоняю работой. Вечером из-за усталости я не могу работать (27 марта).
• Смотрю на твои последние фото и вижу, что твои грустные глаза смотрят как бы внутрь себя, а не вовне (2 апреля).
• Почему моё горе обостряется при смене сезона? Пришла зима — худо, пришла весна — ещё хуже. Потому что и зима пришла, и весна пришла, а тебя нет. Ты их не увидела и на балкон не выйдешь, чтобы подышать тёплым воздухом (3 апреля).
• Сущность человека (человечность) состоит в творчестве и созидании. Ты была человечной — творцом и созидателем нашей семьи. Вот почему жить с тобой было так радостно (6 апреля).
• Волны боли — от противоестественности твоего физического исчезновения из нашего дома (9 апреля).
• Ты — лучшее, что было в моей жизни. Ты и книги (15 апреля).
• Я как жил с тобой, так и буду жить с тобой до конца своих дней (17 апреля).
• Каждую минуту я ощущаю твоё присутствие в доме. Время от времени я слышу твой голос. То иронический, то одобрительный, то поучающий, то весёлый. Но всегда с болью я чувствую твоё страдание. Ты верила, что не умрёшь. Смерть недоступна сознанию (24 апреля).
• Ф.И. Тютчев писал своей Лёле стихи, а я, видишь ли, стеснялся говорить тебе о своей любви. Олух царя небесного!
• Что может быть бедственнее прощания с жизнью?
• Какая глупость, что мы не родили дочь! Она напоминала бы мне о тебе (30 апреля).
• В последние годы ты чувствовала себя глубоко несчастной. Но во время болезни поняла, что была счастливой (7 мая). Переключая каналы на ТВ, я спрашивал:
— Оставить?
— Как хочешь.
Раньше ты не была такой сговорчивой.
• Идут за днями дни, и каждый день приносит мне боль.
• Из своих книг я пытаюсь соорудить укрытие, где я смог бы прятаться от мира, в котором тебя нет вот уже ровно восемь месяцев (8 мая).
• Когда обыденная действительность врывается в моё одиночество и будоражит душу, я обращаюсь за помощью к тебе. Вот и сегодня ты говоришь мне: «Всё это так ничтожно…» (12 мая).
• В нашей «гугнивой родимой матушке России» (А.А. Блок) трудно найти человека, закончившего свою жизнь без груза накопившихся обид. Со своим грузом обид закончила свою жизнь и ты.
• Вчера в первый раз посмотрел съёмки, которые Арсений сделал за четыре дня до твоей смерти. Ты уже была без сознания. Руки ходили ходуном — вверх, вниз, вверх, вниз… С каким тягостным трудом из тебя выходила жизнь!
• Тучи твоей смерти не рассеются надо мной никогда.
• Тоска и жалость сливаются в горе воедино и рождают невыносимое, безысходное страдание. Это страдание доводит меня «до чего-то такого, чему и имени нет ни на каком человеческом языке» (Ф.И. Тютчев) (17 мая).
• Раньше я всё больше думал о своей смерти, а теперь — о твоей. Думы о ней делают меня отрешённее от мира, загоняют в келью схимника. С той разницей, что схимник удаляется от мира для соединения с Богом, а я — для соединения с тобой.
• Тебе оставалось до смерти четыре шага, а ты боялась остаться без работы. Живой живое и думает (18 мая).
• Вчера тебе позвонила какая-то таинственная дама из общежития № 8 (я так и не добился от неё, чтобы она представилась). Значит, не для всех ты умерла.
• Чудеса! Ты мне приснилась молоденькой девчонкой.
• Я, Лариса, продолжаю жить с тобой. Смотрю на этот мир не только своими глазами, но и твоими. А мир этот сама знаешь какой: кругом одни шуты гороховые (19 мая).
• Сделал картошку и вспомнил, как ты меня попросила привезти тебе в реанимацию жареной картошки. Они тебя, измождённую, не кормили четыре дня. Как относиться к нашей медицине? (22 мая).
• Вот, Лариса, и лето пришло. Без тебя. Какая нелепость! (1 июня).
• Перед смертью ты много спала, а я, дурак, думал, что это хорошо.
• Ты тщательно почистила зубы даже в последний сознательный день твоей жизни (7 июня).
• Мне легче жить, когда я веду себя так, будто мы продолжаем жить вместе, будто ты живая (8 июня).
• В какие моменты я ловлю себя на мысли, что на моём лице выражение твоего? На кухне, когда лежу в постели, когда сижу на балконе, перед зеркалом… — повсюду, где я внимательно наблюдал за тобой, стараясь запомнить на всю жизнь.
• С помощью науки люди научились творить чудеса, но, несмотря на все гигиенические и медицинские ухищрения, они по-прежнему беспомощны перед смертью.
• Видел тебя во сне жалко плачущей (12 июня).
Я нашёл собратьев по горю — А.И. Герцена, Ф.И. Тютчева, А.Ф. Лосева, К.И. Чуковского, Г.К. Жукова. Все они пережили своих любимых женщин. Первый — на 18 лет, второй — на 9, третий — на 35, четвёртый — на 14, пятый — на 7 месяцев. Смерть самых дорогих для них людей захватила А.И. Герцена в 40 лет (1852), Ф.И. Тютчева — в 60 (1864), А.Ф. Лосева — в 60 (1954), К.И. Чуковского — в 73 (1955), Г.К. Жукова — в 78 (1973). Моими ближайшими «соседями» здесь оказались Ф.И. Тютчев и А.Ф. Лосев.
Только безнадёжно бесчувственный человек может без слёз читать у А.И. Герцена строки о смерти его Натали: «Минутами она приходила в полусознание, явственно говорила, что хочет снять фланель, кофту, спрашивала платье — но ничего больше.
Я несколько раз начинал говорить; мне казалось, что она слышит, но не может выговорить слова, будто выражение горькой боли пробегало по лицу её.
Раза два она пожала мне руку, не судорожно, а намеренно — в этом я совершенно уверен. Часов в шесть утра я спросил доктора, сколько остаётся времени: „Не больше часа“.
Я вышел в сад позвать Сашу. Я хотел, чтоб у него остались навсегда в памяти последние минуты его матери. Всходя с ним на лестницу, я сказал ему, какое несчастие нас ожидает, — он не подозревал всей опасности. Бледный и близкий к обмороку, взошёл он со мной в комнату.
— Станем рядом здесь на коленях, — сказал я, указывая на ковёр у изголовья.
Предсмертный пот покрывал её лицо, рука спазматически касалась до кофты, как будто желая её снять. Несколько стенаний, несколько звуков, напомнивших мне агонию Вадима, — и те замолкли. Доктор взял руку и опустил её, она упала, как вещь.
Мальчик рыдал, — я хорошенько не помню, что было в первые минуты. Я бросился вон — в зал — встретил Ch. Edmonda, хотел ему сказать что-то, но вместо слов из моей груди вырвался какой-то чужой мне звук… Я стоял перед окном и смотрел, оглушённый и без ясного пониманья, на бессмысленно двигавшееся мерцавшее море» (Былое и думы. Часть 5).
Наталья Александровна Герцен прожила 40 лет, Елена Александровна Денисьева — 38 лет, Валентина Михайловна Лосева — 55, Мария Борисовна Чуковская — 75, Галина Александровна Жукова — 47. Лариса умерла, не дожив сорока дней до 52 лет. Её ближайшей «соседкой» здесь оказалась В.М. Лосева. А.А. Тахо-Годи писала о ней: «…как устроить наше бытие без той, которая всегда заботилась и сострадала?» (Тахо-Годи А.А. Лосев. М., 2007, с. 314). «Всегда заботилась и сострадала» — лучшая характеристика и Ларисы.
К.И. Чуковский писал в своём дневнике: «…я мечусь в постели и говорю себе снова и снова, что я её палач, которого все считали её жертвой. Ухожу к ней на террасу и веду с ней надрывный разговор. Она лежит с подвязанной челюстью в гробу — суровая, спокойная, непрощающая, пронзительно милая, как в юности» (Лукьянова И.В. Корней Чуковский. М., 2006, с. 833).
Лариса перед смертью устраивала «сеансы» прощения, которые занимали несколько минут: она лежала с закрытыми глазами и что-то беззвучно шептала. Спрашиваю: «Что ты говоришь?». Она отвечала: «Я прощаю, а знаешь, как это трудно…».
В своём блокноте она записала: «Я много передумала. Я не буду тратить силы души вхолостую. Я прощаю маму, родных, Козыреву. Вообще они не виноваты, что они такие. Не виноваты. Я их прощаю от всего сердца, и на этом всё!». Она не смогла простить только своего хирурга, который изуродовал её ещё в феврале.
Мне она незадолго до смерти как-то сказала: «Прости меня, что я испортила тебе жизнь». Мне не за что её прощать. Вот какие записи я нашёл в её больничном блокноте: «Мой муж. Если бы не болезнь, я бы не знала о его любви вообще. Он написал мне замечательное письмо, в котором говорил о любви, что за 30 лет прожил со мной счастливо. Если бы не он, я бы уже не жила! Для него хочу поскорее встать на ноги. Господи, помоги! Глядя на него, понимаешь, что такое любовь. Спасибо тебе, болезнь, за это!». Её последняя запись в блокноте была такой: «Случилось очень приятное событие: Валерина книга всё-таки получила признание. Он стал лауреатом лучшей научной работы за 2009 г. Хоть бы кто поздравил, с силой вырываю поздравления для него, лапушки. За неё ректор не дал ему премии — позор! Но это не его проблемы! Он у меня лауреат „Литературной учёбы“ за 2009 г. Этот год у него урожайный».
Я не был её палачом, но я чувствую мучительную вину перед нею. На следующий день после её похорон 10 сентября я написал в своём дневнике: «Моя главная вина перед Ларисой: я не сумел сделать её счастливой. Я был озабочен больше своей наукой, чем её счастьем. Прозрение пришло слишком поздно».
Ф.И. Тютчев — вот человек, который лучше, чем другие, выразил не только своё, но и моё горе. В августе, когда мы вернулись из больницы, Лариса как-то сказала: «Как я любила работу по дому! Как я любила убирать! Как я любила готовить! О боже, как всё это я любила!». Я был поражён, когда прочитал недавно (конец ноября 2010 г.) последнюю фразу у Ф.И. Тютчева:
Весь день она лежала в забытьи, И всю её уж тени покрывали. Лил тёплый летний дождь — его струи По листьям весело звучали. И медленно опомнилась она, И начала прислушиваться к шуму, И долго слушала — увлечена, Погружена в сознательную думу… И вот, как бы беседуя с собой, Сознательно она проговорила (Я был при ней, убитый, но живой): «О, как всё это я любила!» … Любила ты, и так, как ты, любить — Нет, никому ещё не удавалось! О господи!., и это пережить… И сердце на клочки не разорвалось… <Октябрь-декабрь 1864>В письме к А.И. Георгиевскому — мужу родной сестры Е.А. Денисьевой — Ф.И. Тютчев писал 13/25 декабря 1864 г. из Ниццы: «Вы знаете, как я всегда гнушался этими мнимопоэтическими профанациями внутр<еннего> чувства — этою постыдной выставкою напоказ своих язв сердечных… Боже мой, Боже мой, да что общего между стихами, прозой, литературой — целым внешним миром — и тем… страшным, невыразимо невыносимым, что у меня в эту самую минуту в душе происходит, — этою жизнию, которою вот уж пятый месяц я живу и о которой я столько же мало имел понятия, как о нашем загробном существовании… Теперь вы меня поймете, почему не эти бедные, ничтожные вирши, а моё полное имя под ними — я посылаю к вам (среди них было и стихотворение „Весь день она лежала в забытьи“. — В.Д.)» (Тютчев Ф.И. Стихотворения. Письма. М., 1986, с. 391). Слава богу, он всё-таки писал свои «вирши». А кто лучше его написал «вирши» о горе? Например, такие:
НАКАНУНЕ ГОДОВЩИНЫ 4 АВГУСТА 1864 г.
Вот бреду я вдоль большой дороги В тихом свете гаснущего дня, Тяжело мне, замирают ноги… Друг мой милый, видишь ли меня? Всё темней, темнее над землею — Улетел последний отблеск дня… Вот тот мир, где жили мы с тобою, Ангел мой, ты видишь ли меня? Завтра день молитвы и печали, Завтра память рокового дня… Ангел мой, где б души ни витали, Ангел мой, ты видишь ли меня? 3 августа 1865Не только в «виршах» Ф.И. Тютчев, как никто другой, выразил «тупое отчаяние» горя. Он выразил его и в некоторых письмах — в первую очередь к А.И. Георгиевскому. Приведу здесь лишь два письма:
8 августа 1864 г. Петербург.
Александр Иваныч!
Все кончено — вчера мы её хоронили… Что это такое? что случилось? о чём это я вам пишу — не знаю. — Во мне всё убито: мысль, чувство, память, всё… Я чувствую себя совершенным идиотом.
Пустота, страшная пустота. — И даже в смерти — не предвижу облегчения. Ах, она мне на земле нужна, а не там где-то…
Сердце пусто — мозг изнеможён. — Даже вспомнить о ней — вызвать её, живую, в памяти, как она была, глядела, двигалась, говорила, и этого не могу.
Страшно — невыносимо. — Писать более не в силах — да и что писать?..
Ф. Тчв.
13 августа 1864 г. Петербург.
О, приезжайте, приезжайте, ради Бога, и чем скорее, тем лучше! — Благодарю, от души благодарю вас.
Авось либо удастся вам, хоть на несколько минут, приподнять это страшное бремя, этот жгучий камень, который давит и душит меня… Самое невыносимое в моём теперешнем положении есть то, что я с всевозможным напряжением мысли, неотступно, неослабно, всё думаю и думаю о ней, и всё-таки не могу уловить её… Простое сумасшествие было бы отраднее…
Но… писать об этом я всё-таки не могу, не хочу, — как высказать эдакий ужас!.. Страшно, невыносимо тяжело.
Весь ваш Ф. Тютчев.
Горе Ф.И. Тютчева, по выражению В.В. Кожинова, было «бездонным» (Кожинов В.В. Тютчев. М., 1988, с. 409). Вот как описала своего отца после смерти Е.А. Денисьевой (Лёли) его старшая дочь Анна: «Папа только что провёл у меня три дня — и в каком состоянии — сердце растапливается от жалости… Он постарел лет на пятнадцать, его бедное тело превратилось в скелет… Очень тяжело видеть, как папа проливает слёзы и рыдает на глазах у всех» (там же, с. 408).
Ф.И. Тютчев был сдержанным человеком, но он переживал своё горе так глубоко, что был не в состоянии сдерживать слёзы о Лёле даже на людях. И.С. Тургенев вспоминал, как поэт «болезненным голосом говорил, и грудь его сорочки под конец рассказа оказалась промокшею от падавших на неё слёз» (там же, с. 408–409).
Горе Ф.И. Тютчева удесетеряло чувство вины перед любимым человеком. А.И. Георгиевский вспоминал, как поэт «жестоко укорял себя в том, что, в сущности, он всё-таки сгубил её и никак не мог сделать счастливой в том фальшивом положении, в какое он её поставил. Сознание своей вины несомненно удесятеряло его горе и нередко выражалось в таких резких и преувеличенных себе укорах, что я чувствовал долг и потребность принимать на себя его защиту против него самого» (там же, с. 410).
В.В. Кожинов вписал отношения между Ф.И. Тютчевым и Е.А. Денисьевой в особый жанр — бытийственной трагедии. Он писал: «Тютчев прямо и открыто говорил, что он сгубил свою Лёлю, что это „должно было неизбежно случиться“. Но в мире, где это совершилось для него, его вина была подлинно трагической виной, которая реальна не в рамках бытовой мелодрамы (а к ней нередко и сводят любовь поэта), но в русле бытийственной трагедии. Именно в такой трагедии он был участником и виновником, и её дух сквозил для него в самых частных и самых прозаических подробностях быта» (с. 410).
Ф.И. Тютчев не находил имени для обозначения того горестного состояния, от которого он не оправился до конца жизни. Но преобладала вина. Он корил себя, в частности, за то, что отказался выполнить просьбу Лёли — посвятить ей сборник стихов. Он писал А.И. Георгиевскому: «За этим последовала одна из тех сцен, которые всё более и более подтачивали её жизнь и довели нас — её до Волкова поля, а меня — до чего-то такого, чему и имени нет ни на каком человеческом языке… Сколько раз говорила она мне, что придёт для меня время страшного, беспощадного, неумолимо-отчаянного раскаяния, но что будет поздно. Я слушал и не понимал. Я, вероятно, полагал, что так, как её любовь была беспредельна, так и жизненные силы её неистощимы, — и так подло на все её вопли и стоны отвечал ей этою глупой фразой: „Ты хочешь невозможного…“» (с. 409).
О, как убийственно мы любим!
Словами горю не поможешь? Да, не вернёшь. Но помогает единение с теми, кто испытывал горе с такою же силой, какая выпала и на твою долю. Вытравливать воспоминания о самом дорогом для тебя человеке — всё равно, что отречься от него, всё равно, что не усвоить такой урок Ф.И. Тютчева:
Как ни тяжёл последний час — Та непонятная для нас Истома смертного страданья, — Но для души ещё страшней Следить, как вымирают в ней Все лучшие воспоминанья…Одно нам остаётся — бороться с бессмысленностью и жалеть друг друга. Вот как это делал Н.А. Заболоцкий:
Во многом знании — немалая печаль, Так говорил творец Экклезиаста. Я вовсе не мудрец, но почему так часто Мне жаль весь мир и человека жаль?Не обошла стороной Экклезиаста и русская проза. Остановимся здесь только на двух произведениях — А.П. Чехова («Огни») и И.А. Бунина («Ночь»), В первом из них развенчивается миф о бессмысленности (тщете, бренности) жизни, а во втором — миф об абсолютной её цикличности и отсутствии новизны.
Ниспровергателем мифа о тщете жизни в рассказе «Огни» оказался инженер Ананьев. Своему оппоненту, студенту Штенбергу, он говорит: «Все эти мысли о бренности и ничтожестве, о бесцельности жизни, о неизбежности смерти, о загробных потёмках и проч., все эти высокие мысли, говорю я, душа моя, хороши и естественны в старости, когда они являются продуктом долгой внутренней работы, выстраданы и в самом деле составляют умственное богатство; для молодого же мозга, который едва только начинает самостоятельную жизнь, они просто несчастие! Несчастие!» (Чехов А.П. Собр. соч.: в 8 т. Т. 5. М., 1970, с. 476).
Почему несчастие? А вот почему: «Кто знает, что жизнь бесцельна и смерть неизбежна, тот очень равнодушен к борьбе с природой и к понятию о грехе: борись или не борись — всё равно умрёшь и сгниёшь…» (там же, с. 484).
Совершенно справедливо! Рассказ между тем оканчивается в экклезиастическом духе: «Ничего не разберёшь на этом свете!» (с. 509). В таком же духе мыслил и студент, который в начале рассказа произносит такую речь: «Когда-то на этом свете жили филистимляне и амалекитяне, вели войны, играли роль, а теперь их и след простыл. Так и с нами будет. Теперь мы строим железную дорогу, стоим вот и философствуем, а пройдут тысячи две лет, и от этой насыпи и от всех этих людей, которые теперь спят после тяжёлого труда, не останется и пыли. В сущности, это ужасно!» (с. 475).
В молодости пытался так же думать и Ананьев, пытаясь Экклезиастом прикрыть своё постыдное бегство от неожиданной любовницы Кисочки: «Меня мучила совесть. Чтобы заглушить это невыносимое чувство, я уверял себя, что всё вздор и суета, что я и Кисочка умрём и сгниём, что её горе ничто в сравнении со смертью, и так далее и так далее…» (с. 503).
Но зрелый Ананьев провозгласил: «К чему, спрашивается, нам ломать головы, изобретать, возвышаться над шаблоном, жалеть рабочих, красть или не красть, если мы знаем, что эта дорога через две тысячи лет обратится в пыль? И так далее, и так далее… Согласитесь, что при таком несчастном способе мышления невозможен никакой прогресс, ни науки, ни искусства, ни само мышление» (с. 480).
Есть желающие с этим поспорить?
В «Ночи» И.А. Бунин приводит два главных аргумента против мифа об абсолютной цикличности жизни, из которой у Экклезиаста вытекает и отсутствие в ней какой-либо новизны — бесконечность его «я» и его уникальность. Вот как он пишет о бесконечности своего «я»: «У меня их нет, — ни начала, ни конца… Рождение! Что это такое? Рождение! Моё рождение никак не есть моё начало. Моё начало и в той (совершенно непостижимой для меня) тьме, в которой я был зачат до рождения, и в моём отце, в матери, в дедах, прадедах, ибо ведь они тоже я, только в несколько иной форме… Не понимая, не чувствуя своего рождения, я не понимаю, не чувствую и смерти, о которой я тоже не имел бы даже малейшего представления, знания, а может, и ощущения, родись я и живи на каком-нибудь совершенно необитаемом, без единого живого существа, острове. Я всю жизнь живу под знаком смерти — и всё-таки всю жизнь чувствую, будто я никогда не умру» (Бунин И.А. Собрание сочинений: в 4 т. Т. 3. М., 1988, с. 211–212).
А вот что мы у него читаем об уникальности его «я»: «Меня выделили из многих прочих. И хотя всю жизнь я мучительно сознаю слабость и недостаточность всех моих способностей, я, по сравнению с некоторыми, и впрямь не совсем обычный человек. Но вот именно поэтому-то (то есть в силу моей некоторой необычайности, в силу моей принадлежности к некоторому особому разряду людей) мои представления и ощущения времени, пространства и самого себя зыбки особенно. Что это за разряд, что это за люди? Те, которых называют поэтами, художниками. Чем они должны обладать? Способностью особенно сильно чувствовать не только своё время, но и чужое, прошлое, не только свою страну, своё племя, но и другие, чужие, не только самого себя, но и прочих, — то есть, как принято говорить, способностью перевоплощения и, кроме того, особенно живой и особенно образной (чувственной) Памятью» (там же, с. 212–213).
Итак, И.А. Бунин опровергает идею Экклезиаста об абсолютной цикличности жизни и отсутствии в ней новизны. Он не отрицает эту мысль целиком, он лишь против её абсолютизации. Он против того, чтобы представлять себе жизнь каждого человека как абсолютную копию жизни другого человека.
Да, в каждом из нас очень много общего! Иначе и не может быть! В противном случае мы не принадлежали бы к одному биологическому виду. Но отсюда не следует, что жизнь отдельного человека полностью повторяет жизнь другого. Отсюда не следует, что в жизни отдельного человека нет ничего нового в сравнении с жизнью другого. Это исключено, во-первых, потому что граница между моим «я» и другими «я» относительна (я бесконечен, а стало быть, вбираю в себя другие жизни), а во-вторых, потому, что каждый человек неповторим, непохож на других (я уникален, а стало быть, привношу в этот мир нечто новое).
С Экклезиастом или без него, но миф о полной бессмысленности жизни защищали и защищают до сих пор очень многие. Приведу лишь некоторые афоризмы:
Знаю только одно: все создания смертных обречены на смерть, мы живём среди бренности,
Сенека Младший. В этом бренном чертоге земном К чему изнурял ты себя день за днём? Во благо ли было стяжанье твоё? Гроб тесный — вот всё достоянье твоё. А. Фирдуоси.Всё пепел, призрак, тень и дым.
Иоанн Дамаскин.Жизнь человеческая не что иное, как постоянная иллюзия.
Б. Паскаль.Вся жизнь — лишь цена обманчивых надежд.
Д. Дидро.Моя жизнь — вечная ночь… что такое жизнь, как не безумие?
С. Кьеркегор.Какая чудовищная слепота, какой жалкий самообман ничтожных созданий природы, летящих на комочке мировой грязи живых козявок, которые, бессмысленно зарождаясь и умирая через мгновение, мечтают о смысле своей жизни,
С.Л. Франк.Как бессмысленна каждая единичная личная жизнь человека, так же бессмысленна и общая жизнь человечества,
С.Л. Франк.Этот мир лишён смысла, и тот, кто осознал это, обретает свободу.
А. Камю.Всё сущее рождено без причины, продолжается в слабости и умирает случайно… Бессмысленно то, что мы рождаемся, бессмысленно, что умираем.
Ж.-П. Сартр.Жизнь не имеет смысла. Всё живое возникло под действием определённых условий, а под воздействием других условий может кончиться. Человек один из многообразных видов этой жизни. Он не венец мироздания, а продукт среды,
С. Моэм.Всё бессмысленно, включая сознание этой бессмысленности,
Э. Сьоран.Что за удовольствие — унижать человека бессмысленностью его жизни? Одно из двух: либо человек и на самом деле искренне убеждён в бессмысленности человеческой жизни, либо он лукавит, скрывая свои подлинные намерения. Например, такое: чтобы легче помирать было.
Казалось бы, что плохого в том, что жизнь представилась человеку бессмысленной? Такого человека как будто и пожалеть можно. Между тем из признания жизни бессмысленной вытекает далеко небезобидное состояние духа, выражающееся в апатии, хандре и т. п., но главное — в безответственности. В самом деле, если жизнь бессмысленна, то бессмысленны и все требования, которые она к нам предъявляет. От признания бессмысленности жизни до «всё дозволено» лишь один шаг.
Много воды утекло с тех пор, как Экклезиаст объявил жизнь бренной, тщетной, бессмысленной. Но новые люди не устают это делать из поколения в поколение и после него. Им и в голову не приходит, что они получили эту возможность благодаря родителям. Выходит, жизнь их родителей не была бессмысленной, если их дети получили самоё возможность говорить о бессмысленности.
2. Да/нет
Зачем я, такой ясный, простой, разумный, добрый, живу в этом запутанном, сложном, безумном, злом мире? Зачем?
Л.Н. Толстой.Искание смысла жизни есть всегда борьба за смысл против бессмыслицы, инее праздном размышлении, а лишь в подвиге борьбы против тьмы бессмыслия мы можем добраться до смысла, утвердить его в себе, сделать его смыслом своей жизни и тем подлинно усмотреть его или уверовать в него.
С.Л. Франк.Есть много людей, которые о смысле жизни не думают вообще. Увы, их большинство. Среди же думающих о нём есть такие, которые на вопрос о смысле жизни дают твёрдые ответы — либо «да», либо «нет». Но много и таких, которые верят в «да», но не могут его найти для себя. В их сознании «да» сосуществует с «нет». Мучительно искала такое «да» русская классическая литература. Но что мы в ней обнаруживаем? Какого главного героя мы в ней видим по преимуществу? Неприкаянного.
Какого человека мы называем неприкаянным? Человека, не находящего своего подлинного места в жизни. Это не значит, что он безработный или, как говорили в былые времена, «лишний». Он может оказаться и безработным, и ощущать себя лишним в этом мире, но он может быть внешне и вполне благополучным человеком — быть, например, всемирно известным учёным или гениальным писателем. Не во внешнем благополучии или неблагополучии здесь в конечном счёте дело! Неблагополучие неприкаянного человека сидит внутри его души!
Неприкаянный человек ищет, но не находит высокого смысла своей (по меньшей мере) жизни, а чаще всего и смысла человеческой жизни вообще. Он в этом, конечно, постоянно сомневается, но вместе с тем и постоянно подозревает, что наша жизнь — по большому счёту — «пустая и глупая шутка» (М.Ю. Лермонтов). Человек поскромнее может уточнить: не о жизни вообще идёт речь, а только о моей личной. Личность же помасштабнее может замахнуться и на жизнь человеческую вообще.
Вопрос о смысле человеческой жизни мучил не только лучших героев русской классической литературы, но и её творцов. С пронзительностью необыкновенной этот вопрос запустил в нашу поэзию А.С. Пушкин:
Любимец божества, природы старший сын, Вещай, о человек! почто ты в свет родился? На то ль, чтоб царь земли и света властелин К постыдной цели век стремился? (Цель нашей жизни. 1814) Дар напрасный, дар случайный, Жизнь, зачем ты мне дана? Иль зачем судьбою тайной Ты на казнь осуждена? Кто меня враждебной властью Из ничтожества воззвал, Душу мне наполнил страстью, Ум сомненьем взволновал? Цели нет передо мною: Сердце пусто, празден ум, И томит меня тоскою Однозвучный жизни шум. (26 мая 1828) Жизни мышья беготня… Что тревожишь ты меня? Что ты значишь, скучный шёпот? Укоризна или ропот Мной утраченного дня? От меня чего ты хочешь? Ты зовёшь или пророчишь? Я понять тебя хочу, Смысла я в тебе ищу… (Стихи, сочинённые ночью во время бессонницы. 1830)М.Ю. Лермонтов в конце своей молниеносной жизни написал:
Я думал: «Жалкий человек, Чего он хочет!., небо ясно, Под небом места много всем, Но беспрестанно и напрасно Один враждует он — зачем?» (Валерик. 1840)Вопрос «Зачем нам, людям, враждовать друг с другом?» легко сократить до вопроса о смысле человеческой жизни вообще: «Зачем нам, людям, жить?». Это тем более легко сделать, если мы вспомним, с каким мучением Григорий Печорин пытался разгадать смысл своей жизни.
Поиск смысла жизни у Ф.И. Тютчева остался безуспешным. Он жил в двух мирах — внутреннем и внешнем. Между ними — бездна. Эту бездну он изобразил так:
Душа моя — Элизиум теней, Теней безмолвных, светлых и прекрасных, Ни замыслам годины буйной сей, Ни радостям, ни горю не причастных. Душа моя — Элизиум теней, Что общего меж жизнью и тобою! Меж вами, призраки минувших, лучших дней, И сей бесчувственной толпою?.. (Начало 1830-х гг.)Элизиум в древнегреческой мифологии — страна сказочного блаженства. Разве может человек жить ради «Элизиума теней»?
Н.А. Некрасов недоумевал:
И судьбу потихоньку корю: «Для чего-де меня, горемычного, Дураком ты на свет создала? Ни умишка, ни виду приличного, Ни довольства собой не дала?» (Застенчивость. 1852)В 1912 г. на вопрос о смысле человеческой жизни А.А. Блок как будто отвечает: «В счастии». Но, увы, оно оказывается недостижимым:
Миры летят. Года летят. Пустая Вселенная глядит в нас мраком глаз. А ты, душа, усталая, глухая, О счастии твердишь, — который раз?Пустой вселенной нет никакого дела до наших мечтаний о счастье. Ей вообще нет никакого дела до нашего существования. Потому что она мёртвая. Вот почему она обессмысливает нашу жизнь, превращая некоторых из нас в мертвецов, притворяющихся живыми, но:
Как тяжко мертвецу среди людей Живым и страстным притворяться! Но надо, надо в общество втираться, Скрывая для карьеры лязг костей…К.Д. Бальмонт, потеряв надежду на то, что ему кто-нибудь объяснит, в чём смысл человеческой жизни, сокрушённо заявил:
И так как жизнь не понял ни один, И так как смысла я её не знаю, — Всю смену дней, всю красочность картин, Всю роскошь солнц и лун я проклинаю.А какой ответ на вопрос о смысле человеческой жизни дали наши прозаики?
«А для лучшего, милок», — ответил горьковский Лука. И неприкаянному человеку об этом приходилось слышать, но «Зачем?» в его душе всё-таки болит и болит. Но самое любопытное, что он как будто даже и привыкает к нему и к боли от него, а иногда даже начинает думать, как В.В. Розанов: «Болит душа, болит душа, болит душа… И что делать с этой болью — я не знаю. Но только при боли я и согласен жить… Это есть самое дорогое мне и во мне» (В поисках смысла / сост. А.Е. Мачехин. М., 2004, с. 96).
Это не мазохизм. «Самое дорогое» потому, что за болью, о которой говорил В.В. Розанов, стоит вопрос далеко не праздный — пусть мучительный, пусть изнуряющий, но вместе с тем и возвышающий русскую душу над прагматической действительностью. Вопрос этот: «Зачем?». В России он заканчивался для многих не чем иным, как неприкаянностью — может быть, самой главной героиней русской классической литературы.
Представлены, конечно, в русской классической литературе и герои «прикаянные», т. е. люди, нашедшие своё место под солнцем: пушкинская Татьяна, гоголевский Чичиков, гончаровский Штольц, тургеневский Базаров, Алёша Карамазов у Ф.М. Достоевского, Дмитрий Нехлюдов у Л.Н. Толстого, Павел Власов и его мать у А.М. Горького. Но отчего же так случилось, что более выразительными, более яркими в нашей литературе, в конечном счете, оказались герои неприкаянные? Не то, например, у французов. У них на первом месте стоят герои, знающие, чего они хотят, — у Стендаля, у Бальзака, у Золя… Русским же писателям оказался милее человек по преимуществу неприкаянный. Об этом говорят даже названия многих их сочинений: «Евгений Онегин», «Герой нашего времени» (т. е. Печорин), «Обломов», «Рудин», «Дядя Ваня», «Клим Самгин» и др. Целую обойму неприкаянных дали нам Ф.М. Достоевский и Л.Н. Толстой. Как решают их герои главный нравственный вопрос: как жить?
Этот вопрос расщепляется на два: как думать и как поступить? На первый план подобное расщепление излишне: мы поступаем так, как думаем. Увы, сплошь и рядом мы поступаем не так, как думаем поступить. Разрыв между внутренней жизнью и внешней стал у Ф.М. Достоевского предметом художественного изображения. Его герои переживают этот разрыв мучительно и пытаются находить способы для его преодоления.
Возьмём для начала главного героя из «Записок из подполья». Что он думает о себе? «Я человек больной… Я злой человек. Непривлекательный я человек…» (Достоевский Ф.М. Повести. Рассказы. М., 1985, с. 3). Если подпольный человек сам себе даёт такую низкую оценку, то ему, казалось бы, надо соответственным образом и поступать? Он и пытался это сделать: «Я был злой чиновник. Я был груб и находил в этом удовольствие. Ведь я взяток не брал, стало быть, должен же был себя хоть этим вознаградить… Когда к столу, у которого я сидел, подходили, бывало, просители за справками, — я зубами на них скрежетал и чувствовал неутолимое наслаждение, когда удавалось кого-нибудь огорчить. Почти всегда удавалось. Большей частью всё был народ робкий: известно — просители. Но из фертов я особенно терпеть не мог одного офицера. Он никак не хотел покориться и омерзительно гремел саблей. У меня с ним полтора года за эту саблю война была. Я наконец одолел. Он перестал греметь» (Достоевский Ф.М., Указ. соч., с. 4).
Подпольный человек пытался в своих поступках соответствовать своим мыслям, но всё-таки ему это плохо удавалось: «Это я наврал на себя давеча, что я был злой чиновник. Со злости наврал. Я просто баловством занимался и с просителями и с офицером, а в сущности никогда не мог сделаться злым. Я поминутно сознавал в себе много-премного самых противоположных тому элементов. Я чувствовал, что они так и кишат во мне, эти противоположные элементы. Я знал, что они всю жизнь во мне кишели и из меня вон наружу просились, но я их не пускал, не пускал, нарочно не пускал наружу…» (там же, с. 5). Вот вам и дисгармония между внутренней жизнью и внешней, между теорией и практикой. Отсюда ненависть подпольного человека к «деятелям» — людям, преодолевшим разрыв между ними: «Такой господин так и прёт прямо к цели, как взбесившийся бык, наклонив вниз рога и только разве стена его останавливает» (там же, с. 9).
Родион Раскольников в «Преступлении и наказании» переступает через черту, которая разделяет в его жизни теорию и практику: он убивает старуху-процентщицу и тем самым приводит в соответствие свои представления о людях, способных преодолеть малое зло ради великого добра, со своими поступками. Но и он в конечном счёте сломался — признался в своём преступлении Порфирию Петровичу.
Каким образом решает вопросы «Как думать?» и «Как поступить?» Иван Карамазов в «Братьях Карамазовых»? Он пытается быть абсолютно свободным в мыслях своих от каких-либо моральных ограничений. Однако и он не выносит груза чёрных мыслей, которые, как ему казалось, никак не могут быть связаны с его внешне благопристойной жизнью. Его настроения против отца чутко улавливает Смердяков и убивает последнего. Таким образом наша мысль может материализоваться в чужой поступок. Выходит, и в сознании нашем мы должны быть нравственно чисты. Вот урок, который должен извлечь читатель «Братьев Карамазовых» из образа Ивана. Самому же ему этот нравственный урок, как мы помним, обошёлся чересчур дорого: он сошёл с ума.
Конфликт между «Как думать?» и «Как поступить?» характерен и для других героев Ф.М. Достоевского — для Ставрогина из «Бесов», для Аркадия Долгорукова из «Подростка» и т. д. Каждый из них ищет свои пути для разрешения этого конфликта, но большинству героев Ф.М. Достоевского это не удаётся. В чём дело? Его, по мнению их автора, можно преодолеть только с помощью Бога. Только Он может указать человеку, как нравственно думать, как нравственно поступать и как теорию и практику жизни привести в гармонию. Ни один человек не может сравняться с Богом, не может стать человеко-богом, как пытался это сделать Кириллов в «Бесах». Для мыслей своих и для поступков своих человек, по убеждению Ф.М. Достоевского, нуждается в религиозной узде. «Сузить» его можно лишь таким, религиозным, способом.
В собственной жизни Ф.М. Достоевский метался между верой и безверием. Такими же предстают и многие его герои. Подлинного душевного равновесия у него достигли только те герои, которые отдали себя служению Богу до конца.
Ф.М. Достоевский скептически относился к собственным нравственным возможностям человека-безбожника. Он направлял человека к Христу. Он был его высшим нравственным идеалом. Л.Н. Толстой тоже преклонялся перед Христом. Более того, через всю свою жизнь он пронёс две его главные заповеди — любви и смирения. Но всё-таки его высшим нравственным идеалом был не бог, а человек — человек совершенный (это звучит приблизительно так же, как человек разумный). Отсюда стремление духовно близких к нему героев его произведений к самосовершенствованию. Вопрос весь в том, в чём именно тот или иной его герой видит его цель, каков образ человека совершенного. Этот образ разные его герои в разных обстоятельствах представляют по-разному.
Лучшие герои Л.Н. Толстого мучительно ищут подлинный смысл жизни. Часто они оказываются в сетях ложных, ошибочных целей. Так, Николенька Иртеньев в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность» сделал своим идеалом человека комильфо, представляемого им в образе светского льва. На главного героя «Казаков» — Оленина — в свою очередь находит состояние, когда он начинает видеть смысл своей жизни в слиянии с природой, в уподоблении оленям и комарам, в утрате своей человеческой индивидуальности, поскольку именно в подобном состоянии он ощутил себя по-настоящему счастливым. «И ему стало ясно, — читаем у Л.Н. Толстого, — что он нисколько не русский дворянин, член московского общества, друг и родня того-то и того-то, а просто такой же комар, или такой же фазан, или олень, как те, которые живут теперь вокруг него. Так же, как они, как дядя Ерошка, поживу, умру. И правду он говорит: только трава вырастет» (Толстой Л.Н. Собр. соч.: в 12 т. Т. 2. М., 1984, с. 407).
Конечно, слияние с природой — это прекрасно, но долго с этим слиянием не проживешь: от людей никуда не уйти, не спрятаться. Выходит, что и подобный образ жизни не может претендовать на жизненный идеал. Андрей Болконский в «Войне и мире» тоже проходит через пучину ложных целей. Мы помним, о чём он мечтал перед Аустерлицем — о славе, о торжестве над людьми. За одну минуту такого торжества он был готов пожертвовать чем угодно. Анна Каренина увидела смысл жизни в её любви к Вронскому. Но и она не принесла ей счастья. Дмитрий Нехлюдов в «Воскресении», казалось бы, нашёл подлинный смысл своей жизни — в служении людям и прежде всего — Екатерине Масловой, которая в молодости стала жертвой его похоти. Но неожиданно он наталкивается на её сопротивление… И он в конечном счёте пополнил собой галерею героев русской литературы, главных её героев — людей неприкаянных. Неприкаянным был Евгений Онегин, неприкаянным был Печорин, неприкаянным был Рудин, неприкаянным был Иван Карамазов, неприкаянным оказался и Дмитрий Нехлюдов. Но всё-таки последний был ближе к подлинному смыслу жизни, поскольку он решил посвятить себя служению несчастным людям.
Как и его герои, Л.Н. Толстой всю свою сознательную жизнь искал высший смысл жизни. Но его постоянно мучило несовершенство своей собственной природы, те «пороки», которые он так щедро себе приписывал. Таков и его отец Сергий. Не сумел он смириться, не сумел побороть в себе греховные соблазны. Его тело оказалось сильнее его духа. Не помог ему Бог, как он к нему ни стремился. И он ушёл от Него. Алёша Карамазов пришёл к Нему, а отец Сергий — ушёл от Него. Выходит, недаром церковники приняли Ф.М. Достоевского, а Л.Н. Толстого отлучили от православия?
А между тем и Ф.М. Достоевский, и Л.Н. Толстой в конечном счёте сходились в одном — в признании слабости человеческой. Только первый видел их источник в первую очередь в безверии, а второй — во власти тела человека над его душой. А между тем оба они учили любви и смирению. Оба они поклонялись Христу. Оба они были детьми своего времени, полагая, подобно И.В. Киреевскому или А.С. Хомякову, что без Бога в душе человеком высоконравственным стать невозможно. Правда, Ф.М. Достоевский принимал Христа в его евангелическом виде, а Л.Н. Толстой его демистифицировал.
Ответить на вопрос «Как жить?» легче, чем на вопрос «Зачем жить?». Последний направлен на цель (смысл) жизни, а первый — на средства её достижения. Найти смысл жизни — дело многотрудное. Недаром известный русский философ Иван Ильин советовал: «„Как“ земной жизни развивается безостановочно, успешно. Но „зачем“ земной жизни незаметно затерялось. Да, незаметно: было лишь несколько столетий духовной рассеянности. Это так, как если бы человек, который страдает рассеянностью, играл в шахматы и выработал для себя дальновидный, сложный план, осуществление которого уже наполовину завершено; и вдруг — он забывает свой план. „Прекрасно! Но для чего я всё предпринимал? Чего я, собственно, этим хотел?!“. У большинства современников этот вопрос и не доходит до сознания. Они ничего не знают о „зачем?“ жизни, как не замечают и то, что они невежественны» (Ильин И.А. Собр. соч. Т. 3. М., 1994, с. 213).
Но только ли современники И.А. Ильина оказались в стороне от вопроса «Зачем?» И только ли невежественные? И легче ли тем, кто живёт с ним, но не может найти удовлетворительного ответа на него?
Несчастье человека, не нашедшего себя, как мы понимаем, не укладывается в прокрустово ложе современности. Оно, как кажется, мучает людей с давних пор — с тех пор, как у самых интеллектуальных их представителей появилась потребность в осмыслении своего назначения на Земле.
Идёт время, меняется жизнь, одно поколение приходит на смену другому, но неизменным остаётся один — немногочисленный — род людей среди них — тех, кто ищет высокий смысл человеческой жизни. Но немногие и из них его находят. Большая же часть из этого рода людей оказывается у разбитого корыта неприкаянности.
У разбитого корыта неприкаянности Алексей Максимович Горький (1868–1936) оставил в своих «Заметках о мещанстве» всех тех людей, которых он называл мещанами. Он безжалостно лишил их высокого смысла жизни.
Статья А.М. Горького «Заметки о мещанстве» была впервые опубликована в 1905 г. Со дня её написания прошло больше ста лет, но её актуальность, после известных событий в нашей стране, очевидна.
Если вспомнить о том, что автор «Заметок о мещанстве» был самоучкой, то нельзя не прийти в восторг по поводу его образованности. Его эрудиция выходит далеко за пределы родной ему стихии — художественной литературы. Он смело вторгается в другие сферы духовной культуры — науку, нравственность, политику. Достаточно в связи с этим привести хотя бы такую цитату: «…Этот натиск энергии снизу вверх возбуждает в мещанстве жуткий страх пред жизнью, — в корне своём это страх пред народом, слепой силой которого мещанство выстроило громоздкое, тесное и скучное здание своего благополучия. На тревожной почве этого страха, на предчувствии отмщения у мещан вспыхивают торопливые и грубые попытки оправдать свою роль паразитов на теле народа — тогда мещане становятся Мальтусами, Спенсерами, Ле-Бонами, Ломброзо — имя им легион…» (Горький М. Собр. соч.: в 16 т. Т. 16. Очерки литературные. Портреты. Статьи. М., 1979).
Особенно странной в этом списке выглядит фамилия Г. Спенсера. Если не считать П.А. Кропоткина (см. его прекрасную статью «Герберт Спенсер: его философия» в кн.: Кропоткин П.А. Хлеб и воля. Современная наука и анархия. М., 1990, с. 558–574), то великому английскому эволюционисту в России доставалось от многих. Особенно ненавистным он представлялся В.В. Розанову, который писал: «Никакого желания спорить со Спенсером: а желание вцепиться в его аккуратные бакенбарды и выдрать из них 1/2» (Розанов В.В. Т. 2. М., 1990, с. 312).
Но особенно хлёстко А.М. Горький разделывается в своих «Заметках…» со своими коллегами — литераторами. Известное стихотворение Ф.И. Тютчева
Не рассуждай, не хлопочи, Безумство ищет, глупость судит; Дневные раны сном лечи, А завтра быть тому, что будет, Живя — умей всё пережить: Печаль, и радость, и тревогу. Чего желать? О чём тужить? День пережит — и слава богу…А.М. Горький преподносит по существу как гимн мещанина, которому в данном случае приписывается следующее: «Он не герой, героическое непонятно ему, только иногда на сцене театра он любуется героями, спокойно уверенный, что театральные герои не помешают ему жить. Он не чувствует будущего и, живя интересами данного момента, своё отношение к жизни определяет так: „Не рассуждай, не хлопочи…“.
Он любит жить, но впечатления переживает неглубоко, социальный трагизм недоступен его чувствам, только ужас пред своей смертью он может чувствовать глубоко и выражает его порою ярко и сильно. Мещанин всегда лирик, пафос совершенно недоступен мещанам, тут они точно прокляты проклятием бессилия…» (Горький М. Собр. соч. Т. 16, с. 198–199).
Но автор этих слов не останавливается на Ф.И. Тютчеве. Он решительно относит к писателям-мещанам не кого-нибудь, а Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого. «Ожидаю, что идолопоклонники закричат мне: „Как? Толстой? Достоевский?“. Я не занимаюсь критикой произведений этих великих художников, я только открываю мещан. Я не знаю более злых врагов жизни, чем они. Они хотят примирить мучителя и мученика и хотят оправдать себя за близость к мучителям, за бесстрастие своё к страданиям мира. Они учат мучеников терпению, они убеждают их не противиться насилию, они всегда ищут доказательств невозможности изменить порядок отношений имущего к неимущему, они обещают народу вознаграждение за труд и муки на небесах и, любуясь его невыносимо тяжкой жизнью на земле, сосут его живые соки, как тля» (там же, с. 207).
Возникает вопрос: кто же, по А.М. Горькому, не мещанин? Кого он имеет в виду, говоря о мещанстве? Вот лишь некоторые его черты:
1. «Мещанство — это строй души современного представителя командующих классов. Основные ноты мещанства — уродливо развитое чувство собственности, всегда напряженное желание покоя внутри и вне себя, темный страх пред всем, что так или иначе может вспугнуть этот покой, и настойчивое стремление скорее объяснить себе всё, что колеблет установившееся равновесие души, что нарушает привычные взгляды на жизнь и на людей» (с. 194).
2. «Мещанин не способен видеть ничего, кроме отражений своей серой, мягкой и бессильной души» (с. 199).
3. «Мещанин любит иметь удобную обстановку в своей душе. Когда в душе его всё разложено прилично — душа мещанина спокойна. Он — индивидуалист, это так же верно, как нет козла без запаха… Подумайте, как это красиво — в центре мира стоит жирный человечек с брюшком, любитель устриц, женщин, хороших стихов, сигар, музыки, человек, поглощающий все блага жизни, как бездонный мешок. Всегда несытый, всегда трусливый, он способен возвести свою зубную боль на степень мирового события, „я“ для этого паразита — всё!» (с. 207–208).
4. «Мещанин в политике ведёт себя, как вор на пожаре, — украл перину, снёс её домой и вновь явился на пожар гасить огонь, который он же сам тихонько раздувал из-за угла…» (с. 211).
5. «Одно из свойств мещанской души — раболепие, рабье преклонение перед авторитетами» (с. 207).
6. «Мещанин любит философствовать, как лентяй удить рыбу, он любит поговорить и пописать об основных проблемах бытия — занятие, видимо, не налагающее никаких обязанностей к народу и как нельзя более уместное в стране, где десятки миллионов человекоподобных существ в пьяном виде бьют женщин пинками в животы и с удовольствием таскают их за косы, где вечно голодают, где целые деревни гниют в сифилисе, горят, ходят — в виде развлечения — в бой на кулачки друг с другом, при случае опиваются водкой и во всём своём быте обнаруживают какую-то своеобразную юность, которая делает их похожими на первобытных дикарей…» (с. 209).
7. «Он обладает, как все паразиты, изумительной способностью приспособления, но никогда не приспособляется к истине» (с. 218).
Я мог бы привести новые цитаты из анализируемой статьи, но, боюсь, они увели бы нас ещё дальше от ответа на вопрос о том, кто мещанин, а кто не мещанин. Надо прямо сказать: противоречивым вышел у А.М. Горького образ мещанина. Он вмещает в себя, с одной стороны, «жирного человечка с брюшком, любителя устриц, женщин», а с другой — авторов «Войны и мира» и «Братьев Карамазовых». Но не будем делать поспешных выводов: у А.М. Горького в его статье есть достаточно ясный ответ на вопрос о том, кто не мещанин. Это рабочий. Но не реальный рабочий, а идеальный, будущий. Именно он противостоит расплывчатой массе мещан.
«Великое, неисчерпаемое горе мира, — пишет А.М. Горький, — погрязшего во лжи, во тьме, в насилии, обмане, — моё личное горе. Я есть человек, нет ничего, кроме меня». Это миропонимание, утончённое и развитое до красоты и глубины, которой мы себе представить не можем, вероятно, и будет миропониманием рабочего, истинного и единственно законного хозяина жизни, ибо строит её он (с. 208).
Но почему именно рабочий, а не крестьянин или интеллигент станет носителем немещанского миропонимания? Казалось бы, какие здесь могут быть сомнения, например, по поводу русских писателей? Вот какую оценку Горький даёт русской литературе: «Вся наша литература — настойчивое учение о пассивном отношении к жизни, апология пассивности» (с. 207).
Горький верил, что именно рабочий в большей мере, чем крестьянин и интеллигент, способен к активной, преобразующей деятельности, которая делает человека Человеком. В этой деятельности его главным противником оказывается государство: «Государство убивает человека, чтобы воскресить в нём животное и силою животного укрепить свою власть; оно борется против разума, всегда враждебного насилию» (с. 206).
В другом месте А.М. Горький пишет о рабочем: «Зачем так? Для кого?».
И он начинал понемногу догадываться, что весь этот механически правильно, но бессмысленно действующий ад создан и приведён в движение ненасытной жадностью тех людей, которые захватили в свои руки власть над всей землей и над человеком и всё хотят развить, укрепить эту власть силою золота. Они обезумели от жадности, сами стали глупыми и жалкими рабами своих фабрик и машин, своих векселей и золота, зарвались, запутались в сетях дьявола наживы, как мухи в паутине, и уже не отдают себе отчёта — зачем всё это им? — и не видят, отупевшие, не могут видеть возможности жить иначе — иной жизнью, красивой, свободной, разумной (с. 215–216).
Главная мысль автора «Заметок о мещанстве» — призыв к активной борьбе с мещанством. Не мещанин тот, кто активен в борьбе за подлинно человеческую жизнь, а мещанин — враг этой борьбы. Он — раб. Его делает таким «бесстрастный слуга жёлтого дьявола, жадного золота, — всё разрушающий капитализм» (с. 205). «Капитал, — читаем у А.М. Горького, — похож на чуму, которая одинаково равнодушно убивает водовоза и губернатора, священника и музыканта. И, как чума, сам по себе он не нуждается в оправдании бессмысленности своего роста, — механически правильно сортируя людей на классы, независимо от своей воли развивая их сознание, он сам создаёт себе непримиримых врагов, раздражая человека своей жадностью, как дурак раздражает быка красным. Зло жизни, он не стесняется своей ролью, он цинично откровенен в своих действиях и, нагло говоря грохотом машин „всё мое!“, равнодушно развращает людей, искажает жизнь. Таков он есть, он не может быть иным, и это хорошо, потому что просто, всем понятно и очень быстро создаёт в душе представителя труда резко отрицательное, непримиримо враждебное отношение к представителю капитала» (с. 217).
Есть ли свет в конце капиталистического туннеля? «Жестокость богатства так же очевидна, как и глупая жадность его. Неразборчивый, как свинья, капитал пожирает всё, что видит, но нельзя съесть больше того, сколько можешь, и однажды он должен пожрать сам себя — эта трагикомедия лежит в основе его механики» (там же).
Как тут не вспомнить о М.М. Бахтине, который говорил о том, что у каждого текста будет праздник возрождения. Будет праздник возрождения и у статей А.М. Горького, включая «Разрушение личности» и «О том, как я учился писать». В первой из них их автор обрисовывает такой многосложный образ мещанства: «Мещанство — проклятие мира; оно пожирает личность изнутри, как червь опустошает плод; мещанство — чертополох; в шелесте его, злом и непрерывном, неслышно угасает звон мощных колоколов красоты и бодрой правды жизни. Оно — бездонно жадная трясина грязи, которая засасывает в липкую глубину свою гения, любовь, поэзию, мысль, науку и искусство» (с. 270).
А вот Власа из «Дачников» (1904) эта трясина не засосала.
А.М. Горький вложил в его уста собственные мысли о русской интеллигенции:
Маленькие, нудные людишки Ходят по земле моей отчизны, Ходят и — уныло ищут места, Где бы можно спрятаться от жизни. Всё хотят дешевенького счастья, Сытости, удобств и тишины, Ходят и — всё жалуются, стонут, Серенькие трусы и лгуны. Маленькие, краденые мысли… Модные, красивые словечки… Ползают тихонько с краю жизни Тусклые, как тени, человечки.Автор «Дачников» и «Заметок о мещанстве» видел высший смысл жизни в активной позиции человека по отношению к общественному строю, в котором волею судьбы человеку пришлось жить. Как и Джордано Бруно, он славил человека-творца, человека-преобразователя, человека-героя, Человека (с большой буквы), о котором один из его персонажей сказал: «Человек — это звучит гордо!». Громкое «да» А.М. Горький сказал смыслу жизни такого человека, но в адрес мещанского смысла жизни он произнёс не менее громкое «нет».
«Да/нет» смыслу жизни прослеживаются и в некоторых афоризмах.
Для того, чтобы жить как следует, надо иметь или разум, или петлю.
Диоген Синопский.Высший позор — ради жизни утратить смысл жизни.
Ювенал.Ковыляющий по прямой дороге опередит бегущего, который сбился с пути.
Ф. Бэкон.Жить — всё равно, что любить: все разумные доводы против этого, и все здоровые инстинкты — за.
С. Батлер.Кто не идёт вперед, тот идёт назад: стоячего положения нет.
В.Г. Белинский.Кто хочет принять смысл жизни как внешний авторитет, тот кончает тем, что за смысл жизни принимает бессмыслицу своего собственного произвола.
В.С. Соловьев.Каков же итог жизни? Ужасно мало смысла.
В.В. Розанов.Лично я смысла в истории не вижу, но не утверждаю, что его нет.
А. Подводный.В моей жизни есть смысл, но он меня не устраивает.
А. Подводный.Есть ли смысл жизни? Смотря когда.
Д. Самойлов.3. Да
Природа человека состоит в том, чтобы всё время идти вперёд.
Б. Паскаль.Твори и созидай.
Н.А. Уёмов.Каково предназначение человека? Быть им.
С.Е. Лец.Нашей планете, как утверждают учёные, около 5 миллиардов лет. Жизнь же на ней эволюционировала в течение 3,5 миллиарда лет. А возраст человечества 3–5 миллионов лет. Какой же вывод отсюда следует?
Мы очень молоды. Мы, люди, находимся даже не в подростковом возрасте, а в детском. Что такое 3–5 миллионов лет по сравнению с 3,5 миллиарда?
В своём интеллектуальном развитии человечество оторвалось от своих диких предков на колоссальное расстояние, но и до сих пор его большинство пребывает в невежестве. И до сих пор оно находится в начале своей культурной эволюции. Расстояние, пройденное им по пути очеловечения, слишком ничтожно в сравнении с тем, которое ему ещё предстоит пройти.
Мы — дети-несмышлёныши. Но среди нас есть и были люди более зрелые — те, кто смог подняться до поиска высокого смысла жизни. Этот смысл не может не быть эволюционным. Только в том случае, если каждый из нас станет проводником культурной эволюции, мы имеем шанс повзрослеть, чтобы сделать себя лучше — умнее, добрее, веселее, богаче, счастливее. Так стоит ли нам — на этом фоне — жалеть неприкаянных? Их не жалеть надо, а благодарить: они — лучшие из нас. Они — первопроходцы. Они — пионеры. Среди людей, успокаивающихся на удовлетворении своих биологических потребностей, видящих в нём всепобеждающий смысл своей жизни и идущих ради него на бесчисленные сделки с совестью, жили и те, кто эволюционировал как человек дальше других, стал взрослее (в эволюционном смысле!), сумев созреть до поиска своего высокого назначения на Земле. Что же из того, что вопрос «Зачем?» для многих из них оказывался непосильным? Но они искали ответ на него, в том числе и для нас в то время, когда большинство жило и живёт биологически по преимуществу, находясь в детском (в эволюционном смысле!) состоянии, не далеко оторвавшись от наших животных предков. Но не будем спешить с презрением к «биологическому большинству»: во-первых, потому что «не судите, да не судимы будете», а во-вторых, какие претензии могут быть к трёх- или пятилетнему, скажем для сравнения, ребёнку (вспомним об эволюционном возрасте человека)?
Вспомним, чему больше всего радуются родители. Они радуются не только тому, что их ребёнок жив и здоров, но и его приобщению к культуре — его рисункам, его языковым навыкам, его доброте и т. п. Подлинно эволюционистская позиция по отношению к людям — в том числе и ко взрослым — есть позиция родительская (отеческая, материнская). Об этом тем более полезно постоянно помнить, что в каждом из нас борьба между интересами духа и интересами тела происходит на протяжении всей жизни с переменным успехом. Вывод отсюда следует только один: поменьше терзать себя мыслью о несовершенстве рода человеческого да побольше хвалить его конкретных представителей за их высокие духовные устремления. Можно, в частности, оценить эволюционный возраст современного человечества — в качестве поощрения — не как детский, а как подростковый. Как это делал, например, Максим Горький, когда он писал: «Человек всё ещё во многом зверь, но вместе с этим он — культурно — всё ещё подросток, и приукрасить его, похвалить — весьма полезно: это поднимает его уважение к себе, это способствует развитию в нём доверия к своим творческим силам. К тому же похвалить человека есть за что — всё хорошее, общественно ценное творится его силою, его волей» (Горький М. Собр. соч.: в 16 т. Т. 16. М., 1979, с. 288).
Приведённые слова я нашёл в статье М. Горького «О том, как я учился писать». В них выведена, по мнению её автора, специфика романтического метода в искусстве. А между тем эти слова имеют отношение не только к искусству, но и к культуре в целом. Более того, в них схвачена одна из существенных черт эволюционистского мировоззрения: без гуманного, поощрительного отношения человека к человеку культурная эволюция невозможна. Напротив, утрата подобного отношения ведёт людей к инволюции, к их биологизации, к торжеству зверского начала в человеке над собственно человеческим, культурным.
Эволюционная интерпретация романтизма у М. Горького вовсе не случайна. Он был вполне состоявшимся эволюционистом, т. е. видел в современном мире результат его многомиллионного развития. Подобный, эволюционный, взгляд он распространял прежде всего на культуру, в особенности восхищаясь выдающимися деятелями науки и искусства. Организация им издания книг о «жизни замечательных людей» (ЖЗЛ) — вовсе не случайный эпизод в его биографии. Сам он был образцом культурной эволюции. Его любовь к выдающимся деятелям культуры не была слепой. Достаточно в связи с этим напомнить, как резко он критиковал Л.Н. Толстого и в особенности Ф.М. Достоевского за их призыв к смирению. Не раб, а свободный человек был его идеалом. Первый пассивен в культурогенезе, а второй активен, созидателен, продуктивен. Первого он изобразил в образе «мещанина», а второго он считал «самым великим чудом мира и творцом всех чудес на земле» (там же, с. 293). Именно такой человек — человек-творец, человек-созидатель, Человек с большой буквы — «создает культуру, которая есть наша, нашей волей, нашим разумом творимая „вторая природа“» (там же, с. 283). Человек с большой буквы, как мы понимаем, есть эволюционный идеал! Он всегда впереди, но ближе к нему продвигаются люди свободного творческого труда. Свободного, между прочим, и от «пакостной власти копейки» (там же, с. 298).
Безволие — вот главное препятствие на пути к Человеку. Человек с большой буквы — это человек, умеющий реализовывать свою, человеческую, сущность. Но даже и в тех, кто уходит дальше других на пути к Человеку, живёт человек с маленькой буквы, волей случая оказавшийся в таком-то времени и в таком-то пространстве. У индивидуального человека, как утверждал Б. Паскаль, вечность позади — до его рождения — и вечность впереди — после его кончины. Его окружает бесконечное пространство слева и справа, сверху и снизу, впереди и сзади.
Вот и выходит, что там, где «я» индивидуальное, — сознание своей ничтожности, а там, где «я» родовое, — приобщение к Человеку, к человечеству, которое имеет больше шансов на вечность, чем отдельный человек. Вот и выходит, что жить нужно не столько «я» индивидуальным, сколько «я» родовым, т. е. быть Человеком. В этом и состоит высший — эволюционно-культурный (или культурогенический) — смысл человеческой жизни. Быть Человеком — значит вписаться в многовековой процесс гоминизации (очеловечения) — культурогенез и максимально успешно совершить культурогенез индивидуальный.
Осознание культурной сущности человека (а стало быть, и эволюционно-культурного смысла человеческой жизни) до сих пор остаётся достоянием незначительного круга людей. К ним относятся Д. Бруно, Ж. де Ламетри, Г. Спенсер, Ж.-Б. Ламарк, Ч. Дарвин, Л.Н. Толстой, А.М. Горький, П. Тейяр де Шарден, В.И. Вернадский, А.Н. Заболоцкий, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, Н.Н. Моисеев, К. Лоренц, Э. Ласло, Г. Фоллмер. Их имена должны быть вписаны золотыми буквами в историю человечества. Их эволюционные идеи ещё станут достоянием общественного сознания. Их ещё ждёт праздник общенародного признания.
Вот как девятнадцатилетний Лев Толстой выразил в своём дневнике эволюционный смысл человеческой жизни: «Начну ли я рассуждать, глядя на природу, я вижу, что всё в ней постоянно развивается и что каждая составная часть её способствует бессознательно к развитию других частей; человек же, так как он есть такая же часть природы, но одарённая сознанием, должен так же, как и другие части, но сознательно употребляя свои душевные способности, стремиться к развитию всего существующего. Стану ли я рассуждать, глядя на историю, я вижу, что весь род человеческий постоянно стремился к достижению этой цели. Стану ли рассуждать рационально, то есть, рассматривая одни душевные способности человека, то в душе каждого человека нахожу бессознательное стремление, которое составляет необходимую потребность его души. Стану ли рассуждать, глядя на историю философии, найду, что везде и всегда люди приходили к заключению, что цель жизни человека есть всестороннее развитие человечества. Стану ли рассуждать, глядя на богословие, найду, что у всех почти народов признается существо совершенное, стремиться к достижению которого признается целью всех людей. И так я, кажется, без ошибки за цель моей жизни могу принять сознательное стремление к всестороннему развитию всего существующего» (Толстой Л.Н. Собр. соч. Т.19. М., 1965, с. 39).
К художественному освоению эволюционного, культурогенического смысла человеческой жизни русская литература шла с трудом. Возьмём, например, известный рассказ А.П. Чехова «Дом с мезонином». В нём выведен спор между живописцем, от лица которого ведётся повествование, и молодой сельской учительницей — Лидией Волчаниновой. В отличие от живописца, ведущего по преимуществу праздный образ жизни, Лидия с увлечением занимается просветительством, борется с произволом земского начальства и оказывает односельчанам посильную медицинскую помощь. Живописец не принимает её деятельности. Между тем в его речах обнаруживаются явные культурогенические мотивы. Вот как он обрисовывает перед Лидией свою позицию: «Нужно освободить людей от тяжкого физического труда. Нужно облегчить их ярмо, дать им передышку, чтобы они не всю свою жизнь проводили у печей, корыт и в поле, но имели бы также время подумать о душе, о боге, могли бы пошире проявить свои духовные способности. Призвание всякого человека в духовной деятельности — в постоянном искании правды и смысла жизни. Сделайте же для них ненужным грубый животный труд, дайте им почувствовать себя на свободе, и тогда увидите, какая в сущности насмешка эти книжки и аптечки. Раз человек сознаёт своё истинное призвание, то удовлетворять его могут только религия, науки, искусства, а не эти пустяки» (Чехов А.П. Собр. соч.: в 8 т. Т. 6. М., 1970, с. 98).
Живописец, как видим, вовсе не против распространения культуры среди народа (правда, он делает упор лишь на духовную культуру), но почему же он против книжек и аптечек, которые Лидия распространяет среди крестьян? Разве они не привносят в их жизнь элементов культуры? Ответ на этот вопрос очень прост: по сути своей спор между живописцем и учительницей в анализируемом рассказе должен быть расценён как мнимый и надуманный. Оба спорщика занимают культурогеническую позицию. Следовательно, они стоят на одной и той же мировоззренческой платформе. Всё дело лишь в том, что пути к развитию культуры они видят по-разному. Если Лидия стоит на земле, то живописец витает в облаках утопических мечтаний, но на этом его культурогенизм и заканчивается. Чуть ли не в духе социалистов-утопистов он так отвечает Лидии на вопрос о том, возможно ли избавление от тяжёлого физического труда: «Да. Возьмите на себя долю их труда. Если бы все мы, городские и деревенские жители, все без исключения, согласились поделить между собою труд, который затрачивается вообще человечеством на удовлетворение физических потребностей, то на каждого из нас, быть может, пришлось бы не более двух-трех часов в день. Представьте, что все мы, богатые и бедные, работаем только три часа в день, а остальное время у нас свободно. Представьте ещё, что мы, чтобы ещё менее зависеть от своего тела и менее трудиться, изобретаем машины, заменяющие труд, мы стараемся сократить число наших потребностей до минимума. Мы закаляем себя, наших детей, чтобы они не боялись голода, холода, и мы не дрожали бы постоянно за их здоровье, как дрожат Анна, Мавра и Пелагея. Представьте, что мы не лечимся, не держим аптек, табачных фабрик, винокуренных заводов, — сколько свободного времени у нас остаётся в конце концов! Все мы сообща отдаём этот досуг наукам и искусствам. Как иногда мужики миром починяют дорогу, так и все мы сообща, миром, искали бы правды и смысла жизни, и — я уверен в этом — правда была бы открыта очень скоро, человек избавился бы от этого постоянного мучительного, угнетающего страха смерти, и даже от самой смерти» (Чехов А.П. Указ. соч., с. 98).
Очень заманчиво, но утопично даже и для будущих мечтателей. Но дело в конечном счёте не в этом, а в том, что герои «Дома с мезонином» ищут пути к эволюционному, культурогеническому смыслу человеческой жизни, хотя осознание этого смысла у них ещё не отличается особой ясностью.
Неприкаянным оказался горьковский Фома Гордеев. Отец оставил ему миллионы. Он учил сына: «На людей — не надейся… многого от них не жди… Мы все для того живём, чтобы взять, а не дать… О, господи, помилуй грешника!» (Горький М. Фома Гордеев: повесть. Рассказы. М., 1985, с. 74).
Сын оказался плохим учеником. В него, как клещ, вцепился вопрос: «Зачем?» Он почувствовал себя хуже таракана, который знает, куда он ползёт и зачем. А деньги? Вот вам его ответ: «Деньги? Много их у меня!.. Задушить могу ими до смерти, засыпать тебя с головой… Обман один — дела эти все… Вижу я дельцов — ну что же? Нарочно это они кружатся в делах, для того, чтобы самих себя не видать было… Прячутся, дьяволы… Ну-ка освободи их, от суеты этой, — что будет? Как слепые, начнут соваться туда и сюда… с ума посходят! Ты думаешь, есть дело — так будет от него человеку счастье? Нет, врёшь! Тут — не всё ещё!.. Река течёт, чтобы по ней ездили, дерево растёт для пользы, собака — дом стережёт… всему на свете можно найти оправдание! А люди — как тараканы — совсем лишние на земле… Всё для них, а они для чего? В чём их оправдание?» (с. 165).
Вот как заканчивается повесть: «Недавно Фома явился на улицах города. Он какой-то истёртый, измятый и полоумный. Почти всегда выпивши, он появляется — то мрачный, с нахмуренными бровями и с опущенной на грудь головой, то улыбающийся жалкой и грустной улыбкой блаженненького. Иногда он буянит, но это редко случается. Живёт он у сестры на дворе, во флигельке…» (с. 255).
Жалкий человек! Не вышло из него Саввы Морозова. Задатки были, но он не хотел учиться. Вопрос «Зачем?» остался для Фомы Гордеева нерешённым. Он загулял, порвал со своим классом и стал приживальщиком. До эволюционного смысла жизни ему было далеко как до солнца.
Предельно ясно эволюционно-культурный смысл человеческой жизни выразил наш великий психолог-эволюционист А.Н. Леонтьев. Вот какой обобщённый образ культуры он дал в своём основном труде: «В своей деятельности люди не просто приспосабливаются к природе. Они изменяют её в соответствии со своими развивающимися потребностями. Они создают предметы, способные удовлетворить их потребности, и средства для производства этих предметов — орудия, а затем и сложнейшие машины. Они строят жилища, производят одежду и другие материальные ценности. Вместе с успехами в производстве материальных благ развивается и духовная культура людей; обогащаются их знания об окружающем мире и о самих себе, развивается наука и искусство» (Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. 4-е изд. М., 1981, с. 414).
В своей психической эволюции человек сумел так существенно оторваться от животных по той причине, что он стал создавать продукты материальной и духовной культуры. Стремление к их улучшению выступало в истории людей в качестве стимула для развития их интеллекта, поскольку любой продукт культуры первоначально моделируется в сознании его творца. Развитие культуры, таким образом, есть главный фактор развития человеческого мышления.
Основным показателем интеллектуального развития у человека является его способность к творчеству, благодаря которой и создаются новые культурные ценности. Однако прежде, чем кто-либо овладеет этой способностью, он должен освоить уже имеющиеся культурные достижения. Процесс их освоения есть не что иное, как процесс очеловечения. А.Н. Леонтьев писал: «…каждый отдельный человек учится быть человеком. Чтобы жить в обществе, ему недостаточно того, что ему даёт природа при его рождении. Он должен ещё овладеть тем, что было достигнуто в процессе исторического развития человеческого общества. Перед человеком целый океан богатств, веками накопленных бесчисленными поколениями людей — единственных существ, населяющих нашу планету, которые являются созидателями. Человеческие поколения умирают и сменяют друг друга, но созданное ими переходит к следующим поколениям, которые в своих трудах и борьбе умножают и совершенствуют переданные им богатства — несут дальше эстафету человечества» (Леонтьев А.Н. Указ. соч., с. 417).
Ещё более выразительно об очеловечении он писал таким образом: «Человек не рождается наделённым историческими достижениями человечества. Достижения развития человеческих поколений воплощены не в нём, не в его природных задатках, а в окружающем его мире — в великих творениях человеческой культуры. Только в результате процесса присвоения человеком этих достижений, осуществляющихся в ходе его жизни, он приобретает подлинно человеческие свойства и способности; процесс этот как бы ставит его на плечи предшествующих поколений и высоко возносит над всем животным миром» (там же, с. 434).
Честь и хвала человеку, что в способности приспосабливаться он превзошёл своих эволюционных собратьев! Но всё-таки сводить всю человеческую жизнь к животному самовыживанию, к рабскому приспособлению к окружающей среде — насмешка над человеком, его анимализация, ибо человек заслуживает более высокой оценки: он не только приспосабливается к окружающей среде, как животное, но и изменяет, улучшает, совершенствует эту среду. Он думает не только о том, как ему получше пристроиться к этой многотрудной жизни, но и о том, чтобы его потомкам жилось лучше, чем это удалось ему и его современникам. Он готов на самопожертвование. Он участвует в продолжающемся культурогенезе, чтобы поднять культуру на новый, более высокий уровень её развития. Он не только видит в её продуктах — языке, науке, искусстве, нравственности и т. д. — средство к телесному самовыживанию, но и признаёт их высочайшую духовную самоценность. Таков идеальный Человек (с большой буквы). Реальные же люди лишь в той или иной мере приближаются к этому идеалу, но сущность человека для всех одна — культуросозидательная. Она состоит в инкультурации — первоначальном врастании в культуру и максимальном участии в её дальнейшем развитии. Только в этом случае человек живёт, а не выживает. Только в этом случае он — человек, а не говорящее животное.
Ни одно мировоззрение не способно скрыть от нас трагизм индивидуальной жизни, состоящий в первую очередь в её скоротечности и конечности. Но эволюционизм позволяет его сгладить, поскольку он учит нас выходить за пределы нашей индивидуальной жизни к жизни человечества. Более того, он позволяет в душе каждого из нас хранить высокий образ Человека. В.С. Бушин писал:
Весь этот мир — от блещущей звезды До малой птахи, стонущей печально, Весь этот мир труда, любви, вражды — Весь этот мир трагичен изначально. И ничего другого здесь не жди, А наскреби терпенье по сусекам И, зная всё, сквозь этот ад иди И до конца останься человеком.Предельно кратко эволюционный смысл человеческой жизни выразил Панков — один из героев повести А.М. Горького «Мои университеты». Он сказал: «Суть жизни в том, чтобы человек всё дальше отходил от скота» (Горький А.М. Детство. В людях. Мои университеты. Пьесы. М., 1984, с. 498).
Подлинно эволюционный смысл жизни станет доступен широкой массе людей только в далёком будущем, когда созреют условия для гармонического развития человека. Сейчас же можно говорить лишь о смысле жизни идеального человека. Как и любой идеал, он всегда впереди. Но мы можем сформулировать его: смысл человеческой жизни состоит в максимальном участии человека в развитии культуры.
Этот смысл только тогда будет понят во всей глубине, когда он будет выведен из мировой эволюции. Вот почему я предоставлю здесь слово великолепной семёрке универсальных эволюционистов.
Демокрит:
1. Вначале земля блуждала вследствие своей малости и лёгкости; с течением времени, сделавшись плотнее и тяжелее, она пришла в неподвижное состояние.
2. Когда эти образования, носившие плод во чреве, вполне созрели и их оболочки прожглись насквозь и разорвались, тогда из них возникли разнообразные формы животных.
3. Земля же, всё более отвердевая под действием солнечного огня и ветров, наконец, более стала не в состоянии рождать ничего из более крупных животных, но каждый вид живых существ стал рождаться от их взаимного совокупления.
4. Первые люди произошли из воды и ила.
5. Появившиеся люди вели беспорядочный и звероподобный образ жизни. Действуя каждый сам по себе, в одиночку, они выходили на поиски пищи и добывали себе наиболее годную траву и дикорастущие плоды деревьев.
6. Первые люди научились помогать друг другу благодаря пользе, приносимой совместными действиями. Собираясь же вместе вследствие страха, они мало-помалу стали познавать знаки, подаваемые ими друг другу.
7. Сама нужда служила людям учительницей во всем, наставляя их соответствующим, образом в познавании каждой вещи. Так нужда научила всему богато одаренное от природы живое существо, обладающее годными на всё руками, разумом и сметливостью души.
8. От животных мы путём подражания научились важнейшим делам: а именно мы — ученики паука в ткацком и портняжном ремёслах, ученики ласточки в построении жилищ и ученики певчих птиц, лебедя и соловья, в пении.
Жульен де Ламетри:
1. Первые поколения живых существ были, должно быть, очень несовершенны. У одних не было пищевода, у других — желудка, наружных женских половых органов, кишок и т. д. Очевидно, что только те животные могли выжить, сохраниться и размножиться, у которых были все необходимые для размножения органы, у которых, словом, не отсутствовало ничего существенного. И наоборот, те из животных, которые были лишены какой-нибудь абсолютно необходимой части, должны были умереть…
2. Подобно тому, как в силу некоторых физических законов невозможно, чтобы у моря не было приливов и отливов, точно так же благодаря определённым законам движения образовались глаза, которые видят, уши, которые слышат, нервы, которые чувствуют, язык, то способный, то неспособный к речи в зависимости от организации; наконец, эти же законы создали органы мысли.
3. Переход от животных к человеку не очень резок. Чем, в самом деле, был человек до изобретения слов и знания языков? Животным особого вида… он отличался от обезьяны и других животных тем, чем обезьяна отличается и в настоящее время, т. е. физиономией.
4. Если взглянуть на величину человеческого мозга, что этот орган может вместить громадное количество идей и, следовательно, требует для выражения этих идей большее количество знаков, чем у животных. В этом именно и состоит превосходство человека.
5. Слова, языки, законы, науки и искусства появились только постепенно; только с их помощью отшлифовался необделанный алмаз нашего ума. Человека дрессировали, как дрессируют животных; писателем становятся так же, как носильщиком… подобно тому, как обезьяна научается снимать и надевать шапку или садиться верхом на послушную ей собаку.
Герберт Спенсер:
1. Развитие (эволюция) есть интеграция материи, сопровождаемая рассеянием движения, во время которой материя переходит от состояния несвязной и неопределённой однородности к состоянию определённой и связной разнородности, а неизрасходованное движение претерпевает аналогичное же преображение.
2. Вещество, входящее в состав нашей Солнечной системы, принимая более плотную форму, вместе с тем изменялось путём перехода от единства распределения к его многообразию. Затвердевание Земли сопровождалось переходом от сравнительного однообразия к чрезвычайному разнообразию. Развиваясь из зародыша в тело сравнительно большого объёма, каждое животное или растение также переходит от простого к сложному. Возрастание общества, как в отношении его численности, так и прочности, сопровождается возрастанием разнородности его политической и экономический организации. То же самое относится ко всем надорганическим продуктам — языку, науке, искусству и литературе.
3. Большая часть животных доводит свои классификации не далее ограниченного числа растений или существ, служащих им пищей, не далее ограниченного числа зверей, служащих им добычей, и ограниченного числа мест и материалов, — наименее развитая личность из человеческой расы обладает знанием отличительных свойств большого разнообразия веществ, растений, животных, орудий, лиц и прочего не только как классов, но и как особей.
4. Наука есть усовершенствование обыкновенного знания, приобретенного с помощью невооруженных чувств и необразованного разума.
5. Объединённое знание возможно и… цель философии — достижение его. Философия — вполне интегрированное знание.
Владимир Иванович Вернадский:
1. Геологический эволюционный процесс отвечает биологическому единству и равенству всех людей — HomoSapiensи его геологических предков Sinanthropusи др., потомство которых для белых, красных, жёлтых и чёрных рас — любым образом среди них всех — развивается безостановочно в бесчисленных поколениях. Это закон природы.
2. Исторический процесс на наших глазах коренным образом меняется. Впервые в истории человечества интересы народных масс — всех и каждого — и свободной мысли личности определяют жизнь человечества, являются мерилом его представлений о справедливости. Человечество, взятое в целом, становится мощной геологической силой, И перед ним, перед его мыслью и трудом, становится вопрос о перестройке биосферы в интересах свободно мыслящего человечества как единого целого. Это новое состояние биосферы, к которому мы, не замечая этого, приближаемся, и есть «ноосфера».
3. Ноосфера есть новое геологическое явление на нашей планете, В ней впервые человек становится крупнейшей геологической силой. Он может и должен перестраивать своим трудом и мыслью область своей жизни, перестраивать коренным образом по сравнению с тем, что было раньше. Перед ним открываются всё более и более широкие творческие возможности, И может быть, поколение моей внучки уже приблизится к их расцвету…
4. Ноосфера — последнее из многих состояний эволюции биосферы в геологической истории — состояние наших дней… Вероятно, в этих лесах эволюционным путем появился человек около 15–20 млн. лет тому назад… Сейчас мы переживаем новое геологическое эволюционное изменение биосферы. Мы входим в ноосферу. Мы вступаем в неё в новый стихийный геологический процесс — в грозное время, в эпоху разрушительной мировой войны. Но важен для нас факт, что идеалы нашей демократии идут в унисон со стихийным геологическим процессом, с законами природы, отвечают ноосфере. Можно смотреть поэтому на наше будут, ее уверенно. Оно в наших руках. Мы его не выпустим.
5. На необитаемом острове, без надежды поведать кому-нибудь мысли и достижения, научные открытия или творческие художественные произведения, без надежды выбраться — надо ли менять творческую работу мысли, или же надо продолжать жить, творить и работать так, как будто живёшь в обществе и стремишься оставить след своей работы в максимальном её проявлении и выражении? Я решил, что надо именно так работать… Я думал и думаю, что мысль и её выражение не пропадают, даже если никто не узнает о происходившем духовном творении на этом уединённом острове.
Пьер Тейяр де Шарден:
1. Что такое эволюция — теорема, система, гипотеза?.. Нет, нечто гораздо большее, чем всё это: она — основное условие, которому должны отныне подчиняться и удовлетворять все теории, гипотезы, системы, если они хотят быть разумными и истинными. Свет, озаряющий факты, кривая, в которой должны сомкнуться все линии, — вот что такое эволюция.
2. С появлением первых белковых веществ — сущность земного феномена определённо переместилась — она сосредоточилась в столь с виду ничтожной плёнке биосферы. Ось геогенеза окончилась, отныне она продолжается в биогенезе. А этот последний в конечном итоге выражается в психогенезе.
3. Психогенез привёл нас к человеку. Теперь психогенез стушёвывается, он сменяется и поглощается более высокой функцией — вначале зарождением, затем последующим развитием духа — ноогенезом… Дух ткёт и развёртывает покров ноосферы.
4. Человек, по удачному выражению Джулиана Хаксли… не что иное, как эволюция, осознавшая саму себя. До тех пор пока наши современные умы (именно потому, что они современные) не утвердятся в этой перспективе, они никогда, мне кажется, не найдут покоя.
5. Я думаю, вряд ли у мыслящего существа бывает более великая минута, чем та, когда с глаз его спадает пелена и открывается, что он не затерянная в космическом безмолвии частица, а пункт сосредоточения и гоминизации универсального стремления к жизни. Человек — не статический центр мира, как он долго полагал, а ось и вершина эволюции, что много прекраснее.
6. Ложен и противоестествен эгоцентрический идеал будущего. Любой элемент может развиваться и расти лишь в связи со всеми другими элементами и через них… Для человека нет будущего, ожидаемого в результате эволюции, вне его объединения с другими людьми.
7. Принять эволюцию и способствовать, всё более и более сознательно, её продвижению во всех областях: таковым мне показалось условие реального прогресса жизни, расцвета человечества до финального единства.
Герхард Фоллмер:
1. Из палеонтологических исследований вытекает, что живые организмы существуют на Земле, по меньшей мере, три миллиарда лет. Относительно быстро после образования земной коры, 4,5 млрд. лет назад должны были возникать предступени жизни. Тогда господствовали совершенно иные тепловые, атмосферные и геологические связи, нежели сегодня. Относительно взаимосвязей праатмосферы и праморя и об энергетических источниках этого времени мы имеем теперь хорошую информацию. Эти условия можно имитировать экспериментально. Удивительным образом затем довольно легко оказалось изготовить важнейшие биохимические составляющие (аминокислоты, сахар и др.) и синтезировать их в белок и нуклеиновые кислоты. Эти эксперименты опирались на ту предпосылку, что абиотический синтез важнейших органических связей в условиях праатмосферы должен осуществляться с необходимостью. Такие макромолекулы, растворённые в «первичном бульоне», могли затем составлять различные комбинации друг с другом и «запустить» процесс биологической эволюции.
2. В развитии органического мы сталкиваемся с новым классом законов, биохимическими и биологическими. Это отнюдь не означает, что физические законы утрачивают здесь свою значимость; они сформулированы так, что значимы для всех систем, в том числе биологических. Так, также и организмы не могут противоречить закону сохранения энергии; мышца, которая осуществляет работу, должна откуда-либо получать энергию (напр., из питания), точно так же, как и нейрон в мозге, который посылает нервный импульс, Но физические законы должны дополняться биологическими и биохимическими законами.
3. Все эти эволюционные законы относятся не только к возникновению новых вариантов, рас и видов (инфраспецифическая эволюция), но также к родоисторическому развитию (трансспецифическая эволюция). Если до середины нашего столетия ещё полагали, что появление новых органов и структур, новых семейств, отрядов, классов и т. д. возможно только посредством эволюционных прыжков или посредством автономных, целенаправленно действующих сил (телеология, ортогенез), то синтетическая теория видит в них только действие указанных выше факторов. Особое значение имеет здесь взаимодействие мутации и селекции.
4. Главный тезис учения о происхождении видов гласит: растения, животные и люди развились из преобразованных праформ. Сходство между организмами есть результат их родства, чаше всего, даже мера для их тесной или дальней взаимопринадлежности. Биология и антропология применяют теорию эволюции также к человеку. Наука не имеет поводов считать, что человек может как-либо находиться вне биологических законов.
5. Монистическая теория происхождения позволяет человеку, прежде всего, быть животным, у которого, именно благодаря развитию, появляется ещё нечто, а именно разум… Как человек, рассмотренный со стороны животного, является просто несовершенным животным, точно так же животное, рассмотренное со стороны человека, является просто несовершенным человеком, которое лишено тех преимуществ, которыми он обладает.
6. Биологическая эволюция не заканчивается там, где начинается культурная эволюция. В эволюции человека биологические и культурные факторы скорее взаимодействуют.
7. Человеческая эволюция не может быть понята ни как чисто биологический процесс, ни адекватно описана как история культуры. Она состоит во взаимодействии биологии и культуры. Между биологическими и культурными процессами существует обратная связь. Особенно поучительным примером этого взаимодействия является человеческий язык. Очевидно, что такая высокосимволическая коммуникационная система давала большое преимущество в отборе социальным и охотящимся гоминидам. Поэтому индивидам с лучшими языковыми способностями посредством селекции оказывалось предпочтение и такие индивиды совершенствовали и использовали эту коммуникационную систему. Развитие, таким образом, следует рассматривать как биолого-культурное единство.
8. Принцип эволюции является универсальным. Он применим к космосу как целому, к спиралевидным туманностям, звёздам с их планетами, к земной мантии, растениям, животным и людям, к поведению и высшим способностям животных; он применим также к языку и историческим формам человеческой жизни и деятельности, к обществам и культурам, к системам веры и науки.
Эрвин Ласло:
1. Около пяти миллионов лет назад эволюционная ветвь, которая привела к современному человеку, отделилась от африканских человекообразных обезьян — общих предков человека, шимпанзе и горилл… С момента своего первого появления в Африке около 100 000 лет назад Homosapiens не претерпел сколько-нибудь существенных изменений. Но на протяжении большей части 5 миллионов лет, прошедших с тех пор, как Homosapiens впервые спустился с деревьев, его замечательные мануальные и когнитивные способности оставались невостребованными. Долгие тысячелетия небольшие стаи гоминидов влачили жалкое существование на грани смерти. Жизнь их была полна риска и опасностей. Выигрывать в азартной игре они начали медленно около 1,5 миллиона лет назад.
2. Развитие эволюционного процесса является сильно нелинейным, Существуют многочисленные флуктуации, попятные движения и множество периодов стагнации. Общество дестабилизируют и расшатывают сильные возмущения: войны и социальные, политические и технологические революции. Правительства уходят в отставку, коренным образом изменяются системы правопорядка, новые движения и идеи всплывают на поверхность и начинает своё движение, И пока новый порядок обретает форму, в обществе воцаряется хаос, Но возникают новые порядки, история следует своим ломаным курсом от Каменного века к Новейшему времени — и дальше.
3. Мы живём в эпоху критических порогов и, следовательно, коренных преобразований. Поэтому особенно важное значение приобретает динамика эволюционных процессов.
4. Основная цель третьей стратегии состоит в том, чтобы направить человечество на путь, ведущий к глобальной голархии, при которой отдельные члены общества могут эволюционировать вместе с целыми обществами. Такая совместная эволюция требует неослабного контроля над сложным и взаимозависимым миром, который мы создали, Глобальные взаимосвязи, возникшие в наш век, стали и останутся необходимыми компонентами постсовременного мира. Но они будут не доминировать над человечеством, а служить ему. Они должны стать инструментами эффективного самоуправления каждого из нас в гармонии с другими членами общества и со всеми другими системами жизни на нашей планете.
5. К счастью, культурная эволюция, в отличие от культурной революции маоистского толка, не нуждается в силовом воздействии «сверху». Она реализуется в ходе развития науки, искусства, религии и образования, постепенно проникая через становление нового сознания широкой общественности в сознание тех, кто занимает руководящее положение в обществе. Напомним, что в эпоху бифуркации все структуры общества становятся в высшей степени чувствительными: они улавливают малейшую флуктуацию и изменяются вместе с ней. Не составляет исключения и культура.
Очеловечение через культуру — вот миссия, ниспосланная людям мировой эволюцией. В выполнении этой миссии — высший смысл человеческой жизни.
Универсум: хаос ↔ гармония
Беспорядочный человек не проживёт в добре век.
Русская пословица.Привычка к упорядоченности мыслей — единственная для тебя дорога к счастью; чтобы достигнуть его, необходим порядок во всём остальном, даже в самых безразличных вещах.
Э. Делакруа.Установить вокруг человека, взятого в центр, закономерный порядок, связывающей последующее с предыдущим, открыть среди элементов универсума не систему онтологических причинных связей, а эмпирический закон рекуррентности, выражаюищй их последовательное возникновение в течение времени, — вот что, и только это, я пытался сделать.
П. Тейяр де Шарден.Главный постулат универсального эволюциониста — признание всеобщности развития. Это означает, что в мировой истории он видит не нагромождение случайных фактов, не заколдованный круг бесконечных и бессмысленных повторов, а развитие, прогресс, движение вперёд. Эволюционное движение осуществляется в направлении «ХАОС → ГАРМОНИЯ» (БЕСПОРЯДОК → ПОРЯДОК), а инволюционное движение — в обратном направлении.
В словаре с. И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой мы находим четыре значения у слова «хаос»: 1. В древнейших мифологических представлениях: беспорядочная материя, неорганизованная стихия, из к-рой образовалось впоследствии всё существующее. Первозданный х. 2. Отсутствие порядка, полная путаница. X. в делах. X. в голове. 3. Нагромождение, скопление чего-н. X. камней. X. льдов. 4. Беспорядок (в помещении, в жилье). В комнатах х. Как можно жить в таком ~е?
В свою очередь у слова «гармония» отмечены следующие значения: 1. Выразительные средства музыки, связанные с объединением тонов в созвучии и с композицией созвучий, а также соответствующий раздел в теории музыки. 2. Согласованность, стройность в сочетании чего-н. Г. звуков. Г. красок. Душевная г. Г. интересов.
Мы видим, что хаосу повезло больше, чем гармонии, но не будем вдаваться в детали. Нас интересуют общие, универсальные значения этих слов. Если ограничиться русским переводом этих слов, заимствованных из греческого, то выйдет так: хаос — беспорядок, а гармония — порядок.
Об универсальной широте обсуждаемых слов свидетельствуют их синонимические ряды:
хаос (беспорядок, дисгармония) — авгиевы конюшни, ад кромешный, анархия, базар, бардак, бедлам, безалаберщина, беспредел, беспутица, бестолковщина, бестолочь, брожение, буза, вакханалия, всё вверх дном, всё вверх ногами, всё вверх тормашками, дурдом, дым коромыслом, ералаш, заваруха, замешательство, кабак, кавардак, как мамай прошёл, катавасия, каша, кипиш, конфузия, кутерьма, мамаево побоище, непорядок, неразбериха, нескладица, несогласованность, неурядица, передряга, переполох, проходной двор, путаница, развал, разгром, разногласие, разноголосица, разор, разруха, расстройство, сам чёрт ногу сломит, светопреставление, свистопляска, смута, смятение, содом и гоморра, сумасшедший дом, суматоха, сумбур, сумятица, сутолока, тарарам, чехарда, шабаш, шатание, энтропия;
гармония (порядок) — ажур, благодать, благоустройство, благочиние, икебана, лад, марафет, налаженность, норма, последовательность, построение, обычай, расписание, расположение, распорядок, распределение, расстановка, система, совершенство, согласованность, сочетание, строй, уклад, устройство, ход, хронология, черёд.
Об универсальной природе обсуждаемых категорий свидетельствуют все базовые категории духовной культуры. Своим путём к порядку идут религия и наука, искусство и нравственность, политика и язык. Бог, истина, красота, добро, справедливость и язык немыслимы без движения к порядку. Напротив, движение к беспорядку направлено к их антиподам.
Об универсальной природе категорий хаоса и гармонии свидетельствует история универсального эволюционизма.
На место мифического Хаоса первые греческие философы поместили воду (Фалес), апейрон (Анаксимандр), воздух (Анаксимен). С этого времени (VI в. до н. э.) в Европе начинается отсчёт научной интерпретации хаоса и гармонии. Особого внимания здесь заслуживает Анаксимандр. Он сумел взглянуть на обсуждаемые категории с философской точки зрения.
Философичность Анаксимандра (611–546 гг. до н. э.) не вызывает сомнений. Его основной труд — трактат «О природе». Предполагают, что впервые он ввёл в научный оборот понятие «мир». Для его обозначения он стал употреблять уже имеющееся в греческом языке слово «κοξμοξ» (космос). В обыденном употреблении оно имело два значения — украшение (отсюда — косметика) и порядок. Второе из этих значений позволило Анаксимандру употреблять это слово по отношению к миру в целом. Этимологические истоки этого нового словоупотребления сохранились до сих пор: в мире (Вселенной, универсуме, мироздании) предполагается порядок, гармония, система. Но в современных языках слово «космос» главным образом употребляется по отношению к физическому миру, а не миру в целом. По-видимому, это не случайно: картина мира у Анаксимандра, как и у Фалеса, остаётся физиоцентрической. Вместе с тем, в отличие от Фалеса, Анаксимандр от физиогенеза перешёл к биогенезу. Более того, его описание физиогенеза приобрело новую, более научную, более развитую форму в сравнении с его изображением у Фалеса. В качестве первовещества всего материального мира Анаксимандр стал рассматривать нечто беспредельное. Он назвал его апейроном.
У Диогена Лаэртского читаем: «Он (Анаксимандр. — В.Д.) учил, что первоначалом и основой является беспредельное (apeiron), и не определял его ни как воздух, ни как воду, ни как что-либо иное» (Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., 1979, с. 103).
Во введении в науку категории «апейрон» М.Г. Макаров увидел значительный прогресс в её развитии. Он писал: «…ученик Анаксимандра Анаксимен, а также Гераклит делают значительный шаг назад, отождествляя архэ с воздухом и огнём. На первичной стадии развития философии, когда ещё не вычленились такие понятия, как „свойство“, „качество“, „субстрат“, образование подобной абстракции трудно себе представить» (Макаров М.Г. Развитие понятий и предмета философии в истории её учений. Л., 1982, с. 16).
У В.В. Дюранта читаем: «Дело Фалеса было энергично продолжено его учеником Анаксимандром, который — хотя и жил между 611 и 549 г. до н. э. — выдвинул философию, поразительно схожую с тем учением, что Герберт Спенсер, трепеща от собственной оригинальности, обнародовал в 1860 г. Первоначало, говорит Анаксимандр, — это безбрежное Неопределённое-Беспредельное (apeiron), бескрайняя масса, лишённая всяких специфических качеств, благодаря заложенным в ней силам разворачивающая из себя всё многообразие вселенной. Ср. спенсерово определение эволюции как сущностного изменения „из неопределённой, разрозненной (incoherent) однородности в определённую, связанную разнородность“» (Дюрант В. Жизнь Греции. М., 1997, с. 146).
Ужели слово сказано? Я имею в виду слово «эволюция». В. Дюрант удивляется здесь тому, что Г. Спенсер не заметил эволюционизма в истолковании первоматерии у Анаксимандра, но, как ни странно, он не придаёт значения факту намного более значительному — факту появления у ионийцев вообще и у Анаксимандра в особенности эволюционного взгляда на мир. Через много столетий Г. Спенсер будет возрождать этот взгляд независимо от Анаксимандра. А трепетал Г. Спенсер, надо думать, не от своей оригинальности, а от величия эволюционной идеи.
Но вот ещё на какую черту понятия «апейрон» не обратили внимания ни М.Г. Макаров, ни В. Дюрант — на его связь с Хаосом. В греческой мифологии, как мы помним, Хаос — начало мира, представляющее собой нечто беспредельное, бесформенное, неопределённое. Анаксимандр демифологизировал гесиодовский Хаос, превратив его в апейрон.
Демокрит (ок. 460 — ок. 370 до н. э.) наполнил гесиодовский хаос атомами и пустотой. Каким же образом он представлял себе его переход в гармонию? Он представлял себе этот переход как результат своеобразных атомных сцеплений, каждое из которых создаёт ту или иную сущность — огонь, воду, воздух и т. д. Своеобразным атомным сцеплениям наш мир, в конечном счете, обязан своим происхождением и развитием. Но «смеющийся» философ выводил из атомов и пустоты не только наш мир, но и множество других.
По свидетельству Диогена Лаэртского, «Демокрит утверждал: начало Вселенной — атомы и пустота. Миров бесчисленное множество, и они имеют начало и конец во времени. И ничто не возникает из небытия… И атомы бесчисленны по разнообразию величин и по множеству; носятся же они во Вселенной, кружась в вихре, и, таким образом, рождается всё сложное: огонь, вода, воздух, земля. Дело в том, что последние суть соединения некоторых атомов» (Антология мировой философии: в 4 т. Т. 1. Ч. 1. М., 1969, с. 326–327).
Заслуга Демокрита в осмыслении диады «хаос — гармония» состоит в том, что он превратил её в универсальную эволюционную цепочку «хаос → гармония». Это означает, что он распространил её на все четыре эволюционные ступени — физиогенез, биогенез, психогенез и культурогенез. Вот почему именно с Демокрита в европейской науке начинается универсальный эволюционизм. Его судьба оказалась трагичной. Несмотря на то, что по пути универсального эволюционизма в античности шли Эпикур и Тит Лукреций Кар, этот путь был закрыт в дальнейшем на несколько столетий. Больше тысячи лет христиане уничтожали универсальный эволюционизм Демокрита, Эпикура и Лукреция. Только в XVIII в. он заговорил устами Жульена де Ламетри.
Гармонию из хаоса стал впервые выводить не Илья Пригожин, а Демокрит. За ним следовал Аристотель (384–322 до н. э.). Но он следовал не только за Демокритом, но и за Гераклитом, который выводил из единства противоположностей не только гармонию, но и хаос.
Аристотель увидел между хаосом и гармонией отношения взаимной обратимости. Иначе говоря, он протянул мостик не только от хаоса к гармонии, но и, наоборот, от гармонии к хаосу. Он писал: «Необходимо, чтобы всё гармонично устроенное возникало из неустроенного и неустроенное из гармонично устроенного…» (Аристотель. Физика. М., 1936, с. 14). А чуть ниже он намекает на промежуток между хаосом и гармонией, который чреват как развитием гармонии, так и развитием хаоса.
Платон (427–347 до н. э.) применил категорию гармонии к идеальному государству. Какими же чертами должно обладать гармоничное государство по Платону? Во-первых, государственная власть в нём принадлежит учёным, философам, во-вторых, в нём представлено чёткое разделение труда, т. е. каждый занимается своим делом, не вмешиваясь в дела других, в-третьих, в нём сосуществует три класса людей — производители (земледельцы, ремесленники и т. д.), философы и воины-стражи, в-четвёртых, между ними существует гармония, поскольку политика, проводимая философами в идеальном государстве, направлена на аскетизм.
В «Законах» к трём классам, выделенным в «Государстве», Платон добавляет рабов, появляющихся в обществе главным образом из-за войны, которую он считал злом, возникающим в результате погони за новым имуществом. Но главное внимание в его футурологии уделено войнам-стражам. В описании их образа жизни некоторые знатоки стали видеть прообраз коммунизма. Главное их назначение — охрана государства от внутренних и внешних раздоров. Чтобы это назначение они осуществляли с большим успехом, сами они должны вести образцовый, гармоничный образ жизни. Этот образ жизни строится на отсутствии личной собственности, что не даёт оснований для тяги к обогащению, на общности жён и детей, на селективном отборе рождающихся младенцев (дефективных детей они обрекали на гибель в скрытом месте), на постоянном физическом и нравственном совершенствовании.
Чудовищному сужению категория гармонии подверглась в христианском богословии. Из универсальной она превратилась в теологическую. Творцом гармонии в мире отцы христианской церкви стали считать Бога. В параграфе «Отрицательные последствия подмены идеи „гармонии мира“ идеей „гармонии Бога“» В.Т. Мещеряков писал: «Центральными проблемами учения о гармонии средневековые мыслители считали не столько изучение гармонии как явления, сколько теологический вопрос о гармонии отношений между душой и телом, верой и разумом» (Мещеряков В.Т. Развитие представлений о гармонии в домарксистской и марксистско-ленинской философии. М., 1981, с. 49). Но главную гармонию эти мыслители искали между верой и разумом, между религией и наукой (философией). Легко догадаться, что подлинной гармонии между ними они не могли найти: слишком неравным было между ними отношение. Итальянский монах Пётр Домиани в XI веке сформулировал это отношение следующим образом: «Философия есть служанка богословия».
Между тем полностью вытравить философское (научное) понимание гармонии средневековым богословам всё-таки не удалось. Как ни старался, например, Фома Аквинский (1225–1274) установить между Богом и гармонией причинно-следственные отношения, научный подход к пониманию гармонии всё-таки просвечивается в его писаниях. Так, по поводу гармонии в космосе он писал: «Из движения звёзд возникает некая гармония, т. е. согласованное звучание» (Мещеряков В.Т. Указ. соч., с. 52).
Мощный удар по теологическому пониманию гармонии в эпоху Возрождения нанёс Николай Коперник (1473–1543). «Таким образом, — пишет В.Т. Мещеряков, — для учения о гармонии появление гелиоцентрической системы мира явилось поворотным пунктом, откуда берёт своё начало… отказ от старых представлений о гармонии как некоей всеобщей благодати, ниспосланной миру его творцом» (с. 60–61).
Новый удар по богословской интерпретации гармонии нанёс в Новое время Рене Декарт (1596–1650). У В.Т. Мещерякова читаем: «Именно Декарт первым показал роль объективных законов, в соответствии с которыми происходит движение материи от хаоса к порядку, поставив тем самым законы природы выше законов бога» (с. 68).
Учёные эпохи Возрождения и Нового времени соотносили идею гармонии, как правило, с астрономической картиной мира. В центре их внимания была «гармония небес». В XIX в. её сменила гармония жизни.
Идею гармонии Чарлз Дарвин (1809–1882) связывал с опасностью перенаселения Земли теми или иными видами растений и животных. Регулирующую роль, с его точки зрения, здесь выполняет как раз борьба за существование! Она приводит к некоей средней (нормальной) численности каждого вида, тем самым устанавливая в природе относительную межвидовую гармонию. Эта гармония, вместе с тем, может иногда нарушаться — не только за счёт вмешательства в неё со стороны человека, но и за счёт чрезмерного возрастания численности особей одного вида за счёт других (при благоприятных условиях неестественно быстро может разрастаться, например, чертополох, вытесняя другую растительность).
Как закон тяготения у И. Ньютона — основа относительного равновесия в физической природе, так закон борьбы за существование у Ч. Дарвина — основа относительного равновесия в живой природе. Благодаря этой борьбе на нашей планете сложилась более или менее устойчивая межвидовая взаимозависимость. Вот фрагмент такой зависимости, отмеченной Ч. Дарвиным: «Число шмелей в какой-нибудь стране зависит в значительной мере от численности полевых мышей, истребляющих их соты и гнезда; …но число мышей, как всякий знает, в значительной степени зависит от количества кошек…» (Дарвин Ч. Происхождение видов путём естественного отбора или сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь. СПб., 1991, с. 74). Следовательно, минуя промежуточное звено, можно сказать, что число шмелей зависит от количества кошек. В подобных зависимостях находится вся живая природа!
Гармония в живой природе, как она была изображена Ч. Дарвином, увы, далека от идиллии. Между тем завораживающий смысл слова «гармония» мы ощущаем до сих пор. Но многовековая его история в науке и богословии наложила на него отпечаток таинственности. Расшифровке этой таинственности Андре Ламуш посвятил свой грандиозный труд — «La théorie harmonique» («Гармоническая теория»). Он состоит из семи томов и издавался в Париже с 1955 по 1967 г. Автор этого труда обобщает понимание гармонии в физике, биологии, психологии, эстетике, этике, политологии, философии и даже теологии. К сожалению, несмотря на огромную работу, которую проделал А. Ламуш в учении о гармонии, он не сумел убедительно представить в своём труде исследуемую категорию как универсальную. В его «Гармонической теории» фигурирует только три ключевых понятия — простота, ритм и симметрия. Исчерпывают ли они наши представления о гармонии? Да и могут ли они претендовать на её атрибуты вообще? Вопрос остаётся открытым. Самое главное, что не может нас устроить в теории гармонии французского учёного, — отсутствие последовательного применения в ней эволюционного подхода, хотя он во многом и следовал за П. Тейяром де Шарденом. Но последний — великий эволюционист, показавший в своём «Феномене человека» объективный ход эволюции мира от беспорядка к порядку, а автор «Гармонической теории» стремился уложить категорию гармонии в прокрустово ложе психического (см. подр. Мещеряков В.Т. Указ, соч., с. 4–8). К тому же свою главную задачу он видел в том, чтобы обосновать «метафизический концепт гармонии как мост между наукой и религией» (с. 5). Эту задачу А. Ламуш не осуществил в своём труде, да он и не мог её осуществить, потому что мост между религией и наукой невозможен.
Гармонией в природе восхищались Н. Коперник и Д. Бруно, Р. Декарт и И. Ньютон, а позднее — И. Кант и Г. Гегель. Гармонию в обществе искали Т. Мор и Т. Кампанелла, Ш. Фурье и Р. Оуэн. О глубоком проникновении категории «гармония» в искусство, с другой стороны, свидетельствует музыковедение. Его представители справедливо указывают на преемственность, имеющуюся между её пониманием в философии и в современном музыковедении. На эту преемственность, в частности, обращал внимание Ю.Н. Хохлов. Он отмечал, что гармония в философии и в музыковедении понимается одинаково: она есть «согласие, упорядоченность, соразмерная уравновешенность, разумная слаженность различного и противоречивого в прекрасное целое» (Хохлов Ю.Н. Очерки современной гармонии. М., 1974, с. 43).
Категории хаоса и гармонии являются универсальными. Они охватывают собою весь мир. Вот почему говорят о хаосе и гармонии в физиосфере и биосфере, психике и культуре. Они пронизывают, в частности, все базовые категории духовной культуры — дьявола и Бога, лжи и истины, безобразного и прекрасного, зла и добра, несправедливости и справедливости, разобщения и единения.
Категории «хаос» и «гармония» нельзя отрывать друг от друга. Это возможно только при одном условии: когда они будут вписаны в эволюционный контекст. Этот контекст не может нас не привести к мысли о том, что сущность гармонии состоит в развитии мира, его эволюции. В таком случае хаос, с одной стороны, выглядит как исходный пункт эволюции, а с другой стороны, как её обратная сторона, как её антипод, который сосуществует с нею, тормозит её ход, а то и тянет её вспять.
Гармонизация (упорядочение) есть эволюционное движение, а гармония (порядок) — его исторический результат. Хаотизация (дисгармонизация, примитивизация) есть инволюционное движение, а хаос (дисгармония, беспорядок) — его исторический результат.
Эволюционную интерпретацию хаоса (дисгармонии) и гармонии дал в конце своей книги В.Т. Мещеряков. Вот что он писал о хаосе в его отношении к гармонии: «Имея в виду вопрос о том, что именно противостоит гармонии, необходимо отметить, что противоположностью гармонии как состояния оказывается такое нарушение, которое делает невозможным одновременное развитие всех сторон. Это — дисгармония, которую можно представить как некоторое движение от уже имеющейся гармонии в сторону её ослабления, расшатывания. Бессмысленно представлять себе дисгармонию там, где нет, и не было гармонии. Дисгармония — это „болезнь гармонии“, исход которой может включать и выздоровление, и смерть» (Мещеряков В.Т. Указ. соч., с. 201).
В свою очередь о гармонии В.Т. Мещеряков писал: «Гармония есть такое состояние конкретных систем, которое достигается лишь в процессе гармонического развития, когда пространственно-временная целостность и высокий динамизм как его важнейшие характеристики обеспечиваются взаимосвязью симметрии и ритма. В свою очередь важнейшей особенностью гармонического развития является такое движение к более совершенному новому, когда даже по окончании системой своего существования, накопленные ею достижения не пропадают, а становятся достоянием системы, идущей на смену первой» (с. 202).
Этот мир всегда был проводником не только эволюции, но и инволюции. В мировой истории, к счастью, эволюция до сих пор, в конечном счете, одерживала верх над инволюцией. Но ситуация может измениться. Люди, вступившие в XXI в., начинают всё больше и больше это сознавать. Вот почему эволюционный смысл их жизни приобретает всё большую и большую необходимость.
Только ли об этом свидетельствуют афоризмы о хаосе (беспорядке, дисгармонии) и гармонии (порядке), которые я привожу ниже?
Гармония в собственном смысле есть сочетание величин, которым свойственно движение и положение, когда они так прилажены друг к другу, что больше уже не могут принять ничего однородного; во-вторых, гармония есть соотношение частей, составляющих смесь.
Аристотель.В природе всё мудро продумано и устроено, всяк должен заниматься своим делом, и в этой мудрости — высшая справедливость жизни,
Леонардо да Винчи.Порядок учит время сберегать.
И.В. Гёте.Хаос — предтеча творения чего-нибудь истинного, высокого и поэтического.
А. Бестужев-Марлинский.Гармония есть именно соотношение качественных различий и при том совокупности таких различий, как они находят своё основание в сущности самой вещи.
Г. Гегель.Именно то, что человек называет целесообразностью природы и как таковую постигает, есть в действительности не что иное, как единство мира, гармония причин и следствий, вообще та взаимная связь, в которой всё в природе существует и действует.
Л. Фейербах.Обществу не останется ничего другого, как готовиться к самому изумительному, самому счастливому событию, какое может иметь место на этом земном шаре и на всех планетах, — к внезапному переходу от социального хаоса к всемирной гармонии.
Ш. Фурье.Беспорядок делает нас рабами. Сегодняшний беспорядок уменьшает свободу завтрашнего дня.
В.Ф. Амиель.Культура — это лишь тоненькая яблочная кожура над раскалённым хаосом.
Ф. Ницше.Разум даже в самом мудром человеке составляет исключение: хаос, необходимость, вихрь — вот правило.
Ф. Ницше.Что такое гармония? Гармония есть согласие мировых сил, порядок мировой жизни. Порядок — космос, в противоположность беспорядку — хаосу. Из хаоса рождается космос, мир, учили древние.
А.А. Блок.Хаос есть первобытное, стихийное безначалие; космос — устроенная гармония, культура; из хаоса рождается космос; стихия таит в себе семена культуры; из безначалия создаётся гармония.
А.А. Блок.Мировая жизнь состоит в непрестанном созидании новых видов, новых пород. Их баюкает безначальный хаос; их взращивает, между ними производит отбор культура.
А.А. Блок.Что такое поэт? Человек, который пишет стихами? Нет, конечно. Он называется поэтом не потому, что он пишет стихами; но он пишет стихами, то есть приводит в гармонию слова и звуки, потому что он — сын гармонии, поэт.
А.А. Блок.Наилучшее выражение гармонии мира — это закон.
А. Пуанкаре.Истина — это то, что упрощает мир, а не то, что создаёт хаос, это язык, выделяющий из многообразия общее.
А. Сент-Экзюпери.Анархия — это попытка организовать хаос и возглавить безвластие.
В. Сухоруков.Культура: животное ↔ человек
Уже самый факт происхождения человека из животного царства обусловливает собой то, что человек никогда не освободится полностью от свойств, присущих животному, и, следовательно, речь может идти только… о различной степени животности или человечности.
Ф. Энгельс.Культура — это мера человечности в человеке.
К. Маркс.Идеал культурного человека есть не что иное, как идеал человека, который в любых условиях сохраняет подлинную человечность.
А. Швейцер.Высший смысл человеческой жизни состоит в очеловечении (животное → человек). Есть только один путь от животного к человеку — через культуру — как материальную, так и духовную.
Только безумец может отрицать очеловечивающую роль материальной культуры — всего того, что создаётся людьми для удовлетворения их телесных потребностей — в пище, одежде, жилище, технике. Всё дело, однако, в том, чтобы не делать из этих потребностей культа.
Своим возникновением человек обязан своей предшествующей, дочеловеческой, эволюции — физической, биотической и психической. На её выходе мы видим наших животных предков, подготовленных к гоминизации, т. е. к превращению в людей, к очеловечению.
Гоминизация наших предков стала возможной лишь потому, что в результате эволюции они приобрели способность к культуросозидающей, творческой деятельности, результатом которой стали её продукты — сначала материальной культуры, а уж затем — духовной.
Считается, что первобытное общество возникло 40 тыс. лет назад и существовало приблизительно до IV тысячелетия до н. э., когда начинают появляться высокие культуры древнего мира — египетская, индийская, китайская, шумеро-вавилонская, ассирийская и др.
В первобытное время люди пользовались главным образом каменными орудиями. Вот почему его называют «каменным веком», который перешёл в бронзовый и железный века уже в античности (с конца IV тысячелетия до н. э.). В каменном веке люди осваивают упрощённые формы животноводства и земледелия, изготовляют всё более усложняющуюся одежду, строят примитивные жилища — полуземлянки, бревенчатые и свайные. Освоение огня позволяет им улучшать качество пищи и утеплять жилища.
Сжудные свидетельства о первобытном времени говорят нам о том, что процесс гоминизации наших предков начался именно с материальной культуры. Недаром слово «культура» у римлян имело земледельческий смысл. Старое, материальное, значение этого слова сохранилось и до сих пор — когда мы слышим о культуре земледелия, культуре обработки земли, о сельскохозяйственных культурах и т. п.
Материальная культура, бесспорно, была и будет основой, на которой развивалась и будет развиваться духовная культура. Но только один компонент духовной культуры возник одновременно с материальной культурой — это язык. В этом нет сомнения, поскольку без языка невозможна культуро-созидательная деятельность и поскольку у наших животных предков он уже в зародышевой форме существовал. В примитивной форме он существует и у животных. Так, гамадрилы пользуются приблизительно 20 знаками («ак-ак-ак» — знак тревоги, «мля-мля-мля» — знак расположения и т. д.).
Можем ли мы говорить о смысле жизни применительно к первобытным людям? А почему бы и нет? Их смысл жизни состоял в выживании. Этим смыслом и до сих пор наполнена жизнь доброй половины современного человечества. Другое дело, что до осмысления самого понятия смысла жизни дело дошло сравнительно недавно. О смысле жизни впервые в Европе заговорили греческие и римские мудрецы. Но отсюда не следует, что на вопрос о смысле жизни в последующее времена стало отвечать легко.
Великий персидский поэт Омар Хайям (ок. 1048–1131) был очень мудрым человеком. Но он жаловался:
Откуда мы пришли? Куда свой путь вершим? В чём нашей жизни смысл? Он нам непостижим.Между тем миллионам простолюдинов и в голову не приходила мысль о непостижимости смысла человеческой жизни, как не приходит она им и сейчас. Смыслом жизни для них во все времена было выживание. Ему способствовало развитие материальной культуры. Можно сказать даже и так: своим развитием материальная культура обязана в первую очередь стремлению людей к выживанию.
Главный императив эволюционистской этики гласит: культура — венец физической, биотической и психической эволюции. Но она эволюционирует и внутри себя — от примитивных форм религии, науки, искусства, нравственности, политики, языка, пищи, одежды, жилища и техники к их всё более и более совершенным формам. Смысл человеческой жизни как раз и состоит в том, чтобы удачно вписаться в культурную эволюцию (культурогенез, гоминизацию), т. е. в стремлении впитать в себя как можно больше предшествующей культуры и внести в неё максимальный личный вклад.
В идеале участие каждого человека в культурной эволюции должно касаться как материальной, так и духовной культуры. В «Немецкой идеологии» молодые К. Маркс и Ф. Энгельс мечтали: «…в коммунистическом обществе, где никто не ограничен исключительным кругом деятельности, а каждый может совершенствоваться в любой отрасли, общество регулирует все производство и именно поэтому создаёт для меня возможность делать сегодня одно, а завтра — другое, утром охотиться, после полудня ловить рыбу, вечером заниматься скотоводством, после ужина предаваться критике, — как моей душе угодно, — не делая меня, в силу этого, охотником, рыбаком, пастухом или критиком» (Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 3. М., 1968, с. 32).
До гармонического человека нам далеко, как до солнца. Вот почему многие люди вынуждены ограничивать смысл своей жизни активным участием лишь в той или иной сфере культуры — в частности духовной.
Одни ищут смысл в религии, другие — в науке, третьи — в искусстве, четвёртые — в нравственности, пятые — в политике, шестые — в языке (общении). Но каждая из этих сфер духовной культуры держится на её базовых категориях (идеалах) — эволюционных и инволюционных. К первым относятся — бог (религия), истина (наука), красота (искусство), добро (нравственность), справедливость (политика) и единение (язык). Ко вторым: дьявол (религия), ложь (наука), безобразное (искусство), зло (нравственность), несправедливость (политика) и разобщение (язык). Каждая базовая категория в свою очередь возглавляет особую систему субкатегорий. Например, добро объединяет систему добродетелей, а зло — систему пороков.
Эволюционные идеалы культуры ведут к человеку, а инволюционные — к животному. Инволюционисты подменяют культурное начало в человеке (человечность) его биологическим началом (животностью). Иначе говоря, в определении сущности человека они отдают предпочтение биологизму перед культурологизмом. «Здесь, — писал Е.Н. Трубецкой, — биологизм сознательно возводится в принцип, утверждается как то, что должно господствовать в мире. Это — неслыханное от начала мира порабощение духа — озверение, возведённое в принцип и в систему, отречение от всего того человечного, что доселе было и есть в человеческой культуре. Окончательное торжество этого начала может повести к поголовному истреблению целых народов, потому что другим народам понадобятся их земли» (-u.ru/biblio/archive/trubeckoy_umosrenie).
Остаться человеком особенно трудно в условиях войны. Это удалось главному герою рассказа М.А. Шолохова «Судьба человека» Андрею Соколову. Он прошёл через горнило целой серии смертельных ситуаций, но сумел их преодолеть.
Писать о смерти — не самое весёлое занятие. Правда, был такой человек, который описывал смешные смерти, — Франсуа Рабле. Так, он упоминает в своём романе об Анакреоне, подавившемся виноградным зёрнышком; о Крассе, который умер от смеха при виде осла; о художнике Зевксисе, умершем тоже от смеха, причиной которого стал портрет старухи, написанный им самим; Гаргантюа утопил в своей моче 260 418 человек, не считая женщин и детей, и т. п.
Чтобы найти раблезианство у Н.В. Гоголя, М.М. Бахтин писал о «весёлой гибели» в его произведениях. Какие же примеры приводил М.М. Бахтин? «В ней (народной культуре. — В.Д.) единственно понятны весёлая гибель, весёлые смерти у Гоголя — Бульба, потерявший люльку, весёлый героизм, преображение умирающего Акакия Акакиевича (предсмертный бред с ругательствами и бунтом, его загробные похождения» (Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975, с. 494). Маловато примеров. Но главное — не смешно.
Сомневаться в народности М.А. Шолохова не приходится, но весёлым отношением к смерти он, в отличие от Ф. Рабле, не грешил. В его произведениях отношение к смерти поистине народное. Он переживал за своих героев так, как это дано лишь самым человеколюбивым людям. В особенности если речь шла о насильственной смерти его любимых героев (Аксиньи в «Тихом Доне», Нагульного и Давыдова в «Поднятой целине» и др.).
Вот что мы можем прочитать в конце «Тихого Дона»: «Кровь текла также из полуоткрытого рта Аксиньи, клокотала и булькала в горле. И Григорий, мертвея от ужаса, понял, что всё кончено, что самое страшное, что только могло случиться в его жизни, — уже случилось… Аксинья умерла на руках у Григория незадолго до рассвета. Сознание к ней так и не вернулось. Он молча поцеловал её в холодные и солёные от крови губы, бережно опустил на траву… Потом, не поднимаясь с колен, вынул из ножен шашку, начал рыть могилу. Земля была влажная и податливая. Он очень спешил, но удушье давило ему горло, и, чтобы легче было дышать, он разорвал на себе рубашку… Уже в могиле он крестом сложил на груди её мертвенно побелевшие смуглые руки, головным платком прикрыл лицо, чтобы земля не засыпала её полуоткрытые, неподвижно устремленные в небо и уже начавшие тускнеть глаза. Он попрощался с нею, твёрдо веря в то, что расстаются они ненадолго… Теперь ему незачем было торопиться. Всё было кончено… Как выжженная палами степь, черна стала жизнь Григория. Он лишился всего, что было дорого его сердцу. Всё отняла у него, всё порушила безжалостная смерть. Остались только дети. Но сам он всё ещё судорожно цеплялся за землю, как будто и на самом деле изломанная жизнь его представляла какую-то ценность для него и для других…» (Шолохов М.А. Тихий Дон. Кн. 3 и 4. Н. Новгород, 1993, с. 680).
Вот что мы можем прочитать в конце «Поднятой целины»: «…Вот и отпели донские соловьи дорогим моему сердцу Давыдову и Нагульнову, отшептала им поспевающая пшеница, отзвенела по камням безымянная речка, текущая откуда-то с верховьев Гремячего буерака… Вот и всё!» (Шолохов М.А. Поднятая целина. М., 1989, с. 694). Вот и всё!
«Вот и всё!» приходило в голову Андрею Соколову во время плена не один раз. Но в начале рассказа это «Вот и всё!» пришло в голову его жене Ирине. Перед отправкой на войну. За это её предчувствие он её оттолкнул: «Пришли на вокзал, а я на неё от жалости глядеть не могу: губы от слёз распухли, волосы из-под платка выбились, и глаза мутные, несмысленные, как у тронутого умом человека. Командиры объявляют посадку, а она упала мне на грудь, руки на моей шее сцепила и вся дрожит, будто подрубленное дерево… Я и говорю ей: „Возьми же себя в руки, милая моя Иринка! Скажи мне хоть слово на прощанье“. Она и говорит, и за каждым словом всхлипывает: „Родненький мой… Андрюша… не увидимся мы с тобой… больше… на этом… свете“… Зло меня тут взяло! Силой я разнял её руки и легонько толкнул в плечи. Толкнул вроде легонько, а сила-то у меня была дурачья; она попятилась, шага три ступнула назад и опять ко мне идёт мелкими шажками, руки протягивает, а я кричу ей: „Да разве же так прощаются? Что ты меня раньше времени заживо хоронишь?!“ Ну, опять обнял её, вижу, что она не в себе… До самой смерти, до последнего моего часа, помирать буду, а не прощу себе, что тогда её оттолкнул!» ().
Одни мудрецы учат о смерти не думать, другие — думать. Среди первых — Эпикур. Его рассуждение о смерти было такое: когда я есть — её нет, когда меня нет — её (для меня!) тоже нет. Выходит, и думать о своей смерти нечего. Но Эпикур забыл про чужую смерть. Когда я есть — она рядышком.
Другие учат помнить и о чужой смерти, и о своей. Сократ даже так считал: мудрость начинается с мысли о смерти. Mementо тоri. Зачем? Чтобы больше ценить жизнь. Спокойно учил относиться к смерти мудрый римский император Марк Аврелий: «Ты взошёл на корабль, совершил плавание, достиг гавани: пора сходить».
Андрею Соколову было не до высоких материй. Не до жиру — быть бы живу. A la guerre comme a la guerre: «Два раза за это время (ещё до плена. — В.Д.) был ранен, но оба раза по лёгости: один раз — в мякоть руки, другой — в ногу; первый раз — пулей с самолёта, другой — осколком снаряда. Дырявил немец мою машину и сверху и с боков, но мне, браток, везло на первых порах» (там же).
Повезло лихому шофёру Андрею Соколову и во время бомбёжки: «Не слыхал я ни разрыва, ничего, только в голове будто что-то лопнуло, и больше ничего не помню. Как остался я живой тогда — не понимаю» (там же, курсив мой).
Но есть в рассказе М.А. Шолохова три особых приближения его главного героя к смерти.
Первое приближение. Увидел Соколов шесть автоматчиков, приближающихся к нему. «Вот, — думаю, — и смерть моя на подходе» (там же). Сам на себя дивился: «И вот как потешно человек устроен: никакой паники, ни сердечной робости в эту минуту у меня не было. Только гляжу на него и думаю: „Сейчас даст он по мне короткую очередь, а куда будет бить? В голову или поперёк груди?“ Как будто мне это не один чёрт, какое место он в моём теле прострочит» (там же). Пока голова на месте — кумекает.
Второе приближение. Первая попытка Соколова сбежать из лагеря оказалась неудачной. Самое обидное: четверо суток скрывался, но всё-таки выследили его сыскные собаки. «На двух мотоциклах подъехали немцы. Сначала сами били в полную волю, а потом натравили на меня собак, и с меня только кожа с мясом полетели клочьями. Голого, всего в крови и привезли в лагерь. Месяц отсидел в карцере за побег, но всё-таки живой… живой я остался!» (там же, курсив мой). Крепкий орешек! Другой бы на его месте давно ноги протянул, а этот — будто заговорённый.
Третье приближение. Один немец попался Андрею Соколову особый — лагерфюрер Мюллер. Хоть и был он, как и другие его собратья, извергом, но — с остатком человечности. Он подарил русскому солдату жизнь за его смелость. Смелость была в том, что он держался перед лагерфюрером достойно: не юлил перед ним, не молил о пощаде, отказался пить за победу немецкого оружия, а осторожно выпил предложенные ему три стакана водки «за свою погибель и избавление от мук» (там же).
Вот что ему сказал этот самый Мюллер: «Вот что, Соколов, ты — настоящий русский солдат. Ты храбрый солдат. Я — тоже солдат и уважаю достойных противников. Стрелять я тебя не буду. К тому же сегодня наши доблестные войска вышли к Волге и целиком овладели Сталинградом. Это для нас большая радость, а потому я великодушно дарю тебе жизнь» (там же). Вот какой красивый жест! Даже буханку хлеба подарил и кусок сала впридачу.
«Прижал я хлеб к себе изо всей силы, сало в левой руке держу и до того растерялся от такого неожиданного поворота, что и спасибо не сказал, сделал налево кругом, иду к выходу, а сам думаю: „Засветит он мне сейчас промеж лопаток, и не донесу ребятам этих харчей“ (c’est l’homme! — В.Д.). Нет, обошлось. И на этот раз смерть мимо меня прошла, только холодком от неё потянуло…» (там же, курсив мой).
Мюллер не успел расчеловечиться окончательно. Видно, нелёгкое это дело — совершить путь от человека к зверю до конца. Видно, процесс озверения требует времени. По этому пути приспешники Адольфа Гитлера шли несколько лет, а уж затем приложили максимум усилий, чтобы по пути расчеловечения повести за собой и народную массу. Поучителен пример Йозефа Геббельса.
Из приближённых фюрера Й. Геббельс был единственным человеком с университетским образованием. Он был филологом. В молодости он любил русскую литературу. Вот что он писал в своём дневнике о «Неточке Незвановой» Ф.М. Достоевского, когда ему было 27 лет: «Доставляет удовольствие. Русская психология так наглядна, поскольку она проста и очевидна. Русский не ищет проблем вне себя, поскольку он их носит в своей груди. Россия, когда ты проснёшься? Старый мир жаждет твоего освободительного деяния! Россия, ты надежда умирающего мира!» (15 июля 1924; Ржевская Е.М. Геббельс: портрет на фоне дневника. М., 2004, с. 22).
Молодой Й. Геббельс преклонялся перед Россией. Вот какие записи в его дневниках не вырубишь топором:
1. «Я верю в Россию. Кто знает, для чего нужно, чтобы эта святая страна прошла через большевизм» (9 июля 1924; там же, с. 21).
2. «Я вполне разделяю мысли о России и её отношение к нам. Свет с Востока… С Востока идёт идея новой государственности, индивидуальной связи и ответственной дисциплины перед государством… Национальная общность — единственная возможность социального равенства… В России разрешение европейского вопроса» (30 июля 1924; с. 25).
3. «Золотой петушок, русский балет. Прекрасные танцы и народные песни. Песни о Волге» (14 сентября 1925; с. 45).
4. «Нас превратят в наёмников капитализма в войне против России» (23 октября 1925; с. 46).
5. «Россия — альфа и омега целенаправленной внешней политики» (31 января 1926; с. 50).
Что же должно было произойти с этим поклонником русской культуры, чтобы он стал её злейшим врагом? Он свихнулся на социал-дарвинизме, которым его заразил Адольф Гитлер. Вот только три его записи, свидетельствующие о его движении от человека к животному — иными словами, об его анимализации (оживотвлении):
1. «Разве борьба за существование — между человеком и человеком, государствами, расами, частями света — не самый жестокий в мире процесс? Право сильного — мы должны вновь явно увидеть этот закон природы, и тогда разлетятся все фантазии о пацифизме и вечном мире… Разве мы не хотим вернуться к природе? Проповедуйте пацифизм перед тиграми и львами! Что же ты хочешь от меня, если я сильнее?» (15 июня 1924; с. 8).
2. «Человек был и остаётся животным. С низкими или высокими инстинктами! С любовью и ненавистью! Но животным он останется всегда» (16 августа 1925; с. 42).
3. «Жизнь — большой обезьяний театр. И человек участвует в нём как обезьяна. Пусть так! Почему мы не говорим правду? Человек! Каналья» (24 апреля 1926; с. 57)[3].
Опираясь на социал-дарвинизм в его нацистской форме, И. Геббельс выдавливал из себя всё человеческое. Е.М. Ржевская писала: «Нацистом он всё же не родился. Он манипулировал сам собой, отсекая всё, что лишне национал-социалисту. Лишней была склонность к чтению, к размышлению над прочитанным. Лишним было эстетическое чувство. Лишним было всё человеческое» (с. 206).
Человек без человечности в пределе есть животное. Но именно к животному нацисты сводили человека. Им это было на руку: если люди — животные, стало быть, в отношении к ним всё позволено! Гитлеровским пропагандистам (а Й. Геббельс был рейхсминистром народного просвещения и пропаганды Германии с 1933 по 1945 г.) понадобилось не так уж много времени, чтобы сделать из значительной части немцев полуживотных. Податлив человек! Как в одну сторону — к человечности, так и в другую — к озверению. Звероподобные люди и били Андрея Соколова.
«А били богом проклятые гады и паразиты так, как у нас сроду животину не бьют. И кулаками били, и ногами топтали, и резиновыми палками били, и всяческим железом, какое под руку попадётся, не говоря уже про винтовочные приклады и прочее дерево. Били за то, что ты — русский, за то, что на белый свет ещё смотришь, за то, что на них, сволочей, работаешь. Били и за то, что не так взглянешь, не так ступнёшь, не так повернёшься. Били запросто, для того чтобы когда-нибудь да убить до смерти, чтобы захлебнулся своей последней кровью и подох от побоев. Печей-то, наверное, на всех нас не хватало в Германии» (там же).
Главный герой «Судьбы человека» остался жив. Ему удалось вырваться из плена. Кончились его лагерные мучения. Но ему ещё предстояло пройти через ад переживаний, связанных со смертью его семьи.
Жена и две дочки — Настенька и Олюшка. На месте дома, где они жили в Воронеже, Андрей увидел «глубокую воронку, налитую ржавой водой, кругом бурьян по пояс… Глушь, тишина кладбищенская. Ох, и тяжело же было мне, браток!» (там же).
Сын Анатолий. Отняла проклятая война и сына — его последнюю надежду! Как жить? «Иной раз не спишь ночью, глядишь в темноту пустыми глазами и думаешь: „За что же ты, жизнь, меня так покалечила? За что так исказнила?“ Нету мне ответа ни в темноте, ни при ясном солнышке… Нету и не дождусь!» (там же). Слава богу, бездомный Ванюшка подвернулся — усыновил. С ним — легче.
«И хотелось бы думать, что этот русский человек, человек несгибаемой воли, выдюжит и около отцовского плеча вырастет тот, который, повзрослев, сможет всё вытерпеть, всё преодолеть на своём пути, если к этому позовёт его Родина» (там же).
Андрей Соколов — человек советской культуры. К чему же зовёт Родина потомков его приёмного сына — Ивана Андреевича?
Понятия «культура» и «человек» находятся в причинно-следственных отношениях: чем больше человек впитывает в себя культуры и созидает её, тем в большей он мере человек и — наоборот. Человек начинается с культуры. Вот почему афоризмы о человеке и культуре должны помещаться в одну рубрику.
Если человек твёрд, решителен, прост и несловоохотлив, то он уже близок к человечности.
Конфуций.Как великолепен человек, если это человек настоящий!
Менандр.Быть человеком — значит не только обладать знаниями, но и делать для будущих поколений то, что предшествовавшие делали для нас.
Г. Лихтенберг.Имей сердце, имей душу, и будешь человек во всякое время.
Д.И. Фонвизин. При мысли великой, что я человек, Всегда возвышаюсь душою. В.А. Жуковский.Хорошо быть учёным, поэтом, воином, законодателем и пр., но худо не быть при этом «человеком».
В.Г. Белинский.Разница человека с животными именно в том и состоит, что он только начинается там, где животные оканчиваются.
В.Г. Белинский.Нет ничего более человечного в человеке, чем… потребность связывать прошлое с настоящим.
Ф.И. Тютчев.Если я во что-то верю, так только в культуру. Культура основывается вовсе не на любопытстве, а на любви к совершенству.
М. Арнольд.Быть, а не казаться — девиз, который должен носить в своём сердце каждый гражданин, любящий свою родину. Служить правде — как в научном, так и в нравственном смысле этого слова. Быть человеком.
Н.И. Пирогов.Высочайшая возможная стадия нравственной культуры — когда мы понимаем, что способны контролировать свои мысли.
Ч. Дарвин.Будь человеком, прежде всего и больше всего. Не бойся слишком отяготить себя человечностью.
В. Гюго.Как в сущности, если вдуматься, всё прекрасно на этом свете, всё, кроме того, что мы мыслим и делаем, если забываем о высших целях бытия.
А.П. Чехов.Переделать всё. Устроить так, чтобы всё стало новым; чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, весёлой и прекрасной жизнью.
А.А. Блок.Всякая культурная работа есть сознательное творчество жизни.
В. Виндельбанд.Изучайте животных, и вы поймете, как это трудно — быть человеком.
М. Шелер.Высшее призвание человека состоит в том, чтобы не только объяснить, но и изменить мир, сделать его лучшим.
И.В. Мичурин.В каждом человеке скрыта мудрая сила строителя, и нужно ей дать волю развиться и расцвести.
А.М. Горький.Сердце, воображение и разум — вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой.
К.Г. Паустовский.Когда животное бьют, глаза его приобретают человеческое выражение. Сколько же должен был выстрадать человек; прежде чем стал человеком.
К. Чапек.Воля к смыслу — наиболее человеческий феномен, так как только животное не бывает озабочено смыслом своего существования.
В. Франкл.Есть прекрасные деревья, которые до самых морозов сохраняют листву и после морозов до снежных метелей стоят зелёные. Они чудесны. Так и люди есть, перенесли всё на свете, а сами становятся до самой смерти всё лучше.
М.М. Пришвин.С годами устаёшь от веры в человеческие достижения, и так мало-помалу все мы делаемся до известной степени пессимистами, но это разочарование нисколько не мешает жить, любить, делать умное, доброе, красивое и полезное дело, напротив, вот тут только и начинает человек мало-мальски походить на человека, когда он разочаруется в человечестве.
М.М. Пришвин.Быть человеком — это чувствовать свою ответственность. Чувствовать стыд перед нищетой, которая, казалось бы, и не зависит от тебя. Гордиться каждой победой, одержанной товарищами. Сознавать, что, кладя свой кирпич, и ты помогаешь строить мир.
А. де Сент-Экзюпери.Надо много пережить, чтобы стать человеком.
А. де Сент-Экзюпери.Есть люди, которые, попав на необитаемый остров, станут не Робинзонами, а обезьянами.
В. Шкловский.Все специфические человеческие достижения имеют своим источником избыток, излишек энергии, расходуемой на достижение чего-то большего, чем простое выживание.
Э. Фромм.Человек не являет собой совершенное законченное существо, он ещё не готов, полон противоречий. Он находится в активном поиске оптимальных путей своего развития.
Э. Фромм.Связующее звено между животными и подлинно человечными людьми, которое долго ишут и никак не могут найти, — это мы!
К. Лоренц.Нельзя быть человеком, не будучи созданием той или иной культуры.
М. Элиаде.Религия: дьявол ↔ Бог
Что такое религия? Вера в Бога. Атеист в глазах неистово верующих — слуга дьявола. Напротив, верующий — слуга Бога. Атеистическое сознание представляет себе эволюцию как движение «вера → безверие», а религиозное — как движение «дьявол → Бог». В последнем движении — религиозный смысл жизни.
Обратимся к нашим истокам — к русским пословицам. Могут ли они помочь людям найти смысл своей жизни в служении Богу?
Могут, но в ограниченной мере. Всё дело в том, что на Бога наш народ смотрит по преимуществу с прагматической точки зрения, которая предполагает божью помощь. В широкой народной массе (исключение составляют иноки) Бог выглядит как помощник.
Большинство русских людей верит в Бога не ради него самого, а в расчёте на его помощь. Служение ему в таком случае остаётся за пределами смысла жизни. Главный смысл их жизни состоит в выживании. Почему не брать в расчёт в осуществлении этого смысла и Бога? На этот случай в их распоряжении имеются пословицы, которые создали их предки. Такие, например: Кабы не Бог, кто бы нам помог?; Никто не может, так Бог поможет; Бог не как свой брат, скорее поможет; Ни отец до детей, как Бог до людей; Люди с лихостью, а Бог с милостью; Не по грехам нашим Господь милостив; Силен враг, да милостив Бог; С верой нигде не пропадёшь; Кто к Богу, к тому и Бог; Во времени подождать: у Бога есть что подать; Бог не даст — нигде не возьмёшь; Без Бога ни до порога; Коли Господь не построит дома, и человек не построит; Кто перекрестясь работает, тому божья помощь; Сей, рассевай, да на небо взирай.
Главный расчёт — на чудодейственное могущество Бога: Бог дунет — всё будет; Даст Бог с неба довольно хлеба; Даст Бог утро и день, даст и пищу; Даст Бог счастье — и слепому видение дарует; Даст Бог роток, даст и кусок; Даст Бог хлеб и воду: хлеб выкормит, вода вымоет и т. п.
Увы, далеко не всем и далеко не всегда Бог помогает. На этот случай у русского человека всегда под рукой ободряющая пословица: «На Бога надейся, а сам не плошай». Но у русских достаточно много пословиц, граничащих и с богоборчеством. Вот таких, например: За Богом пойдёшь, ничего не найдёшь; Бог Богом, а люди людьми; Паши не для Иисуса, а ради хлеба куса; Бог не велит хвостом шевелить, а только кончиком; Божбой прав не будешь; Святой Боже пахать не поможет; Деньга не только попа купит, но и Бога обманет; За деньги и Бога можно купить; У них денежка и на небеса путь открывает; Вольно Богу и рога приставить; Что Богу дали, то, считай, уже потеряли; Вот тебе, Боже, что нам негоже; Где страх, там и Бог; Бог и леса не сравнял, не только людей; Бог и перстов на руке, и листа на дереве не изровнял.
Сколько проклятий в адрес Всемогущего вырывается из уст страдальцев, которые не дождались от него помощи! Сколько несчастных, изверившихся в его способности не допустить очередную великую несправедливость! В отчаянии такие люди могут выдать и такое: «Взять бы Боженьку за ноженьку, да и об пол».
Ради выживания иной русский человек готов взять в помощники и чёрта (дьявола), а ещё надёжнее — и Бога, и чёрта: Богу угождай, да и чёрту не перечь; Богу молися и чёрта не гневи; Богу молись, с чёртом не дерись; Богу молись, а чёрту не груби и т. п.
С прагматической точки зрения наш народ смотрел и молитву. Но к молитве у него сложилось двойственное отношение — положительное и отрицательное.
С одной стороны: Молитва — кормля души, уму просвет; Молитва — полпути к спасению; Материнская молитва со дна моря вынимает; Не хлебом живи, а молитвою; Свет в храмине от свечи, а в душе от молитвы; Богу молиться — вперёд пригодится; Молись втайне — воздастся въяве.
А с другой стороны: Молитвой сыт не будешь; Молитвой квашню не замесишь; Молитвой не пашут, словами не жнут; Молился, молился, а гол, как родился.
Между этими крайностями мы обнаруживаем золотую середину: Богу молись, а в делах не плошись!; Богу молись, а добра-ума держись; Богу молись, а к берегу гребись!; Молитву твори, а муку в квашню клади; Молись, а злых дел берегись.
В последних пословицах мы находим по существу ту же позицию, что и в случае с компромиссной оценкой могущества Бога: «На Бога надейся, а сам не плошай». Она занимает положение смысловой доминанты в религиозном русском пословичном сознании. Если в этом сознании видеть, как это принято, лучшее выражение мировоззрения русского народа, то мы волей-неволей должны признать: русские пословицы — не самый надёжный путь к тому смыслу жизни, который ведёт к служению Богу.
Что есть Бог? В «Википедии» читаем: «Бог (произносится [бох] — название особой сущности в деистических и теистических учениях, которая может являться единственной в своём роде (монотеизм) или какой-либо одной конкретной из многих (политеизм). В религиях мира боги создают и устраивают мир, дают вещам, существам и лицам их бытие, меру, значение и закон».
В том же источнике читаем: «Русское слово „Бог“ (<*bogъ) имеет общеславянское происхождение и родственно иранскому baga и санскритскому bhagas — „податель благ“. С другой стороны, оно тесно связано с достаточно древней производной лексикой, обнаруживающей исходное значение „богатство“ — *bogatъ, *ubogъ, а через неё — с индоевропейской лексикой, обозначающей доля, делить, получать долю, наделять. Мнение о заимствовании славянского слова из иранских языков не является общепризнанным. В частности, Фасмер не считает гипотезу о заимствовании убедительной».
Бог, как правило, антропоморфен, т. е. похож на человека. Это свидетельствует только об одном: не Бог создал человека по своему образу и подобию, а человек создал Бога по своему образу и подобию.
У древних китайцев и индийцев антропоцентризм выразился в рассмотрении гигантского человека в качестве мирового первоначала. Таким чудо-человеком в древнекитайской мифологии стал Пань-гу. Вышел Пань-гу из космического яйца, родившегося чудесным образом из первобытного хаоса, и стал прародителем всего мироздания: из волос на его голове и усов возникли созвездия, из левого глаза — Солнце, из правого глаза — Луна, из вздоха — облака и ветер, из голоса — гром, из блеска глаз — молнии, из пота — дождь и роса, из плоти — почва, из зубов и костей — металлы и камни, из крови — реки, из жил — дороги, из кожи и волос на теле — деревья, травы и цветы, а животные и люди, между прочим, произошли из паразитов, которые ползали по его телу. По всему миру их разбросал ветер (Юань Кэ. Мифы Древнего Китая. М., 1965, с. 13).
Нечто подобное мы видим и в древнеиндийской мифологии. В качестве гигантского первочеловека здесь выступает Пуруша. Из его разума появился месяц, из глаза — солнце, изо рта — огонь, из дыхания — ветер, из пупа — воздух, из головы — небо, из ног — земля. Но не только физиогенез обязан своим происхождением Пуруше. Ему обязан также биогенез и в какой-то мере культурогенез (в частности, стихотворные размеры и деление людей на касты. В «Гимне Пуруше» читаем: «Пуруша — это всё, что стало и станет… Стихотворные размеры возникли от него… От него возникли лошади и другие животные с верхними и нижними зубами. Коровы возникли от него, от него возникли козы и овцы… Брахманом стали его уста, руки — кшатрием, его бёдра стали вайшьей, из ног возник шудра» (Антология мировой философии: в 4 т. Т. 1. Ч. 1. М., 1969, с. 72–73).
В греческой мифологии мы обнаруживаем антропоморфное обожествление продуктов природы и культуры. В книге Вилла Дюранта «Жизнь Греции» читаем: «Высвобожденное местной независимостью, религиозное воображение Греции произвело на свет богатейшую мифологию и густонаселённый пантеон. Каждый земной и небесный объект или сила, каждое благо и каждый страх, каждое качество — даже пороки — человечества в результате олицетворения становились божеством, обычно в человеческом образе; ни одна другая религия не была столь антропоморфна, как греческая. Каждое ремесло, профессия, искусство имели своего бога, или, как следовало бы говорить, своего святого заступника; в дополнение к ним существовали демоны, гарпии, фурии, феи, горгоны, сирены, нимфы, не уступающие числом простым смертным» (Дюрант В. Жизнь Греции. М., 1997, с. 184).
Отождествление продуктов Вселенной с богами, похожими на людей, позволило творцам греческой мифологии представить унигенез как теогенез. Это значит, что рождение богов совпадает в ней с появлением тех или иных явлений природы.
Прародителем Вселенной стал великий, бесформенный и беспредельный Хаос. Поскольку он был один, ему ничего не оставалось, как породить Землю (богиню Гею) из самого себя. Из Хаоса произошли также любовь (Эрос), вечный мрак (Эреб) и ночь (Нюкта). В свою очередь Гея породила Тартар (будущее владение бога смерти Аида) и небо (Урана).
Физиогенез и теогенез (происхождение богов) в дальнейшем были обязаны своим продолжением различным бракам между титанами — братьями и сестрами. Так, от Гиппериона и Тейи родились солнце (Гелиос), луна (Силена), заря (Эос, или Аврора), от Астрея и Эос — звёзды и ветры (Борей — северный, Нот — южный, Зефир — западный и Эвр — восточный), от Океана и Федиты — реки и морские богини Океаниды.
Генетический аспект мифологической картины мира у греков главным образом был направлен на физиогенез. Менее всего у них оказался представлен биогенез. На него намекают лишь те персонажи греческой мифологии, которых можно назвать полулюдьми-полуживотными. Это кентавры (полулюди-полулошади), сатиры (полулюди-полукозлы) и т. п. Очевидно, в этих персонажах можно усмотреть отголоски тех древних религиозных представлений, которые называют тотемистическими.
В древнегреческой мифологии биогенез представлен слабо, как и психогенез. Мы находим в ней лишь некоторые намеки на них. Так, с мифологическим биогенезом в ней связаны в какой-то мере богини Гея, Деметра и Артемида. От них во многом зависело плодородие земли, без которого не могут развиваться ни растения, ни животные, ни люди. В свою очередь с психогенезом связаны такие боги, как Мнемосина (богиня памяти), Гипнос (бог сна), Метис (богиня разума) и др. С ними связаны боги чувств — Деймос (бог ужаса), Фобос (бог страха) и т. п. В большей мере, чем биогенез и психогенез, у древних греков в их мифологии выписан культурогенез, хотя и он не отличается особой отчётливостью.
Происхождение культуры (а следовательно, и самих людей) у греков в их мифологии во многом выглядит как дар божий: один бог научил людей тому-то, другой — тому-то и т. д. Но в силу полифункциональности многих богов в конечном счёте трудно воссоздать картину культурогенеза в греческой мифологии с достаточной отчётливостью. Самым ясным культурогеническим героем этой мифологии стал Прометей. Он создал людей из воды и земли. Более того, он сделал то, что и делает человека человеком: он дал ему культуру. Он стал богом культурогенеза. Свет от священного огня, который Прометей принёс людям, — это свет их культурной эволюции.
Антропоцентрична и библейская картина мира. Библейский творец мира — Яхве (Иегова) — похож на человека, которого он и создал по своему образу и подобию. Но здесь мы обнаруживаем и своеобразие библейского унигенеза. По Библии, «в начале было слово» — слово Творца, за которым следовала реалия, которую оно обозначает. За словами, обозначающими на иврите «свет», «небо», «море», «сушу» и др., которые Яхве произносил в течение шести дней своего творения мира, появились свет, небо (твердь), море, суша и т. д. О том, что слово в библейском унигенезе предшествует реалии, свидетельствуют не только известные слова, с которых начинается Евангелие от Иоанна («В начале было слово…»), но и «Шестоднев». Но полной ясности здесь нет. С одной стороны, за словами Яхве появляются реалии, которые их обозначают, а с другой стороны, мы видим и противоположную последовательность: реалия — слово. Вот как это выглядит, например, со словами, обозначающими землю и море: «И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так… И назвал Бог сушу землёю, а собрание вод назвал морями…» (Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. М., 1991, с. 5). Сначала — создал, а потом — назвал. Как бы то ни было, но библейский мир был создан не из мифического сверхчеловека, а стал творением Яхве. Между тем и библейский унигенез антропоцентричен, поскольку человекоподобен его творец.
Между библейским унигенезом и научным — дистанция огромного размера. Её сознают как богословы, так и учёные. К союзу же религии с наукой призывают, как правило, люди, далёкие как от богословия, так и от науки. Но при этом между библейским унигенезом и научным нельзя не увидеть и сходства: библейский унигенез в целом соответствует реальному ходу эволюции — от физиогенеза к культурогенезу. Человек в нём — заключительное творение Бога, но он и в научном унигенезе — венец природы.
Христианский Бог — сын иудейского Бога. «Христос» по-гречески значит «помазанник, мессия, спаситель». Его жизнеописание и учение изложены в Новом Завете (второй части Библии) в четырёх святых благовествованиях — от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна. Первое имя Христа — Иисус. Он родился в Галилее (Назарете) от Девы Марии, зачавшей его от Святого Духа. Став взрослым, он провозгласил себя сыном Божиим, за что и был распят на Голгофе по приказу римского прокуратора Понтия Пилата. Но на третий день после смерти Иисус воскрес и вознёсся на небо. Христиане верят, что придёт время, когда состоится второе пришествие Христа на Землю и когда совершится страшный суд над грешниками.
Сознательный поиск смысла жизни нередко мучителен. Не составляет исключения и поиск религиозного смысла жизни. Яркий пример — Лев Николаевич Толстой (1828–1910). В своей «Исповеди» он описал свои трёхлетние мытарства, связанные с поиском смысла жизни в религиозной вере.
«Исповедь» была написана Л.Н. Толстым в 1880 г., когда её автору было 49 лет. Уже позади были «Война и мир» и «Анна Каренина», но работа над романом о декабристах, который он так и не написал, не заладилась. Причина была одна: перед ним во весь свой рост стала проблема смысла жизни. В мучительных поисках ответа на неё он прошёл четыре этапа.
1. Критика бессмысленности жизни. Его главными оппонентами здесь стали Экклезиаст и А. Шопенгауэр. Автору «Исповеди» удалось преодолеть соблазн признать их правоту.
2. Изучение научных источников, позволяющих найти смысл жизни с помощью разума. Вывод оказался печальным: «Разумное знание в лице учёных и мудрых отрицает смысл жизни, а огромные массы людей, всё человечество — признают этот смысл в неразумном знании» (Толстой Л.Н. Избранное. Ростов н/Д., 1998, с. 40). Вот почему он обратился к поиску смысла жизни с помощью веры в Бога. Но этот путь к смыслу жизни не предвещал скорого успеха. Чуть ниже он пишет: «И это неразумное знание есть вера, та самая, которую я не мог не откинуть. Это бог 1 и 3, это творение в 6 дней, дьяволы и ангелы и всё то, чего я не могу принять, пока я не сошёл с ума» (там же).
3. Изучение верующих людей своего круга. Результат и здесь оказался безрадостным. Л.Н. Толстой понял, что вера людей его круга показная, но главное, что люди его круга и не могут иметь подлинного смысла жизни, поскольку они паразиты на теле трудового народа.
«И я понял, что вера этих людей — не та вера, которой я искал, что их вера не есть вера, а только одно из эпикурейских утешений в жизни. Я понял, что эта вера годится, может быть, хоть не для утешения, а для некоторого рассеяния раскаивающемуся Соломону на смертном одре, но она не может годиться для огромного большинства человечества, которое призвано не потешаться, пользуясь трудами других, а творить жизнь. Для того чтобы всё человечество могло жить, для того чтоб оно продолжало жизнь, придавая ей смысл, у них, у этих миллиардов, должно быть другое, настоящее знание веры. Ведь не то, что мы с Соломоном и Шопенгауэром не убили себя, не это убедило меня в существовании веры, а то, что жили эти миллиарды и живут и нас с Соломонами вынесли на своих волнах жизни», — писал Л.Н. Толстой (там же, с. 47). А дальше уточнял: «Я понял, что, если я хочу понять жизнь и смысл её, мне надо жить не жизнью паразита, а настоящей жизнью и, приняв тот смысл, который придает ей настоящее человечество, слившись с этой жизнью, проверить его» (с. 52).
4. Обнаружение религиозного смысла жизни у простолюдинов. Л.Н. Толстой писал: «Слушал я разговор безграмотного мужика-странника о боге, о вере, о жизни, о спасении, и знание веры открылось мне. Сближался я с народом, слушая его суждения о жизни, о вере, и я всё больше и больше понимал истину» (с. 62). Какую истину? О смысле жизни.
Смысл жизни, обнаруженный Л.Н. Толстым в православной вере простых людей, заключался в следующем — во-первых, в «добывании жизни» (т. е. выживании), а во-вторых, в нравственном совершенствовании.
Первая, материальная, сторона смысла жизни была сформулирована Л.Н. Толстым следующим образом: «И в самом деле, птица существует так, что она должна летать, собирать пищу, строить гнёзда, и когда я вижу, что птица делает это, я радуюсь её радостью. Коза, заяц, волк существуют так, что они должны кормиться, множиться, кормить свои семьи, и когда они делают это, у меня есть твёрдое сознание, что они счастливы и жизнь их разумна. Что же должен делать человек? Он должен точно так же добывать жизнь, как и животные, но с тою только разницей, что он погибнет, добывая её один, — ему надо добывать её не для себя, а для всех. И когда он делает это, у меня есть твердое сознание, что он счастлив и жизнь его разумна» (Толстой Л.Н. Избранное, с. 51–52).
Вторую, духовную, сторону смысла жизни простых людей Л.Н. Толстой описал так: «В противуположность тому, что люди нашего круга противились и негодовали на судьбу за лишения и страдания, эти люди принимали болезни и горести без всякого недоумения, противления, а с спокойною и твердою уверенностью в том, что всё это должно быть и не может быть иначе, что всё это — добро. В противуположность тому, что чем мы умнее, тем менее понимаем смысл жизни и видим какую-то злую насмешку в том, что мы страдаем и умираем, эти люди живут, страдают и приближаются к смерти с спокойствием, чаще же всего с радостью. В противуположность тому, что спокойная смерть, смерть без ужаса и отчаяния, есть самое редкое исключение в нашем круге, смерть неспокойная, непокорная и нерадостная есть самое редкое исключение среди народа» (там же, с. 48).
Оставим в стороне сомнительность второго заключения автора этих слов и обратимся к главному: духовная сторона смысла жизни у простых людей возвратила Л.Н. Толстого к тому смыслу жизни, который был главным в его жизни — к нравственному совершенствованию. Его краткое содержание: быть лучше. Она напомнила ему о его детских и юношеских годах, когда он видел смысл своей жизни в нравственном совершенствовании. Теперь, под влиянием религиозной веры, она воскресла с новой силой.
Л.Н. Толстой писал в «Исповеди»: «И я спасся от самоубийства… Я вернулся во всем к самому прежнему, детскому и юношескому. Я вернулся к вере в ту волю, которая произвела меня и чего-то хочет от меня; я вернулся к тому, что главная и единственная цель моей жизни есть то, чтобы быть лучше, т. е. жить согласнее с этой волей; я вернулся к тому, что выражение этой воли я могу найти в том, что в скрывающейся от меня дали выработало для руководства своего всё человечество, т. е. я вернулся к вере в бога, в нравственное совершенствование и в предание, передававшее смысл жизни. Только та и была разница, что тогда всё это было принято бессознательно, теперь же я знал, что без этого я не могу жить» (с. 55).
Вот как всё оказалось просто! Три года мытарств, а результат? Возврат к юношеской мечте о нравственном совершенствовании. Между тем, три года мытарств, описанных в «Исповеди», перевернули жизнь её автора на 180 градусов: он всё больше и больше становится проповедником. В 1881 г. он посещает монашескую обитель — Оптину пустынь. В 1883 г. он пишет трактат «В чём моя вера?». Но главное, он меняется и как художник: его «Отец Сергий» (1890), «И свет во тьме светит» (1895), «Воскресение» (1899) и мн. др. художественные произведения окрашены переосмыслением былого, легкомысленного, как ему казалось, отношения к жизни — того отношения, с которым он писал свои произведения до того времени, когда его охватил глубочайший духовный кризис, описанный им в «Исповеди».
На этом можно было поставить точку после анализа «Исповеди». Но основная идея этой книги заставляет меня обратить особое внимание всего на один фрагмент из неё, в котором он по существу приближается к пониманию культурогенического смысла жизни. Вот этот фрагмент: «В самом деле, с тех давних, давних пор, как есть жизнь, о которой я что-нибудь да знаю, жили люди, зная то рассуждение о тщете жизни, которое мне показало её бессмыслицу, и всё-таки жили, придавая ей какой-то смысл. С тех пор как началась какая-нибудь жизнь людей, у них уже был этот смысл жизни, и они вели эту жизнь, дошедшую до меня. Всё, что есть во мне и около меня, всё это — плод их знания жизни. Те самые орудия мысли, которыми я обсуждаю эту жизнь и осуждаю её, всё это не мной, а ими сделано. Сам я родился, воспитался, вырос благодаря им. Они выкопали железо, научили рубить лес, приручили коров, лошадей, научили сеять, научили жить вместе, урядили нашу жизнь; они научили меня думать, говорить» (с. 38).
Л.Н. Толстой всю жизнь, оставшуюся после «Исповеди», размышлял о Боге. Но его представление о нём и у богословов было чересчур различным. Л.Н. Толстой принимал нравственную сторону религии, но не принимал в ней главного — того, без чего нет никакой религии, — веры в чудо. Религия же, из которой изъято чудо, по существу перестаёт быть религией. А между тем Л.Н. Толстой именно его-то и не признавал. Он писал: «Закон Божий открывается не одним каким-нибудь людям, а равно всякому человеку, если он хочет узнать его. Чудес же никогда не было и не бывает, и все рассказы о чудесах пустые выдумки» (Толстой Л.Н. Путь жизни. М., 1993, с. 13).
Чтобы уж совсем стало понятно, почему церковь отлучила Л.Н. Толстого от православия, страшась его еретического влияния на людей, приведём из этой же книги ещё несколько богохульных высказываний писателя:
«Неправда и то, что есть такие книги, в которых всякое слово истинно и внушено Богом (мы догадываемся, о каких книгах идёт речь — о священных писаниях. — В.Д.). Все книги — дело рук человеческих, и во всех может быть и полезное, и вредное, и истинное, и ложное» (с. 13).
«Для истинной веры не нужно ни храмов, ни украшений, ни пения, ни многолюдных собраний…» (с. 15).
«Если человек хочет угодить Богу молитвами, обрядами, то это значит, что он хочет обмануть Бога…» (там же).
«Рассказы о чудесах не могут подтверждать истину. Если бы, не то что рассказы, но на моих глазах человек воскрес из гроба и улетел на небо и оттуда уверял бы меня, что 2+2=5, я всё-таки не поверил бы ему» (с. 18).
Религия, в таком духе понимаемая, скорее смахивает на атеизм, чем на настоящую религию. Но Л.Н. Толстой всё-таки верил в Бога, но какого? Во-первых, он верил в Христа, но не того Христа, который творил чудеса, а того, который был нравственным учителем. Во-вторых, он верил, подобно Сократу, в Бога в душе, воплощающего нравственную чистоту, совесть и т. п. — всё лучшее в человеке, что сдерживает его от зла, делает его духовным существом. «Есть ли Бог? — спрашивал себя Л.Н. Толстой в дневнике 30 июля 1906 г. и отвечал. — Не знаю. Знаю, что есть закон моего духовного существа. Источник, причину этого закона я называю Богом» (Толстой. Указ. собр. соч.: в 20 т. Т. 20, с. 242).
Л.Н. Толстой отождествлял Бога с лучшей частью души — духовной её частью. Слово «Душа» в этом случае становится синонимом Бога — в том смысле, в котором говорят: «Подумай о душе». В этом привычном призыве мы слышим: «Подумай о Боге». Подумать о душе или о Боге в данном случае означает одно и то же: подумать о духовных ценностях, чтобы легче было справиться с телесными соблазнами. Синонимом к словам «Бог» и «Душа» в данном контексте становится и слово «совесть». Л.Н. Толстой писал: «Зрячую, духовную часть человека называют совестью… Она молчит, пока человек делает то, что должно. Но стоит человеку сойти с настоящего пути, и совесть показывает человеку, куда и насколько он сбился» (Толстой Л.Н. Путь жизни, с. 25).
Настоящего богослова из Л.Н. Толстого не получилось. В конечном счете, Бог в его истолковании отождествляется с тем, что человеку постичь невозможно. Характерно для Л.Н. Толстого такое его высказывание: «Если я живу мирской жизнью, я могу обходиться без Бога. Но стоит мне подумать о том, откуда я взялся, когда родился и куда денусь, когда умру, и я не могу не признать, что есть то, от чего я пришёл, к чему я иду. Не могу не признать, что я пришёл в этот мир от чего-то мне непонятного и что иду я к такому же чему-то непонятному мне. Вот это-то непонятное, от чего я пришёл и к чему иду, — я называю Богом» (с. 45).
Эти слова Л.Н. Толстой писал в конце своей жизни. Вот почему мы можем сделать вывод о том, что попытки Л.Н. Толстого выступить в роли богослова в конечном счёте не увенчались успехом. В самом деле, что это за Бог — что-то непонятное, отчего человек пришёл и к чему придёт? Выходит как будто, что речь идёт о природе, ибо мы из неё вышли и в неё уйдем. Но тогда выходит, что Л.Н. Толстой — пантеист, если Бог — принадлежность природы? Но пантеистические мотивы в богословских исканиях Л.Н. Толстого должны для нас стоять на втором месте, ибо на первом месте у него тот Бог, который живёт в душе как её лучшая часть, не позволяющая человеку совершать дурных поступков. Л.Н. Толстой писал: «Человеку нужно любить, а любить по-настоящему можно только то, в чём нет дурного. И потому должно быть и то, в чём нет ничего дурного. А такое существо, в котором нет ничего дурного, и есть только одно: Бог» (с. 45). Бог в этом случае есть не что иное, как нравственный идеал.
Бог у Л.Н. Толстого — не самоценность. Нравственность — вот главное, чем он жил. Его же попытки выступать в роли богослова, в роли основателя «истинной веры» были направлены вовсе не на укрепление позиций теологии. Они были направлены на укрепление веры в людях в необходимость нравственного совершенствования. Чтобы не из одного разума вытекала эта необходимость, но и из веры. Вот тогда эта вера будет «истинной».
Очень необычный путь к религиозному смыслу жизни совершил Пьер Тейяр де Шарден (1881–1955). Ещё в детстве его постигло «разочарование в органическом» (Семёнова С.Г. Паломник в будущее. Пьер Тейяр де Шарден. СПб., 2009, с. 17). Разочарование состояло в осознании хрупкости и скоротечности жизни у любого существа. Вот почему «органическое», как думал юный Пьер, не может претендовать на положение твёрдой опоры — абсолюта. Вот почему он увидел этот абсолют в… камне. Камень — не хрупок и его существование не скоротечно.
В упомянутой книге С.Г. Семёновой читаем: «Пьер, кто не раз в классе на вопрос, о чём это он мечтает, отвечал: „О камнях“, — естественно, тянулся к преподавателю физики, о. Декрибу. С ним в сопровождении нескольких товарищей он предавался своему любимому занятию: небольшим экспедициям по окрестным горам для наблюдения и изучения природы» (с. 24).
Пьер родился в большой иезуитской семье (у него было 10 братьев и сестёр). С младенчества он впитал в себя естественность христианской веры. Вне этой веры он свою жизнь и не мог мыслить. Она вошла в него с молоком матери. Нет ничего удивительного в том, что, пройдя через несколько ступеней иезуитского образования, он принял в 30 лет священнический сан. Тем самым он принял для себя религиозный смысл жизни. Но пришёл он к нему далеко не сразу. Приблизительно до 30 лет он не знал, в чём именно должен состоять религиозный смысл его жизни. Он не знал, чего именно от него хочет Бог. Вступив в 20 лет в орден иезуитов «Общество Иисуса», созданный ещё в 1540 г. Игнатием Лойолой, он писал родителям: «Если бы вы знали, как я счастлив быть навсегда и целиком связанным с Орденом, особенно сейчас, когда его преследуют. Я сегодня молился за всех вас, и, конечно, Наш Господь не забудет всё, что вы сделали, чтобы облегчить реализацию моего призвания. Но помолитесь хорошенько за меня, чтобы я сумел быть на высоте того, что Бог хочет от меня» (с. 31).
Прозрение пришло к тридцати годам, когда П. Тейяр де Шарден пришёл к идее эволюции. Вот как это прозрение описывает С.Г. Семёнова: «Внутренний метафизический сюжет П. Тейяра де Шардена как бы перевернулся: раньше хоть какое-то приближение к Абсолюту он видел в „физически неразрушимом“, „бесконечно простом“, теперь же — в том, что было для него всегда столь горестно хрупким — в органическом, но уже эволюционно развивающемся к крайней сложности и духовности. В ходе восходящей эволюции самое легко портящееся получало залог настоящей неразрушимости и вечности, а значит, залог абсолюта. Это капитальное открытие у Пьера Тейяра произошло в 30 лет. Но впереди в течение ещё двадцати лет предстояло углублённое раскрытие и развитие этого нового видения: уточнение характера и цели направленной эволюции, её движущих сил и энергий, вникание в суть „феномена человеческого“, открытие ноосферы, „вселенского Христа“, „точки Омега…“» (с. 39).
Эволюция раскрыла П. Тейяру де Шардену смысл его жизни. Этот смысл жизни он увидел в том, чтобы быть посредником между Богом и эволюционирующим универсумом. В работе «Священник» (1918) он писал: «Господи, я хотел бы быть, со своей смиренной стороны, апостолом и (осмелюсь сказать) евангелистом Вашего Христа в Универсуме» (с. 41). Тут вот что необычно: речь идёт о посредничестве между Богом и всем миром (не только одними людьми). Но как это посредничество осуществить? Соединением религии и науки, их синтезом.
«Своими медитациями, — поясняет П. Тейяр де Шарден, — словом, практикой всей жизни я хотел бы открывать и проповедовать отношения непрерывности, которые делают из Космоса, в котором мы движемся, среду, обожествлённую Воплощением, обожествляющую причастием, призванную к обожествлению нашим деятельным сотрудником. Нести Христа, в силу чисто органических сочленений, в самое сердце наиболее опасных, наиболее природных, наиболее языческих реальностей, — вот моё евангелие и моя миссия… Вот почему я возложил на себя свои обеты, своё священство (и в них моя сила и моё счастье) в духе принятия и обожествления сил и возможностей Земли» (там же).
Что же выходит? Обожествить весь мир, но в особенности — его природные реальности, которые меньше всего поддаются проникновению в них христианского смысла. Вселенская миссия! Только великий мыслитель мог отважиться на такое понимание религиозного смысла своей жизни.
В другом месте П. Тейяр де Шарден формулирует свою миссию предельно лаконично: «Христианизировать эволюцию» (с. 52). Что это значит? Представить Христа как «универсальный Центр, общий прогрессу Космоса и его постепенному освящению (соразвитие Христа в мире» (Семенова С.Г. Указ. соч., с. 52). Эта миссия была принята руководителями ордена в штыки. В 1925 г. ему запретили читать лекции в парижском Католическом институте, а через год он был изгнан из Франции.
Целых двадцать лет П. Тейяр де Шарден был вынужден жить в Китае, а закончить свою жизнь в Америке. С молодости он жил изгнанником и умер изгнанником. Несмотря на то, что он много путешествовал и несколько раз навещал родину, до конца своих дней он жил с горьким чувством изгнанника. У с. Г. Семёновой читаем: «Все двадцать лет огромной, преимущественно китайской, главы его жизни, среди путешествий, работы, открытий, общений, внутреннего религиозного сосредоточения, о. Тейяр не перестаёт переживать своё положение изгнанника» (там же, с. 149).
П. Тейяр де Шарден так и не увидел изданной главную книгу своей жизни — «Феномен человека» (точнее, «Человеческий феномен» — «Le phenomene humain»). Она появилась через пять месяцев после его смерти. Между тем закончена она была ещё 15 лет назад. Он писал её два года — с июля 1938 г. до июля 1940-го. В предисловии к этой книге уже покойного великого эволюциониста, как дошкольника, безвестный иезуит поучал проводить разницу между животным и человеком: «…автор недостаточно принимает во внимание различие между человеком и животным» (Тейяр де Шарден П. Феномен человека. М., 1987, с. 9).
Иезуитская власть мучила П. Тейяра де Шардена больше тридцати лет. О том, как тяжко ему жилось, свидетельствуют, в частности, воспоминания его друга Пьера Леруа. Он писал: «Он терпеливо переносил испытание, которое могло бы ожесточить самое твёрдое сердце. Сколько раз в доверительных беседах с ним обнаруживалось, как он был удручён, почти обескуражен. Уже в 1939 г. (в самый разгар работы над „Феноменом человека“. — В.Д.) он страдал приступами тоски, которые усилились через несколько лет, случалось, что он терял последнюю надежду: и тогда его сражали настоящие приступы слёз, и он походил на отчаявшуюся жертву» (указ, соч. С.Г. Семёновой, с. 160).
Между тем римско-католические власти были правы в том, что в концепции универсального эволюционизма П. Тейяра де Шардена видели ересь. Как эволюционист, её автор увидел эволюционное завершение Христа в таинственной точке Омега. Но он был не только эволюционистом, но и пантеистом. Его пантеизм имел особую форму — панхристианизма. Его Иисус-Омега очень далёк от новозаветного. Как пантеист, он растворил Христа в универсуме, тем самым превратив его в «универсального Бога», в «Бога Эволюции». В его представлении Бог приобрёл весьма абстрактный вид. В одной из проповедей он обрисовывал его так: «Для каждого из нас у Бога разное лицо, разная точность его восприятия. Но поскольку все мы люди, мы не можем отделаться от чувства и от идеи, что над нами и впереди нас существует высшая энергия, в которой мы должны признать — поскольку она выше нас — увеличенный эквивалент нашего разума и нашей воли» (там же, с. 119). Что же касается «Феномена человека», то в нём Иисус Христос даже теряет имя. Он становится мистической точкой Омега.
П. Тейяр де Шарден не мог порвать с церковью. Но он ясно сознавал, что никогда она не сможет принять его доктрины. Расхождения между римско-католической властью и им были мировоззренческими. В письме к другу он писал в 1933 г.: «Но, оставив в стороне этот капитальный пункт (о вере в Христа. — В.П.), мы различаемся, Рим и я, двумя представлениями Мира, которые не то что взаимоисключающи, но противоположны. Это по сути беспощадная борьба между статичным пессимизмом и прогрессивным оптимизмом» (с. 155).
В лице П. Тейяра де Шардена блюстители ортодоксального христианства видели своего врага. На путь критики традиционного христианства он вступил ещё в 1916 г., когда написал свою первую теоретическую работу — «Космическая жизнь». Она оказалась программной. В её первой главе он утверждал: «Христианство… не даёт конкретного решения ни одной человеческой проблеме: оно подвешено в воздухе, пока ему не дадут основу в эволюционном становлении» (с. 244). Эту основу французский мыслитель будет подводить под христианство всю жизнь.
Главное, чего не могут принять у П. Тейяра де Шардена ортодоксальные теологи, состоит в том, что научная сторона в его концепции явно преобладает над религиозной. Уже в «Космической жизни» на место креационизма он поставит научный эволюционизм. Уже в этой работе речь идёт о физиогенезе, биогенезе, психогенезе и культурогенезе. В «Феномене человека» они получат детальное освещение (подр. анализ концепции П. Тейяра де Шардена см. в конце нашей книги «Эволюция в духовной культуре: Свет Прометея» (М., 2012)). Но уже и в «Космической жизни» они приобретают первоначальные очертания. Так, по поводу двух первых ступеней эволюции он писал: «Жизнь обязана материи и нуждается в ней. Жизнь появилась и развивается в зависимости от всей Вселенной… Она вовлечена некоторым тайным образом в общее движение на материальной основе, которым является целостное становление Космоса… Через общую материю все живущие — уже одно. Итак, через их жизнь, прежде всего, они сплавлены между собой» (Тейяр де Шарден. Указ. соч., с. 244).
Концепция П. Тейяра де Шардена открыта для её дальнейшей научной разработки. Уместно в связи с этим привести слова самого её автора, которыми он отреагировал в 1941 г. на книгу знаменитого английского биолога-эволюциониста и атеиста Джулиана Хаксли «Уникальность человека». Он писал: эта книга рассматривает человека «в манере столь параллельной моей (правда, не интегрируя Бога в конце серии), что я чувствую утешение и поддержку» (там же, с. 151).
Гонения римских властей на автора «Феномена человека» вполне естественны. Иначе и не могло быть. Он пытался осуществить невозможное — соединить веру и разум, религию и науку. До конца дней он верил, по его собственному выражению, в «естественное согласие между наукой и религиозной догмой» (с. 119). Он был самым великим среди тех, кто пытался осуществить синтез религии и науки, но даже и ему это не удалось, поскольку это не может удаться никому.
Обращение к религиозному смыслу жизни естественно у священников. А как это выглядит у других людей. Уже много лет мы живём во времена поощрительного отношения власти к религии. Как к этому относиться? Как должен относиться к религии эволюционист? Эволюционистски, т. е. видеть в ней исторически объяснимый продукт духовной культуры, сыгравший огромную роль в культурогенезе. На протяжении многих веков она была главным путеводителем формирующегося человечества в мире.
В той мере, в какой религия оказывает помощь нравственности и в наше время, в той мере её следует принимать и сейчас. Но отсюда не следует, что мы должны радоваться распространяющейся клерикализации нашего общества. Радоваться здесь нечему. Всё дело в том, что она отвращает людей от научного мировоззрения и возвращает их в Средние века, где господствовал теоцентризм. Распространение религии в нашем обществе, таким образом, со временем может перерасти ту границу, которая отделяет показную религиозность от религиозного мракобесия, от которого наука освобождалась в течение долгих и мучительных столетий. Не буду здесь напоминать о судьбе Роджера Бэкона, Джордано Бруно, Галилео Галилея, Жульена де Ламетри, Вольтера и многих других выдающихся людей, пострадавших от церкви. Приведу только несколько атеистических афоризмов.
Древние, наблюдая небесные явления, как то: гром, молнии, перуны, сближения звёзд, затмения солнца и луны, приходили в ужас и полагали, что виновники этого — боги.
Демокрит.Либо бог хочет бороться со злом, но это ему не удаётся; либо он может это сделать, но не хочет; либо он и не хочет, и не может; либо, наконец, он и хочет, и может. Если он хочет и не может, — он бессилен; если он может и не хочет, — он проявляет коварство, которое не должно ему приписывать; если он и не хочет, и не может, — он одновременно и бессилен и коварен и, следовательно, он — не бог; если же он и хочет, и может, откуда берется зло и почему бог ему не препятствует?
Эпикур. Из ничего не творится ничто по божественной воле, И оттого только страх всех смертных объемлет, что много Видят явлений они на земле и на небе нередко, Коих причины никак усмотреть и понять не умеют, И полагают, что всё это божьим веленьем творится. Если же будем мы знать, что ничто не способно возникнуть Из ничего, то тогда мы гораздо яснее увидим Наших заданий предмет: и откуда являются вещи. И каким образом всё происходит без помощи свыше. Лукреций.Авторитетом церкви, её ртом, голосом и словами укрощена, побеждена и попрана надменная, гордая и дерзкая светская наука и ниспровергнуто всякое высокомерие, осмеливающееся поднять голову к небу, ибо бог избрал слабое, чтобы сокрушать силы мира, вознёс глупое к вершине уважения, так как то, что не могло быть оправдано знанием, запщищается святой глупостью и невежеством и этим осуждается мудрость мудрых и отвергается разумение разумных.
Д. Бруно.Страх перед невидимой силой, придуманной умом или воображаемой на основании выдумок, допущенных государством, называется религией.
Т. Гоббс.Поэт Лукреций, негодуя против Агамемнона, допустившего принесение в жертву собственной дочери, воскликнул: Tantum religio potuit suadere malorumi (Вот к злодеяниям каким побуждала религия смертных). Что же сказал бы он, если бы знал о резне во Франции или о пороховом заговоре в Англии? Он стал бы ещё большим эпикурейцем и атеистом, нежели был.
Ф. Бэкон.Религия необходима только для тех, кто не способен испытывать чувство гуманности. Она бесполезна в отношениях честных людей.
Ж. де Ламетри.Добродетель может иметь у атеиста самые глубокие корни, которые часто у набожного сердца держатся, если можно так выразиться, на одной ниточке.
Ж. де Ламетри.Человечество не будет счастливо до тех пор, пока не станет атеистичным.
Ж. де Ламетри.Попробуйте спросить у христианского философа: как произошёл мир? Он ответит вам, что вселенная создана богом. А что такое бог? Это никому неизвестно. А что значит создать? Этого тоже никто не знает. Что служит причиной эпидемий, недородов, войн, засух, наводнений, землетрясений? Божий гнев. Какие меры можно противопоставить этим бедствиям? Молитвы, жертвоприношения, религиозные процессии и церемонии… Почему же, однако, бог может гневаться? Потому, что люди злы, А почему люди злы? Потому, что природа их развращена и порочна. Почему же человеческая природа развратилась? Да потому… что первый мужчина, обольщенный первой женщиной, вкусил от яблока, к которому бог запретил прикасаться. Кто же побудил эту первую женщину совершить такую глупость? Дьявол, А кто же создал дьявола? Тот же бог. Зачем же бог создал дьявола, которому суждено было совратить род человеческий? Об этом ничего неизвестно.
П. Гольбах.Если разум — дар неба и если то же самое можно сказать о вере, значит, небо ниспослало нам два несовместимых и противоречащих друг другу дара.
Д. Дидро.Государь, если вы желаете иметь священников, вы не можете желать философов, а если желаете философов, не можете желать священников. Ведь философы по самой профессии своей — друзья разума и науки, а священники — враги разума и покровители невежества.
Д. Дидро.Учение, поведение попов — все доказывает их любовь к власти. Что защищают они? Невежество. Почему? Потому, что невежда доверчив; потому, что он мало пользуется своим разумом, думает так, как другие; потому, что его легко обмануть и одурачить грубейшими софизмами, Что преследуют попы? Науку. Почему? Потому, что учёный не принимает ничего на веру без исследования.
К. Гельвеций.У кого есть наука, тот не нуждается в религии.
И.В. Гёте. Мы добрых граждан позабавим И у позорного столпа Кишкой последнего попа Последнего царя удавим. А.С. Пушкин. …Но что такое ад и рай, Когда металл, в земле открытый, может Спасти от первого, купить другой? Не для толпы ль доверчивой, слепой, Сочинена такая сказка? — я уверен, Что проповедники об рае и об аде Не верят ни в награды рая, Ни в тяжкие мученья преисподней. М.Ю. Лермонтов. И вера, щит царей стальной, Узда для черни суеверной, Перед помазанной главой Смиряет разум дерзновенный. В.Ф. Раевский. Мужайся, сердце, до конца: И нет в творении Творца! И смысла нет в мольбе! Ф.И. Тютчев.Религия… это только крепкая узда для масс, самое страшное пугало для простаков, высокая ширма, которая мешает народу ясно видеть то, что происходит на земле, заставляя его возводить взор к небесам.
А.И. Герцен.Религия есть… выражение детства человечества.
Л. Фейербах.Религия — это вздох угнетённой твари, сердце бессердечного мира, подобно тому как она — дух бездушных порядков. Религия есть опиум народа.
К. Маркс.Старинное доказательство [существования бога] на основании наличия в Природе преднамеренного плана, доказательство, которое казалось мне столь убедительным в прежнее время, ныне, после того как был открыт закон естественного отбора, оказалось несостоятельным… По-видимому, в изменчивости живых существ и в действии естественного отбора не больше преднамеренного плана, чем в том направлении, по которому дует ветер. Всё в природе является результатом твердых законов.
Ч. Дарвин.Вряд ли я в состоянии понять, каким образом кто бы то ни было мог бы желать, чтобы христианское учение оказалось истинным; ибо если оно таково, то незамысловатый текст [Евангелия] показывает, по-видимому, что люди неверующие а в их число надо было бы включить моего отца, моего брата и почти всех моих лучших друзей — понесут вечное наказание. Отвратительное учение!
Ч. Дарвин.Каждая страница истории наук в Средние века свидетельствует, что под гнётом всемогущего папства самостоятельное мышление и эмпирическое научное исследование действительно были совершенно задушены на целых двенадцать прискорбных столетий.
Э. Геккель.Возрождающийся мистицизм предъявляет вновь свои права на монополию нравственности. Но времена изменились. Наука, так долго находившаяся под запретом, наука, преследуемая в течение всего средневековья, отвоевала свою независимость ценою тех услуг, которые она оказала людям: теперь она может пренебречь этим отрицанием ее прав мистиками, И молодое поколение отказалось идти далее по указке этих сомнительных руководителей: каковы бы ни были чары их речей, искренность их верований, она со своей стороны высказывает убеждения более высокие, более достоверные и более великодушные.
М. Бертло.Между религией и настоящей наукой нет ни родства, ни дружбы, ни вражды: они на разных планетах.
Ф. Ницше.Вселенский клерикализм повсюду вооружается в надежде вернуть себе утраченную власть, и, конечно, главным препятствием на его пути является наука.
К.А. Тимирязев.Естествоиспытатель не может не быть атеистом, естествознание и религия несовместимы.
И.П. Павлов.Основная задача всех церквей была одна и та же: внушать бедным холопам, что для них — нет счастья на земле, оно уготовано для них на небесах, и что каторжный труд на чужого дядю — дело богоугодное.
А.М. Горький.Слово «Бог» для меня не более чем оборот речи, продукт человеческой слабости, а Библия — не что иное, как собрание достойных, но, тем не менее, примитивных легенд, которые всё же остаются довольно детскими.
А. Эйнштейн.Библия безнадёжно доэволюционна. Её теория происхождения жизни — детская сказка; её астрономия признаёт землю центром вселенной; её представления о звёздном мире находятся в младенческом возрасте; её история эпична и легендарна; короче, люди, чьи познания в этих отраслях науки почерпнуты из Библии, являются столь нелепо осведомлёнными, что неспособны занимать общественные должности, исполнять родительский долг и выполнять долг гражданский… Библия должна… служить напоминанием о том, во что когда-то верили люди, и мерилом того, как далеко позади оставили они свои старые верования.
Б. Шоу.Все думающие люди — атеисты.
Э. Хемингуэй.Одним и тем же мозгом мыслить и верить?
С.Е. Лец.Христианство было выбрано киевской знатью, по-современному — олигархами, в качестве узды для подчинения народа, как идеология подавления и смирения вольных славян. Языческий пантеон богов для этой цели не подходил. Изначально христианство было на Руси антинародно.
Б.К. Кучкин.Сегодня вместо кодекса строителя коммунизма в головы «страждущих» вновь усиленно внедряется испытанная веками рабская психология в виде обласканной властью христианской религии, И что же? Разве теперь русскому народу стало лучше? Увы, нет!
А.П. Шабалин.«Синтез» науки и религии невозможен… Недопустимо рассматривать как «различные точки зрения» естественнонаучную картину мира и библейские мифы. Науке многое неизвестно, белые пятна всегда будут, мир информационно бесконечен, наука разомкнута на незнаемое. Но нельзя же в каждое белое пятно науки вставлять Бога.
С. Остапенко.У меня нет противоречий с религией. Разница лишь в подходе: религия считает, что Бог создал человека, а наука — что человек создал Бога.
С.П. Капица.Наука: ложь ↔ истина
Наука есть ясное познание истины, просвещение разума, непорочное увеселение жизни, похвала юности, старости подпора, строительница градов, полков, крепость успеха в несчастий, в счастии — украшение, везде верный и безотлучный спутник.
М.В. Ломоносов.Наука — это неустанная многовековая работа мысли свести вместе посредством системы все познаваемые явления нашего мира.
А. Эйнштейн.Что такое наука? В одном из словарей читаем: «…сфера познавательной деятельности людей, базирующая на допущении существования реального, не зависящего от субъекта познания мира, все процессы и явления которого подчинены закономерностям, доступным познанию с помощью чувств и мышления» (Современная философия: словарь и хрестоматия / отв. ред. В.П. Кохановский. Ростов н/Д, 1995, с. 47).
Результатом познавательной деятельности учёных является научная картина мира, т. е. представление о мире, фиксируемое в сознании учёных. Но научная картина мира не должна быть достоянием одних учёных. Её постижение — вот цель массового научного образования. Наш народ это давно понял и выразил в своих пословицах. Таких, например: Наука (ученье) — свет, а безнаучность (неученье) — тьма; За одного учёного двух неучёных дают; Науки разум изощряют; Без науки умней не станешь; Человек неучёный что топор неточёный; Наука не бука, она не стращает, мрак незнанья разгоняет; Ошибся не ошибся — вперёд наука.
Наш мудрый народ учит: Мир освещается солнцем, а человек — знанием; Знание — свет, указывающий путь в любом деле; В знании избытка не бывает; Наука любознательна, невежество любопытно; Наука хлеба не просит, а сама хлеб даёт; Наукой свет стоит, ученьем люди живут; Где высоко стоит наука, стоит высоко человек; Наука и труд дивные всходы дают; Учение и труд всё перетрут; Наука переменит природу; Наукой люди кормятся; Без науки как безрукий; Больше науки — умелее руки; Кто любит науку, тот и изобретает.
А тем, кто никак не может справиться с ненасытной жаждой обогащения, придётся вдалбливать всего-навсего две пословицы: Учение лучше богатства и Учение — вот лучшее богатство.
Но постижение науки даётся нелегко. Недаром говорится: Всякая наука — не без труда; Наука учит только умного; Наука — мука; Идти в науку — терпеть и муку; Наука не пиво — в рот не вольёшь; Всю науку не изучишь, а себя измучишь. Тем не менее, не стыдно не знать — стыдно не учиться; Молодому наука, что печать к воску; Сам не научишься — никто не научит; Худое без науки даётся.
Что есть истина? Адекватная модель познаваемого объекта. «Всеобъемлющая» истина — адекватная модель универсума. Иначе её называют философской (общенаучной, общей) картиной мира. Её создание — цель философии.
К построению философской картины мира идут двумя путями — непосредственным и опосредованным. В первом случае философ моделирует общую картину мира, непосредственно обращаясь к объективному миру — его физическим, биологическим, психологическим и культурологическим объектам, обращая внимание на такие их свойства, которые их объединяют. Такие свойства обобщаются в философские категории — качество и количество, время и пространство, часть и целое, сущность и явление и т. д.
Второй путь к моделированию общенаучной картины мира — обобщение данных, достигнутых частными науками — физикой, биологией, психологией и культурологией. В комплексе они создают научную картину мира.
Философская картина мира входит в научную как общее в отдельное. Если научная картина мира в идеале направлена на воссоздание полного представления о мире, то философская — на воссоздание лишь общего представления о нём. Следовательно, она абстрагируется от частностей, изучаемых той или иной частной наукой.
Науку о познании называют гносеологией, эпистемологией или когнитологией. Она прокладывает пути к истине. Её цель — исследование способов познания или гносеологических направлений. Они могут быть упорядочены с помощью такой схемы:
В основе этой системы лежит три противопоставления:
А: материализм — идеализм,
Б: метафизика — диалектика,
В: абсолютизм — релятивизм.
Материалистический способ познания исходит из положения о том, что объективная действительность существует независимо от субъекта познания, а следовательно, материалист в процессе познания постоянно держит в поле своего внимания и ту часть действительности, которая ему неизвестна. Идеалист же сводит объект познания к тому, что ему о нём известно. Он игнорирует ту часть действительности, которая находится за пределами его познания. Не случайно, что крайней формой идеализма является солипсизм, который исходит из утверждения о том, что весь мир есть лишь моё представление о нём.
Метафизический способ познания можно определить как способ, при котором субъект познания позволяет себе впадать в крайности — над ним начинает господствовать либо абсолютизм, либо релятивизм. В основе абсолютизма как гносеологического принципа лежит логика «или — или», а в основе релятивизма — логика «и — и». Для абсолютиста какой-либо человек либо добр, либо зол, а что сверх того, то от лукавого. Для релятивиста же он и добр, и зол. Диалектик поднимается над односторонностью абсолютиста и релятивиста, находя окончательный ответ.
Обратимся же вновь к нашей таблице. Цифры на ней обозначают шесть гносеологических направлений, каждое из которых совмещает в себе некоторую комбинацию идеализма и абсолютизма (1), материализма и абсолютизма (2) и т. д. В конечном счете, мы можем выделить следующие гносеологические направления:
1) идеалистический абсолютизм;
2) материалистический абсолютизм;
3) идеалистический релятивизм;
4) материалистический релятивизм;
5) идеалистическая диалектика;
6) материалистическая диалектика.
Идеалистический абсолютизм. Последовательным идеалистом-абсолютистом был немецкий философ И. Фихте (1762–1814). Как сторонник идеалистического способа познания он писал: «…внутренний смысл и душа моей философии состоит в том, что человек не имеет вообще ничего, кроме опыта; человек приходит ко всему… только через опыт» (Фихте И. Ясное как солнце сообщение мировой публике о подлинной сущности новейшей философии. М., 1937, с. 11). Как сторонник абсолютистского способа познания он указывал: «Как раз из абсолютного противоположения вытекает весь механизм человеческого духа; и этот механизм не может быть объяснён иначе как через некоторое абсолютное противоположение» (там же, с. 209). «Абсолютное противоположение» — это не что иное, как логика «или — или». Она основывается на абсолютном противопоставлении А и не А.
Материалистический абсолютизм. Представителем данного гносеологического направления в философии был Д. Локк (1632–1704). Вот его слова, выражающие сущность материалистического способа познания: «Объём нашего познания не охватывает не только всех реально существующих вещей, но даже и области наших собственных идей» (Антология мировой философии: в 4 т. Т. 2 / под ред. В.В. Соколова. М., 1970, с. 434). Но Д. Локк был также и приверженцем абсолютистской логики, которую иначе называют аристотелевской, или формальной. Он писал: «Итак, невозможно, чтобы одно и то же вместе было и не было присуще одному и тому же» (там же, с. 412). Или: «Итак, невозможно, чтобы вместе было правильно сказать про одно и то же, что оно и является человеком, и не является человеком» (там же, с. 416). Д. Локк был яростным противником признания противоположностей в предмете исследования. Он писал: «Вообще люди… утверждающие возможность противоречия, уничтожают сущность и суть бытия» (там же, с. 417).
Идеалистический релятивизм. Из позиций данного гносеологического принципа исходил в своих работах известный немецкий философ И. Кант (1724–1804). Он был автором теории антиномий (противоречий). Философ усматривал противоречия в объективных явлениях. Тем самым он признавал релятивный момент в познании, однако он не доводил разрешение антиномий до конца, возлагая при этом надежду на априорный (чистый) рассудок. «Обычное нежничанье с вещами, — писал в связи с этим Г. Гегель, — заботящееся лишь о том, чтобы они не противоречили себе, забывает… что таким путем противоречие не разрешается, а переносится лишь в другое место, в субъективную или внешнюю рефлексию» (Гегель Г. Энциклопедия философских наук. Т. 1. Наука логики. М., 1981, с. 121).
Материалистический релятивизм. На позициях данного гносеологического направления стоял известный немецкий философ Л. Фейербах (1804–1872). Материализм в его взглядах выразился в том, что он не сводил внешний, объективный мир к внутреннему, субъективному. Релятивизм же Л. Фейербаха состоит в его увлечении, связанном с уподоблением Бога человеку, которое привело его к стиранию границ между Богом и человеком. Он не мог перешагнуть через этот релятивный момент к абсолютному, т. е. и к противопоставлению Бога человеку. «Сущность Бога, — писал Л. Фейербах, — есть человеческая сущность… Главная наша задача выполнена. Мы свели всемирную, сверхъестественную сущность Бога к составным частям существа человеческого» (Антология мировой философии. Т. 3. М., 1971, с. 448).
Идеалистическая диалектика. Её вершина — Георг Гегель (1770–1831). В сжатом виде она изложена лишь в трёх параграфах (80–82) его краткой «Науки логики» (М., 1975, с. 202–213).
Первый момент диалектического метода познания является абсолютным («рассудочным»), В этот момент противоположности рассматриваются в их «борьбе» как абсолютные противоположности (по формуле А ≠ не А). Отец и сын, например, в этот момент рассматриваются как совершенно разные люди. Следующий момент в диалектическом познании — релятивный («диалектический»), В этот момент противоположности рассматриваются в единстве, граница между ними стирается по формуле А = не А. Отец и сын в нашем примере уравниваются — на том, что их объединяет, сосредоточивается внимание исследователя. Третий момент диалектического познания — новая ступень в исследовании предмета. Это диалектический момент как таковой. Г. Гегель называл его «спекулятивным». Опираясь на тщательное изучение исследуемого предмета, которое предполагает и обращение к его истории, субъект познания приходит к окончательному выводу о том, какой момент — абсолютный или релятивный — преобладает в этом предмете (по формуле А ≠ не А, А = не А, в конечном счете А ≠ не А или А = не А). В случае с отцом выявляется, что же в нём преобладает, — то, что его объединяет с сыном или, напротив, разъединяет. Вывод может быть разным. Это должно показать конкретное исследование. Истина всегда конкретна. Если мы придём к верному выводу, будем материалистами, а если ошибёмся — идеалистами. Г. Гегель в конечном счёте ошибался, поскольку рассматривал объективный мир как развёртывание некоей абсолютной идеи (т. е. Бога).
Материалистическая диалектика. Главным трудом по теории материалистической диалектики считают «Анти-Дюринг» Ф. Энгельса. Вот как он описывал познавательную деятельность абсолютиста («метафизика»): «Для метафизика вещи и их мысленные отражения, понятия, суть отдельные, неизменные, застывшие, раз навсегда данные предметы, подлежащие исследованию один после другого и один независимо от другого. Он мыслит сплошными неопосредованными противоположностями, речь его состоит из: „да-да“, „нет-нет“, „а что сверх того, то от лукавого“» (Энгельс Ф. Анти-Дюринг. М., 1973, с. 17). И там же далее: «Для него вещь или существует, или не существует, и точно так же вещь не может быть самой собой и в то же время иной. Положительное и отрицательное абсолютно исключают друг друга, причина и следствие по отношению друг к другу тоже находятся в застывшей противоположности». В первой цитате речь идёт об абсолютистском способе познания, а во втором он противопоставляется диалектическому на уровне релятивного момента в познании (в причине есть следствие и наоборот, в положительном есть отрицательное и наоборот и т. д.).
В третий момент диалектического мышления субъект познания приходит к окончательному выводу о доминирующей природе изучаемого явления (где в конечном счёте причина, а где следствие?). Для конечного вывода необходимо исследовать предмет познания всесторонне, в связи с другими предметами и его историей. Охарактеризовывая этот процесс, Ф. Энгельс писал: «Для диалектики же, для которой существенно то, что она берёт вещи и их умственные отражения в их взаимной связи, в их сцеплении, в их движении, в их возникновении и исчезновении…» (там же, с. 18).
Процесс перехода одного явления в другое объясняется в диалектике с помощью учения о трёх законах — единства и борьбы противоположностей, перехода количественных изменений в качественные и отрицания отрицания. Так, жизнь всегда существует в единстве и борьбе со своей противоположностью — смертью. Приходит время, и в этой борьбе смерть одерживает верх над жизнью. Иначе говоря, наступает время, когда жизнь переходит в свою противоположность. Этот переход связан с тем, что смерть входит в жизнь в виде болезней, в результате увеличения которых, как правило, жизнь и меняет свое качество. Тем самым происходит отрицание отрицания, т. е. смерть отрицает своё отрицание — жизнь.
В науке, в просветительстве, в поиске истины находило смысл жизни множество людей. К ним относится Джордано Бруно Ноланец (1548–1600).
О Д. Бруно написана прекрасная книга. Её автор — А.Э. Штекли. Вот как образно он описывает ситуацию выбора жизненного пути, в которой оказался юный Бруно: «Перед ним, как перед Парисом, три богини. Каждая прекрасна по-своему… Выбрать надо одну. Геру предпочтёт тот, кто жаждет богатства и власти. Афину — тот, кто ценит познание и мудрость. Афродиту — кто больше всего на свете любит красоту и безмятежное наслаждение жизнью. Кому вручить золотое яблоко? Филиппо (светское имя Джордано. — В.П.) выбирает Афину. Он не боится её суровости и не ждёт лёгкой судьбы. Мудрость даётся человеку куда труднее, чем богатства и наслаждения» (Штекли А.Э. Джордано Бруно. М., 1964, с. 15). А на 17-й странице читаем: «Выбор он сделал… Выше всего на свете он ценит знания. Служить он будет науке».
Д. Бруно увидел смысл своей жизни в науке. Но почему в семнадцатилетнем возрасте (15 июня 1565 г.) он стал послушником, а через год монахом доминиканского монастыря в Неаполе? Таким было время. Чтобы стать учёным, молодым людям в это время всё ещё нередко приходилось облачаться в монашескую рясу. Отсюда не следует, что Д. Бруно горел желанием служить Богу. У А.Э. Штекли читаем: «Юноша носит доминиканскую сутану, но сердце его не принадлежит богу. Светские книги он читает куда с большей страстью, чем сочинения отцов церкви» (Штекли А.Э. Указ. соч., с. 21).
Поиск смысла жизни дался Д. Бруно нелегко. Его одолевали мучительные сомнения в познаваемости мира, в способности человека постигать истину. Выручила история науки. Прекрасно эту ситуацию описал А.Э. Штекли: «Мысль человеческая, словно по лестнице, поднимается всё выше и выше в познании истины. Людям открываются всё новые и новые горизонты. А раз это так, то их стремления не напрасны! Вот в чём главная цель, красота и смысл жизни — в познании истины, в борьбе за её торжество! Джордано переживал необыкновенный подъём… Если в нём загорелся свет разума, то сколько мучений это стоило! Теперь единственная страсть всю жизнь будет владеть им — любовь к истине, страсть познания… Страсть познания не знает пресыщения… Неисчерпаемость абсолютной истины не пугает его. В самой этой неисчерпаемости бесконечный простор для непрестанного полёта мысли» (там же, с. 63–64).
В 28 лет, опасаясь суда инквизиции, Д. Бруно бежит из монастыря. Начинаются годы скитаний. Сначала он скрывается на севере Италии, а потом — в Швейцарии, Франции, Англии, Германии. Годы на чужбине, с одной стороны, принесли ему страдания (в Женеве, например, он оказался в тюрьме, а в Лондоне и Париже его травили перипатетики), а с другой — известность (так, во Франции он с блеском читал лекции в Сорбонне и даже давал уроки мнемоники самому королю Генриху III). В 1591 г. Д. Бруно возвращается в Италию. В следующем году по доносу иуды Мочению его заключают в тюрьму инквизиции. Ему 44 года. 17 февраля 1600 г. инквизиторы сжигают его на костре. Он прожил 51 год.
В.И. Рутенбург включил в число титанов Возрождения Леонардо да Винчи, Альбрехта Дюрера, Мартина Лютера и Никколо Макьявелли (Рутенбург В.И. Титаны Возрождения. 2-е изд. СПб., 1991), но в этом ряду несомненное место принадлежит и Джордано Бруно. Он был не меньшим энциклопедистом, чем Л. да Винчи.
В философии Д. Бруно влился в линию Демокрита-Эпикура-Лукреция, в физике он творчески объединил демокритовскую идею о множественности миров с коперниковским гелиоцентризмом, в психологии он достиг небывалых успехов в мнемонике, в культурологии он блестяще исследовал базовые категории духовной культуры — Бога, истины, красоты, добра, справедливости.
Д. Бруно был не только учёным-энциклопедистом, но и художником. Его комедия «Подсвечник», в частности, имела огромный успех на подмостках королевского театра в Париже. Её автор высмеивает в ней лженауку. Её жертва — Бартоломео. Этот герой настолько одержим идеей искусственного получения золота, что теряет сон и аппетит. Пока он возится с ретортами, его жена наставляет ему рога. Но его усилия тщетны. Дело кончается тем, что часть своих денег он спускает алхимику-шарлатану, а оставшуюся у него отнимают мошенники.
Д. Бруно жил в эпоху Возрождения — возрождения в Европе греко-римских культурных ценностей. Но на пути к их возрождению ещё очень крепко стояло невежество.
Люди, по Д. Бруно, всё время продвигаются в направлении от звериного состояния к человеческому. Своего прогресса они достигли благодаря их разуму. Именно он позволил им изобрести ремесла и искусства, создать науку и промышленность, глушить в себе низменные желания и страсти. Но люди при этом ещё очень далеки от времени, когда они всю свою жизнь подчинят разуму и сумеют построить подлинно справедливое общество.
Призывая к подчинению разуму, Д. Бруно вовсе не восхвалял образ мудреца, отрешённого от мира. Его идеалом был, в конечном счете, не мудрец-отшельник, а человек-деятель, человек-борец, человек-энтузиаст, человек-герой. Этот идеал великий учёный и стремился реализовывать в собственной жизни. Он сумел приблизиться к нему максимально, ибо и жил как герой, и умер как герой, не изменив, как и Эпикур, своему высокому человеческому предназначению. Как и Эпикур, он нёс людям свет знания, свет науки, свет разума, свет истины. Почти восемь лет он просидел в тюрьме. Но инквизиторы не сломали его дух. Измене своим убеждениям он предпочёл костёр. До конца своих дней он остался верен лозунгу, сформулированному им в книге «О героическом энтузиазме»: «Лучше достойная и героическая смерть, чем недостойный и подлый триумф» (Рутенбург В.И. Указ. соч., с. 218).
Вот как закончилась жизнь Джордано Бруно Ноланца: «Осуждённого прикрепили железной цепью к высокому столбу. Вплоть до последнего момента святые отцы разных орденов увещевали его покаяться. Однако ничто не поколебало непреклонности Ноланца. Язык в тисках, цепь вокруг тела, медленно разгорающийся хворост, книги, обречённые на сожжение. Но разве мысль человеческую этим остановишь? „Умственная сила никогда не успокоится, никогда не остановится на познанной истине, но всё время будет идти вперёд и дальше, к непознанной истине“. Он встретил смерть с редким мужеством. Умирающему в муках, ему протянули на длинном древке распятие — он сверкнул глазами и гневно отвернул лицо» (указ. соч. А.Э. Штекли, с. 379–380).
Инквизиторы сожгли на костре своего злейшего врага. Но они не смогли сжечь все его книги. Критика религии, имеющаяся в них, и до сих пор поражает своей убийственной саркастичностью. Вот что, например, мы можем прочитать в его «Тайне Пегаса»: «Глупцы мира были творцами религии, обрядов, закона, веры, правил жизни. Величайшие ослы мира те, что, будучи лишены всякой мысли и знаний, далёкие от жизни и цивилизации, загнивают в вечном педантизме, реформируют по милости неба безрассудную и испорченную веру, лечат язвы прогнившей религии и, уничтожая злоупотребления предрассудков, снова заделывают прорехи в её одежде» (с. 208). Доставалось от Д. Бруно и прихожанам: «Молите же, молите господа, дорогие мои, чтобы он помог вам сделаться ослами, если вы ещё не ослы» (с. 209).
Жажда познания — вот черта, отличающая подлинного учёного от мнимого. Яркое тому подтверждение — Михайло Ломоносов (1711–1765) и Герберт Спенсер (1820–1903). Их жажда познания была мирообъемлющей.
М.В. Ломоносов обладал «мирообъемлющим умом» (выражение В.Г. Белинского о В. Шекспире). Е. Лебедев писал: «Несмотря на то, что в каждой отдельной области Ломоносову приходилось решать задачи весьма специальные, требующие основательных специальных же познаний, эта отличительная черта его творческой индивидуальности, эта органичная целостность взгляда на мир и человеческую культуру сопутствовали ему во всех его общих и частных просветительных начинаниях» (Лебедев Е. Михаил Васильевич Ломоносов. Ростов н/Д, 1997, с. 158).
Жажда познания у М.В. Ломоносова была так велика, что в 20 лет он тайно ушёл из дома, чтобы хоть в какой-то мере её удовлетворить. В значительной мере это ему удалось. Он стал нашей национальной гордостью. Этот, по выражению Н.А. Некрасова, «архангельский мужик» стал кумиром не одного поколения юношей, которые следовали его примеру. По его проекту при поддержке И.И. Шувалова в 1855 г. был открыт Московский университет, который состоял из трёх факультетов — философского, юридического и медицинского. «Он, лучше сказать, сам был нашим первым университетом» (А.С. Пушкин).
Родился М.В. Ломоносов в деревне Мишанинской Двинского уезда Архангелогородской губернии в семье крестьянина-помора Василия Дорофеевича Ломоносова, занимавшегося морским промыслом на собственных судах. В 1731 г. он ушёл с обозом учиться в Москву. С 1731 по 1735 г. обучался в Московской славяно-греко-латинской академии. В январе 1736 г. был зачислен студентом в Петербургский университет при Академии наук, но уже в октябре этого же года был направлен учиться в Германию, где обучался в Марбургском университете и изучал горное дело. Выбраться из Германии, где он к тому же женился на немке, оказалось не так просто. В конце мая 1740 г., направляясь на родину, под Дюссельдорфом он «показался пруссакам годною рыбою на их уду» и обманом был «забрит» в рекруты, но в октябре этого же года бежал. Сначала прибыл чрез Арнгейм и Утрехт в Амстердам, а затем — в Гаагу. Только после возвращения в Амстердам он сумел отправиться морем в Россию. Он вернулся домой почти через шесть лет — летом 1741 г. Через четыре года, в 1745 г. (ему 34), он стал первым русским профессором, первым русским членом Академии наук. До него все российские академики были иностранцами. Впереди было лишь 20 лет.
Заслуги М.В. Ломоносова перед наукой, как и перед искусством (в первую очередь — поэтическим и мозаичным), невозможно переоценить. Он был первым русским энциклопедистом. За сравнительно немногие годы своей научной жизни он достиг успехов в самых разных областях науки — в химии, металлургии, астрономии, геологии, географии, метеорологии, приборостроении, истории культуры, языкознании, философии, математике.
Вот как об энциклопедичности М.В. Ломоносова писал С.И. Вавилов: «Ломоносову по необъятности его интересов принадлежит одно из самых видных мест в культурной истории человечества. Даже Леонардо да Винчи, Лейбниц, Франклин и Гёте более специальны и сосредоточенны. Замечательно при этом, что ни одно дело, начатое Ломоносовым, будь то физико-химические исследования или оды, составление грамматики и русской истории, или организация и управление фабрикой, географические проекты или политико-экономические вопросы, — всё это не делалось им против воли или даже безразлично. Ломоносов был всегда увлечён своим делом до вдохновения и самозабвения; об этом говорит каждая страница его литературного наследства» (Лебедев Е. Указ. соч., с. 632).
Даже от научных трудов М.В. Ломоносова веет вдохновением. Возьмём, например, его «Российскую грамматику» (1755). Она — краеугольный камень русского языкознания. Вот какие вдохновенные слова мы можем в ней прочитать: «Тупа оратория, косноязычна поэзия, неосновательна философия, неприятна история, сомнительна юриспруденция без грамматики». (Ломоносов М. Российская грамматика. СПб., 1755, с. 8).
Тем более вдохновенным М.В. Ломоносов был в поэзии. Вот какие строки о науке мы можем у него прочитать в «Оде на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны, Самодержицы Всероссийской, 1746 года» (ему 35 лет):
Дерзайте ныне ободренны Ранением вашим показать, Что может собственных Платонов И быстрых разумом Невтонов Российская земля рождать. Науки юношей питают, Отраду старым подают, В счастливой жизни украшают, В несчастной случай берегут; В домашних трудностях утеха И в дальних странствах не помеха. Науки пользуют везде, Среди народов и в пустыне, В градском шуму и наедине, В покое сладки и в труде.За месяц до смерти М.В. Ломоносов написал в своём плане разговора с Екатериной II: «Я не тужу о смерти: пожил, потерпел и знаю, что обо мне дети отечества пожалеют» (Лебедев Е. Указ. соч., с. 597). Но Я.Я. Штелингу он сказал: «Жалею токмо о том, что не мог я свершить всего того, что предпринял я для пользы отечества для приращения наук и для славы Академии и теперь при конце жизни моей должен видеть, что все мои полезные намерения исчезнут вместе со мной…» (там же, с. 592). Он прожил всего 54 года. Он не успел написать всеобъемлющего труда о мироздании. Он не успел даже завершить задуманную им «Систему всей физики». Г. Спенсеру же в новом веке посчастливилось построить в своей «Системе синтетической философии» эволюционную модель почти всего мироздания.
Начиная с 1862 и кончая 1896 г., выходили в свет следующие книги Г. Спенсера: «Основные принципы», «Принципы биологии», «Принципы психологии», «Принципы социологии» и «Принципы этики». Вместе они составили его «Систему синтетической философии». Сам порядок их написания отражает эволюцию: первая посвящена физиогенезу, вторая — биогенезу, третья — психогенезу, четвёртая и пятая — генезису двух сфер культуры — нравственности и политики, но в них речь идёт также о генезисе религии, науки, искусства и языка. Во всех своих книгах их автор исходил из положения о всеобщности, универсальности эволюции. В утверждении универсального эволюционизма он видел смысл своей жизни.
В университете Г. Спенсер не учился. Он родился в педагогической семье. Его лучшим учителем был его замечательный отец. Природа одарила будущего энциклопедиста необыкновенной разносторонностью. Чем он только не увлекался! Френологией, стенографией, созданием двенадцатеричной системы счисления и искусственного языка, живописью, архитектурой, хоровым пением, изобретательством, часовым делом…
К смыслу своей жизни Г. Спенсер пришёл далеко не сразу — в 37 лет. А до этого возраста он работал то учителем, то инженером на железной дороге, то журналистом и главным редактором журнала «Экономист». В начале 1858 г., наконец, он делает набросок плана «Системы философии». Но этот набросок не свалился к нему с неба. К идее мировой эволюции он пришёл ещё раньше. В своей «Автобиографии» он писал даже так: «Несомненно, в моей душе всегда таилась общая вера в закон мировой эволюции. Отвергнувший сверхъестественные объяснения теологии необходимо должен принять научный натурализм во всём его объёме и, хотя бы скрыто, признать путь эволюции единственным путём происхождения всего существующего. Раз признано всемирное значение естественных причин, другое заключение вырастает само собой: мир, происхождение мира, весь путь его развития и всё бесконечное разнообразие его форм, — всё обусловлено материально во всех своих мельчайших подробностях» (Спенсер Г. Автобиография. Ч. 1. СПб., 1914, с. 340).
Автор приведённых слов хоть и написал, что в его душе «всегда таилась общая вера в закон мировой эволюции», на самом деле пришёл к этой вере к двадцати годам — в результате несогласия с геологом Чарлзом Лайелем и под влиянием биолога Жана-Батиста Ламарка. В своей «Автобиографии» он вспоминал: «Одним из следствий моего нового увлечения (геологией. — В.Д.) была покупка только что появившихся „Основ геологии“ Лайеля (этот трёхтомный труд появился впервые в 1830–1833 гг. — В.Д.). Я отмечу этот факт, так как он имел большое значение для меня. За последние годы я познакомился с гипотезой, утверждающей, что человек развился из какой-либо низшей породы животного. Не помню, насколько я был согласен вообще с этой гипотезой, но читая книгу Лайеля, в которой целая глава посвящена критике взглядов Ламарка на происхождение видов, я решительно стал на сторону последнего… Моя симпатия к этой гипотезе, несмотря на критику Лайеля, вытекала, несомненно, из её согласия с теми общими (эволюционистскими. — ВД.) взглядами на естественный порядок, в верности которых я чуть ли не каждый день всё более убеждался в течение всей своей жизни» (там же, с. 185–186).
Г. Спенсер и Ч. Дарвин питали свою эволюционную мысль из одних источников — из работ Ж.-Б. Ламарка и Ч. Лайеля. Любопытно, что последний в молодости полемизировал с первым, зато на старости лет поддержал Ч. Дарвина. В свою очередь Ч. Дарвин видел в геологе Ч. Лайеле одного из вдохновителей своей теории эволюции живой природы.
Двадцатидвухлетний Г. Спенсер писал в своём первом письме (всего их было 12), опубликованном в журнале «Нонконформист» в 1842 г.: «Всё в природе имеет свои законы. Неорганизованная материя имеет свои динамические качества и химические свойства. Материя организованная, более сложная, легче поддающаяся разрушению, также имеет свои управляющие принципы. Это касается материи в состоянии агрегата, так же как и в интегрированной форме. Живые существа имеют свои законы, как и материя, которая их произвела. Как существо живое, человек имеет свои функции и органы для их отправления. И это не только в физическом отношении, но и в моральном. Дух, как и материя, имеет свои законы, но что приложимо к отдельной индивидуальности, то приложимо и к обществу. Как и отдельный человек, общество подчиняется известным социальным законам. Они только не поддаются такому точному определению. Их действие, может быть, более сложно, им, может быть, труднее подчиняться, но, тем не менее, аналогия показывает, что они должны существовать» (там же, с. 199).
Г. Спенсеру понадобилось ещё 17 лет, чтобы свои эволюционистские убеждения привести в систему — в «Систему философии». В «Автобиографии» он воспроизводит набросок её плана.
План «Системы философии» у Г. Спенсера был мирообъемлющ: в 1-м томе — шесть общих законов эволюции и физиогенез, во 2-м — биогенез, в 3 и 4-м — психогенез, в 5, 6 и 7-м — культурогенез. Но представления о культурогенезе у Г. Спенсера к этому времени ещё не были достаточно ясными. Вот почему три оставшихся тома своего плана он объединил неопределённым словом «очерки».
План «Системы философии» Г. Спенсер сумел выполнить! Он был счастлив, если верить его собственным словам, которые он сказал ещё в 1857 г. Томасу Хаксли (Гекели) — будущему «бульдогу Дарвина». Эти слова были такими: «Всё, о чём можно мечтать, — это достигнуть своей цели и умереть» (там же, с. 338). На возражение Т. Хаксли Г. Спенсер ответил: «Самое важное — дать толчок в желаемом направлении» (Спенсер Г. Указ. соч.).
Чтобы подчеркнуть судьбоносное значение своего плана «Системы философии», Г. Спенсер поставил над ним дату: 6 января 1858 г. А чуть позднее, в брошюре «О воспитании», он написал: «Я взял теорию развития своей путеводной нитью» (там же, с. 352). Эта нить связывает все тома его «Философии синтетической философии». «Господствующая точка зрения (в ней. — В.Д.), конечно, эволюционная» (с. 309).
Вот какими словами Г. Спенсер выразил своё эволюционистское кредо в «Автобиографии»: «Явления астрономические, геологические, биологические, психологические и социологические (читай: культурологические. — В.Д.) представляют собой одно сложное неразрывное целое, тесно спаянное взаимной зависимостью. Они связаны незаметной постепенностью переходов одних в другие, они связаны общим законом перемен и общностью причин, вызывающих эти перемены» (с. 349).
Г. Спенсер совершенно справедливо считал, что эволюционный подход позволяет построить единую систему мироздания. Между прочим, в этом он и видел задачу философии. «Философия, — указывал он, — вполне интегрированное знание» (Антология мировой философии. Т. 3. М., 1971, с. 609). Чуть ниже он уточнял: «…объединённое знание возможно и… цель философии — достижение его». Очевидно, подобная философия перерастает в науку вообще — в научную картину мира.
Герберт Спенсер, бесспорно, — фигура колоссальная в истории науки. Известный теоретик анархизма Пётр Алексеевич Кропоткин (1842–1921) считал, что его синтетическая философия может рассматриваться «как главное философское произведение XIX в.» (Кропоткин П.А. Хлеб и воля. Современная наука и анархия. М., 1990, с. 559). Вот как П.А. Кропоткин писал о Г. Спенсере: «Идея эволюции стала обязательной во всех областях. Особенно важно было приложить её к толкованию всей системы природы, а также к человеческим учреждениям, религиям, нравственным идеям. Нужно было — сохраняя всецело основную идею позитивной философии Огюста Конта — распространить её таким образом, чтобы она охватила собой совокупность всего, что живёт и развивается на земле. Этому и посвятил себя Спенсер» (там же, с. 561).
К жажде познания у молодого человека, решившего посвятить свою жизнь науке, нередко примешивается жажда славы. Таким был Чарлз Дарвин (1809–1882). Эти две жажды уживались в нём одновременно. В своих воспоминаниях он писал: «Насколько я в состоянии сам судить о себе, я работал во время путешествия (на „Бигле“. — В.Д.) с величайшим напряжением моих сил просто оттого, что мне доставлял удовольствие процесс исследования, а также потому, что я страстно желал добавить несколько новых фактов к тому великому множеству их, которым владеет естествознание. Но кроме того у меня было и честолюбивое желание занять достойное место среди людей науки, — не берусь судить, был ли я честолюбив более или менее, чем большинство моих собратий по науке» (Дарвин Ч. Воспоминания о развитии моего ума и характера. URL: ).
Худо, если жажда славы начнёт преобладать над жаждой познания. С Ч. Дарвином этого не произошло. Он писал: «К концу путешествия, когда мы были на острове Вознесения, я получил письмо от сестер, в котором они сообщали, что Седжвик посетил отца и сказал, что я займу место среди выдающихся людей науки. Тогда я не мог понять, каким образом ему удалось узнать что-либо о моих работах, однако я слыхал (но кажется, позже), что Генсло доложил некоторые из моих писем к нему в Кембриджском философском обществе и отпечатал их для распространения среди ограниченного круга лиц. Моя коллекция костей ископаемых животных, которая была переслана мною Генсло, также вызвала большой интерес у палеонтологов. Прочитав это письмо, я начал вприпрыжку взбираться по горам острова Вознесения, и вулканические скалы громко зазвучали под ударами моего геологического молотка! Все это показывает, до чего я был честолюбив, но я думаю, что не погрешу против истины, если скажу, что, хотя в позднейшие годы одобрение со стороны таких людей, как Ляйелл и Гукер, которые были моими друзьями, было для меня в высшей степени важным, мнение широкой публики не очень-то заботило меня. Не хочу этим сказать, что благоприятная рецензия или успешная продажа моих книг не доставляли мне большого удовольствия, но удовольствие это было мимолетным, и я уверен, что ради славы я никогда ни на один дюйм не отступил от принятого мною пути» (там же). Подробнее об этом пути вы можете узнать по книге: Стоун И. Происхождение. Роман-биография Чарлза Дарвина. М., 1989.
Настоящему учёному одной жажды познания мало. Он хочет быть полезен обществу. Яркие примеры — Дмитрий Иванович Менделеев (1834–1907), Иван Петрович Павлов (1849–1936) и Владимир Иванович Вернадский (1863–1945).
Д.И. Менделееву было всего 35 лет, когда он открыл свой Периодический закон. К этому времени он не дожил ещё и до середины своей жизни. Её большую часть он наполнил трудами, которые не имели отношения к химии. Он обладал исключительно практическим умом. По преимуществу прикладной направленностью характеризуются его многочисленные труды по метрологии, воздухоплаванию, гидродинамике, экономике, народному просвещению, народонаселению и др.
Г. Смирнов писал: «После этого (т. е. после открытия Периодического закона. — В.Д.) химия в его творчестве отходит на второй план, а его научные интересы смещаются в сторону промышленности, экономики, финансов, народного образования. К концу XIX в. Дмитрий Иванович занял в русском обществе уникальное место универсального эксперта, консультирующего русское правительство по широкому кругу научных и народнохозяйственных проблем — воздухоплаванию, нефтяным делам, бездымным порохам, таможенному тарифу, реформе высшего образования, постановке метрологического дела в стране» (Смирнов Г. Как советские редакторы правили Д.И. Менделеева // Молодая гвардия. 1999. № 5).
Всего перу Д.И. Менделеева принадлежит более 500 научных трудов. Это был величайший труженик. Он имел право на такие слова: «Желательно, чтобы русский народ, включая в него, конечно, и всю интеллигенцию страны, своё трудолюбие умножил для разработки природных запасов богатой своей страны, не вдаваясь в политиканство, завещанное латинством, его, как и евреев, сгубившее и в наше время подходящее лишь для народов, уже успевших скопить достатки, во много раз превосходящие средние скудные средства, скопленные русскими. Прочно и плодотворно только приобретённое своим трудом. Ему одному честь, поле действия и всё будущее» (цит. по: Бояринцев В.И. Великий русский учёный Дмитрий Иванович Менделеев. URL: ).
Забота о практических проблемах страны вовсе не привела Д.И. Менделеева к недооценке фундаментальной науки. Нацеленность на практическую пользу, которую должна приносить наука, органично сочеталась у Д.И. Менделеева с поиском истины как таковой. «Истина, — писал он, — сама по себе имеет значение без каких-либо вопросов о прямой пользе» (там же).
Своим стремлением к истине Д.И. Менделеев заражал своих слушателей. Он был прекрасным оратором. Среди студентов Петербургского университета, слушающих его лекции, был В.И. Вернадский. Вот какой портрет Д.И. Менделеева он изобразил в своих воспоминаниях: «Ярко и красиво, образно и сильно рисовал он перед нами бесконечную область точного знания, его значение в жизни и в развитии человечества, ничтожность, ненужность и вред того гимназического образования, которое душило нас в течение долгих лет нашего детства и юности. На его лекциях мы как бы освобождались от тисков, входили в новый, чудный мир, и в переполненной аудитории Дмитрий Иванович, подымая нас и возбуждая глубочайшие стремления человеческой личности к знанию и к его активному приложению…» (Страницы автобиографии В.И. Вернадского. М., 1981, с. 29).
И.П. Павлов был в науке не меньшим тружеником, чем Д.И. Менделеев. На протяжении всей своей долгой жизни он проводил эксперименты с животными не ради них самих, а ради человека. О человеке, о его физическом и духовном здоровье болела его душа. Он говорил: «Когда я приступаю к опыту, связанному с гибелью животного, я испытываю тяжёлое чувство сожаления, что прерываю ликующую жизнь, что являюсь палачом живого существа. Когда я режу, разрушаю живое животное, я глушу в себе едкий упрёк, что грубой, невежественной рукой ломаю невыразимо художественный механизм. Но переношу это в интересах истины, для пользы людям. А меня, мою вивисекционную деятельность предлагают поставить под чей-то постоянный контроль. Вместе с тем истребление и, конечно, мучение животных только ради удовольствия и удовлетворения множества пустых прихотей остаются без должного внимания. Тогда в негодовании и с глубоким убеждением я говорю себе и позволяю сказать другим: нет, это — не высокое и благородное чувство жалости к страданиям всего живого и чувствующего; это — одно из плохо замаскированных проявлений вечной вражды и борьбы невежества против науки, тьмы против света» (/%D0%9F%D0%B0%D0%B2 %D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%98).
И.П. Павлов не боялся прослыть ретроградом, если, как ему казалось, наука чересчур далеко отодвигается от насущных человеческих забот. Показательно в связи с этим его отношение к зарождающейся космонавтике.
Во время посещения И.П. Павлова в 1926 г. А.Л. Чижевский сказал: «Видите ли, Иван Петрович, сейчас техники и у нас, и на Западе заняты проблемой межпланетных перелетов с помощью огромных ракет. Конечно, ещё понадобится лет сорок-пятьдесят для решения всех технических вопросов, но появились и физиологические вопросы: как влияет на организм ускорение, — ведь ракета должна будет развивать скорость от 11 до 16 км в секунду, — и затем явление невесомости. Циолковский считает, что эти явления пора уже изучать, чтобы физиологи могли дать ответ: вредны ли человеку эти явления, тогда техника разработает меры предупреждения. Циолковский просил меня узнать у вас, что вы об этом думаете…» (Вестник РАН. 1995. № 11).
Ответ И.П. Павлова был резким: «Ровно ничего. Не думал и не могу думать, ибо этими вопросами я не интересовался… Не очень ли спешит Циолковский с полетами на другие планеты?.. Хочется задать ему встречный вопрос: надо ли это человеку вообще? Не плохо ли ему живется на Земле, что он думает о небе. Допустим, что и я не доволен своей жизнью, но я не мечтаю улететь с Земли, ибо не жду в небе особых благ… Возможно, что это будет интересно, даже увлекательно, но не обязательно. Надо, по моему разумению, стремиться к улучшению человеческих отношений на Земле. Вот что является первейшей задачей любого человека» (там же).
В этой же беседе с А.Л. Чижевским И.П. Павлов сказал: «Просветительская деятельность сейчас является обязательной для каждого русского интеллигента и особенно для каждого учёного. Я, несмотря на свой возраст, несу бремя науки — и не только для науки, — но и для того, чтобы прославить Россию, хотя бы и большевистскую, чтобы нас признали во всём мире, а не считали дикарями, поправшими всё свойственное до сих пор человеку» (там же).
Бремя науки наш первый нобелевский лауреат (1904) нёс до конца. Он прожил 86 лет. Незадолго до смерти он сказал: «Радостно сознавать себя гражданином страны, в которой наука занимает ведущее и почётнейшее место. Можно искренне гордиться родиной, где так заботливо и широко поощряют прогресс науки и культуры… Мне уже много лет, но я счастлив, что могу работать на благо моей любимой родины и для счастья всего человечества… Раньше наука была оторвана от жизни, была отчуждена от населения, а теперь я вижу иное: науку уважает и ценит весь народ. Я поднимаю бокал и пью за единственное правительство в мире, которое могло это осуществить, которое так ценит науку и горячо её поддерживает — за правительство моей страны!» ().
Перед самой смертью И.П. Павлов изложил свой завет молодым учёным: «Что бы я хотел пожелать молодежи моей родины, посвятившей себя науке?
Прежде всего — последовательности. Об этом важнейшем условии плодотворной научной работы я никогда не смогу говорить без волнения. Последовательность, последовательность и последовательность. С самого начала своей работы приучить себя к строгой последовательности в накоплении знаний.
Изучите азы науки прежде, чем пытаться взойти на её вершины. Никогда не беритесь за последующее, не усвоив предыдущего. Никогда не пытайтесь прикрыть недостаток своих знаний хотя бы и самыми смелыми догадками и гипотезами. Как бы ни тешил ваш взор своими переливами мыльный пузырь, — он неизбежно лопнет, и ничего, кроме конфуза, у вас не останется.
Приучите себя к сдержанности и терпению. Научитесь делать чёрную работу в науке. Изучайте, сопоставляйте, накопляйте факты. Как ни совершенно крыло птицы, оно никогда не смогло бы поднять её в высь, не опираясь на воздух. Факты — это воздух учёного. Без них вы никогда не сможете взлететь. Без них ваши „теории“ — пустые потуги.
Но изучая, экспериментируя, наблюдая, старайтесь не оставаться у поверхности фактов. Пытайтесь проникнуть в тайну их возникновения. Настойчиво ищите законы, ими управляющие.
Второе — это скромность. Никогда не думайте, что вы уже всё знаете. И как бы высоко ни оценивали вас, всегда имейте мужество сказать себе: я невежда.
Не давайте гордыне овладеть вами. Из-за неё вы будете упорствовать там, где нужно согласиться, из-за неё вы откажетесь от полезного совета и дружеской помощи, из-за неё утратите меру объективности.
В том коллективе, которым мне приходится руководить, всё делает атмосфера. Мы все впряжены в одно общее дело, и каждый двигает его по мере своих сил и возможностей. У нас зачастую и не разберёшь — что „моё“, а что „твоё“, но от этого наше общее дело только выигрывает.
Третье — это страсть. Помните, что наука требует от человека всей его жизни. И если у вас было бы две жизни, то и их бы не хватило вам. Большого напряжения и великой страсти требует наука от человека. Будьте страстны в вашей работе и в ваших исканиях!» (там же).
Девятнадцатилетний В.И. Вернадский (1863–1945) писал: «Моя цель — познание всего, что возможно человеку в настоящее время» (Страницы автобиографии В.И. Вернадского, с. 33). Но тут же уточнял: «…сообразно его силам (и специально моим) и времени» (там же). Но уже в это время он ориентировал своё познание на практику. Он видел практическое применение знаний — в улучшении человека: «Я хочу, однако, увеличить хоть отчасти запас сведений, улучшить хоть немного состояние человека» (там же).
Между тем надо хорошо сознавать, что ориентир знания на практику не следует абсолютизировать, поскольку знание самоценно. Оно открывает человеку глаза на этот мир. Вот почему процесс его постижения приносит наслаждение. В том же 1882 г. В.И. Вернадский писал в своём дневнике (он начал его писать в 13 лет): «Прежде я не понимал того наслаждения, какое чувствует человек в настоящее время, искать объяснения того, что из сущего, из природы воспроизводится его чувствами, не из книг, а из неё самой. Какое наслаждение „вопрошать природу“, „пытать её“! Какой рой вопросов, мыслей, соображений! Сколько причин для удивления, сколько ощущений приятного при попытке обнять своим умом, воспроизвести в себе ту работу, какая длилась века в бесконечных областях! И тут он [человек] подымается из праха, из грязненьких животных отношений, он яснее сознаёт те стремления, какие создались у него самого под влиянием этой самой природы в течение тысячелетий» (там же, с. 34).
Через два года молодой В.И. Вернадский приходит к пониманию общей цели своей жизни. Он видит её в развитии человечества. Но развитие человечества есть его эволюция, т. е. гоминизация (очеловечение). Он писал в своём дневнике: «Ставя целью развитие человечества, мы видим, что оно достигается разными средствами и одно из них — наука» (там же, с. 40).
Наука только тогда может служить развитию человечества, когда в ней видят не только удовольствие и пользу, но и путь к приобретению такого обширного взгляда, которым охватывается весь мир. Если она не замыкается в рамках узкой специальности, она открывает путь к целостной картине мира, к мировоззрению. «Наука, — писал в своём дневнике В.И. Вернадский, — доставляет такое обширное удовольствие, она приносит такую пользу, что можно было, казалось, остаться деятелем одной чистой науки. Это было бы приятнее. Но так оно было бы, если бы можно было заставить себя не вдумываться за пределы узкого круга специальности; тогда теряется мировоззрение…» (там же). Иными словами, чтобы иметь подлинное мировоззрение, нужно быть энциклопедистом. Только энциклопедист и эволюционист в состоянии видеть мир в целом.
В.И. Вернадский был сциентистом, хотя и понимал, что без государственной поддержки наука не в состоянии спасти мир. В работе «Научная мысль как планетное явление» (1938) специальную главу он отвёл «Положению науки в современном государственном строе». Вот что мы читаем в её начале: «Наука не отвечает в своём современном социальном и государственном месте в жизни человечества тому значению, которое она имеет в ней уже сейчас, реально. Это сказывается и на положении людей науки в обществе, в котором они живут, и в их влиянии на государственные мероприятия человечества, в их участии в государственной власти, а, главным образом, в оценке господствующими группами и сознательными гражданами — „общественным мнением“ страны — реальной силы науки и особого значения в жизни её утверждений и достижений» (Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. М., 1988, с. 90).
Чтобы пробить брешь в человеческом невежестве, В.И. Вернадский подчёркивал «непреложность и обязательность правильно выведенных научных истин для всякой человеческой личности, для всякой философии и для всякой религии», считая, что подобные особенности в первую очередь отличают науку от других областей культуры. Он писал: «Не только такой общеобязательности и бесспорности утверждений нет во всех других духовных построениях человечества — в философии, в религии, в художественном творчестве, в социально бытовой среде здравого смысла и в вековой традиции. Но больше того, мы не имеем никакой возможности решить, насколько верны и правильны утверждения самых основных религиозных и философских представлений о человеке и об его реальном мире. Не говоря уже о поэтических и социальных пониманиях, в которых произвольность и индивидуальность утверждений не возбуждает никакого сомнения во всем их многовековом выявлении» (Вернадский В.И. Указ. соч., с. 100).
Как человек, исходящий из наукоцентрической, сциентистской точки зрения на культуру, В.И. Вернадский указывал: «Такое положение науки в социальной структуре человечества ставит науку, научную мысль и работу совершенно в особое положение и определяет её особое значение в среде проявления разума — ноосфере… ибо она является главным, основным источником народного богатства, основой силы государства. Борьба с ней — болезненное явление в государственном строе» (там же, с. 102–103). В наше время эти слова звучат ещё более актуально, чем тогда, когда они писались.
Сциентизм В.И. Вернадский понимал как власть науки в жизни. В письме И.И. Петрункевичу он объяснял её следующим образом: «Прикладной характер научной работы меня привлекает. Я вижу в нём великое будущее. Я уверен, что этим путём наука получит ту власть в жизни, которая сейчас необходима» («Я верю в силу свободной мысли…». Письма В.И. Вернадского И.И. Петрункевичу // Новый мир. 1989. № 12, с. 206). Это писалось, между прочим, в 1923 г. Положение науки в России в это трудное время В.И. Вернадский расценивал вполне оптимистично. Он писал: «Научная работа в России не погибла, а наоборот, развивается… Научная работа в России спасена и живёт большой жизнью благодаря сознательному волевому акту» (там же, с. 205).
Нам досталось время, когда инволюционные процессы всё больше и больше набирают силу. Всё больше и больше у нас распространяется, в частности, лженаука. Но всё проходит. Пройдёт и тот лженаучный шабаш, который разыгрывается на просторах нашего отечества. Придёт время, когда всё больше и больше молодых людей будут рваться не в бизнес, а в реставрированную науку. Их смыслом жизни станет не обогащение, а научный поиск, невозможный без жажды познания.
Кто может сомневаться в культурогенической, очеловечивающей силе науки? Подлинный эволюционист относится к науке с благоговением. Он видит в ней главную движущую силу культурогенеза. Каждому ясно, что наука не всесильна, но стало ли научное сознание массовым — вот в чём вопрос. До тех пор, пока в массовом сознании будет господствовать обыденная, а не научная картина мира, человечество будет пребывать в младенческом состоянии.
Построению научной картины мира препятствуют две тенденции — к чрезмерной дифференциации науки и к её чрезмерной интеграции. Выход из этого затруднения только один — эволюционизм. Подлинная научная картина мира не может не опираться на эволюционизм. Если наш мир эволюционировал в направлении «физиогенез — биогенез — психогенез — культурогенез», то, стало быть, в научной картине мира должны присутствовать четыре частные науки — физика, биология, психология и культурология. Если в объекте любой науки имеется нечто общее (время/пространство, часть/целое, качество/количество и т. д.), то над частными науками должна возвышаться общая наука — философия. Научная картина мира, таким образом, является — по числу базовых наук — пятичленной:
Не перечесть всех высказываний о науке. Вот какой минимум я отобрал.
Для меня слово мудрости ценнее золота.
Демокрит.Истина прекрасна и незыблема, однако думается, что внушить её нелегко.
Платон.На вопрос, какая разница между человеком образованным и необразованным, Аристотель ответил: «Как между живым и мёртвым».
Диоген Лаэртский.Нет радостей выше тех, которые нам доставляет… изучение истин.
Р. Бэкон.Невежество — лучшая в мире наука. Она даётся без труда и не печалит душу.
Д. Бруно.Я думаю, нет большей ненависти в мире, чем ненависть невежд к знанию.
Г. Галилей.Довольно почестей Александрам! Да здравствуют Архимеды!
А. де Сен-Симон.Все науки настолько связаны между собою, что легче изучать их все сразу, нежели какую-либо одну из них в отдельности от всех прочих.
Р. Декарт.Если бы наука сама по себе не приносила никакой практической пользы, то и тогда нельзя было назвать её бесполезной, лишь бы только она изощряла ум и заводила в нём порядок.
Ф. Бэкон.Истина — солнце разума.
Л. Вовенарг.За общую пользу, а особливо за утверждение наук в Отечестве, и против отца своего родного восстать за грех не поставлю.
М.В. Ломоносов.Честь российского народа требует, чтоб показать способность и остроту его в науках.
М.В. Ломоносов.Я к сему себя посвятил, чтобы до гроба моего с неприятельми наук российских бороться, как уже борюсь двадцать лет.
М.В. Ломоносов.Требуется хорошая систематизация, чтобы не потеряться безнадежно в лабиринте учёности.
Г. Гельмгольц.Самая серьёзная потребность есть потребность познания истины.
Г. Гегель.Не истины науки трудны, а расчистка человеческого сознания от всего наследственного хлама, от всего осевшего ила, от принимания неестественного за естественное, непонятного за понятное.
А.И. Герцен.Мой успех как человека науки, каков бы ни был размер этого успеха, явился результатом, насколько я могу судить, сложных и разнообразных умственных качеств и условий. Самыми важными были: любовь к науке, безграничное терпение при долгом обдумывании любого вопроса, усердие в наблюдении и собирании фактов и порядочная доля изобретательности и здравого смысла.
Ч. Дарвин.В науке нет широкой столбовой дороги, и только тот может достигнуть её сияющих вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по её каменистым тропам.
К. Маркс.Счастье заключается в деятельности, а деятельность достигает своего высшего напряжения только с воцарением науки.
П. Бертло.Наука должна быть самым возвышенным воплощением отечества, ибо из всех народов первым будет всегда тот, который опередит другие в области мысли и умственной деятельности.
Л. Пастер.Культ наук в самом высоком смысле этого слова, возможно, ещё более необходим для нравственного, чем для материального процветания нации. Наука повышает интеллектуальный и моральный уровень; наука способствует распространению и торжеству великих идей.
Л. Пастер.Идти всё вперёд, помня, что без своей передовой деятельной науки своего ничего не будет и что в ней беззаветный, любовный корень трудолюбия, так в науке-то без великих трудов сделать ровно ничего нельзя.
Д.И. Менделеев.Если вы хотите, чтобы современный человек перестал походить на своего дикого предка, долой ложь во всех её видах, говорит наука.
К.А. Тимирязев.Я исповедую три добродетели: веру, надежду и любовь, я люблю науку как средство достижения истины, верю в прогресс и надеюсь на вас.
К.А. Тимирязев.Я, век свой просидевший за наукой, вижу в ней главное спасение для нашего общества, нашего народа.
К.А. Тимирязев.Моя вера — это вера в то, что счастье человечеству даст прогресс науки.
И.П. Павлов.Когда при знании фактов доходишь до вопросов: «почему — отчего», их непременно надо разъяснить… ищешь правды, и я вполне чувствую, что могу умереть, могу сгореть, ища её, но мне важно найти…
В.И. Вернадский.Я сделал всё, что мог сделать. Я не сделал никого несчастным. Я постарался, чтобы после моей смерти к той же цели на моё место стало таких же, нет — лучших работников, чем каким был я.
В.И. Вернадский.Видеть или погибнуть.
П. Тейяр де Шарден.Есть люди, которые всю свою жизнь кладут на то, чтобы разобраться во лжи и правде, ищут истину о жизни. Люди эти — учёные. Настоящий учёный должен всю свою жизнь отдать исканию истины — науке. Для него наука и истина больше и важнее, чем богатство, спокойная жизнь, почёт и удовольствия. Были учёные, которые жили в неизвестности, умирали в нищете и оставляли после себя только написанные ими книги, но когда люди научились понимать эти книги, они убеждались, как много сделали эти безвестные при жизни учёные, и ставили им памятники.
Н.К. Кольцов.Что ж… Пойдём на костёр, будем гореть… Но от убеждений своих не откажемся.
Н.И. Вавилов.Наука — это совсем особая сфера труда, привлекающая к себе непреодолимой силой. Учёный кончает свою исследовательскую деятельность, почти всегда только уходя из жизни.
С.И. Вавилов.Искусство: безобразное ↔ красота
Смысл жизни может разгадать лишь художник.
Новалис.Что красота есть необходимое условие искусства, что без красоты нет и не может быть искусства — это аксиома.
В.Г. Белинский.Что такое искусство? В «Википедии» читаем: «Искýсство (от церк. — слав. искусъство; лат. experimentum — опыт, проба; ст. слав. Искоусъ — опыт, реже истязание, пытка) — образное осмысление действительности; процесс или итог выражения внутреннего или внешнего мира творца в (художественном) образе; творчество, направленное таким образом, что оно отражает интересующее не только самого автора, но и других людей. Искусство (наряду с наукой) — один из способов познания, как в естественнонаучной, так и в религиозной картине восприятия мира».
Наука, опираясь на ум, ищет истину, а искусство, опираясь не только на ум, но и на чувство, ищет красоту.
Русские пословицы славят ум (разум), оставляя красоту в его тени. Единодушно их авторы отдают предпочтение разуму перед красотой: Красота без разума пуста; Красота разума не придаст; Красота завянет, а ум не обманет; Красота и глупость часто бывают купно; Красота до венца, а ум до конца и т. д.
Легко увидеть, что в этих пословицах имеется в виду не красота вообще, а внешняя человеческая красота (по преимуществу — женская). Но это не означает, что эта красота не имеет отношения к искусству. Искусство берёт красоту из жизни.
Что есть красота (прекрасное)? В «Википедии» читаем: «Красотá — эстетическая (неутилитарная, непрактическая) категория, обозначающая совершенство, гармоничное сочетание аспектов объекта, при котором последний вызывает у наблюдателя эстетическое наслаждение. Красота является важнейшей категорией культуры. В своём эстетическом восприятии понятие красоты близко к понятию прекрасного, с той разницей, что последнее является высшей (абсолютной) степенью красоты».
Гармония — основа прекрасного. Хаос, напротив, — основа безобразного. В том же источнике обнаруживаем подтверждение: «Безобрáзное — категория из области эстетики, противопоставляемая прекрасному. Также является соотносительной с категорией „прекрасное“. Безобразное определяется как проявляемое внешне нарушение определенной внутренней меры бытия. Само по себе слово „безобразное“ означает „отсутствие образа“, то есть нечто хаотичное, бесформенное».
Слово «красота» всеохватно. Оно употребляется как по отношению к природным явлениям, так и по отношению к психическим и культурным. Об универсальной природе красоты, между прочим, свидетельствует тот факт, что слово κοξμοξ в древнегреческом языке означает не только универсум, вселенную, мироздание, космос, но и прекрасное, красоту, украшение (отсюда косметика), хотя имелось в этом языке и особое слово для красоты (прекрасного): χαλό.
Источником красоты для греческих философов был в первую очередь космос. Красотой космоса восхищались, например, Фалес и Гераклит. Они пытались вместе с тем найти первооснову прекрасного. Пифагорейцы искали её в числовой упорядоченности его носителей, Платон — в соответствии вещи её идее (идеальному образцу), Диоген — в мере и т. д.
Демокрит, с одной стороны, истолковывал красоту как универсальную категорию, приписывая её носителю гармонию составляющих его частей, а с другой стороны, в своём сочинении «О красоте слов» в какой-то мере придал категории прекрасного эстетическую значимость, поскольку стал применять её к литературным произведениям — в первую очередь к поэмам Гомера. По свидетельству М.Т. Цицерона, Демокрит говорил так: «Гомер, получив в удел божественный талант, возвёл великолепное здание разнообразных стихов, так как, не обладая божественной и сверхъестественной природой, невозможно сочинить столь прекрасные и мудрые стихи» (Памятники мировой эстетической мысли. Т. 1. Античность, Средние века, Возрождение / под ред. В.П. Шестакова. М., 1962, с. 87).
Платон и Аристотель соединили красоту с добром. Вышла калокагатия (прекрасно-доброе). Это понятие имеет отношение как к эстетике, так и к этике. Но они, вместе с тем, искали определение и красоты как таковой. Так, Аристотель, по уже сложившейся традиции, связывал красоту с порядком. Он писал: «Главные формы прекрасного — это порядок (в пространстве), соразмерность и определённость» (там же, с. 24), а в «Поэтике» он добавляет к этим признакам красоты ещё ограниченность и единство многообразия.
Свою главную задачу в истолковании категории красоты в Средние века христианские богословы видели в том, чтобы осуществить её теологизацию. Так, Августин Блаженный вслед за Плотином объявил: «Мир прекрасен потому, что его сотворил Бог; Бог есть сверхчувственная, вечная и абсолютная красота; искусство даёт не реальные образы этой красоты, а лишь её субстанциальные формы, поэтому нравится не само произведение искусства, а та божественная идея, которая заключена в нём» (с. 37).
В эпоху Возрождения категория красоты вырывается из-под опеки теологии. Её направляют в эстетическое русло. Более того, мыслители и художники этого времени были убеждены, что только искусство способно передать подлинную красоту. А источник этой красоты они видели в природе, т. е. в объективном мире. В этом мире поэты видели по преимуществу женскую красоту.
Франческо Петрарка (1304–1374) обессмертил своё имя сонетами о мадонне Лауре. Она была для него эталоном красоты. На других красавиц он смотрел сквозь призму этого эталона:
Когда в её (Лауры. — В.Д.) обличии проходит Сама Любовь меж сверстниц молодых, Растёт мой жар, — чем ярче жён других Она красой победной превосходит.Поэзия Ф. Петрарки породила целую плеяду подражателей (петраркистов), многие из которых пошли по пути эротизации отношений между мужчиной и женщиной. Джордано Бруно вовсе не был пуританином, но его возмущала односторонность поэтов, смакующих своё любование женскими прелестями. С присущим ему пылом он писал: «Поистине только низкий, грубый и грязный ум может постоянно занимать себя и направлять свою любознательную мысль вокруг да около красоты женского тела. Боже милостивый! Могут ли глаза, наделённые чистым чувством, видеть что-либо более презренное и недостойное, чем погружённый в раздумья, угнетённый, мучимый, опечаленный, меланхоличный человек, готовый стать то холодным, то горячим, то лихорадящим, то трепещущим, то бледным, то красным, то со смущённым лицом, то с решительными жестами, — человек, который тратит лучшее время и самые изысканные плоды своей жизни, изводя эликсир мозга лишь на то, чтобы обдумывать, описывать и запечатлевать в публикуемых произведениях те беспрерывные муки, те тяжкие страдания, те размышления, те томительные мысли и горчайшие усилия, которые отдаются в тиранию недостойному, глупому, безумному и гадкому свинству?» (Штекли А.Э. Джордано Бруно. М., 1964, с. 220).
Александр Готлиб Баумгартен (1714–1762) ввёл в науку термин «эстетика». Он поделил красоту на природную и художественную. Во втором случае она выступает как эстетическая категория. А.Г. Баумгартен писал: «Цель эстетики — совершенство чувственного познания как такового и это есть красота. Притом следует остерегаться его несовершенства как такового, которое есть безобразность» (Памятники мировой эстетической мысли. Т. 2. Эстетические учения XVII–XVIII веков / под ред. В.П. Шестакова. М., 1964. с. 455).
Вслед за античными философами мыслители Нового времени пытались найти основные признаки красоты. У Ш. Бато это мера, ритм и порядок; у У. Хогарта — совершенные пропорции и синусоида и т. д. Но вопрос о том, что такое красота, до сих пор остаётся открытым.
Уже в XIX в. появляется мнение, что прекрасное не может претендовать на положение базовой категории в искусстве. Более того, великий писатель земли русской Лев Толстой в своём трактате «Что такое искусство?» заявил: «Красота, или то, что нам нравится, никак не может служить основанием определения искусства, и ряд предметов, доставляющих нам удовольствие, никак не может быть образцом того, чем должно быть искусство. Видеть цель и назначение искусства в получаемом нами от него наслаждении — всё равно, что приписывать, как это делают люди, стоящие на самой низшей степени нравственного развития (дикие, например), цель и значение пищи в наслаждении, получаемом от принятия её» (Толстой Л.Н. Собр. соч.: в 20 т. Т. 15. Статьи об искусстве и литературе. М., 1964, с. 81–82).
Отвергнув красоту в качестве идеала, к которому стремится искусство, Л.Н. Толстой пришёл к собственному пониманию искусства: «Вызвать в себе раз испытанное чувство и, вызвав его в себе, посредством движений, линий, красок, звуков, образов, выраженных словами, передать это чувство так, чтобы другие испытали то же чувство, — в этом состоит деятельность искусства. Искусство есть деятельность человеческая, состоящая в том, что один человек сознательно известными внешними знаками передаёт другим испытываемые им чувства, а другие люди заражаются этими чувствами и переживают их» (там же, с. 87).
Выходит, что автор этих слов в «Войне и мире», например, передавал одни чувства, а как быть с его мыслями? О противоестественности войны, например?
Несмотря на, казалось бы, убийственные аргументы, которые Л.Н. Толстой приводит в своём трактате против понимания искусства как такого рода деятельности, которая держится на красоте, мы оставляем категорию красоты в качестве базовой для художника.
Перед художником — бездна задач. В конечном счете, он создаёт свою, художественную, картину мира. Другой вопрос: как это ему удаётся? Но о чём бы он ни писал, что бы он ни изображал, какими бы звуками он ни выражал свои чувства и мысли, — в любом виде искусства, никогда он не должен терять из виду прекрасное. Пусть оно будет недостижимым идеалом. Но оно всегда должно маячить в его сознании. Для чего? Чтобы вести читателя, зрителя, слушателя не назад, к животным предкам, а вперёд — к жизни, какой она может и должна быть. Это прекрасно сознавали чеховские герои, мечтающие о будущей жизни. Это прекрасно сознавал их автор. Никогда настоящий художник не должен забывать о том прекрасном, что есть в жизни. Его высшая цель, высший смысл его жизни — приближать жизнь, в которой будет править бал красота, а не её отвратительная противоположность. Искусство — великая сила в нашем очеловечении.
Доказывать культурогеническую роль искусства в человеческой эволюции — значит ломиться в открытую дверь. Каждый понимает, что приобщение человека к искусству есть не что иное, как один из способов инкультурации, под которой понимают «процесс приобщения индивида к культуре, усвоения им существующих привычек, норм и паттернов поведения, свойственных данной культуре» (-Agent&Pagename=defacto.html).
Вот как объяснял очеловечивающую функцию искусства в древности М.С. Каган: «Для первобытного человека первоначальные формы художественной деятельности — создание мифов, песен, танцев, изображение зверей на стенах пещер, украшение орудий труда, оружия, одежды, самого человеческого тела — имели огромное значение, так как способствовали сплочению коллективов людей, развивали их духовно, помогали им осознавать их социальную природу, их отличие от животных, т. е. служили великому историческому делу очеловечения человека» ().
Функцию гоминизации (очеловечения) искусство будет выполнять всегда, но нет ли у неё и совсем противоположной функции — функции анимализации человека, т. е. превращения его в животное? Так называемое массовое искусство, рассчитанное не на эволюцию, а на инволюцию человека, по существу превращает искусство в свою противоположность — антиискусство. Но — как суррогат художественной культуры — оно делает в обществе своё разрушительное дело. Как же отличить искусство от лжеискусства с эволюционистской точки зрения? Теоретически очень просто: первое ведет к Человеку (с большой буквы), а другое — к дикарю, к животному. Первое рождает стремление к истине, красоте, справедливости, добру, любви, состраданию, единению с другими людьми и т. п., а второе — стремление к лжи, безобразному, несправедливости, злу, ненависти, равнодушию, насилию, разобщённости, эгоизму, культу денег и легкой наживы и т. п. Но на практике лжеискусство часто маскируется под искусство (как и антикультура вообще — под культуру). Вот почему воспитание тонкого художественного вкуса следует строить на приобщении людей к классике — произведениям, выдержавшим проверку временем. В искусстве, как и всюду, нужен строгий эволюционистский отбор.
Люди, ищущие смысл своей жизни в искусстве, рано или поздно оказываются перед вопросом о назначении искусства. Они решают его по-разному. Одни из них, эстеты, преувеличивают самоценность искусства («искусство для искусства»), другие (утилитаристы), напротив, его недооценивают, выводя его цели за пределы искусства как такового — в науку (искусство — особая форма познания), в нравственность (искусство — одна из форм нравственного воспитания), в политику (искусство — одна из форм политической борьбы) и т. д.
До крайних пределов довели свой эстетизм русские футуристы в поэзии. Особенно отличился среди них Алексей Кручёных. Он довёл «самовитое» (т. е. самоценное) слово в своих стихах до зауми. Например, такой:
Оязычи меня щедро ЛЯПАЧ — ты покровитель своего загона чтоб я зычно трепещал и дальш не знал беляжьего звона! — ОТПУСТИ ЛОМИЛИЦУ МНЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ Оязычи ляма щад Трыпр ВЫВОВ ПИКАР Сов за ЦБЫЧ! ЩАРЕТ! ЛЯМАШа… узаль БЯ узвО ло тимлицИ Зод зод дров!.. фью кем гести Хость Павиан Терпкий полотёр Половинный ПОЛОВИНАХ киян.Крайним утилитаристом в некоторых своих стихах был поздний В.В. Маяковский. У него мы можем прочитать:
Я всю свою звонкую силу поэта Тебе отдаю, атакующий класс.Между эстетами и утилитаристами живут диалектики, одни из которых тяготеют к эстетам (А.А. Фет), а другие — к утилитаристам (Н.А. Некрасов). Последний стремился посвятить свою лиру народу своему, его освобождению от угнетателей. Вот как он обрисовал свою лиру:
Вчерашний день, часу в шестом, Зашел я на Сенную; Там били женщину кнутом, Крестьянку молодую. Ни звука из её груди, Лишь бич свистал, играя… И Музе я сказал: «Гляди! Сестра твоя родная!».Служение народу поэт ставил превыше всего. В своей «Элегии» он писал:
Я лиру посвятил народу своему. Быть может, я умру неведомый ему, Но я ему служил — и сердцем я спокоен… Пускай наносит вред врагу не каждый воин, Но каждый в бой иди! А бой решит судьба… Я видел красный день: в России нет раба! И слёзы сладкие я пролил в умиленье… «Довольно ликовать в наивном увлеченье, — Шепнула Муза мне. — Пора идти вперёд: Народ освобождён, но счастлив ли народ?».Спор между эстетами и утилитаристами есть спор о соотношении в искусстве формы и содержания. Первые отдают предпочтение форме, а другие — содержанию. Великие художники отдают предпочтение содержанию перед формой. Но отсюда не следует с их стороны пренебрежение формой. Точки над i здесь гениально расставил А.С. Пушкин.
Ещё в пятнадцать лет А.С. Пушкин заявил князю А.М. Горчакову: «Набором громозвучных слов я петь пустого не умею» (Пушкин А.С. Собр. соч.: в 10 т. Т. 1. Стихотворения 1813–1824 (Юг). М., 1981, с. 38).
На первое место в любом речевом произведении А.С. Пушкин ставил его содержание. Его недостатком и чрезмерным вниманием к форме он объяснял, в частности, забвение поэзии Франсуа Малерба (1555–1628) и Пьера де Ронсара (1524–1585). В статье «О ничтожестве литературы русской» (1834) А.С. Пушкин писал: «Малерб ныне забыт подобно Ронсару, сии два таланта, истощившие силы свои в усовершенствовании стиха… Такова участь, ожидающая писателей, которые пекутся более о наружных формах слова, нежели о мысли, истинной жизни его, не зависящей от употребления!» (там же. Т. 6, с. 208).
Забота о мысли в художественном произведении вовсе не приводила А.С. Пушкина к пренебрежению формой их языкового выражения. Особое значение в прозе он придавал двум её особенностям — точности и краткости. Он писал: «Точность и краткость — вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей — без них блестящие выражения ни к чему не служат» (там же, с. 10–11).
Вот как писал двадцатитрёхлетний поэт в только что процитированной статье «О прозе» о людях, не научившихся изъясняться точно и кратко: «Эти люди никогда не скажут дружба, не прибавя: сие священное чувство, коего благородный пламень и пр. Должно бы сказать: рано поутру — а они пишут: едва первые лучи восходящего солнца озарили восточные края лазурного неба — ах, как это всё ново и свежо, разве оно лучше потому только, что длиннее. Читаю отчёт какого-нибудь любителя театра: сия юная питомица Талии и Мельпомены, щедро одаренная Апол… боже мой, да поставь: эта молодая хорошая актриса — и продолжай — будь уверен, что никто не заметит твоих выражений, никто спасибо не скажет. Презренный зоил, коего неусыпная зависть изливает усыпительный свой яд на лавры русского Парнаса, коего утомительная тупость может только сравниться с неутомимой злостию… боже мой, зачем просто не сказать лошадь?» (Пушкин А.С. Указ. соч., Т. 6, с. 10–11).
Есть множество путей, ведущих в искусство. Есть и необычные — не непосредственные — через художественные произведения, а опосредованные, — например, через письма, дневники, публицистику тех или иных художников. Попробуем, так сказать, опосредованно прикоснуться к душе двух наших поэтических гениев — А.С. Пушкина и А.А. Блока.
Письма А.С. Пушкина к П.А. Вяземскому
Первое письмо А.С. Пушкина к П.А. Вяземскому датируется 27 марта 1816 г. Ему нет семнадцати! До окончания Царскосельского лицея ещё целый год! Между тем уже в этом письме мы обнаруживаем тот шутливый тон, которому А.С. Пушкин будет верен в письмах к П.А. Вяземскому всю жизнь. Вот как лицеист А.С. Пушкин обращается к бывшему офицеру, участнику войны 1812 г., который старше его на семь лет: «…Так и быть; уж не пеняйте, если письмо моё заставит зевать ваше пиитическое сиятельство; сами виноваты; зачем дразнить было несчастного царскосельского пустынника, которого уж и без того дёргает бешеный демон бумагомарания» (Пушкин А.С. Собр. соч.: в 10 т. Т. 9. — М.: Правда, 1981, с. 66).
Уже со следующего, 1817 г. автор этого письма перейдёт с адресатом на уверенное «ты». Нечего говорить о том, что в письмах 20-х годов А.С. Пушкин будет обращаться с П.А. Вяземским на равных. В эти годы он станет баловнем славы. Его литературные друзья (А. Дельвиг, В. Жуковский, К. Рылеев, А. Бестужев-Марлинский и др.) станут вполне сознавать величие его поэтического гения. Вот что, например, 12 февраля 1825 г. писал А.С. Пушкину незадолго до казни поэт-декабрист Кондратий Рылеев: «Ты всегда останешься моим учителем… Гений… Сирена… Чародей… Ты идёшь шагами великана и радуешь истинно русские сердца…» (Тыркова-Вильямс А. Жизнь Пушкина. Т. 2. 1824–1837. М.: Молодая гвардия, 2006, с. 104).
В числе вполне сознающих цену А.С. Пушкину был и П.А. Вяземский, хотя далеко не всегда последний пел дифирамбы первому. Мы узнаём об этом, например, по письму А.С. Пушкина П.А. Вяземскому от 1 сентября 1822 г.: «Ты говоришь, что стихи мои никуда не годятся. Знаю…» (Пушкин А.С. Указ. соч. Т. 9, с. 96). Но вот что характерно: несмотря на свою славу, в общении с друзьями А.С. Пушкин оставался прежним. По-прежнему в шутливом тоне, который задал юный А.С. Пушкин, отвечал на письма вполне зрелого поэта и П.А. Вяземский. В одном из писем (от 6 сентября 1824 г., уже написаны первые главы «Евгения Онегина») он писал А.С. Пушкину: «Спасибо тебе, мой милый виртуоз. Пожалуйста, почаще брянчи, чтобы я не вовсе рассохся. Письмо Тани прелесть и мастерство» (Вильямс-Тыркова А. Указ. соч., с. 105).
Главным предметом переписки А.С. Пушкина с П.А. Вяземским была литература. С лёгкостью необыкновенной наш первый поэт охарактеризовывал творчество своих собратьев. В его суждениях о писателях мы обнаруживаем как хвалебные суждения, так и уничижительные. Начнём с первых.
Вот что он писал князю 2 января 1822 г. о Евгении Абрамовиче Баратынском (1800–1844): «Но каков Баратынский? Признайся, что он превзойдет и Парни и Батюшкова — если впредь зашагает, как шагал до сих пор — ведь 23 года счастливцу (как и автору этого письма. — Б.Д.)! Оставим всё ему эротическое поприще и кинемся каждый в свою сторону, а то спасенья нет» (Пушкин А.С. Указ. соч. Т. 9, с. 89).
Очень остроумно А.С. Пушкин оценил Вольтера: «Вольтер первый пошёл по новой дороге — и внёс светильник философии в тёмные архивы истории» (5 июля 1824. Там же, с. 141).
Даже о великих поэтах А.С. Пушкин высказывался порой неоднозначно. Таковы, например, были его высказывания о Ч. Байроне и А.С. Грибоедове. О первом он, в частности, писал: «Гений Байрона бледнел с его молодости» (24–25 июня 1824. Там же, с. 139). А вот какую любопытную оценку он дал грибоедовскому «Горю от ума»: «Читал я Чацкого — много ума и смешного в стихах, но во всей комедии ни плана, ни мысли главной, ни истины. Чацкий совсем не умный человек, но Грибоедов очень умён» (28 января 1825. Там же, с. 163).
Но были и такие литераторы, которым А.С. Пушкин давал убийственные характеристики. Приведу только два примера — с И.И. Дмитриевым и Ф.В. Булгариным.
Об Иване Ивановиче Дмитриеве (1760–1837) — русском сентименталисте в поэзии — А.С. Пушкин писал: «И что такое Дмитриев? Все его басни не стоят одной хорошей басни Крылова; все его сатиры — одного из твоих посланий, а всё прочее первого стихотворения Жуковского» (8 марта 1824. Пушкин А.С. Указ. соч., с. 132).
О ненавистном Фаддее Булгарине и иже с ним А.С. Пушкину говорить долго не пристало: «Каков Булгарин и вся братья! Это не соловьи-разбойники, а грачи-разбойники» (начало апреля 1824. Там же, с. 134).
У А.С. Пушкина был широкий круг интересов. Его заботило состояние русской цензуры. Его заботило состояние русской критики. Его заботило состояние языка художественной литературы. И многое другое.
О литературной критике в письме П.А. Вяземскому от 7 июня 1824 г. из Одессы у А.С. Пушкина читаем: «Критики у нас, чувашей, не существует, палки как-то неприличны; о поединке и смех и грех было бы думать: то ли дело цып-цып или цыц-цыц» (там же, с. 137).
А.С. Пушкин отстаивал самобытность русского языка: «Я не люблю видеть в первобытном нашем языке следы европейского жеманства и французской утончённости. Грубость и простота более ему пристали» (1–8 декабря 1823. Там же, с. 126).
Разумеется, А.С. Пушкин не мог не сообщать П.А. Вяземскому о своих поэтических делах. Например, таких: «Я барахтаюсь в грязи молдавской, чёрт знает, когда выкарабкаюсь. Ты — барахтайся в грязи отечественной и думай:
Отечества и грязь сладка нам и приятна. Сверчок (арзамасское прозвище А.С. Пушкина. — В.Д.)Вот тебе несколько пакостей:
Христос воскрес, Христос воскрес, моя Ревекка! Сегодня следуя душой Закону бога-человека, С тобой целуюсь, ангел мой. А завтра к вере Моисея За поцелуй я не робея Готов, еврейка, приступить — И даже то тебе вручить, Чем можно верного еврея От православных отличить. ___ Иной имел мою Аглаю За свой мундир и чёрный ус, Другой за деньги — понимаю, Другой за то, что был француз, Клеон — умом её стращая, Дамис — за то, что нежно пел, Скажи теперь, мой друг Аглая, За что твой муж тебя имел?» (Март 1823. Из Кишинёва в Петербург. Там же, с. 109–110)О себе как литераторе А.С. Пушкин писал так: «Я пишу для себя, а печатаю для денег, а ничуть для улыбки прекрасного пола» (8 марта 1824. Там же, с. 132). Его письма к П.А. Вяземскому большей частью имеют деловую направленность. Одно время князь издавал его произведения. Вот почему А, с. Пушкин в своих письмах часто давал ему советы, как это сделать с меньшими потерями. По поводу цензуры, в частности, он писал: «…не уступай этой суке цензуре, отгрызывайся за каждый стих и загрызи её, если возможно, в моё воспоминание» (4 ноября 1823. Там же, с. 120).
Начиная с лета 1823 г. А.С. Пушкин допускает большую свободу в выборе обращений к П.А. Вяземскому. Вот какие обращения мы обнаруживаем, например, в письме от 19 августа 1823 г.: «Мне скучно, милый Асмодей, я болен, писать хочется — да сам не свой… Ещё одна просьба: если возьмёшься за издание — не лукавь со мною, возьми с меня, что оно будет стоить — не дари меня — я для того только до сих пор и не хотел иметь с тобою дела, милый мой аристократ… Прощай, моя прелесть…» (там же, с. 115). В дальнейшем А.С. Пушкин расширил диапазон обращений к П.А. Вяземскому: аггел Асмодей, душа моя Асмодей, преосвященный владыко Асмодей, милый, мой милый, милый европеец, бессовестный и т. п.
Со временем отношения между А.С. Пушкиным и П.А. Вяземским стали суховатыми (из них исчезли, в частности, былые изощрённые обращения), но до самой смерти А.С. Пушкина они оставались деловыми и дружескими.
О культурологических размышлениях Александра Блока (на материале его дневников)
О поэзии Александра Александровича Блока (1880–1921) написаны горы книг и статей. Нередко в них цитируются и его дневниковые записи. Но я не нашёл ни одной работы о его дневниках в целом. Между тем не только по художественным произведениям того или иного автора мы можем судить о его картине мира, но и по его дневникам, подобно тому как по дневникам Л.Н. Толстого мы можем воссоздать нравственную картину мира его автора. Но А.А. Блок, в отличие от Л.Н. Толстого, и в своих дневниках оставался художником по преимуществу.
Знакомство с дневниками А.А. Блока показывает, что центральное положение в его картине мира занимала духовная культура. Попробуем здесь приглядеться к наиболее ярким культурологическим размышлениям его автора о религии, науке, искусстве, нравственности, политике и языке.
Религия.
Религией А.А. Блока была поэзия. Ещё в молодости он записал: «Стихи — это молитвы. Сначала вдохновенный поэт-апостол слагает её в божественном экстазе. И всё, чему он слагает её, — в том кроется его настоящий Бог» (Блок А.А. Собр. соч. в 6 т. Т. 6. М., 1971, с. 102: 7 января 1902). К этому Богу поэт приобщает своего чуткого читателя: «Потом чуткий читатель. Вот он схватил жадным сердцем неведомо полные для него строки, и в этом уже и он празднует своего Бога» (там же). «Бог» здесь — метафора. Она призвана поднять поэзию на божественную высоту.
Но каким было отношение А.А. Блока не к метафорическому богу, а к настоящему — Иисусу Христу? Противоречивым. С одной стороны, со школьной скамьи мы помним, как заканчивается поэма «Двенадцать» (там же. Т. 3, с. 243):
…Так идут державным шагом, Позади — голодный пёс, Впереди — с кровавым флагом, И за вьюгой невидим, И от пули невредим, Нежной поступью надвьюжной, Снежной россыпью жемчужной, В белом венчике из роз — Впереди — Исус Христос.А с другой стороны, в то самое время, когда шла интенсивная работа над поэмой «Двенадцать», в своём дневнике А.А. Блок оставил запись, которая свидетельствует о том, что его автор собирался написать пьесу на евангелический сюжет. Иисус в ней должен был бы предстать в следующем виде: «не мужчина, не женщина» (что бы это значило?), «художник. Он всё получает от народа (женская восприимчивость). „Апостол“ брякнет, а Иисус разовьёт», «задумчивый и рассеянный, пропускает их разговоры сквозь уши: что надо, то в художнике застрянет» (там же. Т.6, с. 322–323: 7 января 1918). Об апостолах в свою очередь сказано: «Апостолы воровали для Иисуса (вишни, пшеницу). Их стыдили… Иисуса арестовали. Ученики, конечно, улизнули… Остальное — судебная комедия» (там же).
Даже и этих беглых строчек достаточно, чтобы увидеть, что А.А. Блок собирался представить евангелический сюжет в далеко не боговдохновенном духе. В этом нет ничего удивительного: его переосмысление он собирался осуществить по книге Эрнеста Ренана «Жизнь Иисуса» (1860). В этой книге французский учёный шаг за шагом демифологизирует ортодоксальные представления о жизни Иисуса Христа. Большая часть из них, с его точки зрения, — вымысел евангелистов.
Вот то немногое, что, по Э. Ренану, не подлежит сомнению: «Я уже говорил об этом и повторяю ещё раз: если заставить себя, излагая жизнь Иисуса, упоминать только о несомненных фактах, то пришлось бы ограничиться лишь несколькими строчками. Он существовал, был родом из Назарета в Галилее. Проповедь его была обаятельна, и от неё сохранились в памяти его учеников афоризмы, глубоко в ней запечатлевшиеся. Главными из его двух учеников были Кифа и Иоанн, сын Зеведеев. Иисус возбудил к себе ненависть правоверных евреев, которым удалось предать его смертной казни при содействии Понтия Пилата, бывшего в то время прокуратором Иудеи. Он был распят на кресте за воротами города. Спустя некоторое время распространился слух, будто он воскрес. Вот всё, что вам было бы известно с достоверностью» (Ренан Э. Жизнь Иисуса. URL: ).
Отсюда следует, что чудеса, приписываемые Иисусу Христу, — выдумка евангелистов. С дипломатической хитрецой Э. Ренан пишет о том, что он лично против чуда ничего не имеет, но всё дело в том, что наука не подтвердила реальность ни одного чуда. В своей книге он лишает Иисуса Христа чудодейственных способностей, а это означает, что он развенчивает его как Бога, ибо Бога без этих способностей не бывает. По этому пути и собирался идти А.А. Блок в задуманной пьесе об Иисусе Христе.
Двойственность отношения А.А. Блока к основателю христианства обнаруживается в записи, сделанной 10 марта 1918 г. С одной стороны, он писал: «Если бы в России существовало действительное духовенство, а не только сословие нравственно тупых людей духовного звания, оно давно бы „учло“ то обстоятельство, что „Христос с красногвардейцами“. Едва ли можно оспорить эту истину, простую для людей, читавших Евангелье и думавших о нём» (с. 335). А с другой стороны, эта запись заканчивается так: «Разве я „восхвалял“? (Каменев). Я только констатировал факт: если вглядеться в столбы метели на этом пути, то увидишь „Исуса Христа“. Но я иногда сам глубоко ненавижу этот женственный призрак» (там же).
Как совместить эти два взгляда на Иисуса Христа со стороны автора поэмы «Двенадцать»? В первом случае он выступает как автор, адресующий свою поэму читателям из простого народа, чтобы убедить их в святости революции, ибо она очищает землю от буржуазной черни, а во втором случае он пишет о собственном отношении к Иисусу. В этом отношении преобладал негативизм. В одном из писем он с раздражением писал об Иисусе Христе: «Я Его не знаю и не знал никогда» (Турков А.М. Александр Блок. М., 1969, с. 62).
Наука.
Летом 1902 г. А.А. Блок размышлял о четырёх культурологических категориях — Боге, истине, красоте и добре. Из стремления к постижению первой из них родилась религия, из стремления к постижению второй — наука, из стремления к постижению третьей — искусство и из стремления к постижению четвёртой — нравственность. По своему содержанию, с его точки зрения, истина богаче красоты и добра. Последние лишь подражают первой, но вовсе не исчерпывают всего её содержания. Вот как А.А. Блок резюмировал свои размышления об иерархии перечисленных духовно-культурных идеалов: «Красота (искусство) и Добро подражают Истине, но исчерпывают лишь малые её элементы, которые в синтезе (не логическом) дают новое „нечто“, чего нет ни в Красоте, ни в Добре» (т. 6, с. 125: 13 июля 1902).
Может показаться странным, что науку здесь А.А. Блок ставит выше искусства и нравственности. Но следует учесть, что приведённые слова написаны не только начинающим поэтом, но и начинающим исследователем: их автор в это время был студентом славяно-русского отделения филологического факультета Петербургского университета. Он ещё был на распутье — между искусством и наукой. С одной стороны, уже вышло его самое известное стихотворение «мистического лета» 1901 г. «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо…», а с другой стороны, в его дневнике мы обнаруживаем черновики его научных статей. С увлечением он исследовал историю русской литературы, мифологию славян, их фольклор и языки. В дальнейшем он выберет путь художника, но учёный в нём продолжал жить до конца его дней. Об этом свидетельствуют его многочисленные статьи. Об этом свидетельствуют его многочисленные дневниковые записи. Возьмём, например, его записи о философии.
В философии его кратковременным кумиром оказался Владимир Соловьёв. Вот какую восторженную запись о нём мы можем прочитать у А.А. Блока: «На великую философскую борьбу вышел гигант — Соловьёв… Осыпались пустые цветы позитивизма, и старое древо вечно ропщущей мысли зацвело и зазеленело метафизикой и мистикой. Страницы новых учений озарились неудержимым потоком любовного света…» (с. 103: 7 января 1902).
Под влиянием В.С. Соловьёва А.А. Блок собирался стать основателем особого направления в философии — мистического. «Давно уже хочу я положить основание мистической философии», — писал он 26 июня 1902 г. (с. 121). Но «основание мистической философии» автору этих слов положить не удалось. Довольно быстро он разочаровался в учении своего философского учителя. В июне 1904 г. он писал: «Я в этом месяце силился одолеть „Оправдание добра“ Вл. Соловьёва и не нашёл там ничего, кроме некоторых остроумных формул средней глубины и непостижимой скуки. Хочется всё делать напротив, назло» (Турков А.М. Указ. соч., с. 62).
А.А. Блок расценивал науку в качестве «чернорабочего», инструментом которого является исследовательский метод (Блок А.А. Указ. соч. Т. 6, с. 125: 13 июля 1902). Но он был против догматизации каких-либо методов, даже если они были разработаны великими людьми. Он писал: «Догматизм, как утверждение некоторых истин, всегда потребен в виде основания (ибо надо же исходить из какого-нибудь основания). Но не лучше ли „без догмата“ опираться на бездну — ответственность больше, зато — вернее» (там же, с. 118: 22 марта 1902). Под «бездной» здесь имеется в виду бесконечное многообразие реального мира. Мысль, высказанная в этой записи, перекликается с известными гётевскими строчками:
Суха теория, мой друг, А древо жизни вечно зеленеет.В зрелые годы А.А. Блок направил свои философские размышления по науковедческому руслу. В синтезировании и систематизации данных, полученных частными науками, великий позитивист Герберт Спенсер совершенно справедливо видел главное назначение философии: «…объединённое знание возможно, и цель философии — достижение его… Философия — вполне объединённое знание» (Антология мировой философии. Т. 3. М., 1971, с. 609). Но А.А. Блок, к сожалению, этого в позитивизме не заметил. Вот почему, как и в молодые годы, в позитивизме (к которому он добавил материализм) он по-прежнему видел главный источник чрезмерной дифференциации современной науки.
В статье «Крушение гуманизма» (1919) А.А. Блок нашёл одну из причин утраты ренессансного гуманизма в том, что процессы дифференциации в науке стали преобладать над процессами её интеграции. Наука в результате рассыпалась на множество дисциплин, часто между собой не связанных.
Проблема чрезмерной дифференциации науки приобрела в наше время чудовищную форму. Вот как об этом написали современные исследователи: «Чрезвычайная, искусственная специализация науки стала отторгать учёных-мыслителей, систематизаторов, строителей целостных теорий. Убогое мелкотемье стало ликом сегодняшней науки. Удел современного учёного — изучать строение левой задней ножки блохи, не пытаясь воспарить разумом до таких высот, как осмысление строения всей блохи целиком… Вульгарно-утилитарный подход, расчленяющий проблему на мелкие детали и не рассматривающий систему как целое, проник и в науки о человеке, в частности, в медицину, изуродовав эту науку. Так возникла армия врачей — „специалистов“, которые лечат искусственным вмешательством в организм посредством химических веществ или ножа хирурга, забывая, что человек есть целостная система, управляемая духовным началом… Сегодня великого Д.И. Менделеева обвинили бы в том, что он лишь систематизирует чужие данные, не получая оригинальных. Сегодня его наверняка снова не выбрали бы в Академию и даже, пожалуй, выгнали бы из академического института — уж очень мало писал он статей, потратив слишком много времени на свой „Периодический Закон“» (Бояринцев В.И., Фионова Л.К. Кризис мировой науки: ДЗВОН, 2010. 21.2. URL: ).
Д.И. Менделеев, как известно, был тестем А.А. Блока. Поэт мог воочию наблюдать за учёным, который был энциклопедически образованным человеком. Чрезвычайно широким научным — философским и культурологическим — кругозором обладал и его зять.
Искусство.
Александр Блок был художником. Вот почему размышления об искусстве в его дневнике занимают преобладающее место. Выделим здесь лишь наиболее важные дневниковые суждения поэта о некоторых направлениях в русской поэзии.
1902 г. был для студента Александра Блока годом выбора дальнейшего пути: поэзия или наука? А если поэзия, то по какому пути идти в ней? Он стал вписывать себя в декадентство. Но «декадентство» А.А. Блока было весьма сомнительным. Репутацию декадента он создал себе главным образом сам. При этом понимание декадентства у него было крайне противоречивым. Он делил декадентов на две группы — хорошие и дурные. Последние соответствуют этимологии слова decadence «упадок», а первые — нет. А.А. Блок был против того, чтобы «хороших декадентов» называть декадентами. Он писал: «Есть два рода литературных декадентов: хорошие и дурные; хорошие — это те, которых не следует называть декадентами (пока только отрицательное определение); дурные — те, кому это имя принадлежит, как по существу, так и этимологически» (Блок А.А. Указ. соч. Т. 6, с. 105: 7 января 1902).
С этим нельзя не согласиться. Между тем, пренебрегая первоначальным заявлением, сам А.А. Блок стал относить к «хорошим декадентам» Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Я.П. Полонского и В.С. Соловьёва. В этом ряду он мыслил и самого себя. Ф.И. Тютчев в нём выглядит как основатель декадентства в русской поэзии. Но — только в русской, а в Древнем Риме им был… Вергилий, живший ещё в I в. до н. э.
О Вергилии у А.А. Блока написано следующее: «…как это ни странно „публике“ — декадентство в самом неподдельном виде встречается и… у Вергилия» (там же, с. 109). В свою очередь Ф.И. Тютчева А.А. Блок называет «явным декадентом» (там же). Но в чём же состояло декадентство Ф.И. Тютчева? «Примером ярко декадентского настроения могут служить стихотворения „Безумие“ и „Весь день она лежала в забытьи“. Первое напоминает современную живопись — какое-то странное чудовище со „стеклянными очами“, вечно устремлёнными в облака, зарывшееся „в пламенных песках“. Второе — ясное искание „глубинных“ чувств…» (там же). Так в чём же здесь декадентство? Где здесь «упадничество»? Нет ответа.
Может быть, не стоит придавать значение противоречивым размышлениям молодого А.А. Блока о сущности декадентства? Может быть, но репутация декадента за ним в дальнейшем прочно закрепилась. Как декадента его воспринимал М. Горький. В своих воспоминаниях об А.А. Блоке он писал: «… это человек, чувствующий очень глубоко и разрушительно. В общем: человек „декаданса“» (Горький М. Литературные портреты. М., 1961, с. 369).
В чём же состояло разрушительство А.А. Блока? Может быть, в таком его «упадническом» стихотворении, как это:
Как тяжело ходить среди людей И притворяться не погибшим, И об игре трагической страстей Повествовать ещё не жившим. И вглядываясь в свой ночной кошмар, Строй находить в нестройном вихре чувства, Чтобы по бледным заревам искусства Узнали жизни гибельный пожар! (10 мая 1910)Или, может быть, в декадентские можно записать такие его строчки:
Похоронят, зароют глубоко, Бедный холмик травой порастёт, И услышим: далёко, высоко На земле где-то дождик идёт…Никакого упадничества здесь нет. Здесь есть только гольная трагическая правда. К тому же А.А. Блок её смягчает последним четверостишьем:
Торопиться не надо, уютно; Здесь, пожалуй, подумаем мы, Что под жизнью беспутной и путной Разумели людские умы. (18 октября 1915)Если в подобных стихотворениях А.А. Блока находить decadence, то в декаденты надо зачислить чуть ли не всех русских поэтов — А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Ф.И. Тютчева, И.А. Некрасова и т. д. Не буду здесь приводить их стихотворения о трагичности человеческой жизни, заканчивающейся неизбежной смертью, скажу только одно: слухи о декадентстве А.А. Блока явно преувеличены.
Сам А.А. Блок в зрелые годы перестал размышлять о декадентстве, он стал иронично относиться к любым литературным ярлыкам вообще. Вот так, например:
Критик, громя футуризм, Символизмом шпынял, Заключив реализмом. (24 мая 1914)Но в своих дневниках А.А. Блок иногда позволял себе поразмышлять о литературных направлениях в поэзии. По поводу модернистской поэзии он писал: «О модернистах я боюсь, что у них нет стержня, а только — талантливые завитки вокруг пустоты» (с. 228: 11 октября 1912).
В следующем году на поэтическом горизонте замаячат футуристы. Следуя своему юношескому завету не быть догматиком, он открывает перед ними зелёную дорогу и даже ставит их выше акмеистов: «Футуристы в целом, вероятно, явление более крупное, чем акмеизм. Последние — хилы, Гумилева тяжелит „вкус“, багаж у него тяжёлый (от Шекспира до… Теофиля Готье), а Городецкого держат, как застрельщика с именем; думаю, что Гумилев конфузится и шокируется им нередко. Футуристы прежде всего дали уже Игоря Северянина. Подозреваю, что значителен Хлебников. Е. Гуро достойна внимания. У Бурлюка есть кулак. Это — более земное и живое, чем акмеизм» (с. 252: 25 марта 1913).
Но самую главную заслугу футуристов А.А. Блок увидел вот в чём: «Пушкина научили любить опять по-новому — вовсе не Брюсов, Щеголев, Морозов и т. д.; а… футуристы. Они его бранят, по-новому, а он становится ближе по-новому» (с. 261: 9 января 1914).
А.С. Пушкин был для А.А. Блока синонимом Поэта. В последний раз он успел объясниться ему в любви ровно за семь месяцев до своей смерти 7 августа 1921 г. в речи «О назначении поэта», произнесённой в Доме литераторов на торжественном собрании в 84-ю годовщину смерти А.С. Пушкина. Эта речь — последний поклон одного поэтического гения другому поэтическому гению. Готовясь к этой речи, А.А. Блок записал 7 февраля 1921 г. в своём дневнике: «Перед нашими глазами с детства как бы стоит надпись; огромными буквами написано: Пушкин. Это имя, этот звук наполняет многие дни нашей жизни. Имена основателей религий, великих полководцев, завоевателей мира, пророков, мучеников, императоров — и рядом это имя: Пушкин. Как бы мы ни оценивали Пушкина — человека, Пушкина — общественного деятеля, Пушкина — друга декабристов, Пушкина — мученика страстей, всё это бледнеет перед одним: Пушкин — поэт. Едва ли найдется человек, который не захочет прежде всего связать с именем Пушкина — звание поэта» (с. 377). Это высокое звание пронёс через свою жизнь и автор этих слов.
Нравственность.
Добро и зло — вот два полюса нашей нравственности. У A.А. Блока они нашли такую форму:
И отвращение от жизни, И к ней безумная любовь.На одном полюсе у А.А. Блока было отвращение к черни, на другом — любовь к близким женщинам. Вот как, например, он описывал представительницу первого из них — свою соседку: «Чувство неблагополучия (музыкальное чувство, ЭТИЧЕСКОЕ — на вашем языке) — где оно у вас? Как буржуи, дрожите над своим карманом. В голове этой барышни за стеной — какая тупость, какая скука: домового ли хоронят, ведьму ль замуж выдают. Когда она наконец ожеребится? Ходит же туда какой-то корнет. Ожеребится эта — другая падаль поселится за переборкой, и так же будет выть, в ожидании уланского жеребца» (с. 321–322: 5 января 1918).
Самыми дорогими существами на свете для А.А. Блока были мать и жена. В жизни между ними не было близости. Зато в дневниках А.А. Блока записи о них часто оказывались рядом. Их сближала любовь его автора. Вот одна из них: «Ночью (почти всё время скверно сплю) ясно почувствовал, что если бы на свете не было жены и матери, — мне бы нечего делать здесь (на этом свете. — B.Д.)» (с. 225: 14 июня 1912). Или: «Милая (Люба. — В.П.) занималась книжками с гравюрами, сейчас тихонько ложится в постельку. Мама — печальная, грустная, ей тяжело. Господь с тобой, мама» (с. 234: 20 ноября 1912).
Где это всё? Куда уходит наша любовь? Куда уходит наша ненависть? Куда уходит наша жизнь? Нет ответа. Но у живущих всё по-прежнему:
И отвращение от жизни, И к ней безумная любовь.Как бы мы ни изощрялись в объяснении этой гениальной формулы нашего отношения к жизни, но отвращение идёт в конечном счёте от сознания нашей уникальности в этом мире, а любовь — от сознания нашего единства с другими людьми. Иначе говоря, в основе любви лежит мысль о сходстве между людьми, а в основе ненависти — о разнице между ними.
Мы, люди, в большей мере похожи друг на друга в нашей телесной жизни, но нас разделяют чудовищные различия в области душевной и культурной жизни. С одной стороны, мы видим В.И. Вернадского, А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, А.А. Блока и т. п. гениев, продвинувшихся на пути очеловечения на расстояние, непреодолимое для большинства, о котором А.М. Горький сказал очень просто:
А вы на земле проживёте, Как черви слепые живут. Ни сказок о вас не расскажут, Ни песен о вас не споют.Но сосредоточенность на своей элитарной уникальности очень опасна: она ведёт в пределе к полной отъединённое™ от тех, о ком ни сказок не расскажут, ни песен не споют. Тогда рождается отвращение — к «грудам человеческого шлака» (с. 378), рождается отвращение к людям, которых А.А. Блок обобщённо называл чернью, а иногда и повыразительнее — обезьянами (Чуковский К.И. Современники. Портреты и этюды. М., 1967, с. 268). Но среди обезьян очень трудно жить. Как быть? Жить среди людей. А это и означает:
И отвращение от жизни, И к ней безумная любовь.Политика.
А.А. Блок никогда не жил вне политики. Но за горло она его схватила в последние годы его жизни — начиная с 1917 г. Он стремился быть независимым. После Февральской революции 1917 г. он писал: «Я никогда не возьму в руки власть, я никогда не пойду в партию, никогда не сделаю выбора, мне нечем гордиться, я ничего не понимаю» (т. 6, с. 303: 13 июля 1917 г.). Но выбор всё-таки пришлось сделать: в начале 1918 г. он написал свою поэму «Двенадцать».
Вне политики А.А. Блок жить не мог. «„Жить вне политики“ (Левинсон)? — записывает автор „Стихов о прекрасной даме“ 28 марта в 1919 г. — С какой же это стати? Это значит — бояться политики, прятаться от неё, замыкаться в эстетизм и индивидуализм, предоставлять государству расправляться с людьми, как ему угодно, своими устаревшими средствами. Если мы будем вне политики, то значит — кто-то будет только „с политикой“ и вне нашего кругозора и будет поступать, как ему угодно» (там же, с. 357).
Переход А.А. Блока на сторону большевиков вызвал бурю негодующего визга в стане Мережковских. Но он сделал его сознательно: он остался со своим народом. Само падение привилегированных сословий после революции 1917 г. он расценивал как историческое возмездие за их социальный паразитизм.
Социальному равенству А.А. Блок придавал очеловечивающее значение: «Одно только делает человека человеком: знание о социальном неравенстве» (с. 336: 12 мая 1918). Это знание кричит: если у одних были «досуг, деньги и независимость, рождались гордые и независимые (хотя в другом и вырожденные) дети» (с. 353: 6 января 1919), то другие жили по преимуществу в бедноте.
А.А. Блок вспоминал о Шахматове: «Я любил погарцевать по убогой деревне на красивой лошади; я любил спросить дорогу, которую знал и без того, у бедного мужика, чтобы „пофорсить“, или у смазливой бабёнки, чтобы нам блеснуть друг другу мимоходом белыми зубами… Всё это знала беднота. Знала она это лучше ещё, чем я, сознательный. Знала, что барин — молодой, конь статный, улыбка приятная, что у него невеста хороша и что оба — господа. А господам, — приятны они или нет, — постой, погоди, ужотко покажем. И показали. И показывают. И если даже руками грязнее моих… выкидывают из станка книжки даже несколько „заслуженного“ перед революцией писателя, как А. Блок, то не смею я судить. Не эти руки выкидывают, да, может быть, не эти только, а те далёкие, неизвестные миллионы бедных рук; и глядят на это миллионы тех же не знающих, в чём дело, но голодных, исстрадавшихся глаз, которые видели, как гарцевал статный и кормленый барин» (там же).
У него разграбили усадьбу в Шахматове, а он не смеет судить своих грабителей! Поистине святым человеком был А.А. Блок!
В статье «Интеллигенция и революция» (январь 1918) А.А. Блок воскликнул: «Всем телом, всем сердцем, всем сознанием — слушайте Революцию» (т. 5, с. 406). А.А. Блок принял революцию потому, что ненавидел старый мир. Он надеялся, что она «произведёт отбор в грудах человеческого шлака» (т. 6, с. 378: 7 февраля 1921) и приведёт «к образованию новых существ» (там же). Что такое — усадьба в Шахматове — по сравнению с этой великой целью?
Язык.
По базовому образованию, как мы помним, А.А. Блок был филологом, но проблемы теоретической лингвистики, в отличие от А.С. Пушкина (см.: Даниленко В.П. Лингво-культурологические воззрения А.С. Пушкина // Литературная учёба. 2009. № 5. с. 103–111), его не заинтересовали. К языкам у него был практический интерес. Об этом свидетельствуют, в частности, множество греческих, латинских, французских и других иноязычных выражений, рассыпанных в его дневниковых записях. Но превыше всех он ставил родной язык.
Русский язык был для А.А. Блока естественной средой обитания. Он жил им, наслаждался им, знал его тонкости, сочинял на нём свои бессмертные поэтические творения. Отсюда не следует, что он принимал его целиком. С раздражением он воспринял тот нарождающийся «новояз», который стал получать распространение уже после Февральской революции 1917 г. Его обуяла ностальгия по старому русскому языку — языку искусства. 24 июня 1917 г. он с отчаянием записал: «Господи, Господи, когда наконец отпустит меня государство, и я отвыкну от жидовского языка и обрету вновь свой, русский язык, язык художника?» (Блок А. Избранное. М., 1995, с. 493).
У А.А. Блока есть в дневнике лишь одна запись, которая имеет непосредственное отношение к языку, но не вообще, а к поэтическому языку.
Ещё в 1904 г. он создал в своём дневнике перл, метафорически описывающий словесную структуру стихотворения. Вот он: «Всякое стихотворение — покрывало, растянутое на остриях нескольких слов. Эти слова светятся, как звёзды. Из-за них существует стихотворение. Тем оно темнее, чем отдалённее эти слова от текста. В самом тёмном стихотворении не блещут отдельные слова, оно питается не ими, а тёмной музыкой пропитано и пресыщено. Хорошо писать и звёздные и беззвёздные стихи, где только могут вспыхнуть звёзды или можно их самому зажечь» (т. 6, с. 147–148: 19 мая 1904).
Упоминание о музыке здесь не случайно. Музыку А.А. Блок рассматривал чуть ли не как основу мироздания. Он, в частности, подчинял ей поэзию. Вот какие неожиданные для поэта тезисы мы обнаруживаем в его дневнике: «Музыка потому самое совершенное из искусств, что она наиболее выражает и отражает замысел Зодчего… Музыка творит мир… Поэзия исчерпаема (хотя ещё долго способна развиваться, не сделано и сотой доли), так её атомы несовершенны — менее подвижны. Дойдя до предела своего, поэзия, вероятно, утонет в музыке. Музыка предшествует всему, всё обусловливает» (с. 171: 29 июня 1909).
Эту же мысль он повторил через десять лет, 31 марта 1919 г., придав ей эволюционную форму: «Вначале была музыка. Музыка есть сущность мира. Мир растёт в упругих ритмах. Рост задерживается, чтобы потом „хлынуть“. Таков закон всякой органической жизни на земле — и жизни человека и человечества. Волевые напоры. Рост мира есть культура» (с. 358).
Если сказать обобщённо, то выйдет так: этот мир возник не из первобытного хаоса (Гесиод), не из воды (Фалес), не из апейрона (Анаксимандр), не из воздуха (Анаксимен), не из атомов (Демокрит) и даже не из сверхплотного вещества, как думают современные физики, а из… музыки. Надо полагать, что в ней этот мир и исчезнет. Приблизительно таким было мироощущение великого русского поэта Александра Александровича Блока.
Странная статья А.А. Блока.
У Блока много статей. Чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на оглавление 5-го тома его шеститомного собрания сочинений (Блок А.А. Собр. соч.: в 6 т. Т. 5. М., 1971).
Размах его прозы был очень широким. Он писал о своих собратьях (А.С. Пушкине, М.Ю. Лермонтове, Н.В. Гоголе, Л.Н. Толстом, М. Горьком и мн. др.). Он писал о поэзии заговоров и заклинаний. Он писал о народе и интеллигенции, революции и назначении поэта. Но есть у него статья, которая производит странное впечатление. Это «Крушение гуманизма» (апрель 1919 г.). Она вызывает множество вопросов, которые нельзя оставить без ответа.
Первый главный вопрос: что имел в виду А.А. Блок под гуманизмом? В первых двух абзацах читаем: «Понятием гуманизм привыкли мы обозначать прежде всего то мощное движение, которое на исходе средних веков охватило сначала Италию, а потом и всю Европу, и лозунгом которого был человек — свободная человеческая личность. Таким образом, основной и изначальный признак гуманизма — индивидуализм.
Четыре столетия подряд — с половины XIV до половины XVIII в. — образованное общество средней Европы развивалось под знаком этого движения; в его потоке наука была неразрывно связана с искусством, и человек был верен духу музыки. Этим духом были проникнуты как великие научные открытия и политические течения, так и отдельные личности того времени» (там же, с. 452).
Прекрасно! Но что это за странный «дух музыки», которому был верен образованный европеец целых четыре столетия? Мы понимаем, что тут метафора, но в чём её смысл? Может быть, ей не стоит придавать серьёзного значения? Но автор не разрешает. Музыкальная терминология сопровождает всю эту статью. Под музыкальный аккомпанемент, в частности, он приводит имена великих гуманистов: «Чьи имена связаны в нашем сознании с понятием гуманизма? — Прежде всего имена Петрарки, Боккаччо, Пико де ла Мирандола; вслед за ними — имена Эразма, Рейхлина, Гуттена. Позже и менее резко возникают в нашем сознании имена французских и английских гуманистов: Монтеня или Томаса Мора; во Франции и Англии движение гуманизма не было самостоятельным. Имена великих гуманистов возникают в нашем сознании как бы в сопровождении музыкального аккомпанемента» (там же, с. 452–453).
В конце первой части статьи мы как будто обнаруживаем объяснение выражения «дух музыки». Но не того духа музыки, которому был верен образованный человек с половины XIV до половины XVIII в., а только имён великих гуманистов. Об их именах А.А. Блок пишет: «До такой степени певучи, проникнуты духом музыки — самые имена этих людей» (там же, с. 453). Но в чём состоял «дух музыки», который владел душами самих гуманистов, остаётся загадкой.
Вторая часть статьи как будто начинает оправдывать наши ожидания: оказывается, что «дух музыки» для гуманистов, как их обрисовывает А.А. Блок, означал вовсе не человечное (гуманное) отношение к простому человеку, к человеку толпы с их стороны, а как раз наоборот — презрение к этому человеку. Вот это объяснение: «Мы знаем, что первые гуманисты, создатели независимой науки, светской философии, литературы, искусства и школы, относились с открытым презрением к грубой и невежественной толпе. Можно хулить их за это с точки зрения христианской этики, но они были и в этом верны духу музыки, так как массы в те времена не были движущей культурной силой, их голос в оркестре мировой истории не был преобладающим» (там же, с. 453). Какое странное понимание гуманизма было у гуманистов!
А.А. Блок презирал чернь. Вот как подробно в своих воспоминаниях об этом писал К.И. Чуковский: «Чего же он хотел от революции? Раньше всего он хотел, чтобы она преобразила людей. Чтобы люди сделались людьми. Таково было его первое требование. Никто, кажется, до сих пор не отметил, как мучился Блок всю жизнь оттого, что люди так редко бывают людьми.
„Груды человеческого шлака“, — говорил он о них. — „Человеческие ростбифы“. „Серые видения мокрой скуки“.
Всех этих людей в его глазах объединяло одно: то были исчадия старого мира, который подлежит истреблению. Ещё восемнадцатилетним подростком он высокомерно написал:
Смеюсь над жалкою толпою, Но вздохов ей не отдаю.Я часто слышал от него слово „чернь“: он всегда произносил это слово с какой-то брезгливостью… Это брезгливое чувство с годами только усилилось в нём.
— Я закрываю глаза, чтобы не видеть этих обезьян, — сказал он мне однажды в трамвае.
— Разве они обезьяны?
— А вы разве не знаете? — сказал он со скукой. Он называл их самым страшным ругательным словом, какое только было в его словаре: буржуа. Буржуа ненавидел он, как Достоевский, как Герцен, и буржуазная психология для него была гаже, чем дурная болезнь. Эта способность ненавидеть до бешенства пошлых людей, „пошлецов“, и сделала его с юных лет ненавистником старого мира. Он множество раз повторял, что народ не бывает пошлым и что пошлость есть исключительная монополия мещан. По соседству с его квартирой жил какой-то вполне достопочтенный буржуй, не причинявший ему никакого ущерба и по-своему даже чтивший его, но вот какую молитву записал о нём Блок у себя в дневнике: „Господи боже! Дай мне силу освободиться от ненависти к нему, которая мешает мне жить в квартире, душит злобой, перебивает мысли… Он лично мне ещё не делал зла. Но я задыхаюсь от ненависти, которая доходит до какого-то патологического истерического омерзения, мешает жить. Отойди от меня, сатана, отойди от меня, буржуа, только так, чтобы не соприкасаться, не видеть, не слышать; лучше я или ещё хуже его, не знаю, но гнусно мне, рвотно мне, отойди от меня, сатана!“ (26 февраля 1918 года)» (Чуковский К.И. Современники. Портреты и этюды. М., 1967, с. 268–269).
Итак, что мы видим? А.А. Блок ненавидел чернь. А кого он к ней относил? Любого пошляка из невежественной толпы, живущего исключительно «заботами суетного света», но в особенности — буржуа. Но это ещё не вся чернь. В своей речи об А.С. Пушкине он относил к ней ещё и чиновников, погубивших поэта. К.И. Чуковский писал: «Вся его речь о Пушкине, произнесённая им в 1921 году, — страстное проклятие черни. Я слышал эту предсмертную речь и помню, с какой гневной тоской говорил он об этих своих исконных врагах, о черни, уничтожившей Пушкина, причём несколько раз оговаривался, что чернь для Пушкина и для него не народ, не „широкая масса“. „Пушкин собирал народные песни, писал простонародным складом; близким существом для него была деревенская няня. Поэтому нужно быть тупым или злым человеком, чтобы думать, что под чернью Пушкин мог разуметь простой народ“… „чиновники и суть наша чернь; чернь вчерашнего и сегодняшнего дня“» (там же).
Выходит вот что: презирать пошлых невежд, буржуа и чиновников — значит быть, по А.А. Блоку, гуманистом. Своеобразное понимание гуманизма! Почти пролетарское, если иметь в виду оборотную сторону гуманизма — ненависть к буржуа и чиновникам.
К необычному истолкованию гуманизма у А.А. Блока, очевидно, следует относиться так: его нежная, израненная, нервная, тонкая поэтическая натура не выдерживала пошлых мерзостей жизни, которые принесла миру утрата былого, ренессансного, гуманизма.
Это он о себе сказал:
Простим угрюмство — разве это Сокрытый двигатель его? Он весь — дитя добра и света, Он весь — свободы торжество!Это он взывал к своим близким:
Друг другу мы тайно враждебны, Завистливы, глухи, чужды, А как бы и жить и работать, Не зная извечной вражды!Это он с непереносимой болью писал о людях в 1916 г.:
Вот — свершилось. Весь мир одичал… Не стучись же напрасно у плотных дверей, Тщетным стоном себя не томи: Ты не встретишь участья у бедных зверей, Называвшихся прежде людьми. Ты — железною маской лицо закрывай, Поклоняясь священным гробам, Охраняя железом до времени рай, Недоступный безумным рабам.Это он сумел в две строчки вместить эмоциональную суть человеческой жизни:
И отвращение от жизни, И к ней безумная любовь…Блок был признанным, знаменитым поэтом с молодости, но стал ли он от этого счастливее? Увы, своею жизнью он преподал урок честолюбцам, лелеющим тщетную надежду на то, что слава принесёт им умиротворение, что слава принесёт им единение с людьми, что слава принесёт им счастье. Вот как признанный поэт закончил стихотворение «Друзьям»:
Зарыться бы в свежем бурьяне, Забыться бы сном навсегда! Молчите, проклятые книги! Я вас не писал никогда!Чем же заплатила А.А. Блоку за его гениальные стихи его родная страна? Об этом можно судить, в частности, по его словам, которые он написал в письме К. И. Чуковскому незадолго до смерти — 26 мая 1921 г. (умер 7 августа): «Слопала-таки поганая, гугнивая родимая матушка Россия, как чушка своего поросёнка» (Новиков В.И. Александр Блок. М., 2010, с. 284).
Чем дольше я живу, тем больше люблю А.А. Блока, тем ближе он мне становится, тем больше мне хочется верить, что он был счастлив — и далеко не один раз. Он был счастлив своим творчеством. Оно возвышало его душу над серыми буднями. Оно помогало ему преодолевать «мышиной жизни беготню» (А.С. Пушкин). Но его счастью мешали люди. В статье «Крушение гуманизма» он пытался их вывести из европейской истории.
Как понимал её автор гуманизм, мы как будто начали догадываться, а почему он заявил о его крушении? Это второй главный вопрос. Вот исходный тезис автора: «Движение, исходной точкой и конечной целью которого была человеческая личность, могло расти и развиваться до тех пор, пока личность была главным двигателем европейской культуры… Естественно, однако, что, когда на арене европейской истории появилась новая движущая сила — не личность, а масса, — наступил кризис гуманизма» (там же, с. 453).
Выходит вот что: пока на арене европейской культуры первую скрипку играли образованные и свободолюбивые индивидуалисты, гуманизм процветал, но как только эту скрипку перехватила безликая масса, гуманизм вступил на путь своего крушения. На смену гуманистическому духу музыки приходит музыка масс. Гёте предстаёт у А.А. Блока как фигура переходная: он совмещал в себе две музыкальных стихии — индивидуалистическую и массовую. «Гёте, — пишет А.А. Блок, — столько же конец, сколько начало. В его застывшем образе умирающий гуманизм (индивидуализм, античность, связь науки с искусством) как бы пронизан той музыкой, которая поднимается из туманной бездны будущего, — музыкой масс (II часть „Фауста“)» (с. 454).
В третьей части анализируемой статьи А.А. Блок обращается к XIX веку. Как в это время обстояло дело с гуманизмом? Плохо. Его подминают под себя, с одной стороны, буржуазное государство, которое становилось всё более и более полицейским, а с другой, масса (народ).
Народу автор статьи выносит здесь суровый приговор: «Отчего не сказать себе, наконец, с полной откровенностью, что никогда в мире никакая масса не была затронута цивилизацией?.. Отчего нужно непременно думать, что народ рано или поздно (а для учёных, преследующих педагогические цели, даже непременно „рано“ и „скоро“) проникается духом какой бы то ни было из известных нам цивилизаций? Полицейское государство в этом случае гораздо реалистичнее новейших гуманистов: оно откровенно поставило на первый план вопрос о подчинении и властвовании, а так как властвование требует прежде всего разделения (т. е. натравливанья одной части населения на другую, одного класса на другой, — divide et impera (разделяй и властвуй), то всякие попытки связыванья, если они даже исходят от некоторых органов полицейского государства, терпят неизбежное крушение; да и сами эти органы — различные министерства народного просвещения — всегда занимают второе место в полицейском государстве, занятом по необходимости (в целях самоохранения) прежде всего содержанием армии военных и чиновников» (там же, с. 457–458).
В конце этой части А.А. Блок делает очень странный (с точки зрения общечеловеческого понимания гуманизма) вывод: «Цивилизовать массу не только невозможно, но и не нужно. Если же мы будем говорить о приобщении человечества к культуре, то неизвестно ещё, кто кого будет приобщать с большим правом: цивилизованные люди — варваров, или наоборот: так как цивилизованные люди изнемогли и потеряли культурную цельность; в такие времена бессознательными хранителями культуры оказываются более свежие варварские массы» (с. 458).
А.А. Блок отказывает в этих словах не чему-нибудь, а в способности народной массы влиться в культурогенез! Он безжалостно отстраняет её от культурной эволюции! При этом надо вспомнить время, когда писалась статья А.А. Блока «Крушение гуманизма», — весной 1919 г.! Большевики подступаются к созданию государства рабочих и крестьян, а А.А. Блок этим рабочим и крестьянам отказывает в приобщении к культуре, поскольку ещё неизвестно, кто кого к чему приобщит.
В последующих четырёх частях статьи А.А. Блока «Крушение гуманизма» мы не обнаруживаем каких-либо новых мировоззренческих установок её автора. Он в них лишь конкретизирует прежние, высказанные в трёх предшествующих. По-прежнему он на стороне старого индивидуалистического гуманизма и по-прежнему не верит в цивилизационные возможности народных масс. Появляются, вместе с тем, новые штрихи, главный из которых — утрата единства, цельности былой культуры.
К чему привела утрата подлинного (т. е. ренессансного в понимании А.А. Блока) гуманизма? Вот ответ А.А. Блока: «Утратилось равновесие между человеком и природой, между жизнью и искусством, между наукой и музыкой, между цивилизацией и культурой — то равновесие, которым жило и дышало великое движение гуманизма. Гуманизм утратил свой стиль; стиль есть ритм; утративший ритм гуманизм утратил и цельность. Как будто мощный поток, встретившись на пути своём с другим потоком, разлетелся на тысячи мелких ручейков; в брызгах, взлетевших над разбившимся потоком, радугой заиграл отлетающий дух музыки. Дружный шум потока превратился в нестройное журчанье отдельных ручейков, которые, разбегаясь и ветвясь все больше при встречах с новыми и новыми препятствиями, послужили силами для тех образований, которые мы привыкли, обобщая, называть образованиями европейской цивилизации. Старая „соль земли“ утратила свою силу, и под знак культуры, ритмической цельности, музыки встало другое встречное движение, натиск лишь внешне христианизированных масс, которые до сих пор не были причастны европейской культуре» (Новиков В.И. Указ. соч., с. 459).
Очень образно! Эти строки писал человек, владеющий пером! Но о чём они? О дифференциации европейской культуры на её различные сферы. В другом месте А.А. Блок пишет об этом менее образно, чем в только что приведённой цитате, но более определённо: «Многообразие явлений жизни Западной Европы XIX века не скроет от историка культуры, а, напротив, — подчеркнёт для него особую черту всей европейской цивилизации: её нецелостность, её раздробленность. Просвещённое человечество пошло сразу сотней путей — политических, правовых, научных, художественных, философских, этических» (там же, с. 462).
Почему дифференциацию культуры на её различные сферы мы должны воспринимать как утрату гуманизма? Почему ответственность за неё мы должны возложить на «внешне христианизированные массы»? Нельзя не видеть в словах А.А. Блока о дифференциации культуры рационального зерна. Дело тут, разумеется, не в утрате гуманизма, а в той опасности, которая действительно кроется в чрезмерной дифференциации отдельных сфер культуры — например, науки.
Задолго до М.Г. Чепикова (Чепиков М.Г. Интеграция науки. М., 1961) А.А. Блок писал: «В области науки именно в эту пору резко определяются два поприща: науки о природе и науки исторические; те и другие орудуют разными методами; те и другие дробятся на сотни дисциплин, начинающих в свою очередь работать различными методами. Отдельные дисциплины становятся постепенно недоступными не только для непосвящённых, но и для представителей соседних дисциплин. Является армия специалистов, отделённая как от мира, так и от своих бывших собратий стеной своей кабинетной посвящённости» (там же, с. 462).
У М.Г. Чепикова читаем о том же самом: «…процесс дифференциации (науки. — В.Д.) принимает порой угрожающие формы. В новых отраслях, число которых растёт чрезвычайно быстро, вырабатываются своя терминология, свои методы и приёмы обработки исследовательского материала. И не удивительно, что порой специалисты даже одной отрасли науки, но работающие на смежных её участках, перестают понимать друг друга» (там же, с. 7–8).
А.А. Блок, как видим, был пророком. Он писал о том же, что и М.Г. Чепиков. Более того, А.А. Блок писал о печальных последствиях дифференциации науки даже более выразительно, чем М.Г. Чепиков: «Научные работники, превращенные, таким образом, в массе своей — в машины для производства разрозненных опытов и наблюдений, становятся во враждебные отношения друг к другу; натуралисты воюют с филологами, представители одних дисциплин — с представителями других. Все эти маленькие внутренние гражданские войны разбивают силы воюющих сторон, каждая из которых продолжает, однако, писать на своих знаменах старые гуманистические лозунги. Предлог для разделений и раздоров — многообразие научных поприщ, открывшихся перед человечеством; но тайная и настоящая причина их — всё та же оставленность духом музыки; он один обладает мощной способностью спаять воедино человечество и его творения… То же обилие разрозненных методов и взаимно исключающих друг друга приёмов мы найдем в юриспруденции, в педагогике, в этике, в философии, в технике. Пытаясь обогатить мир, цивилизация его загромождает. Её строительство нередко сравнивается со строительством Вавилонской башни. Творческий труд сменяется безрадостной работой, открытия уступают первое место изобретениям. Всё множественно, всё не спаяно; не стало цемента, потребного для спайки; дух музыки отлетел, и „чувство недовольства собою и окружающим“, по признанию историка, „доводит до изнеможения“. Мы имеем право сказать о себе словами Паскаля, что человек бежит от самого себя» (Чепиков М. Г. Указ. соч., с. 463; 465).
Дробление стало характерной чертой всей духовной культуры в Европе. Оно охватило не только науку, но также политику и искусство. Вот как в результате выглядит ситуация, например, с искусством: «В искусстве — такое же дробление на направления и на школы, на направления в направлениях. Все искусства разлучаются между собой; хоровод муз становится немыслимым, ибо скульптор уже не понимает живописца, живописец — музыканта, и все трое — писателя, который трактуется как поставщик чего-то грузного, питательного, умственного и гуманного — в отличие от легкомысленных художников. Наконец, каждый отдельно и все вместе перестают понимать ремесленника, вследствие чего во всех отраслях искусства распространяется некое белоручничество, совершенно непонятное и недопустимое у подлинных гуманистов старого времени и знакомое разве только эпохе александризма» (там же, с. 464–465).
Как верно! Как современно! Всё дело, однако, в том, что А.А. Блок связывал дифференциацию культуры не с отсутствием единого мировоззрения, а, как ни странно, с утратой былого антропоцентризма. Разве может антропоцентризм служить препятствием к дифференциации культуры?
Выходит, не всё странно в статье А.А. Блока! Но странности, которые в ней всё-таки есть, интригуют, провоцируют на поиск в ней новых смыслов. Возьмите, например, такой абзац: «Человек — животное; человек — растение, цветок; в нём сквозят черты чрезвычайной жестокости, как будто не человеческой, а животной; черты первобытной нежности — тоже как будто не человеческой, а растительной. Всё это — временные личины, маски, мелькание бесконечных личин. Это мелькание знаменует собою изменение породы; весь человек пришёл в движение, он проснулся от векового сна цивилизации; дух, душа и тело захвачены вихревым движением; в вихре революций духовных, политических, социальных, имеющих космические соответствия, производится новый отбор, формируется новый человек: человек — животное гуманное, животное общественное, животное нравственное перестраивается в артиста, говоря языком Вагнера» (там же, с. 471–472).
Эти строчки внушают оптимизм. Как бы забыв о главной идее своей статьи, заключающейся в трагизме, связанном с утратой старого гуманизма, которая привела к непомерной раздробленности европейской культуры, А.А. Блок заканчивает её так: «Я утверждаю, наконец, что исход борьбы решён и что движение гуманной цивилизации сменилось новым движением, которое также родилось из духа музыки; теперь оно представляет из себя бурный поток, в котором несутся щепы цивилизации; однако в этом движении уже намечается новая роль личности, новая человеческая порода; цель движения — уже не этический, не политический, не гуманный человек, а человек-артист; он, и только он, будет способен жадно жить и действовать в открывшейся эпохе вихрей и бурь, в которую неудержимо устремилось человечество» (там же, с. 472).
Автор статьи «Крушение гуманизма» не был уверен в ясности своей позиции, изложенной в этой статье. Ему хотелось услышать отзыв о ней со стороны Горького, под руководством которого он работал тогда в издательстве «Всемирная литература». В конце марта 1919 г. состоялась беседа между ними. Прежде всего, А.А. Блок задал Горькому вопрос о том, что он думает по поводу его статьи «Крушение гуманизма». В своём ответе Горький был очень осторожен. Он вспоминал: «Говорить с ним — трудно: мне кажется, что он презирает всех, кому чужд и непонятен его мир, а мне этот мир — непонятен» (Горький М. Портреты. М., 1963, с. 369).
Нам в точности неизвестно, что именно говорил Горький Блоку о его статье, но в своих воспоминаниях о поэте он выделил главное, чего он не мог принять у Блока. Он писал: «XIX и XX века именно потому так чудовищно богаты изобретениями, что эта эпоха обильнейших и величайших открытий науки. Говорить же о невозможности и ненужности цивилизации для русского народа — это, очевидно, „скифство“, — и это я понимаю как уступку органической антигосударственности русской массы. И зачем Блоку „скифство“?» (Горький М. Указ. соч.).
Но «скифство», добавлю я от себя, лишь одна из странностей, которую можно обнаружить в статье А.А. Блока «Крушение гуманизма». Другие странности вытекают из противоречивой мировоззренческой позиции её автора. Гуманизм (человечность) доступен не только аристократам духа, громко заявившим о себе в эпоху Возрождения, но и прочим людям. У автора статьи, о которой здесь шла речь, вышло, как ни странно, иначе.
В искусстве художники видят высший смысл жизни. В этом нас убеждают и многие афоризмы об искусстве.
Истинной жизни нет без искусства.
Еврипид.Искусство завершает то, что не в состоянии завершить природа. Художник даёт нам возможность познать неосуществленные цели природы.
Аристотель.Ни одно искусство не замыкается в самом себе.
М.Т. Цицерон.Искусство смягчает правы.
Овидий.Искусство ревниво: оно требует, чтобы человек отдавался ему всецело.
Микеланджело.Искусство восполняет недостатки природы.
Д. Бруно.Искусство — дело серьёзное, особенно серьёзное, когда оно занимается объектами благородными и возвышенными; художник же стоит над искусством и над объектом; над первым — ибо пользуется им как средством, над вторым — ибо на свой лад толкует его.
И. Гёте.Во всяком произведении искусства, великом или малом, вплоть до самого малого, всё сводится к концепции.
И. Гёте.Большое искусство не должно осквернять себя, обращаясь к безнравственным сюжетам.
Л. Бетховен.Искусство имеет своей задачей раскрывать истину в чувственной форме.
Г. Гегель.Глаголом жги сердца людей.
А.С. Пушкин.В руках таланта всё может служить орудием к прекрасному.
Н.В. Гоголь.Искусство стремится непременно к добру, положительно или отрицательно: выставляет ли нам красоту всего лучшего, что ни есть в человеке, или же смеётся над безобразием всего худшего в человеке. Если выставишь всю дрянь, какая ни есть в человеке, и выставишь её таким образом, что всякий из зрителей получит к ней полное отвращение, спрашиваю: разве это уже не похвала всему хорошему? Спрашиваю: разве это не похвала добру?
Н.В. Гоголь.Истинным художникам равно удаются типы и негодяев и порядочных людей.
В.Г. Белинский.Искусство без мысли, что человек без души, — труп.
В.Г. Белинский.Наука не стыдится говорить, что цель её — понять и объяснить действительность, потом применить ко благу человека свои объяснения; пусть и искусство не стыдится признаться, что цель его: для вознаграждения человека в случае отсутствия полнейшего эстетического наслаждения, доставляемого действительностью, воспроизвести, по мере сил, эту драгоценную действительность и ко благу человека объяснить её.
Н.Г. Чернышевский.Тогда только очищается чувство, когда соприкасается с красотою высшей, с красотою идеала.
Ф.М. Достоевский.Многообещающий художник — это не обязательно художник, который считает, что мир прекрасен. Ему достаточно верить в то, что существует возможность сделать мир таким.
С. Батлер.Всё, что прекрасно, — нравственно.
Г. Флобер.Произведение искусства — это уголок мироздания, увиденный сквозь призму определённого темперамента.
Э. Золя.Достоинство искусства и достоинство науки в бескорыстном служении на пользу людей.
О. Уайльд.Цель искусства — не простая правда, а сложная красота. Искусство, само по себе, есть, в сущности, форма преувеличения, и выбор объекта, составляющий самую сущность искусства, не что иное, как отыскание способа наиболее яркого выражения своей мысли.
О. Уайльд.…ни музыка, ни литература, ни какое бы то ни было искусство в настоящем смысле этого слова не существуют для простой забавы; они отвечают… гораздо более глубоким потребностям человеческого общества, нежели обыкновенной жажде развлечения и легких удовольствий,
П.И. Чайковский.Искусство даёт крылья и уносит далеко-далеко! Кому надоела грязь, мелкие грошовые интересы, кто возмущён, оскорблён и негодует, тот может найти покой и удовлетворение только в прекрасном.
А.П. Чехов.Кто испытал наслаждение творчества, для того уже все другие наслаждения не существуют.
А.П. Чехов.Художественное произведение непременно должно выражать какую-либо большую мысль. Только то прекрасно, что серьёзно.
A.П. Чехов.Жизнь — движение, борьба, а искусство — орган умственного движения и борьбы; значит, цель его не просто отражать, а отражать отрицая или благословляя.
В.Г. Короленко.Искусство принадлежит народу. Оно должно уходить своими глубочайшими корнями в самую толщу трудящихся масс. Оно должно объединять чувство, мысль и волю этих масс, подымать их. Оно должно пробуждать в них художников и развивать их.
B.И. Ленин.Искусство должно открывать глаза на идеалы, самим народом созданные.
К.С. Станиславский.Искусство должно облагораживать людей.
А.М. Горький.В основе своей искусство есть борьба за и против; равнодушного искусства нет, и не может быть, ибо человек не фотографический аппарат, он не «фиксирует» действительность, а или утверждает, или изменяет её, разрушает.
А.М. Горький.Искусство ставит своей целью преувеличивать хорошее, чтоб оно стало ещё лучше, преувеличивать плохое — враждебное человеку, уродующее его, — чтобы оно возбуждало отвращение, зажигало волю уничтожить постыдные мерзости жизни, созданные пошлым, жадным мещанством.
А.М. Горький.Подлинное, большое искусство возвышает ум и душу народа.
С.Т. Коненков.Искусство совершенно, лишь когда оно человечно.
Дж. Уэйн.Искусство — это то, чем мир станет, а не то, что он есть.
К. Краус.Искусство — это важнейшая и серьезнейшая область жизни, высокая миссия человеческой культуры… В сознании людей оно занимает такое же почётное место, как наука… Короче говоря, оно приравнивается к высшим духовным интересам человечества.
Т. Манн.Искусство — самый прекрасный, самый строгий, самый радостный и благой символ извечного, не подвластного рассудку стремления человека к добру, истине и совершенству.
Т. Манн.Я не приверженец искусства для искусства и не шевельну пальцем, чтобы написать художественное произведение, в котором нет ничего, кроме художественных достоинств.
Б. Шоу.Ни одно гениальное произведение не основывалось на ненависти или презрении.
А. Камю.Искусство — могучее средство для исправления человеческого несовершенства.
Т. Драйзер.Все виды искусств служат величайшему из искусств — искусству жить на земле.
Б. Брехт.Гармония — вот что лежит в основе всех видов искусства на всем протяжении человеческой истории.
В. Жолтовский.Постмодернизм отличается от модернизма как бред от маразма.
К. Кушнер.Красота русской природы для художников — только необходимое начало, исток, основа национальной красоты в её целостном содержании, и природное прекрасное предстаёт в их искусстве в органическом единстве с человеческой красотой и, далее, покоряющей красотой самого художественного слова.
В.В. Кожинов.«Красота» и «прекрасное» в эстетике имеют мало общего с чисто бытовым употреблением этих слов, подразумевающим, радующие глаз своей гармонической формой явления, лица, предметы. Прекрасное в эстетике — и особенно в русской эстетике — немыслимо без напряжённого духовного порыва, драматизма или даже трагедийности.
В.В. Кожинов.Нравственность: зло добро
Пока ещё жив, стань, наконец, человеком!
Марк Аврелий.В совершенствовании человека — смысл жизни.
М. Горький.Нравственность — совокупность норм, определяющих правильное (образцовое) отношение человека к миру — природе, душе, культуре. Безнравственность — антипод нравственности.
Если в основе нравственности лежит категория добра, то в основе безнравственности — категория зла. Под первую из них подводятся все добродетели (любовь, трудолюбие, умеренность, смелость, щедрость, честность и т. п.), а под вторую — все пороки (ненависть, лень, неумеренность, трусость, жадность, нечестность и т. п.). Эволюция нравственности протекает в направлении «зло → добро», а её инволюция — в обратном направлении «добро → зло».
Пословиц, способствующих переходу «зло → добро», русский народ создал неизмеримо больше, чем пословиц, способствующих переходу «добро → зло». Вот почему человеку, нашедшему смысл своей жизни в нравственном совершенствовании, в первую очередь нужно учиться на пословицах.
Приоритет добра над злом в русских пословицах бесспорен. Сердце радуется, когда читаешь пословицы, восхваляющие добро и, наоборот, порицающие зло. Вот лишь некоторые пословицы, в которых добро выступает как абсолютная ценность: Добро-то и скот понимает; Добро и во сне хорошо; Добро не горит, не тонет; Добро твори, сколько можешь, вовек не занеможешь; Добро делать спешить надобно; Худо жить тому, кто не делает добра никому; Кто добру учится, добром и живёт; Доброта лучше красоты; Добро-то не в селе, а в себе; Доброму человеку весь мир — свой дом; Добрый человек придёт — словно свету принесёт; Доброму человеку бывает стыдно даже перед собакой; Не тот богат, у кого много добра, а тот, у кого жена добра; Русский человек добро помнит.
Добро должно быть бескорыстным: Добро творя, не жди платы; За добро — Бог плательщик; Добро не лихо, бродит по миру тихо. Неожиданным диссонансом на фоне этих пословиц звучит такая: Добро тогда будет добром, когда люди похвалят.
Но есть у нас пословицы, в которых абсолютная ценность добра подвергается сомнению. Такие пословицы в конечном счёте возвышают зло над добром, а стало быть, ведут к нравственной инволюции: За добро не жди добра; Не делай добро — не получишь зло; За добро добром не платят; Никакое добро без вреда не бывает; И добро худом бывает; Там добро, где нас нет; Сколько добра ни делай, благодаренья мало; Сколько добра ни делай — ни в честь, ни в спасибо; Знай, кому добро делаешь; За моё же добро мне переломали ребро.
Подобные пословицы не делают погоды. Русский человек даже и из зла умудряется извлечь добро: Нет худа без добра. А для очень осторожных сказано: Надейся на добро, а жди худа.
На бесспорное превосходство добра над злом указывают такие наши пословицы: Добро превышает зло; Добро не умрёт, а зло пропадёт; Против зла твори добро; Зло побеждай добром; Добро вспомнится, а зло не забудется; Добро помни, а зло забывай; Зла за зло не воздавай; Кто зла отлучился, тот никого не боится; Всякое зло терпеньем одолеть можно; Человек жалью живёт.
К перечисленным пословицам примыкают и такие: Зло в хату, любовь из хаты; Зло злом и губится; Тому тяжко, кто зло помнит; Порочный человек — калека; Беспорядочный человек не проживёт в добре век; В ком добра нет, в том и правды мало; За доброе жди добра, за худо — худа; Добра ищут, а худо само придёт; Добро делаем — добро и снится, а худо делаем — худо и снится.
О злом человеке русские говорят: Как на лес взглянет, так и лес вянет; Где ногой ступит — трава не растёт; Дурной человек не любит никого, кроме себя; Злой доброго не любит; Злой плачет от зависти, а добрый от радости; Доброму — добро, а худому переломят ребро.
Категории, производные от добра и зла, многочисленны, но достаточно обратиться лишь к некоторым из них, чтобы увидеть, что добродетелям в русских пословицах поются дифирамбы, а пороки подвергаются остракизму.
Любовь/ненависть. «Любовь развязывает все узлы», — любил повторять Л.Н. Толстой. В великой силе человеческой любви нас уверяют и русские пословицы: Любовь всё побеждает; Без любви как без солнца; Братская любовь крепче каменной стены; Любовь горами качает; Любовь покрывает множество грехов; Любовь правдой крепка; Любовь любит единость (единство); Любовь лучше вражды и т. п.
Не столь однозначно обстоит дело с ненавистью. С одной стороны, она бескомпромиссно осуждается, поскольку от ненависти вражда рождается и слепая ненависть — плохой советчик, а с другой стороны: Без ненависти никто не живёт; Ненависть во всех есть; Лучше в ненависти, нежели в беде и т. д. Но подобные пословицы — капля в море, они тонут в море любви, в русских пословицах воспеваемой.
Трудолюбие/лень. Русскому народу часто приписывают лень. Это козни русофобов. За деревьями они не видят леса. Не знакомы они и с такими русскими пословицами: Труд всё превозможет; Где труд, там и счастье; Приложишь труд — будет и рыбка, и пруд; Без труда и в саду нет плода; Кто любит труд, долго спать не будет; Труд излегчается рвением и т. п.
Зато лени русские пословицы выносят суровый приговор: Лень к добру не приставит; От лени мхом обрастают; Забрось лень через плетень; Ленивому и лениться лень; Лени лень и за ложку взяться, да не лень лени обедать; Ленивой лошади и хвост в тягость; Лень себя бережёт; Лень хуже хвори; Ленивому всегда нездоровится; Ленивый ложится с курами, а встаёт со свиньями; Кто ленивый, тот и сонливый; Ленивый смекалист на отговорки; У лентяя Федорки всегда отговорки и т. д.
Умеренность/неумеренность. О нравственной силе меры русские узнали не от Аристотеля. Они до неё дошли своим умом. Они сами поняли, что без меры и лапти не сошьёшь, что мера — не поповский карман: дно имеет, что мера не солжёт, что во всём надо знать меру, что выше меры и конь не скачет, что еда без меры — та же беда. Людям, теряющим меру, уместно сказать: Не мудри без меры — перемудришь.
Смелость/трусость. Наша история — лучшее доказательство былой смелости русского народа. Мы с детства помним: Смелость города берёт. Есть в русском пословичном запаснике ещё и такое: Смелости учись у разведчика, осторожности у сапёра — никогда не ошибёшься; Кто смел, тот и цел; Быть смелым — не быть битым; Кто смел да стоек, тот семерых стоит; Важна смелость, да нужна и умелость; Смелый там найдёт, где робкий потеряет и т. п.
Зато сколько презрения и насмешек мы обнаруживаем в русских пословицах о трусости! Вот в таких, например: Трус и таракана принимает за великана; Для труса и заяц — волк; У труса глаза мышиные — жить бы ему только в подполье; На трусливого человека много собак; Трус своей тени боится; Робкому смелости не вобьёшь и т. п.
«Трижды человек дивен бывает: родится, женится, умирает», — гласит русская пословица. Какими же пословицами наш народ осветил эти «дивные» события — рождение, женитьбу и смерть?
Рождение. Дети — благодать Божья. Даётся эта благодать их матерям с мучительными болями. Но русские пословицы их не преувеличивают: Живот болит, а детей родит; Горьки родины, да забывчивы.
Самое подходящее число детей в семье — трое: Сталась двоечка, так будет и троечка; Один сын — не сын, два — не кормильцы; Первый сын Богу, второй царю, третий себе на пропитание; Один сын — не сын, два сына — полсына, три сына — сын. С дочерьми — плохо дело: Дочь — чужое сокровище. Холь да корми, учи да стереги, да в люди отдай.
В числе детей и меру знать надо: На рать сена не накосишься, на смерть детей не нарожаешься; Не устанешь детей рожаючи, устанешь на место сажаючи. А чего стоит их на ноги поставить? Детушек воспитать — не курочек пересчитать; Детки — радость, детки ж и горе; У кого детки, у того и бедки. Более того: Маленьки детки — маленькие бедки, а вырастут велики — большие будут; Детки маленьки — поесть не дадут, детки велики — пожить не дадут; Малые соткать, а большие износить не дадут; Малые дети не дают спать, большие не дают дышать.
Но «бедки» от детей могут быть и поконкретнее: Дети крадут, отец прячет; Дети воруют, мать горюет; Блудный сын — могила отцу; На старости две радости: один сын — вор, другой — пьяница; В глупом сыне и отец не волен; Глупому сыну и родной отец ума не пришьёт; Глупому сыну не в помощь наследство; Умный сын — отцу замена, глупый — не помощь.
Но не рожать — нельзя: С детьми горе, а без них вдвое; Бабёнка не без ребёнка; Не по-холосту живём: Бог велел; У кого детей нет — во грехе живёт; Не умела родить ребёнка, корми серого котёнка.
Не всем родителям с детьми не везёт: У доброго батьки добры и дитятки; Работные дети — отцу хлебы; Корми сына до поры: придёт пора — сын тебя накормит; Добрый сын всему свету завидище.
Но даже если и непутёвые выросли, всё равно: Свой дурак дороже чужого умника; Дитя худенько, а отцу, матери миленько; Всякому своё дитя милее; Который палец ни укуси — всё одно: все больно; Каков ни будь сын, а всё своих черев урывочек.
Мать русским дороже отца: Без отца — полсироты, а без Матери и вся сирота; Отцов много, а мать одна (т. е. отца легче заменить); Нет такого дружка, как родная матушка; Птица радуется весне, а младенец — матери; Слепой щенок и тот к матери ползёт; Пчёлки без матки — пропащие детки; При солнце тепло, а при матери добро; Материи побои не болят; Мать и бия не бьёт.
Женитьба. Молодость — золотая пора. Но и у неё есть свои проблемы. Одна из них: жениться или не жениться, выходить замуж или не выходить? Русские пословицы дают на эти вопросы противоположные ответы — отрицательные и положительные.
Отрицательные ответы: Холостой много думает, а женатый больше того; Холостой охает, женатый ахает; Холостому: ох-ох; а женатому: ай-ай; Холостой лёг — свернулся, встал — встряхнулся; Женишься раз, а плачешься век; Женитьба есть, а раз-женитьбы нет; Молодому жениться рано, а старому поздно; Девка красна до замужества; Все девушки хороши, а отколь берутся злые жёны? В девках сижено — плакано; замуж хожено — выто.
Положительные ответы: Холостой что бешеный; Холостой — полчеловека; Бобыль бобылём: ни роду ни племени; Что гусь без воды, то мужик без жены; Живёшь — не с кем покалякать, помрёшь — некому поплакать; Жить-то прохладно, да спать не повадно; На что мягко стлать, коли не с кем спать; И в раю тошно жить одному; Одному и топиться идти скучно; Бездетный умрёт, и собака не взвоет.
Видно, положительные ответы пересиливают отрицательные, раз большинство людей женится. Но женитьба — дело серьёзное. С нею нужно быть предельно осторожным: Жениться — не лапоть надеть; Не птицу сватать, а девицу; На резвом коне жениться не езди! Женился на скорую руку да на долгую муку; Жениться — не напасть, да как бы женатому не пропасть.
Чтобы не ошибиться в выборе невесты, хорошо бы заглянуть в сборник русских пословиц. Они предупреждают: Богатую взять — станет попрекать; Знатную взять — не сумеет к работе пристать; Умную взять — не даст слова сказать; Худую взять — стыдно в люди показать; Убогую взять — нечем содержать; Старую взять — часто с нею хлопотать; Слепую взять — всё потерять.
Как ни осторожничай, но надо на ком-то и остановиться, а иначе: Много невест разбирать, так век женатому не бывать. Но жёны из невест выходят разные — добрые и злые.
Добрые жёны: Добрая жёнушка как яичко всмятку; Добрую жену взять — ни скуки, ни горя не знать; Добрая жена да жирные щи — другого добра не ищи!; С доброй женой горе — полгоря, а радость вдвойне; Доброй жене домоседство — не мука; Добрая жена дом сбережёт, а плохая рукавом растрясёт; Добрая жена — веселье, а худая — злое зелье; От плохой жены состареешься, от хорошей помолодеешь.
Злые жёны: Всех злее злых злая жена; Злая жена сведёт мужа с ума; Злая жена —.мирской мятеж!; Злая жена — та же змея; Лучше камень долбить, нежели злую жену учить; Железо уваришь, а злую жену не уговоришь; Злая жена — битая бесится, укрощаемая высится, в богатстве зазнаётся, в убожестве других осуждает; От злой жены не уйдёшь; От злой жены одна смерть спасает да пострижение.
Смерть. Русские пословицы учат невозможному — не бояться смерти: Смерти бояться — на свете не жить; Живой живое и думает; Не бойся смерти, бойся грехов; Не бойся смерти, если собираешься долго жить; Не боюсь смерти, боюсь худой жизни; Не надобно смерти бояться, надобно злых дел опасаться; Бойся жить, а умирать не бойся! Жить страшнее, чем умирать.
Но подобные пословицы соседствуют с другими: Всякий живой боится смерти; Видимая смерть страшна; В очью смерть проберёт; Нет справедливой смерти; Жить тяжко, да и умирать нелегко; Как жить ни тошно, а умирать тошней.
Но всё-таки жить хочется: Лучше век терпеть, чем вдруг умереть; Жить — мучиться, а умирать не хочется; Горько, горько, а ещё бы столько.
Между тем смерть неизбежна: Смерть дорогу сыщет; От смерти не спрячешься; От смерти не посторонишься; От смерти не увильнёшь; От смерти и на тройке не ускачешь; От смерти и под камнем не укроешься; От смерти нет зелья; От смерти не отлепишься; От смерти нет лекарства.
Вот почему: Жить надейся, а умирать готовься; Живи, да не заживайся!; Жить живи, да и честь знай: чужого века не заедай!; Не умел жить, так хоть сумей умереть!; Живи, живи, да и помирать собирайся; Сколько ни живи, а умирать надо. Почему? Если бы люди не мёрли — земле бы всех не сносить.
Что есть добро и зло? В «Советской энциклопедии», изданной под редакцией Ф.В. Константинова (М., 1960–1970) читаем: «ДОБРО И ЗЛО — осн. категории этики, употребляемые при нравств. оценках отд. явлений, поступков, побудит, мотивов деятельности людей и т. д. Добро — этич. категория, обозначающая совокупность положительно оцениваемых классом, обществом или отд. людьми условий жизни, а также нравств. действий, принципов и норм поведения. Зло — категория, обозначающая отрицат. явления в обществ, и личной жизни человека, составляющие предмет нравственного осуждения и порицания».
Ещё древнегреческие философы обратили внимание на тесную взаимосвязь добра и зла. Так, Гераклит указывал на то, что добро мы начинаем ценить на фоне зла, как здоровье — на фоне болезни, а отдых — на фоне усталости. Он говорил: «Болезнь приятным делает здоровье, зло — добро, голод — насыщение, усталость — отдых» (Материалисты Древней Греции: собрание текстов Демокрита, Гераклита, Эпикура. М., 1955, с. 51). Выходит, нет худа без добра.
Демокрита (ок. 460 — ок. 370 до н. э.) называют смеющимся философом. В первую очередь он смеялся над глупостью своих земляков — жителей города Абдеры. По преданию, этот город был основан Гераклом на месте гибели его друга Абдера. Немецкий писатель Кристоф Мартин Виланд (1733–1813) описал их в сатирическом романе «История абдеритов» (1780). А в 1790 г. французский живописец Франсуа-Андре Венсан в картине «Демокрит среди абдеритов» изобразил Демокрита не смеющимся, а погружённым в глубокую думу. Ему было, о чём подумать. Размах его дум был энциклопедическим.
Историки философии оказали Демокриту не самую лучшую услугу: при анализе его научного наследия в целом они поставили на первое место его атомистическое учение. Не отрицая достоинств этого учения, следует сказать: главная заслуга Демокрита состоит в том, что в его лице идея универсальной эволюции достигла в античности своего расцвета. Его мировоззрение было подчёркнуто эволюцио-центрическим. Он — основатель европейского универсального эволюционизма (см. подр.: «Эволюция в духовной культуре: Свет Прометея»).
Много внимания Демокрит уделял этике. Он был эвдемонистом — мыслителем, объявившим высшей добродетелью не что иное, как счастье. Под счастьем он понимал евтюмию — хорошее расположение духа. По свидетельству Диогена Лаэртского, евтюмия для смеющегося философа — такое состояние духа, которое может быть охарактеризовано как гармония, уравновешенность, безмятежность, невозмутимость, неизумляемость, спокойствие, тишина, бесстрашие. Эпикур назовёт евтюмию атараксией. Главное условие её достижения он сформулирует так: «Живи незаметно». Эпикурейцы извратят Эпикура, выставив его как оголтелого гедониста, гоняющегося за наслаждениями. Между тем он прожил очень трудную жизнь (см.: Гончарова Т.В. Эпикур. М., 1988).
Об извращении идеи евтюмии (атараксии) предупреждал ещё Демокрит: «Цель жизни — хорошее расположение духа (евтюмия), которое не тождественно с удовольствием, как некоторые, не поняв как следует, истолковали, но такое состояние, при котором душа живёт безмятежно и спокойно, не возмущаемая никаким страхом, ни боязнью демонов, ни какой-либо другой страстью» (Материалисты Древней Греции: собрание текстов Демокрита, Гераклита, Эпикура, с. 154).
Отсюда не следует, что Демокрит отрицал удовольствия (блага) как компоненты счастья. Он делил их на телесные и душевные. Но вот что важно: последние он ставил выше первых. Чтобы возвысить душевные удовольствия над телесными, Демокрит подчёркивал божественную природу первых. Он говорил: «Предпочитающий душевные блага избирает божественную часть. Предпочитающий же блага телесного сосуда избирает человеческое» (там же, с. 155).
Счастье невозможно без меры. Демокрит распространял её как на телесные, так и на душевные блага. «Прекрасна надлежащая мера во всём, — утверждал Демокрит. — Излишек и недостаток мне не нравятся» (с. 16).
Демокрит говорил: «От чего мы получаем добро, от того же самого мы можем получить и зло, а также средство избежать зла» (с. 156). Как это понимать? Да очень просто: от денег, например, мы можем получать как добро, так и зло. На место денег можно поставить удовлетворение и каких угодно потребностей — в пище, одежде, жилище, технике и т. д. Выходит, всё хорошо в меру.
Как излишек, так и недостаток выводят человека из равновесия, приводят его к душевной дисгармонии, заставляют страдать. Как определить меру? На то нам и дан разум. Он должен уметь справляться с чувственной природой человека с помощью воспитания (учения). Демокрит писал: «Учение перестраивает человека, природа же, перестраивая, делает человека, и нет никакой разницы, быть ли таковым, вылепленным от природы, или от времени и учения быть преобразованным в такой вид» (с. 172).
В качестве одного из правил самовоспитания Демокрит рассматривал стыд. Он учил: «Не говори и не делай ничего дурного, даже если ты наедине с собой. Учись гораздо более стыдиться самого себя, чем других» (с. 157). Другой тормоз — чувство долга: «Не из страха, но из чувства долга должно воздерживаться от дурных поступков» (с. 158). Но самые главные требования человека к самому себе, по Демокриту, состоят вот в чём: «Хорошо мыслить, хорошо говорить и хорошо делать» (с. 163).
Демокрит, как видим, делал упор на самовоспитание. Воспитанным людям не нужен внешний закон. Он указывал: «Лучший с точки зрения добродетели будет тот, кто побуждается к ней внутренним влечением и словесным убеждением, чем тот, кто побуждается к ней законом и силою. Ибо тот, кого удерживает от несправедливого поступка закон, способен тайно грешить, а тому, кто приводится к исполнению долга силою убеждения, не свойственно ни тайно, ни явно совершать что-нибудь преступное. Поэтому-то всякий, кто поступает правильно, с разумением и с сознанием, тот вместе с тем бывает мужественным и прямолинейным» (Материалисты Древней Греции: собрание текстов Демокрита, Гераклита, Эпикура, с. 157).
А если речь идёт о детях? Принуждение здесь необходимо. В первую очередь — к труду. «Если бы дети не принуждались к труду, — говорил великий философ, — то они не научились бы ни грамоте, ни музыке, ни гимнастике, ни тому, что наиболее укрепляет добродетель, — стыду. Ибо по преимуществу от этих занятий рождается стыд» (там же, с. 173).
Уже и из беглого знакомства с этикой Демокрита видно, что четыре добродетели он выдвинул на первое место — счастье, меру, долг и стыд. С помощью разума они нас, по Демокриту, в первую очередь очеловечивают.
Эпикур (342/341 — 271/270 до н. э.) восхвалял самоценность жизни — не только душевной, но и телесной. Своих слушателей в Саду он учил атараксии — гармоническому состоянию духа, которое достигается через абсолютно безразличное отношение к внешнему миру. Отсюда его аполитичность. Отсюда печальный итог его этики: «Живи незаметно (скрываясь)». Вот как его пояснила Т.В. Гончарова, исходя из тех обстоятельств, в которых доживал свой век Эпикур в потерявших былую независимость Афинах: «Скрываясь — оставайся свободным, скрываясь — оставайся независимым духом и разумом, скрываясь — оставайся счастливым, счастливым немыслимым, невероятным, парадоксальным счастьем побеждённого. Будь счастлив тем, что лицо твоё ещё не отмечено рабским клеймом, что ты не умер от голода во время осады, не свалился в уличную грязь с разможжённой кельтской дубинкой головой, будь счастлив тем, что в саду по-прежнему благоухают ночные цветы, а в ларце у стены покоятся драгоценные свитки, писания старинных философов» (Гончарова Т.В. Эпикур, с. 287).
Эпикур ощущал себя Спасителем людей. Как Прометей, он нёс людям свет знаний. Он верил в их целительную силу. Прекрасную книгу о нём написала Татьяна Викторовна Гончарова! Мы можем в ней прочитать, в частности, такие строки: «Ему казалось, что знание, и прежде всего знание явлений природы, устройства Вселенной, основных закономерностей жизни, может помочь людям освободиться от тёмного страха перед неизвестным, от суеверий и нелепых привычек, поможет им нравственно подняться, жить осмысленно, разумно, сохраняя своё человеческое первородство при всех превратностях бытия» (Гончарова Т.В. Указ. соч., с. 82).
Эпикур жил в эпоху заката эллинизма. Эта эпоха очень напоминает время заката советской цивилизации. Мы ещё питаемся её плодами. Мы ещё живём ими, но ежедневно ощущаем, как она от нас уходит, как мы всё больше начинаем выживать, а не жить.
Надо иметь большое мужество, чтобы в эпоху упадка находить в себе силы для борьбы с деградацией. Эпикур жил среди людей деградирующих. У Т.В. Гончаровой читаем: «И вот этим-то людям, своим погибающим в бессилии и бесславии соплеменникам, решает помочь сын Неокла (Эпикур. — В.Д.). Он приступает к главному делу своей жизни с твёрдой верой в целительную силу знания… При виде почти всеобщей растерянности у Эпикура крепнет решение помочь всем неуверенным и пребывающим в тревоге жить так, чтобы не потерять окончательно памяти о человеческом предназначении, о гордости быть существом разумным и мыслящим, научить людей жить даже тогда, когда, как казалось теперь очень многим, жить уже нечем» (там же, с. 86).
Сам процесс познания доставлял Эпикуру наслаждение. Он писал: «Во всех занятиях плод с трудом приходит по окончании их, а в философии рядом с познанием бежит удовольствие: не после учения бывает наслаждение, а одновременно бывает изучение и наслаждение» (с. 117).
Главный труд Эпикура «О природе» состоял из 37 книг. Ни одна из них не сохранилась. До нас дошло только три письма Эпикура — к Геродоту, Пифоклу и Менекею. Наибольшую известность приобрело последнее. В нём мы находим суждения Эпикура о счастье.
Эпикур видел смысл жизни в счастьи. В качестве первостепенного условия к его достижению он рассматривал занятия философией. Он писал: «Пусть никто в молодости не откладывает занятия философией, а в старости не устаёт заниматься философией: ведь никто не бывает ни недозрелым, ни перезрелым для здоровья души» (Антология мировой философии. Т. 1. Ч. 1. М., 1969, с. 354).
«Кто говорит, что ещё не наступило или прошло время для занятия философией, тот похож на того, кто говорит, что для счастья или ещё нет, или уже нет времени, — наставлял Эпикур своего ученика. — Поэтому и юноше, и старцу следует заниматься философией: первому — чтобы он и в старости остался молод благами в доброй памяти о прошлом, а второму — для того чтобы быть одновременно и молодым, и старым вследствие отсутствия страха перед будущим. Поэтому следует размышлять о том, что создаёт счастье, если действительно, когда оно есть, у нас всё есть, а когда его нет, мы всё делаем, чтобы его иметь» (там же, с. 354–355).
Из чего же состоит счастье человеческое? Из телесного здоровья и душевной безмятежности (атараксии). «…Содействовать здоровью тела и безмятежности души, — писал Эпикур, — это и есть цель счастливой жизни» (с. 356).
Как здоровье, так и безмятежность приносят удовольствие. Но Эпикур предупреждал: «Так как удовольствие есть первое и прирождённое нам благо, то поэтому мы выбираем не всякое удовольствие, но иногда мы обходим многие удовольствия, когда за ними следует для нас большая неприятность; также мы считаем многие страдания лучше удовольствия, когда приходит для нас большее удовольствие, после того как мы вытерпим страдания в течение долгого времени» (с. 356–357).
Нельзя превращать свою жизнь в погоню за наслаждением. Чтобы получать удовольствия, мы можем обходиться малым — например, хлебом и водой: «Простые кушанья доставляют такое же удовольствие, как и дорогая пища, когда всё страдание от недостатка устранено. Хлеб и вода доставляют величайшее удовольствие, когда человек подносит их к устам, чувствуя потребность» (с. 357).
Вот какой вывод делал Эпикур об удовольствии: «Итак, когда мы говорим, что удовольствие есть конечная цель, то мы разумеем не удовольствия распутников и не удовольствия, заключающиеся в чувственном наслаждении, как думают некоторые, не знающие, или не соглашающиеся, или неправильно понимающие, но мы разумеем свободу от телесных страданий и от душевных тревог. Нет, не попойки и кутежи непрерывные, не наслаждения мальчиками и женщинами, не наслаждения рыбою и всеми прочими яствами, которые доставляет роскошный стол, рождают приятную жизнь, но трезвое рассуждение, исследующее причины всякого выбора и избегания и изгоняющее [лживые] мнения, которые производят в душе величайшее смятение. Начало всего этого и величайшее благо есть благоразумие. Поэтому благоразумие дороже даже философии. От благоразумия произошли все остальные добродетели; оно учит, что нельзя жить приятно, не живя разумно, нравственно и справедливо, и, наоборот, нельзя жить разумно, нравственно и справедливо, не живя приятно» (с. 357).
Высказывание греческого мудреца о смерти стало бессмертным. Вот оно: «Самое страшное из зол, смерть, не имеет к нам никакого отношения, так как, когда мы существуем, смерть ещё не присутствует; а когда смерть присутствует, тогда мы не существуем. Таким образом, смерть не имеет отношения ни к живущим, ни к умершим, так как для одних она не существует, а другие уже не существуют» (с. 356).
Аристотель по праву снискал себе славу самой энциклопедической головы античного мира. Его исследовательский ум был мирообъемлющ. Он заложил краеугольные камни под все базовые науки в Европе — философию, физику, биологию, психологию и культурологию. В трактате «О добродетелях» он представил классификацию восьми добродетелей и восьми пороков. Те и другие он вывел из трёх отдельных частей души и души в целом. Вот как выглядит эта классификация: «Если принять вслед за Платоном деление души на три части, то добродетель разумной части есть рассудительность, гневливой — кротость и мужество, вожделеющей — благоразумие и воздержанность, а добродетель души в целом — это справедливость, щедрость и величавость. Порок же разумной части души — это безрассудство, гневливой — гневливость и трусость, вожделеющей — распущенность и невоздержанность, а порок души в целом — это несправедливость, скупость и малодушие» (Гусейнов А.А., Иррлиц Г. Краткая история этики. М., 1987, с. 527).
Возникли такие пары: рассудительность — безрассудство, кротость — гневливость, мужество — трусость, благоразумие — распущенность, воздержанность — невоздержанность, справедливость — несправедливость, щедрость — скупость, величавость — малодушие. Каждая из этих пар поясняется. Так, под рассудительностью Аристотель понимает добродетель, «прокладывающую путь к счастью», а под безрассудством — порок, в котором кроется «причина порочной жизни». В свою очередь величавость — это «добродетель души, которая даёт возможность переносить счастье и несчастье, честь и бесчестье», а малодушие — «порок души, при котором люди не способны вынести ни счастья, ни несчастья, ни чести, ни бесчестья» (Гусейнов А.А. Иррилиц Г. Указ. соч., с. 528).
Прекрасно, но почему перипатетики (приверженцы Аристотеля) в XVI в. стали злейшими врагами Джордано Бруно? Потому что Аристотель стал кумиром христианских теологов. Он был настолько ими почитаем, что впору его записать в отцы христианской церкви. Прикрываясь авторитетом Аристотеля, перипатетики тормозили проникновение в науку новых идей. Прежде всего гелиоцентризма, бесконечности вселенной и множественности миров. Вот почему Д. Бруно посвятил много своих дней критике Аристотеля.
Августин Блаженный, один из подлинных отцов христианской церкви, провозгласил семь добродетелей: веру, надежду, милосердие (любовь), справедливость, мужество, умеренность и благоразумие. Три первые из них, с его точки зрения, даются человеку Богом, а четыре остальные являются приобретёнными. Несмотря на то, что между добродетелями, выделенными Аристотелем и Августином, мы видим сходство, их интерпретация у них существенно разнится. Если у Аристотеля они истолковываются безотносительно к Богу, то у Августина в конечном счёте каждая из них выводилась из любви к Богу. Вот почему этика Августина имеет подчёркнуто теоцентрическую направленность. Теоцентризм стал главной чертой и всей христианской нравственности.
Аристотель назвал счастье высшим благом, а Фома Аквинский стал называть его блаженством. Высшее блаженство, по Ф. Аквинскому, — непосредственное созерцание Бога, но оно возможно лишь в раю. Святой Фома, таким образом, отправил счастье на тот свет.
Мыслители Ренессанса опустили счастье на землю. Но некоторые из них превратили стремление к земному счастью в культ наслаждения. Особенно отличился Лоренцо Валла (1407–1457). В книге «О наслаждении как истинном благе» (1431) он, соглашаясь с Эпикуром, восклицает: «…я призываю к наслаждению!» (Антология мировой философии. Т. 2. М., 1970, с. 78). Добродетели же он низводит до «служанок наслаждения». Более того, он утверждает, что «жить без наслаждения невозможно, без добродетели можно» (с. 80). Свой труд он заканчивает главой о похвале наслаждению. Агрикультура, архитектура, ткачество, живопись, корабельное дело, ваяние, поэзия, дружба, брак — всё, по его убеждению, создается не из любви к добродетели, а для того, чтобы приносить людям наслаждение.
Л. Валла оказался плохим учеником Эпикура. Греческий мудрец вовсе не раздувал удовольствие до необъятных размеров. Вот как защищал Эпикура от гедонистов И. Кант: «У Эпикура, таким образом, высшим благом было счастье, или, как он это называл, наслаждение, т. е. внутренняя удовлетворённость и радостное сердце. Человек должен быть застрахован от упрёков как со стороны самого себя, так и со стороны других. Это вовсе не философия наслаждения, как её неправильно понимали. Существует его письмо, в котором он приглашает к себе кого-то, но при этом ничего другого не обещает ему, кроме сердечной радости и ячменной каши, т. е. плохой эпикурейской еды. Таково, таким образом, было наслаждение мудреца. Он признавал, следовательно, ценность добродетели, рассматривая нравственность как средство достижения счастья» (Гусейнов А.А., Иррлиц Г. Указ. соч., с. 572).
Гедонистическую эйфорию итальянских гуманистов прервал в первой половине XVII в. Блез Паскаль (1623–1662). Если Д. Бруно в идее бесконечности черпал вдохновение, то на Б. Паскаля она производила гнетущее впечатление. Она наводила его на мысли о жалкой участи человека в этом мире, об изначальной бедственности, ничтожности, мимолётности, хрупкости и, в конечном счёте тщете его жизни. Человек, в его представлении, — то атом, то тень, то песчинка, затерянная в бесконечной вселенной, а то мыслящий тростник.
Б. Паскаль писал: «Я вижу сомкнувшиеся вокруг меня наводящие ужас пространства Вселенной, понимаю, что заключён в каком-то глухом закоулке этих необозримых пространств, но не могу уразуметь, ни почему нахожусь именно здесь, а не в каком-нибудь другом месте, ни почему столько-то, а не столько-то быстротекущих лет дано мне жить в вечности, что предшествовала моему появлению на свет и будет длиться, когда меня не станет. Куда ни взгляну, я вижу только бесконечность, я заключён в ней, подобно атому, подобно тени, которой суждено через мгновение безвозвратно исчезнуть. Твёрдо знаю я лишь одно — что очень скоро умру, но именно эта неминуемая смерть мне более всего непостижима. И как я не знаю, откуда пришёл, так не знаю, куда иду, знаю только, что за пределами земной жизни меня ждёт вековое небытие…» (Паскаль Б. Мысли. СПб., 1999, с. 115–116).
Грустно читать эти слова. В них заключена горькая правда о нашей жизни. Одно утешение — не вся. Да и сам Б. Паскаль признавал не только ничтожество человека, но и его величие. Правда, своеобразно: «Человек сознаёт своё жалкое состояние. Он жалок потому, что таков и есть на самом деле; но он велик потому, что сознаёт это» (там же, с. 91). Слабое утешение.
Если человек так ничтожен и так жалок, то что же ему остаётся? Прятаться от сознания изначальной бедственности своей жизни. Куда? Куда угодно! Главное — избегать полного покоя. В противном случае его ждёт тоска: «Тоска. — Нет на свете ничего более непереносимого для человека, нежели полный покой, не нарушаемый ни страстями, ни делами, ни развлечениями, ни вообще какими-нибудь занятиями. Вот тогда он и начинает по-настоящему чувствовать свою ничтожность, заброшенность, зависимость, своё несовершенство и бессилие, свою пустоту. Из глубины его души немедленно выползают тоска, угрюмство, печаль, горечь, озлобление, отчаянье» (с. 71).
О развлечении — особый разговор. «Так несчастен человек, — читаем у Б. Паскаля, — что томится своей тоской даже без всякой причины, просто в силу особого своего склада, и одновременно так суетен, что, сколько бы у него ни было самых основательных причин для тоски, он способен развлечься любой малостью вроде игры в бильярд или мяч» (с. 74).
Но разве может Б. Паскаль оставить без объяснения стремление людей к развлечениям? Он ищет причину. Но причина всё та же: «Они лишь потому транжирят деньги, покупая воинские должности, что им невыносим вид одних и тех же городских стен, и лишь потому ищут, с кем бы поболтать и развлечься игрою в карты, что томятся, сидя дома. Но потом, когда я глубже вник в это людское свойство, порождающее столько бед, мне захотелось докопаться до причины, лежащей в его основе, и такая причина действительно обнаружилась, и очень серьёзная, ибо состоит она в изначальной бедственности нашего положения, в хрупкости, смертности и такой горестной ничтожности человека, что стоит нам вдуматься в это — и уже ничто не может нас утешить» (с. 72).
Что же мы имеем в итоге? «Мы жаждем истины, а находим в себе одну лишь неуверенность. Мы ищем счастье, а находим лишь обездоленность и смерть. Мы не в силах не искать истину и счастье, мы не в силах обрести уверенность и счастье» (с. 94–95).
На свете не было мыслителя, который глубже и тоньше Б. Паскаля показал бы нам самих себя. С безжалостной правдивостью он показал нам обратную сторону нашего жизнелюбия. Лучше чем кто-либо он показал нам трагическую сторону человеческой жизни. Этому способствовали личные обстоятельства его жизни. С юных лет этот гениальный человек страдал невыносимыми болями. Удивительно то, что со своими болезнями он сумел прожить 39 лет (см. воспоминания его сестры и племянницы в приложении к кн.: Паскаль Б. Мысли. Малые сочинения. Письма. М., 2003, с. 431–476).
Через две недели после смерти Блеза Паскаля Пьер Николь сказал: «Поистине можно сказать, что мы потеряли один из самых больших умов, которые когда-либо существовали. Я не вижу никого, с кем можно было бы его сравнить: Пико делла Мирандола и все эти люди, которыми восхищался свет, были глупцами возле него… Тот, о ком мы скорбим, был королём в королевстве умов» (Тарасов Б.Н. Паскаль. М., 1979, с. 328).
Джовани Пико делла Мирандола жил задолго до Б. Паскаля — во второй половине XV в. (1463–1494). В 23-летнем возрасте он произнёс речь «О достоинстве человека», которая получила широкую известность. На место Бога он поставил Человека — не согбенного перед всемогущим Господом, а свободного и дерзкого! Не смиренного и униженного, а творца своего счастья. «О великое и восхитительное счастье человека, — восклицал он, — которому дано владеть тем, чем он пожелает, и быть тем, чем хочет!» (Очерк истории этики / под ред. Б.А. Чагина. М., 1969, с. 96).
Б. Паскаль нанёс сильный удар по возрожденческому гедонизму. Но этот удар не был смертельным. Даже самый гениальный мыслитель не может отвратить человека от стремления к счастью. Представление о счастье вместе с тем становится в XVIII в. более рассудительным, чем у Д. Пико делла Мирандола или Л. Валла. Вот что, например, мы можем прочитать в статье «Счастливый» в знаменитой «Энциклопедии» Д. Дидро и Ж. Даламбера: «То, что называют счастьем, — абстрактная идея, составленная из ряда представлений об удовольствиях; ибо тот, кто испытал лишь один момент удовольствия, не счастливый человек, равно как и один момент страдания не делает людей несчастными. Удовольствие короче счастья…» (Философия в «Энциклопедии» Дидро и Даламбера. М., 1994, с. 581).
Далеко не все просветители верили в возможность счастья. Так, Ж.-Ж. Руссо с грустью констатировал: «Счастье — это неизменное состояние, не созданное для человека в этом мире… Поэтому все наши мысли о счастье в этой жизни оказываются химерами» (Руссо Ж.-Ж. Избр. соч. Т. 3. М., 1961, с. 650).
На место счастья Иммануил Кант поставил долг. Ему было чуждо стремление к разработке утопического, с его точки зрения, учения о путях, ведущих к счастью. Не счастье, а долг (долженствование) становится основополагающей категорией его нравственного учения. В основе этого учения лежит категорический императив: человек — не средство, а цель.
Что мы получили в результате? О счастье сейчас говорят в обыденной жизни, а из науки эта категория по существу была изъята. Её место сейчас заняла другая — успех. Но успех и счастье — далеко не одно и то же: можно быть весьма успешным человеком, но одновременно и очень несчастным.
Высшее счастье человека состоит в осуществлении высшего смысла своей жизни. Чем в большей мере человеку удаётся реализовать смысл своей жизни, тем больше он счастлив. Но всё дело в том, какими средствами он его осуществляет — добрыми, нравственными или злыми, безнравственными.
Существует два крайних вида нравственности — эгоизм и альтруизм. Между ними — бездна переходов.
Законченный эгоист ставит в центр вселенной его собственное «я». Он глух к чужим страданиям. Он не способен к сочувствию. Сострадание и самоотверженное служение людям — дар, которым природа награждает очень редких людей — альтруистов.
В реальной жизни мы часто встречаем эгоистов, хотя, может быть, и не дошедших до крайней точки исключительной заботы о самих себе. Зато очень редко на нашем пути встречаются альтруисты. Такой была моя Лариса. Она отдала свою жизнь сыну и мужу. С самоотверженностью она служила и другим людям, переживала за них, помогала, тратила на них свои далеко не беспредельные силы.
Но чаще всего мы имеем дело с людьми, в которых эгоизм и альтруизм причудливо переплетаются. В одних ситуациях преобладает первый, а в других — второй. Человек переменчив. Это свойство человека Л.Н. Толстой назвал текучестью. Всё дело только в том, что один человек стремится к изживанию из себя эгоизма, а другой видит в нём естественное состояние своей души. Оставим в стороне последнего и обратимся к людям первого типа. К нему относились Сократ (469–399 до н. э.) и Лев Николаевич Толстой (1828–1910).
Чтобы иметь перед собой живые образцы нравственного поведения, люди слагают легенды о тех, кто, по их мнению, приблизился к нравственному идеалу. Таких людей они могут со временем даже обожествить — как Будду или Христа, а могут найти и другие формы преклонения перед ними. К нерелигиозной форме преклонения перед людьми высокой нравственности европейцы пришли по отношению к знаменитому греческому мудрецу Сократу.
Конечно, у живого Сократа, как и любого другого человека, были свои нравственные проступки, но, в отличие от миллионов других людей, он достиг большого успеха на пути, ведущем к нравственному совершенству, нравственной чистоте, тем самым обессмертив своё имя.
Задолго до Л.Н. Толстого Сократ увидел главный смысл человеческой жизни в нравственном самосовершенствовании. Он был первым среди европейских мыслителей, кто стал рассматривать культуру с нравоцентрической точки зрения, т. е. считать, что нравственный прогресс определяет развитие культуры в целом.
Какие же добродетели Сократ ставил превыше всего? Он относил к ним истину, справедливость, свободу, мужество и воздержанность. Что же касается телесных удовольствий, то Сократ их расценивал под знаком минус. Люди, стремящиеся к ним, обречены на вечное переселение их душ от одного тела к другому. Их души, как и души других грешников, обречены на бессмертие, а следовательно, и на бесконечные муки.
Сократ не боялся смерти: ведь в его теле жила душа настоящего философа. Вера, что его душа обретёт блаженное успокоение на небе, помогла Сократу принять свой смертный приговор с небывалым мужеством. Этот приговор, очевидно, и не последовал бы, если бы у Сократа не было врагов прежде всего со стороны власть имущих.
Вот небольшой фрагмент из речи Сократа на суде: «Таким образом, о мужи афиняне, я защищаюсь теперь совсем не ради себя, как это может казаться, а ради вас, чтобы вам, осудивши меня на смерть, не проглядеть дара, который вы получили от бога. В самом деле, если вы меня убьете, то вам нелегко будет найти ещё такого человека, который, смешно сказать, приставлен к городу как овод к лошади, большой и благородной, но обленившейся от тучности и нуждающейся в том, чтобы её подгоняли. В самом деле, мне кажется, что бог послал меня городу как такого, который целый день, не переставая, всюду садится и каждого из вас будит, уговаривает, упрекает. Другого такого вам нелегко будет найти…» ().
Вот что Сократ сказал в конце своей речи на суде: «Но и вам, о мужи судьи, не следует ожидать ничего дурного от смерти… А всё-таки я обращаюсь к ним с такою маленькою просьбой: если, о мужи, вам будет казаться, что мои сыновья, сделавшись взрослыми, больше заботятся о деньгах или ещё о чем-нибудь, чем о доблести, отомстите им за это, преследуя их тем же самым, чем и я вас преследовал; и если они будут много о себе думать, будучи ничем, укоряйте их так же, как и я вас укорял, за то, что они не заботятся о должном и воображают о себе невесть что, между тем как на самом деле ничтожны. И, делая это, вы накажете по справедливости не только моих сыновей, но и меня самого. Но вот уже время идти отсюда, мне — чтобы умереть, вам — чтобы жить, а кто из нас идёт на лучшее, это ни для кого не ясно, кроме бога» (там же).
Человеку, избравшему высший смысл своей жизни в нравственном совершенствовании, следует учиться не только у Сократа, но и у Л.Н. Толстого. На склоне своей жизни, в 1904 г., он писал в дневнике: «Зачем нужно… то, чтобы мы совершенствовались, я… могу только догадываться… Это нужно для того, чтобы было осуществлено наибольшее благо как отдельных личностей, так и совокупностей их, так как ничто так не содействует благу и тех и других, как стремление к совершенствованию… Я несомненно знаю, что в этом закон и цель нашей жизни. Знаю я это по трём самым убедительным доводам: потому что, во-первых, вся наша жизнь есть стремление к благу, то есть к улучшению своего положения. Совершенствование же есть самое несомненное улучшение своего положения… Во-вторых, это одна-единственная деятельность из всех человеческих деятельностей, которая не может быть остановлена и которая в стеснениях, страданиях, болезнях, самой смерти может совершаться так же свободно, как и всегда… Третье доказательство того, что это есть назначение человека, то, что для человека, сознательно поставившего себе эту деятельность целью, исчезает всё то, что мы называем злом, или, скорее, претворяется в добро. Гонения, оскорбления, нужда, телесные страдания, болезни свои и близких людей, смерти друзей и своя, всё это человек принимает как то, что не только должно быть, но что нужно ему для его совершенствования» (Толстой Л.Н. Собр. соч.: в 20 т. Т. 20. М., 1965, с. 203).
В дневнике за 1847 г. мы находим у молодого Л.Н. Толстого семь видов правил для совершенствования:
1) правила для развития воли телесной («Каждое утро назначай все, что ты должен делать в продолжение целого дня», «Спи как можно меньше»);
2) правила для развития воли чувственной («Ищи в других людях всегда хорошую сторону, а не дурную», «Всегда говори правду», «Отдаляйся от женщин», «Убивай трудами свои похоти»);
3) правила для развития воли разумной («Когда ты занимаешься, старайся, чтобы все умственные способности были устремлены на этот предмет»);
4) правила для развития памяти («Составляй конспект из всего, чем занимаешься, и учи его наизусть», «Каждый день учи стихи на таком языке, который ты слабо знаешь»);
5) правила для развития деятельности («Старайся дать уму как можно больше пищи»);
6) правила для развития чувства любви и уничтожения чувства самолюбия («Каждого ближнего люби так же, как и самого себя, но двух ближних люби более, нежели себя»);
7) правила для развития обдуманности («Всякий предмет осматривай со всех сторон», «Рассматривай причины всякого явления и могущие быть от него последствия») (там же. Т. 19, с. 41–46).
Зрелый Л.Н. Толстой будет реже составлять для себя правила в такой, повелительной, форме, но даже и у него мы можем найти следующее: «Избегай всего, что разъединяет людей, и делай всё то, что соединяет их» (Толстой Л.Н. Указ. соч. Т. 20, с. 267), «Смотри с любовью на мир и людей, и он так же будет смотреть на тебя» (там же, с. 281), «Нет ничего хуже оглядывания на своё приближение к совершенству. Попробуй идти и думать о том, сколько осталось» (с. 284), «Нужно два: любовь и правда. Первое я знал. Надо работать над вторым. Нет, три: воздержание, правда и любовь» (с. 289), «Не нужно бояться суждений людей…» (с. 305).
Последняя запись в дневнике Л.Н. Толстого, сделанная им 31 октября 1910 г. в Астапово, заканчивалась правилом, ставшим для него излюбленным в последние годы. Оно звучит так: «…Fais се que doit, advienne que pourra (делай, что должно, пусть будет, что будет). И всё на благо и другим, и, главное, мне» (с. 436).
Л.Н. Толстой не оставил после себя какого-либо обобщающего труда по этике, который, если бы он был, можно было назвать, например, по-кантовски «Метафизикой нравственности», хотя сам Л.Н. Толстой, скорее, назвал бы его «Наука, как жить». Во всяком случае, в одной из дневниковых записей мы находим у него такие слова: «…я твердо уверен, что… люди начнут разрабатывать единую истинную и нужную науку, которая теперь в загоне — науку о том, как жить»(т. 20, с. 249).
Нравственное совершенствование состоит в борьбе человека с пороками. В начале книги «Путь жизни» Л.Н. Толстой выделяет следующие грехи: чревоугодие, блуд, праздность, корыстолюбие (жадность), зависть, страх, осуждение, враждебность, гнев, гордость, тщеславие (славолюбие).
Все эти грехи Л.Н. Толстой находил в себе. 21 сентября 1905 г. он писал в дневнике: «Во мне все пороки, и в высшей степени: и зависть, и корысть, и скупость, и сладострастие, и тщеславие, и честолюбие, и гордость, и злоба. Нет, злобы нет, но есть озлобление, лживость, лицемерие… Одно моё спасение, что я знаю это и борюсь, всю жизнь борюсь» (т. 20, с. 223).
Источник грехов Л.Н. Толстой видел в телесном (животном) начале человека. Применительно к себе он писал: «Во мне два начала: духовное и телесное; они борются. И постепенно побеждает духовное. Борьбу этих начал я сознаю собой и называю своей жизнью» (с. 222). Стало быть, само понятие жизни человека он сводил к нравственной борьбе. «Мы живем только тогда, — подтверждал Л.Н. Толстой, — когда помним о своём духовном я. А это бывает в минуты духовного восторга или минуты борьбы духовного начала с животным» (с. 168). Не следует думать, что такая борьба давалась ему легко. Очень часто он приходил в отчаяние и тогда молил Бога: «Господи, помоги мне, сожги моего древнего, плотского человека» (с. 269).
Отчего же человеку приходится всю свою жизнь бороться со своими пороками? Всё дело в том его свойстве, которое Л.Н. Толстой назвал текучестью. Он писал: «Одно из самых обычных заблуждений состоит в том, чтобы считать людей добрыми, злыми, глупыми, умными. Человек течёт, и в нём есть все возможности: был глуп, стал умён, был зол, стал добр, и наоборот. В этом величие человека. И от этого нельзя судить человека. Какого? Ты осудил, а он уже другой» (с. 92).
Текучесть человека не должна расцениваться как основание для сознания человеком бессилия по отношению к своим порокам. Напротив, она служит основанием для постоянного нравственного самосовершенствования. Л.Н. Толстой писал: «Как можно приучить себя класть жизнь в чинах, богатстве, славе, даже в охоте, в коллекционерстве, так можно приучить себя класть жизнь в совершенствовании, в постепенном приближении к поставленному пределу. Можно сейчас испытать это: посадить зёрнышки и начать следить за их ростом, и это будет занимать и радовать. Вспомни, как радовался на увеличение силы телесной, ловкости: коньки, плаванье. Так же попробуй задать себе хоть то, чтобы не сказать в целый день, неделю ничего дурного про людей, и достижение будет также занимать и радовать» (с. 253).
Все пороки (страсти) — крайности, в которые может впасть человек, отправляясь от добродетелей. Последние, как говорил ещё Аристотель, проходят посередине между первыми. Выходит, что текучей является граница между пороком и добродетелью. «Все страсти, — размышлял Л.Н. Толстой, — только преувеличение естественных влечений — законных: 1) тщеславие — желание знать, чего от нас хотят люди; 2) скупость — бережливость чужих трудов; 3) любострастие — исполнение закона продолжения рода; 4) гордость — сознание своей божественности; 5) злоба, ненависть к людям — ненависть к злу» (с. 271).
Основные добродетели группируются в этике Л.Н. Толстого вокруг её базовых, основных нравственных ценностей — счастья, любви и мужества.
Счастье. Счастье в представлении Л.Н. Толстого состоит во всё большем и большем приближении человека к нравственному совершенству. Это приближение предполагает каждодневную борьбу человека со своим животным началом, но именно в ней он и видел настоящую жизнь. «Жизнь, — писал он, — только в усилии нравственном… Настоящая жизнь есть рост нравственный, и радость жизни есть слежение за этим ростом. Какое же ребяческое, недомысленное представление — рай, где люди совершенны и потому не растут, стало быть, не живут» (с. 283).
Высшую радость приносит человеку освобождение от соблазнов. «Да, только освободиться, как я освобождаюсь теперь, от соблазнов, — писал 80-летний Лев Николаевич, — гнева, блуда, богатства, отчасти сластолюбия и, главное, славы людской, и как вдруг разжигается внутренний свет. Особенно радостно…» (с. 277). И ниже он продолжал: «Жизнь не шутка, а великое, торжественное дело. Жить надо бы всегда так же серьёзно и торжественно, как умираешь» (там же).
Нравственное совершенствование приводит к высшему благу — любви, единению с людьми. Л.Н. Толстой писал: «Увеличить благо людей наукой — цивилизацией, культурой так же невозможно, как сделать то, чтобы на водяной плоскости вода в одном месте стояла бы выше, чем в других. Увеличение блага (читай: счастья. — В.Д.) людей только от увеличения любви, которая по свойству своему равняет всех людей… Благо только от увеличения любви» (с. 169).
Любовь. Слава, почёт, богатство и т. п. блага — ничто по сравнению с любовью. Только она приносит высшее благо — счастье. «Когда человек ищет благо во всём, кроме любви, — писал Л.Н. Толстой, — он всё равно как во мраке ищет пути. Когда же он познал, что благо всего существующего — в любви, так солнце взошло, и он видит свой путь и не может уже хвататься за то, что не даёт ему благо» (с. 142).
Любовь для Л.Н. Толстого была той волшебницей, которая развязывает все узлы. В её отсутствии, как и в переизбытке, он видел источник всех страданий: «Любовь настоящая есть только любовь к ближнему, ровная, одинаковая для всех. Одинаково нужно заставить себя любить тех, которых мало любишь или ненавидишь, и перестать слишком любить тех, которых слишком любишь. Одно не дошло, другое перешло линию. От того и другого все страдания мира» (с. 164).
Как бы подводя итог своим нравственным исканиям, Л.Н. Толстой писал в своём дневнике в конце жизни: «Смешно писать такую всем известную истину в конце жизни, а истина эта для меня, как я её теперь понимаю, скорее, чувствую, представляется совершенно новой. Истина эта в том, что надо всех любить и всю жизнь строить так, чтобы можно было всех любить» (с. 261).
Мужество. Мужество — это борьба со страхом. Самый же сильный страх — страх смерти. Мысль о смерти красной нитью проходит через сознание Л.Н. Толстого. Она — главный источник смирения. Она, подобно любви, распутывает все узлы. Она заставляет человека жить для души, а не для тела. Л.Н. Толстой писал: «Для человека, живущего для души, разрушение тела есть только освобождение… Но каково же положение человека, полагающего свою жизнь в теле, когда он видит, что… его тело разрушается, да ещё и со страданиями?» (с. 376).
Последние слова Л.Н. Толстого перед смертью, которые он сказал подошедшему сыну Сергею, были такими: «Истина… Я люблю много… как они…» (Бунин И.А. Собр. соч.: в 9 т. Т. 9. Освобождение Толстого. М., 1967, с. 28). Неутомимый мыслитель, он всю свою жизнь искал истину… И любовь. Его главной истиной стала любовь. Любовь — вот то солнце, которое освещает человеку его путь к нравственному совершенству.
После Л.Н. Толстого в мире не было мыслителя, поднявшегося выше его в учении о нравственном совершенствовании. Доведённое до логического предела, оно становится эволюционным учением, предполагающим, что человек, вступивший на путь нравственного совершенствования, воспринимает себя в качестве сосуда, через который проходит эволюция. Всё, что мешает ей, он расценивает как зло; всё же, что способствует ей, — как добро.
За служением добру далеко ходить не нужно. В нём нуждаются люди, с которыми мы живём. В частности — наша семья. Только глупцы недооценивают семейный смысл жизни.
Семейная жизнь может принести счастье, а может — и несчастье. Счастье в семейной жизни нашёл А.С. Пушкин, хотя оно и продлилось недолго. Есть чему поучиться у него в отношении мужа к жене.
Нелегко далась А.С. Пушкину его женитьба на Наталье Николаевне Гончаровой. Перед отъездом в Болдино он писал П.А. Плетнёву: «Милый мой, расскажу тебе всё, что у меня на душе: грустно, тоска, тоска. Жизнь жениха тридцатилетнего хуже 30-ти лет жизни игрока… Свадьба моя отлагается день от дня далее. Между тем я хладею, думаю о заботах женатого человека, о прелести холостой жизни» (31 августа 1830. Пушкин А.С. Собр. соч.: в 10 т. Т. 9. М., 1981, с. 311).
Но деваться было некуда: нельзя было не жениться. «Молодость моя прошла шумно и бесплодно, — писал А.С. Пушкин Н.И. Кривцову за неделю до свадьбы (10 февраля 1831). — До сих пор я жил иначе как обыкновенно живут. Счастья мне не было. II n’est de bonheur que dans les voies communes (Счастье можно найти лишь на проторенных дорогах). Мне за 30 лет. В тридцать лет люди обыкновенно женятся — я поступаю как люди и, вероятно, не буду в том раскаиваться. К тому же я женюсь без упоения, без ребяческого очарования. Будущность является мне не в розах, но в строгой наготе своей. Горести не удивят меня: они входят в мои домашние расчёты. Всякая радость будет мне неожиданностию» (Пушкин А.С. Указ. соч. Т. 10, с. 13).
18 февраля 1831 г. А, с. Пушкин женился. Его жизнь после свадьбы, как он и предвидел, явилась ему «не в розах, но в строгой наготе своей». Между тем в последние годы судьба преподнесла ему не только «труд и горе», но и семейное счастье — обожаемую им и любящую его юную красавицу жену, которую В.А. Жуковский назвал богинеобразной, и четырёх детей. Она была равнодушна к его стихам, но это не мешало А.С. Пушкину писать ей письма.
До нас дошло больше шестидесяти писем А.С. Пушкина к жене. Вот какую характеристику этим письмам дала Ариадна Тыркова-Вильямс: «Эти письма показывают, каким вниманием, какой заботливостью он её окружал. Пушкин входил во все мелочи домашней жизни, давал молодой жене указания, как обращаться с детьми, с прислугой, с деньгами, как вести себя в обществе. Делал это без всякой наставительности, не навязывая своего авторитета, добродушно, пересыпая шутками, забавляя свою „жёнку“ рассказами о знакомых, описанием дорожных встреч. Мыслями своими он с ней не делился, знал, что ей это скучно. Но о своих настроениях, о своих чувствах писал ей просто, откровенно, подчас трогательно. Эти письма, не меньше, чем его стихи, свидетельствуют, что он был не только гениальный поэт, но очень хороший, исключительно добрый человек, с благородным детским сердцем» (Тыркова-Вильямс А. Жизнь Пушкина. Т. 2. 1824–1837. М., 2006, с. 343). С одним я не могу согласиться — с отсутствием в письмах А.С. Пушкина к жене шутливой, а иногда и сердитой наставительности.
Наставительный тон писем А.С. Пушкина к Н.Н. Гончаровой заявил о себе ещё до женитьбы. Уже 29 октября 1830 г. он писал своей невесте: «Милостивая государыня Наталья Николаевна, я по-французски браниться не умею, так позвольте мне говорить вам по-русски, а вы, мой ангел, отвечайте мне хоть по-чухонски, да только отвечайте» (Пушкин А.С. Указ. соч. Т. 9, с. 317). Да и то сказать: Таша Гончарова была моложе А, с. Пушкина на 13 лет. Когда они поженились, ей было 18, а ему — 31.
А.С. Пушкин уезжал из дома три раза: на две недели в декабре 1831 г., на месяц осенью 1832 г. и на три месяца осенью 1833 г. Первые два раза — в Москву, а третий раз — по пугачёвским местам. Кроме того, он писал жене во время поездок Н.Н. Пушкиной в Москву, Ярополец и Полотняный завод. Благодаря последним сохранилось много писем А, с. Пушкина к жене весной и летом 1834 г. Таким образом, перед нами четыре группы писем А.С. Пушкина к Н.Н. Пушкиной — 1831, 1832, 1833 и 1834 гг.
Чуть ли не в каждом письме 1831 г. А.С. Пушкин озабочен состоянием здоровья своей жены. Она была беременна их первой дочерью, которую назовут Марией. В последнем, пятом, письме он пишет: «Чем больше думаю, тем яснее вижу, что я глупо сделал, что уехал от тебя. Без меня ты что-нибудь с собой да напроказишь. Того и гляди выкинешь» (16 декабря 1831. Пушкин А.С. Там же. Т. 9, с. 59).
Письма к жене во вторую поездку А.С. Пушкина в Москву оказались повеселее, чем в первую. Видно, чувства уверенности поприбавилось. Вот как он здесь поддразнивал свою ревнивую жену: «Теперь послушай, с кем я путешествовал (по дороге в Москву. — В.Д.), с кем провёл я пять дней и пять ночей. То-то будет мне гонка! с пятью немецкими актрисами, в жёлтых кацавейках и в чёрных вуалях. Каково? Ей-богу, душа моя, не я с ними кокетничал, они со мною амурились в надежде на лишний билет. Но я отговаривался незнанием немецкого языка и, как маленький Иосиф, вышел чист от искушения» (22 сентября 1832; Пушкин А.С. Указ. соч. Т. 10, с. 74).
В письме от 30 сентября 1832 г. он так утихомиривает ревность молодой жены: «Грех тебе меня подозревать в неверности к тебе и в разборчивости к жёнам друзей моих. Я только завидую тем из них, у коих супруги не красавицы, не ангелы прелести, не мадонны etc. etc. Знаешь русскую песню –
Не дай бог хорошей жены, Хорошу жену часто в пир зовут.А бедному-то мужу во чужом пиру похмелье, да и в своём тошнит» (там же, с. 77).
А ниже приписывает: «Благодарю, душа моя, за то, что в шахматы учишься. Это непременно нужно во всяком благоустроенном семействе; докажу после» (там же). О кушаньях: «С Нащокиным вижусь всякий день. У него в домике был пир: подали на стол мышонка в сметане под хреном в виде поросёнка» (там же).
Жаль, что письма Н.Н. Пушкиной не сохранились. Но кое о чём мы можем догадываться по ответам её мужа. Вот, например, как начинается письмо от 3 октября 1832 г.: «По пунктам отвечаю на твои обвинения. 1) Русский человек в дороге не переодевается, и, доехав до места свинья свиньёю, идёт в баню, которая наша вторая мать. Ты разве не крещёная, что всего этого не знаешь?..» (там же, с. 78). Сразу же после этих объяснений начинает подхваливать свою осмелевшую жёнушку: «Ты, мне кажется, воюешь без меня дома, сменяешь людей, ломаешь кареты, сверяешь счёты, доишь кормилицу. Ай-да хват баба!» (там же).
Вот как А.С. Пушкин подхваливал свою жёнку в начале своей трёхмесячной поездки осенью 1933 г.: «Гляделась ли ты в зеркало, и уверилась ли ты, что с твоим лицом ничего сравнить нельзя на свете, — а душу твою люблю я ещё более твоего лица» (21 августа 1833. Там же, с. 92). В этом же письме он ей пишет: «…в Яропольце (виноват: в Торжке) толстая m-lle Pojarsky, та самая, которая варит славный квас и жарит славные котлеты, провожая меня до ворот своего трактира, отвечала мне на мои нежности: стыдно вам замечать чужие красоты, у вас у самого такая красавица… Ты видишь, моя жёнка, что слава твоя распространилась по всем уездам» (там же).
В следующем письме к жене А.С. Пушкин пишет о её братце: «Теперь, жёнка, послушай, что делается с Дмитрием Николаевичем. Он, как владетельный принц, влюбился в графиню Надежду Чернышёву по портрету, услыша, что она девка плотная, чернобровая и румяная» (26 августа 1833; 9: 93).
О Москве А.С. Пушкин сообщает на этот раз вот что: «Вчера, приехав поздно домой, нашёл я у себя на столе карточку Булгакова, отца красавиц, и приглашение на вечер. Жена его была также именинница. Я не поехал за неимением бального платья и за небритие усов, которые отрощаю в дорогу. Ты видишь, что в Москву мудрено попасть и не поплясать. Однако скучна Москва, пуста Москва, бедна Москва. Даже извозчиков мало на её скучных улицах. На Тверском бульваре попадаются две-три салопницы, да какой-нибудь студент в очках и в фуражке, да кн. Шаликов» (27 августа 1933; 9: 95). А в конце этого письма шутит: «Книги, взятые мною в дорогу, перебились и перетёрлись в сундуке. От этого я так сердит сегодня, что не советую Машке[4] капризничать и воевать с нянею: прибью» (там же).
Очень переживал А.С. Пушкин о жене и двух своих детках. Ради них он был готов даже отказаться от поездки в Симбирск и Оренбург: «…что, если у тебя опять нарывы, что, если Машка больна? А другие непредвиденные случаи… Пугачёв не стоит этого. Того и гляди, я на него плюну — и явлюсь к тебе» (2 сентября 1833. Там же, с. 96).
Снова её поддразнивает — на этот раз городничихой: «Ты спросишь: хороша ли городничиха? Вот то-то, что не хороша, ангел мой Таша, о том-то я и горюю — Уф! Кончил. Отпусти и помилуй… Ты видишь, что несмотря на городничиху и её тётку — я всё ещё люблю Гончарову Наташу, которую заочно целую куда ни попало» (там же).
Хоть и редко, но писал А.С. Пушкин своей жене и о своих писательских делах. Вот что, например, он писал ей из Оренбурга: «Что, жёнка? скучно тебе? мне тоска без тебя. Кабы не стыдно было, воротился бы прямо к тебе, ни строчки не написав. Да нельзя, мой ангел. Взялся за гуж, не говори, что не дюж — то есть: уехал писать, так пиши же роман за романом, поэму за поэмой. А уж чувствую, что дурь на меня находит — я и в коляске сочиняю, что же будет в постеле?» (19 сентября 1833. Пушкин А.С. Указ. соч., с. 100). Почему дурь? А Л.Н. Толстой почему-то будет называть свои романы дребеденью.
Снова её успокаивает, хвастаясь своим целомудрием: «Как я хорошо веду себя! как ты была бы мной довольна! за барышнями не ухаживаю, смотрительшей не щиплю, с калмычками не кокетничаю — и на днях отказался от башкирки, несмотря на любопытство, очень простительное путешественнику. Знаешь ли ты, что есть пословица: на чужой сторонке и старушка божий дар. То-то, жёнка. Бери с меня пример» (там же).
В начале октября А.С. Пушкин уже в Болдино. Оттуда пишет: «Въехав в границы болдинские, встретил я попов и так же озлился на них, как на симбирского зайца (из суеверия. — В.Д.). Недаром все эти встречи. Смотри, жёнка. Того и гляди избалуешься без меня, забудешь меня — искокетничаешься. Одна надежда на бога да на тётку. Авось сохранят тебя от искушений рассеянности. Честь имею донести тебе, что с моей стороны я перед тобою чист, как новорождённый младенец. Дорогою волочился я за одними 70- или 80-летними старухами — а на молоденьких, да шестидесятилетних и не глядел» (2 октября 1833; там же, с. 101).
Оттуда же наставляет: «…кокетничать я тебе не мешаю, но требую от тебя холодности, благопристойности, важности — не говорю уже о беспорочности поведения, которое относится не к тону, а к чему-то уже важнейшему. Охота тебе, жёнка, соперничать с графиней Сологуб. Ты красавица, ты бой-баба, а она шкурка. Что тебе перебивать у ней поклонников? Всё равно кабы граф Шереметев стал оттягивать у меня кистенёвских моих мужиков. Кто же ещё за тобой ухаживает, кроме Огарева? пришли мне список по азбучному порядку» (21 октября 1833. Там же, с. 104).
В письмах 1834 г. встречаются мысли, выходящие за пределы отношений А.С. Пушкина с женой. В письме от 20 и 22 апреля 1834 г. из Петербурга в Москву он с грустью пишет: «Видел я трёх царей: первый велел снять с меня картуз и пожурил за меня мою няньку; второй меня не жаловал; третий хоть и упёк меня в камер-пажи под старость лет, но променять его на четвертого не желаю; от добра добра не ищут. Посмотрим, как-то наш Сашка будет ладить с порфирородным своим тёзкой; с моим тёзкой я не ладил. Не дай бог ему идти по моим следам, писать стихи да ссориться с царями! В стихах он отца не перещеголяет, а плетью обуха не перешибёт» (там же, с. 122).
В письме от 18 мая 1834 г. А.С. Пушкин пишет о своём отношении к переписке с женой: «Смотри, жёнка: надеюсь, что ты моих писем списывать никому не дашь; если почта распечатала письмо мужа к жене, так это её дело, и тут одно неприятно: тайна семейственных сношений, проникнутая скверным и бесчестным образом; но если ты виновата, так это мне было бы больно. Никто не должен знать, что может происходить между нами; никто не должен быть принят в нашу спальню. Без тайны нет семейственной жизни. Я пишу тебе, не для печати; а тебе нечего публику принимать в наперсники. Но знаю, что этого быть не может; а свинство уже давно меня ни в ком не удивляет» (там же, с. 130).
По письмам 1834 г. мы видим, что жизнь А.С. Пушкина становилась день ото дня всё более и более невесёлой. Ни Москва, ни Петербург его не радуют. О последнем он писал к жене в Полотняный завод: «Ты зовёшь меня к себе прежде августа. Рад бы в рай, да грехи не пускают. Ты разве думаешь, что свинский Петербург не гадок мне? что мне весело в нём жить между пасквилями и доносами?» (29 мая 1834. Там же, с. 131).
В последних письмах А.С. Пушкина мы обнаруживаем новый уровень его отношений с женой. Он доверяет в них свои излюбленные мысли — например, о независимости: «Зависимость, которую налагаем на себя из честолюбия или из нужды, унижает нас. Теперь они смотрят на меня как на холопа, с которым можно им поступать как им угодно. Опала легче презрения. Я, как Ломоносов, не хочу быть шутом ниже у господа бога» (8 июня 1834. Там же, с. 134).
Дуэль А.С. Пушкина с Ж. Дантесом ещё не скоро, а в письмах к жене он будто предчувствует свою близкую смерть, надеясь, что его жена будет после его смерти вести жизнь достойную. В этом же письме он пишет: «Ты молода, но ты уже мать семейства, и я уверен, что тебе не труднее будет исполнить долг доброй матери, как исполняешь ты долг честной и доброй жены» (29 мая 1834. Там же, с. 131).
Одна у него забота — о своей семье: «Умри я сегодня, что с вами будет? мало утешения в том, что меня похоронят в полосатом кафтане, и ещё на тесном Петербургском кладбище, а не в церкви на просторе, как прилично порядочному человеку. Ты баба умная и добрая. Ты понимаешь необходимость; дай сделаться мне богатым — а там, пожалуй, и кутить можем в свою голову» (28 июня 1834. Пушкин А.А. Указ. соч., с. 138).
Увы, не пришлось Александру Сергеевичу разбогатеть. Не дали. Но то богатство, которое он оставил нам, не поддаётся денежному исчислению. Оно бесценно. Это богатство его гениальной поэзии. Это богатство его гениальной прозы. Это богатство его остроумных, мудрых, бессмертных писем.
Добро — вот категория, которая объединяет все добродетели. Ей противостоит зло. Оно объединяет все пороки. Об этом свидетельствуют афоризмы о нравственности.
В этом мире радуется он и в ином — радуется. В обоих мирах творящий добро радуется. Он радуется не нарадуется, видя непорочность своих дел.
Будда.«Он оскорбил меня, он ударил меня, он одержал верх надо мной, он обобрал меня». У тех, кто не таит в себе такие мысли, ненависть прекращается. Ибо никогда в этом мире ненависть не прекращается ненавистью, но отсутствием ненависти прекращается она. Вот извечная дхамма.
Будда.Пусть мудрец усилием, серьезностью, самоограничением и воздержанием сотворит остров, который нельзя сокрушить потоком.
Будда.Из костей сделана эта крепость, плотью и кровью оштукатурена; старость и смерть, обман и лицемерие заложены в ней.
Будда.Плохие и вредные для себя дела — делать легко. То же, что хорошо и полезно, — делать в высшей степени трудно.
Будда.Старо это присловье, о Атула, и в ходу оно не только в наше время: «Они порицают сидящего спокойно, они порицают многоречивого, и того, кто говорит в меру, порицают они». Нет ничего в мире, что бы они не порицали.
Будда.И не было, и не будет, и теперь нет человека, который достоин только порицания или только похвалы.
Будда.Даже разумный человек будет глупеть, если он не будет самосовершенствоваться.
Будда.Благородный муж знает только долг, низкий человек знает только выгоду.
Конфуций.Как страшен может быть разум, если он не служит человеку!
Софокл.Если даже ты наедине с собой, не говори и не делай ничего дурного. Учись гораздо более стыдиться самого себя, чем других.
Демокрит.Делающий постыдное должен прежде всего стыдиться самого себя.
Демокрит.Должно приучать себя к добродетельным делам и поступкам, а не к речам о добродетели,
Демокрит.Не для того мы рассуждаем, чтобы знать, что такое добродетель, а для того, чтобы стать хорошими людьми.
Аристотель.Конечная цель — это состояние, при котором душа пребывает в спокойствии и равновесии, не смущается ни страхом, ни суеверием, ни иной какой-нибудь страстью.
Эпикур.Не будем сваливать наши неприятности на обстоятельства.
Эпикур.Любовь к деньгам, приобретённым нечестным путём, нечестива; к деньгам, приобретённым честным путём, позорна; грязная же скаредность непристойна даже при честности.
Эпикур.Всякий уходит из жизни так, будто он только что родился.
Эпикур. Безмятежная жизнь невозможна без чистого сердца… Если же сердце не чисто у нас, то какие боренья, Сколько опасностей нам угрожает тогда поневоле, Сколько жестоких забот и терзаний, внушаемых страстью, Мучат смятенных людей и какие вселяют тревоги! Гордость надменная, скупость и дерзкая наглость — какие Беды они за собою влекут! А роскошь и праздность? Лукреций.Если хочешь, чтобы говорили хорошо про тебя, не говори худо о других.
Эпиктет.Кто крепок телом, может терпеть и жару, и холод. Так тот, кто здоров душевно, в состоянии перенести и гнев, и горе, и радость и остальные чувства.
Эпиктет.Раб тот, кто не умеет владеть собою.
Эпиктет.Будь доволен своей судьбой, с этим оружием всё победишь.
Эпиктет.Что такое человек? Душонка с телом — ходячим трупом.
Эпиктет.Нет ничего гнуснее и хуже двух пороков — нетерпеливости и невоздержности.
Эпиктет.Люди рождены друг для друга. Значит, переучивай — или переноси.
М. Аврелий.Жить, как хочешь, всякий может; надо жить, как должно.
X. Мануэль.Тому, кто не знает, где гавань, никакой ветер не поможет.
Д. Бруно.Мудрый не меняется каждый месяц, тогда как глупец меняется, как луна.
Д. Бруно.Пусть обыщется энтузиаст с теми, которых он может сделать лучшими или от которых может сам стать лучше.
Д. Бруно.Страх смерти хуже, чем сама смерть.
Д. Бруно.Оба проводника истины, разум и чувства, помимо присущего обоим недостатка правдивости, ещё и злоупотребляют друг другом. Чувства обманывают рассудок ложными внешними признаками. Разум тоже не остаётся в долгу: душевные страсти помрачают чувства и направляют их по ложному пути.
Б. Паскаль.Гордость людей низких состоит в том, чтобы постоянно говорить о самом себе, людей же высших — чтобы вовсе о себе не говорить.
Вольтер.Нет иной морали, кроме той, которая основана на принципах разума и вытекает из естественной склонности человека к добру.
П. Бейль.С появлением человека закладываются и ростки нравственности, развивающиеся вместе с развитием его бытия. Это очеловечение, как мы замечаем, происходит с нарастающим успехом.
В. Гумбольдт.Зависимость жизни семейной делает человека более нравственным.
А.С. Пушкин.Говорят, что несчастно есть хорошая школа; может быть. Но счастие есть лучший университет.
А.С. Пушкин.Для человека нет блаженства в безнравственности; в нравственности и добродетели только и достигает он высшего блаженства.
А.И. Герцен.Что такое нравственность? В чём должна состоять нравственность? В твёрдом, глубоком убеждении, в пламенной, непоколебимой вере в достоинство человека, в его высокое назначение. Это убеждение, эта вера есть источник всех человеческих добродетелей, всех действий.
В.Г. Белинский.Чтобы мы все были счастливы, есть только одно средство: надо, чтобы каждый поступал с другими так, как он желал бы, чтобы поступали с ним.
Л.Н. Толстой.Дело жизни, назначение её — радость. Радуйся на небо, на солнце, на звёзды, на траву, на деревья, на животных, на людей, И блюди за тем, чтоб радость эта ничем не нарушалась. Нарушается эта радость, значит, ты ошибся где-нибудь — ищи эту ошибку и исправляй.
Л.Н. Толстой.Высшее счастье даётся тремя вещами: трудом, самоотвержением и любовью.
Л.Н. Толстой.Чем выше человек по умственному и нравственному развитию, тем он свободнее, тем большее удовольствие доставляет ему жизнь.
А.П. Чехов.Мораль буржуазного мира — это мораль жадности, приспособленной к жадности.
А.С. Макаренко.Мы знаем себя и управляем собой лишь в немыслимо малой степени.
П. Тейяр де Шарден. Я так устал на вас похожим быть, К тому ж за годы, что я здесь бытую, Что нет меня, что я не существую. В.Н. Соколов. Некогда мне над собой измываться, Праздно терзаться и даром страдать. Делом давай-ка с бедой управляться Ждут сиротливо перо и тетрадь. Некогда, Времени нет для мороки, — В самый обрез для работы оно. Жёсткие сроки — отличные сроки, Если иных нам уже не дано. А.Т. Твардовский.Политика: несправедливость ↔ справедливость
Честность — лучшая политика.
Английская пословица.Жить — Родине служить.
Русская пословица.В самом общем виде политику можно определить как род деятельности, направленный на защиту интересов тех или иных социальных групп. Существовал ли такой общественный строй, в котором эти интересы были бы приведены в гармонию? Увы, о таком строе приходится лишь мечтать. Вот почему категория социальной справедливости была и остаётся недостижимым идеалом. К достижению этого идеала, тем не менее, испокон веков стремились лучшие представители рода человеческого.
Что может быть самоотверженнее, чем служить справедливости и, не жалея себя, бороться против несправедливости? Людей, способных видеть в борьбе за социальную справедливость смысл своей жизни, мы должны на руках носить. Их высшая цель — построение общества, лишённого тех вопиющих противоречий, свидетелями которых нам довелось быть.
О построении справедливого общества мечтали не только авторы политических утопий, но и анонимные авторы русских пословиц. Справедливость в них выступает как правда.
Дух захватывает, когда читаешь пословицы о правде. Такие, например: Правда — свет разума; Правдой мир держится; Правда дороже золота; Правда краше солнца; Правда чище ясна месяца; Правда в воде не тонет и в огне не горит; Правда и в море не утонет; Правда что шило: в мешке не утаишь; Правда что масло: всегда наверху; Без правды не житьё, а вытьё; Всё минётся, одна правда останется; Правду не спрячешь; Правда с кривдой не уживутся; Правда всегда кривду переспорит и т. д.
Далеко не всегда в реальной жизни правда побеждает кривду. Недаром русские пословицы свидетельствуют: Была когда-то правда, а ныне стала кривда; Была правда, да в лес ушла; Была правда когда-то, да извелась; Была правда, да по мелочам, в разновеску ушла; Была, сказывают, и правда на свете, да не за нашу память; Будет и наша правда, да нас тогда не будет; Правде нигде нет места и т. п.
Если с правдой-справедливостью дело обстоит именно так, как в только что приведённых пословицах, то напрашиваются такие выводы: Нет правды на свете; Не плачь по правде, обживайся с кривдой; По правде тужим, а кривдой живём; Про правду слышали, а кривду видели; Правдой век не проживёшь; На правде недалеко уедешь; Правдой ни молотить, ни веять; Правдой сыт не будешь; Правдой не обуешься; Правдой жить — ничего не нажить; Правдой богат не будешь; Торгуй правдою больше, товар наживёшь толще; Торгуй правдою — больше барыша и т. п.
Пословицы, где правда возносится до небес, ведут к политической эволюции. В последних пословицах, напротив, мы видим в конечном счёте политическую инволюцию. В её основе — в лучшем случае — стремление к выживанию, а в худшем — стремление к барышу.
Русский народ осуждает богатство: Богатство — скорый путь ко злу; Богатство счастья не составит; Не родись богатым, а родись кудрявым; От богатства брюхо пучит, а душу плющит; Богатством в рай не взойдёшь; Богатому сладко естся, да плохо спится; Богатство от смерти не избавит; Богатый никого не помнит, кроме себя; Неправедное богатство прахом пойдёт; Богатому красть, а старому лгать; Краденое богатство исчезает — как лёд тает; Не сбирай богатства неправого; Богатство родителей — кара детям; Богатый бедного не разумеет; Богатый пузатеет, а бедный тощает; Богатство с деньгами, голь — с весельем; Лишние деньги — лишняя забота и т. д.
Но приведённые пословицы — только одна сторона медали. Есть и другая: Богатому завсё праздник; Богатому везде дом; Сила и слава богатству послушны; От трудов праведных не построишь палат каменных; После Бога — деньги первые; Денежка не Бог, а пол-бога есть; Денежка не Бог, а бережёт; Всему голова — деньги; Деньга деньгу наживает; Деньга и камень долбит; Тому живётся, у кого денежка ведётся; Налитые денежки — колдунчики; Рубль есть — и ум есть, нет рубля — нет и ума; Рубль — ум, а два рубля — два ума; Что милей ста рублей? Двести; За ватагу нищих одного богача не выменяешь.
Ни одна пословица не свалилась к нам с неба. У каждой был автор. А автор этот, в частности, имел свои классовые пристрастия. Отсюда явные противоречия в русских пословицах о правде и кривде, о богатстве и бедности. Подобные противоречия характерны для русских пословиц и в отношении к власти.
В большинстве старых пословиц царь выглядит настолько безупречным, что источники всех несчастий они перекладывают на его служивых: Бог на небе, царь на земле; Нельзя быть земле Русской без государя; Народ тело, царь — голова; Государь — батька, земля — матка; Воля царя — закон; Не Москва государю указ, а государь Москве; Не от царей угнетение, а от любимцев царских; Царские милости в боярское решето сеются.
О политической благонадёжности русских можно судить в какой-то мере по их пословицам о законах и судьях. Более благонадёжные воспринимают законы как основу государства, а их нарушение объясняют недобросовестностью судей: Законы святы, да судьи супостаты; Не бойся закона, бойся судьи; Законы — миротворцы, да законники крючкотворцы. Но есть у нас пословицы, авторы которых отваживаются видеть корень зла в самих законах: Где закон, там и преступление; Где закон, там и обида; Не будь закона, не стало б и греха; Строгий закон виноватых творит; По закону так, а по житейскому инак. Но чаще всего несправедливость исходит как от несовершенства законов, так и от продажных судей: Что мне законы, коли судьи знакомы; Закон что дышло: куда повернул, туда и вышло; Закон как паутина: шмель проскачет, а муха увязнет.
А как обстоит дело в русских пословицах с законопослушностью? Чего в них больше — послушания (кротости) или бунтарства?
Пословицы, призывающие к послушанию: Закон — не игрушка; Повиновение начальству — повиновение Богу; Голова от поклонов не болит; Где посадят, там и сиди; Хвост голове не указка; Взялся за гуж, не говори, что не дюж; Назвался груздем — полезай в кузов; Смирный в артели — клад; Кто живёт тихо, тот не увидит лиха; Молча — легче; Тихо не лихо, а смирнее прибыльнее; Живи смирнее, будет прибыльнее.
Но были у нас и борцы. Это они говорили: Сердитого проклянут, а смирного проглотят; Кто живёт тихо, тому жить лихо; Силён как бык, а смирен как корова; Смирная овца волку по зубам; Смирную собаку и кочет бьёт; Бойкий скачет, а смирный плачет. Так чего же в русском народе больше — бунтарства или послушания? Это зависит от ситуации.
Что есть справедливость и несправедливость в политике?
Под справедливостью Демокрит (ок. 460–370 до н. э.) имел в виду гармонию интересов в государстве. Напротив, несправедливыми он считал поступки, которые противоречат этой гармонии. Чтобы и им препятствовать, государством необходимо управлять: «Ибо хорошо управляемое государство есть величайший оплот: в нём всё заключается и, когда оно сохраняется, всё цело, а погибает оно, с ним вместе и всё гибнет» (История политических и правовых учений / под ред. В.С. Нерсесянца. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2004, с. 49).
Категории социальной справедливости отводили большое место в своих работах Платон (427–347 до н. э.) и Аристотель (384–322 до н. э.).
Платон, несмотря на своё аристократическое происхождение, главным источником несправедливости в государстве считал частную собственность. «Прежде всего, никто не должен обладать никакой частной собственностью, если в том нет крайней необходимости» (там же, с. 59). Частная собственность, по Платону, есть главная причина, которая увеличивает пропасть между богатыми и бедными. Она делит людей на группы, вражда между которыми — величайшее зло для государства. «Имеем ли мы какое-либо большее для государства зло, — спрашивал Платон, — чем то, которое разъединяет его?» (Асмус В.Ф. Античная философия. М., 1976, с. 251).
По вопросу о частной собственности Аристотель расходился со своим учителем. В стремлении к частной собственности он видел одно из природных качеств человека. Выходит по Аристотелю, что деление людей на богатых и бедных неизбежно, поскольку разным людям в разной мере удаётся реализовать это стремление. Стало быть, люди должны найти такую форму государственного устройства, при которой противоречия между богатыми и бедными сводятся к минимуму. Такую форму он видел в политии. Что она собой представляет? Власть в ней принадлежит людям среднего достатка. Это-то и позволяет им быть вершителями наибольшей справедливости: они ограничивают, с одной стороны, алчность богатых, а с другой, притязания бедных на чужую собственность.
Если античные философы искали источники справедливости на земле, то средневековые богословы нашли их на небе. Верховным вершителем справедливости они провозгласили Бога. Задача состояла лишь в том, чтобы его именем карать людей за их грехи. Самым тяжким грехом они считали вероотступничество, ересь. Фома Аквинский (1225–1274) писал: «Извращать религию, от которой зависит жизнь вечная, гораздо более тяжкое преступление, чем подделывать монету, которая служит для удовлетворения потребностей временной жизни. Следовательно, если фальшивомонетчиков, как и других злодеев, светские государи справедливо наказывают смертью, ещё справедливее казнить еретиков, коль скоро они уличены в ереси» (там же, с. 124–125).
Неизлечимую рану в Новое время нанесли богословам французские просветители — Дени Дидро (1713–1784), Поль Гольбах (1723–1789), Клод Гельвеций (1715–1771) и др. Они опустили категории справедливости и несправедливости на землю. В частности, Д. Дидро видел причину социальной несправедливости в сословном неравенстве. Он писал: «В природе все виды животных пожирают друг друга; в обществе сословия друг друга пожирают» (История политических и правовых учений / под ред. В.С. Нерсесянца. М., 1983, с. 226).
Герберт Спенсер (1820–1903) пытался вписать категории справедливости и несправедливости в контекст политической эволюции. Эта эволюция, с его точки зрения, идёт от архаических форм общественного строя ко всё более цивилизованным. Она позволила низшим сословиям стать в какой-то мере свободными от угнетателей. Но их свобода нередко оборачивается асоциальным поведением и даже преступностью. Вот почему современный этап в эволюции человечества не может обойтись без насилия. Оно состоит в деятельности, которая направлена на усмирение людей, тормозящих политическую эволюцию.
Люди, занимающиеся политикой, делятся на две категории — власть имущие (Перикл, Цезарь, Пётр I, Наполеон и т. п.) и власть неимущие. К последним относятся социалисты-утописты (Т. Мор, Т. Кампанелла, А. де Сен-Симон, Ш. Фурье, Р. Оуэн и др.). Они создавали проекты справедливого общественного строя. Их теперь замалчивают. Да и кто? Люди, которые им в подмётки не годятся. Но были времена, когда одни их превозносили (марксисты), а другие — осуждали. К последним относится Семён Людвигович Франк (1877–1950).
Любую деятельность, направленную на изменение общественного порядка, поздний С.Л. Франк расценивал как утопизм. Он писал: «Под утопизмом мы разумеем не общую мечту об осуществлении совершенной жизни на земле, свободной от зла и страдания, а более специфический замысел, согласно которому совершенство жизни может — а потому и должно быть — как бы автоматически обеспечено неким общественным порядком или организационным устройством» (Т. Мор. Оуэн. Дидро. Д’Аламбер. Кондорсе. Биографические повествования. Челябинск, 1998, с. 474). Почему «как бы автоматически»?
Я привёл эту цитату из статьи С.Л. Франка с выразительным названием «Ересь утопизма». Она была написана уже после Второй мировой войны. Но, словно забыв о том, какой век на дворе, её автор объявил утопистов еретиками. Как новоявленный служитель суда инквизиции он писал: «Ересь утопизма можно, таким образом, ближайшим образом определить как искажение христианской идеи спасения мира» (там же, с. 480). Между тем в юности автор этих слов был активным социал-демократом. Как Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков и др., он, слава Богу, вовремя одумался и порвал с марксизмом, став религиозным философом (см. подробнее вступ. статью к кн.: Франк С.Л. Сочинения. М., 1990).
Перечеркнуть великую роль социалистических учений в истории европейской культуры (включая русскую) не представляется возможным. Их ещё ждёт праздник возрождения. Но и сейчас мы должны о них помнить. Но и сейчас мы должны у них учиться — в первую очередь — стремлению к справедливости. Их жизнь — вдохновляющий пример для тех, кто отважится бороться за справедливость. Остановимся здесь на жизни только двух социалистов-утопистов — Т. Мора и Р. Оуэна.
Томас Мор (1478–1535) собирался стать священником, но по настоянию отца стал юристом. Он закончил Оксфордский университет, любовь к науке сохранил на всю жизнь. Любопытен такой факт: в его доме было много животных, но держал он их не для праздного любования, а для наблюдений за их умственными способностями. Т. Мор писал в молодые годы стихи и комедии. Несколько лет он служил адвокатом в Лондоне. Его заметил король Генрих VIII и приблизил ко двору. Он был членом и спикером парламента. Через несколько лет король назначил его вторым человеком в государстве — лорд-канцлером Англии. В его руках была государственная печать.
Король очень дорожил мнением Т. Мора. Он стал любимцем Генриха. Но Т. Мора любил и простой народ. Он отличался небывалой демократичностью. Его друг Эразм говорил: «Можно сказать, что Мор — главный покровитель всех бедняков в государстве. Он радуется, как будто заключил невесть какую выгодную сделку, когда ему удаётся помочь угнетённому или стеснённому человеку и дать ему возможность выйти из затруднительного положения» (Т. Мор. Указ. соч., с. 25).
Мировую славу Т. Мор приобрёл своей «Утопией» (1516). В ней две основные идеи — об отмене частной собственности и демократии. О частной собственности он писал: «Повсюду, где есть частная собственность, где всё измеряют деньгами, там едва ли когда-нибудь будет возможно, чтобы государство управлялось справедливо или счастливо. Разве ты сочтёшь справедливым, когда всё самое лучшее достаётся самым плохим людям, или посчитаешь удачным, когда всё распределяется между совсем немногими, да и они живут отнюдь не благополучно, а прочие же совсем несчастны. Поэтому я полностью убеждён, что распределить всё поровну и по справедливости, а также счастливо управлять делами человеческими невозможно иначе, как вовсе уничтожить собственность. Если же она останется, то у наибольшей и самой лучшей части людей навсегда останется страх, а также неизбежное бремя нищеты и забот. Я признаю, что его можно несколько облегчить, однако настаиваю, что полностью этот страх устранить невозможно» (Утопический социализм: хрестоматия / под ред. А.И. Володина. М., 1982, с. 57–58).
Должностные лица у утопийцев в большинстве своём выборные. В Утопии только «должность правителя постоянна в течение всей его жизни» (там же, с. 62). От идеи полного правового равенства Т. Мор отказался. В его Утопии сохранено рабство. Рабы выполняют там самую грязную работу. Но при этом важно помнить, что в рабов обращают у Т. Мора лишь преступников.
Своею жизнью Т. Мор поплатился не за «Утопию», а за несговорчивость. Генрих объявил себя главой новой, самостоятельной англиканской церкви. Он это сделал вовсе не из теологических соображений. Дело заключалось в том, что Рим запретил ему развод с королевой, с которой он прожил двадцать лет. А развод ему нужен был потому, что он горел желанием жениться на красавице Анне Болейн, чтобы иметь от неё сыновей. Главенство над англиканской церковью развязало Генриху руки. Он получил и развод, и вторичный брак, который просуществовал недолго: Генрих приказал отрубить голову Анне Болейн за мнимые измены. Он женится ещё четыре раза и казнит ещё одну жену — молоденькую Кэтрин — за реальную измену. У Генриха VIII, этого кровавого изверга рода человеческого, было хобби — отрубать головы своим соотечественникам. Вот с каким королём Т. Мору выпало «счастье» жить!
Генрихом владела одна, но пламенная страсть — как можно больше иметь сыновей. Он обещал своему отцу, что его преемником будет сын. По иронии судьбы его единственный сын (от Джейн, умершей после родов) король Эдуард умрёт в пятнадцатилетнем возрасте, а через несколько лет в Англии воцарится чуть ли не на полстолетия королева Елизавета — дочь Генриха и Анны Болейн. Но возвратимся к ситуации, в которой оказался Т. Мор.
Трусливые приспешники короля угодливо подписали присягу на верность главе новой церкви. Только Т. Мор отказался её подписать. Он не мог поступиться своей католической совестью. Его посадили в Тауэр. Через год с редким мужеством он выслушал обвинительный приговор в государственной измене, который звучал так: «Шерифу Вильяму Бингстону предписывается отвести преступника обратно в Тауэр, а оттуда провести через Сити до Тиберна, где и повесить; когда это будет сделано, снять его полумёртвого, разорвать на части, благородные члены отрезать, живот распороть, внутренности сжечь; конечности выставить на четырёх воротах Сити, а голову — на Лондонском мосту» (Т. Мор. Указ. соч., с. 98).
Король смягчил приговор, заменив его на отсечение головы на плахе. Т. Мор отреагировал на его милость такими словами: «Да избавит Бог моих друзей от сострадания короля и всё моё потомство от его милостей!» (там же).
Вот как закончилась жизнь Томаса Мора: «Палач попросил у него прощения. Мор, обнявши его, сказал:
— …Исполняй же без страха свою обязанность. Моя шея коротка; направь верно свой удар, не осрамись…
Затем один взмах — и благородная голова отделилась от туловища» (с. 100).
В.И. Яковенко, автор очерка о Т. Море в цитируемой книге, сравнил его с Сократом: «Так погиб этот великий человек, отстаивая до последнего момента дело своей совести… И в этом отношении Томаса Мора можно по всей справедливости поставить подле Сократа. Оба они своим примером учат, как должен умирать человек за свои убеждения» (с. 101).
Детство и юность у Роберта Оуэна (1771–1858) были не самыми радужными. В школе он, сын мелкого лавочника, проучился лишь два года, потом мотался по Англии в поисках средств существования. Был на побегушках у хозяев магазинов Стамфорда, Лондона, Манчестера.
В Манчестере Р. Оуэн занял денег у брата и открыл с одним компаньоном небольшую мастерскую по ремонту прядильных машин, которые тогда были в ходу, а потом дело дошло и до собственного предприятия по изготовлению таких машин. Но особенно успешно его дела пошли, когда в двадцать лет он стал управляющим, а затем и совладельцем хлопковой мануфактуры.
Р. Оуэн был очень успешным предпринимателем, но его предприимчивость была уникальной: полученные деньги он тратил не столько на себя, сколько на других. Он стал устраивать социальные эксперименты. Их цель состояла в том, чтобы облегчить жизнь рабочих. Этому способствовала его женитьба на богатой невесте Каролине Дейл — дочери Дэвида Дейла, владельца текстильной фабрики в поселке Нью-Ланарк близ Глазго. Он стал управляющим этой фабрики и в довольно короткие сроки привёл её к процветающему состоянию. Высоким благосостоянием рабочих на этой фабрике восхищался не кто-нибудь, а будущий император Николай Павлович, который пригласил Р. Оуэна в Россию, но тот отказался.
К 1817 г. у Р. Оуэна (ему уже 46 лет) созрела идея создания коммунистических посёлков для бедняков, напоминающих фаланги у Ш. Фурье. Британское правительство эту идею не поддержало. Р. Оуэн не смиряется. В 1817–1824 гг. он пишет множество статей и произносит множество речей в разных городах Англии, чтобы убедить людей в перспективности задуманных им общественных преобразований. Но — тщетно: его родное правительство осталось глухим. Остались безуспешными и его попытки изменить фабричное законодательство через парламент.
Р. Оуэн так говорил о политических вождях: «Они запутаны в интригах партий, которые затемняют их рассудок и часто заставляют приносить в жертву своим мнимым личным выгодам истинное благосостояние общества и своё собственное благо» (Т. Мор. Указ, соч., с. 152).
Р. Оуэн не сдаётся. В 1825 г. он покупает в Америке 30 тысяч акров земли и принимается за строительство коммунизма в отдельно взятом штате Индиана. Результатом его усилий стала коммунистическая колония с красивым названием «Новая гармония». Главной чертой жизни в этой колонии стала отмена частной собственности. Её жизнь основывалась на принципах равенства, всеобщности труда и имущества, вознаграждения за труд продуктами. Но построить коммунизм в «Новой гармонии» Р. Оуэну в конечном счёте не удалось.
В 1828 г. Р. Оуэн вынужден был отказаться от руководства «Новой гармонией». На митинге он сказал: «Этот опыт доказал, что семейства, воспитанные при старой системе индивидуализма, основанной на суеверии, не могут проникнуться той терпимостью и братским милосердием друг к другу, без которых немыслимо согласие и доверие между членами колонии и без которых не может существовать никакое подобное общество» (там же, с. 182).
Опыт оказался преждевременным. Отсюда не следует, что жизнь Р. Оуэна оказалась неудачной. Напротив, она явила вдохновляющий пример для тех, кто не на словах, а на деле делают всё возможное для того, чтобы прорваться к обществу, где люди живут не по закону джунглей, а по закону справедливости. Всю жизнь он стремился к осуществлению такого закона. Ему было уже 87 лет, когда осенью 1858 г. на трибуне митинга в Ливерпуле он почувствовал себя плохо. Через несколько дней этот великий человек скончался в своём родном городе Ньютаун.
Вот как описал смерть Р. Оуэна его сын: «17 ноября 1858 г. Всё кончено. Мой дорогой отец умер сегодня утром, без четверти в семь часов, так тихо и спокойно, как будто заснул… Его последние слова были: „Настал покой…“» (с. 211–212).
Главный вывод, к которому Р. Оуэн пришёл в своей жизни, состоял в следующем: «Частная собственность была и есть причина бесчисленных преступлений и бедствий, испытываемых человеком, и он должен приветствовать наступление эры, когда научные успехи и знакомство со способами формирования у всех людей совершенного характера сделают продолжение борьбы за личное обогащение не только излишним, но и весьма вредным для всех; она причиняет неисчислимый вред низшим, средним и высшим классам. Владение частной собственностью ведёт к тому, что её владельцы становятся невежественно эгоистичными, причем этот эгоизм обычно пропорционален в своих размерах величине собственности. Собственники так эгоистичны, что многие из них, имея ежегодно намного больше, чем требуется для удовлетворения разумных потребностей, спокойно читают или слышат о тысячах собратьев, ежедневно гибнущих вследствие недостатка работы, которую богатые им не дают…» (Утопический социализм. 1982, с. 329).
Р. Оуэн на своей шкуре испытал, что значит быть изгоем среди предпринимателей. Он писал о них: «Эти дети торговли смолоду привыкли изощрять свои способности на то, как бы купить подешевле, а продать подороже. Поэтому люди, более успевающие в этом замысловатом и благородном искусстве, признаются в коммерческом мире умами предусмотрительными, одарёнными высшими способностями; напротив, людей, которые стараются о материальном и нравственном преуспеянии рабочих, называют сумасбродными фантазёрами» (там же, с. 152).
В представлении «Книги нового нравственного мира» (1836), адресованном королеве Виктории, Р. Оуэн охарактеризовал себя вовсе не как сумасбродного фантазёра, а как человека, «который более полувека искал приобретения редкой между людьми мудрости с одной целью — приложить её к облегчению бедствий несчастных» (с. 205).
А.В. Каменский так закончил своё повествование о жизни Р. Оуэна: «Многие считают Роберта Оуэна утопистом, растратившим своё состояние в безумных филантропических предприятиях. Между тем мы видим теперь, что большая часть его жизни прошла в борьбе с тем ближайшим злом и в изыскании практических средств помощи окружающим в тех бедствиях, которые происходили у него на глазах… Но как ни велики перед людьми заслуги Роберта Оуэна с этой стороны, личность его прежде всего поражает гармоническим сочетанием в ней самой высокой любви к людям, правде и безграничной вере в человека с непрестанным самоотверженным трудом для достижения всеобщего человеческого счастья. Это была в полном смысле слова прекрасная, цельная человеческая жизнь. Говоря словами его английского биографа, „всю свою жизнь он работал для народа, умер за этой работой, и последняя его мысль была — о счастье народном“» (с. 212–213).
Без таких людей, как Томас Мор и Роберт Оуэн, политическая эволюция невозможна.
Всякий эволюционист понимает, что любой общественный строй есть не что иное, как одно из звеньев политической эволюции. Не признавать это — вслед за Ф. Фукуямой — может лишь тот, кто хорошо устроился в этом мире. Как бы ни тщились Карл Поппер доказать отсутствие законов общественного развития, а Фрэнсис Фукуяма провозглашать глобализационный капитализм верхом общественного совершенства, крот истории роет. Придёт время, когда в яму, которую он выроет, попадут и все те теории, которые не способны постичь эволюционизм. Принимать мир, в котором одни с жиру бесятся, а другие не могут свести концы с концами, может только безнравственный человек.
Не менее безнравственной мне представляется и позиция некоторых философов-постмодернистов по отношению к эволюции философской мысли. Так, Жак Деррида оказался достойным продолжателем основателя лингвистической философии Людвига Витгенштейна, который видел высший смысл своей жизни в разрушении западноевропейской философии (метафизики). Подытоживая свой вклад в философию, последний писал в своём дневнике: «Я думал над своей работой по философии и приговаривал: „Я разрушаю, разрушаю, разрушаю, разрушаю“» (Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. 1. М., 1994, с. 431).
Для преодоления метафизики Ж. Деррида разработал метод деконструкции (т. е. разрушения). С его помощью он «деконструировал» (т. е. разрушал) метафизические категории (такие, например, как истина, добро, красота и т. п.). А чтобы это было легче сделать, ему необходимо было отделаться от их источника — реальной действительности. Вот почему в своей книге «О грамматологии» (1967) (/~yankos/ya.html) он торжественно провозгласил: «Внетекстовой реальности вообще не существует» (Деррида Ж. О грамматологии. М., 2000, с. 314).
«Грамматология» у Ж. Дерриды — это «наука», призванная низложить метафизику, как она представлена в тех или иных текстах, с помощью метода деконструкции. В упомянутой книге её автор демонстрирует применение этого метода на примере текстов Жан-Жака Руссо. С особым упоением Ж. Деррида пересказывает в своей книге те места из «Исповеди» Ж.-Ж. Руссо, где великий философ повествует о своих пороках. Один из них Ж. Деррида именует «автоэротизмом» и с глубоким знанием дела поясняет: «между автоэротизмом и гетероэротизмом нет жесткой границы, но есть „экономическое“ распределение функций» (там же, с. 310). Преодолеть метафизику, таким образом, значительно легче, если мы будем обращать внимание на недостатки её представителей.
Подытоживая вклад философов-постмодернистов в разрушение универсалистских идеалов прошлого, А.С. Панарин писал: «Речь идёт о философии постмодернизма. Именно она утверждает прямо и откровенно, что у современной культуры в целом нет никаких процедур, позволяющих достоверно отличить правду от вымысла, знание от мифа, добродетель от порока, прекрасное от безобразного. Даже более того: второй ряд предпочтительнее первого, ибо правда, знание, добродетель и красота статичны, тогда как вымысел, миф, порок и безобразие динамичны, ибо чувствуют свою несамодостаточность. Они вместе образуют своего рода диаспору, встроенную в сложившийся социум и находящуюся на примете. Находящимся на примете требуется больше ловкости, изворотливости, находчивости, чем тем, кого не преследует социальная и моральная цензура. Поэтому отдадим предпочтение всему девиантному, греховному, сомнительному — от них современный мир черпает свою динамику» (Панарин А.С. Искушение глобализмом. М., 2002, с. 343).
Художественный удар по методу деконструкции нанёс в повести «Смерть Джона Илайджи» американский доктор философии Майкл Майлэм (Иркутск, 2007). Это римейк «Смерти Ивана Ильича» Л.Н. Толстого. Мы обнаруживаем здесь остроумную перекличку с Л. Толстым о бессмысленности профессиональной деятельности юриста Ивана Ильича и литературоведа Джона Илайджи. М. Майлэм ядовито осмеивает в своей повести литературоведческую науку за её приверженность к деконструктивизму Ж. Дерриды. Повесть получилась весьма задиристая: знаменитый деконструктивист-деинтерпретатор Д. Илайджи наказан «деконструкцией» своего тела и расстройством речи (афазией). Особенно закономерна здесь афазия, поскольку он сделал свою карьеру на обессмысливании классической литературы. Вот его Бог и наказал бессмысленностью своей собственной речи. Глубина смысла здесь в том, что бессмысленной была его речь в науке и раньше, когда он был здоров, но болезнь сделала это очевидным.
В отличие от толстовского Ивана Ильича, Джон Илайджи не сумел подняться перед смертью до переоценки ценностей: он умер с несокрушимой верой в истинность деконструктивизма. «„Пофтпредермонизм велик, — думал он. — Теперь пвофеффов Лиззи Лефби пводолжит дело. А я отбегалфя“. И вдруг Джону стало ясно, — смеётся М. Майлэм, — что то, что томило его и не выходило, он ощутил, что вдруг всё выходит сразу, и с двух сторон. Ему стало жалко тех недотёп, которые думают, что литература и язык могут что-то означать, когда он, Джон Илайджи, король философии, проник в самую суть бытия и обнаружил абсолютную бесполезность всего этого. „Мастера деконструкции были правы. Мы были правы!“ — говорил он себе и верил в это всем сердцем англо-теоретика» (Майлэм М. Смерть Джона Илайджи. Иркутск, 2007, с. 90).
А как обстоит дело с политикой у нас? Не самым лучшим образом. Лжеполитика охватила у нас даже литераторов. Остановлюсь здесь на одном из них — В.И. Новикове.
Контексты слова советский в книге В.И. Новикова «Александр Блок»
Передо мною две книги об Александре Блоке — А.М. Туркова (1969) и В.И. Новикова (2010). Обе из серии ЖЗЛ. Первая — советская, вторая — антисоветская. Я выбрал вторую.
Знаю, что говорить с Новиковыми совершенно бессмысленно, как с сектантами. Они оглашенные (оглушённые, оглоушенные). Язык в общении с ними теряет свою главную функцию — коммуникативную. Я и не собираюсь с ними говорить. Я не для них здесь пишу, а для осуществления замысла — проследить контексты прилагательного советский в книге одного из неугомонных антисоветчиков. У меня исключительно лингвистическая цель.
Александра Александровича Блока (1880–1921) я люблю как своего родного брата. Как мне его не любить, если его строчки греют мою душу на протяжении всей моей сознательной жизни? Со студенческих лет в моей голове крутятся, например, такие строчки из «Возмездия»:
И отвращение от жизни, И к ней безумная любовь…Я всю жизнь думал о смерти. Теперь, после смерти жены, я думаю о ней по А.А. Блоку, воспринимая её как «старинное дело своё»:
Что же, пора приниматься за дело, За старинное дело своё, — Неужели и жизнь отшумела, Отшумела, как платье твоё?Как же я мог пропустить новую книгу об авторе этих строк? Купил. Не жалею. Узнал много нового. В особенности об интимной стороне его жизни — переживаниях, связанных с Ксенией Садовской, Любовью Менделеевой-Блок, Натальей Волоховой, Любовью Дельмас и др. А со стороны жены — Андрей Белый, Константин Давидовский (отец Мити, который прожил всего неделю), Георгий Чулков, Дмитрий Кузьмин-Караваев и «какая-то, — как сказал её муж, — уж совсем мелочь» (Новиков В.И. Александр Блок. М., 2010, с. 229).
Но самое главное, описание интимной стороны жизни А.А. Блока в книге В.И. Новикова перемежается с анализом его стихов и даже прозы. Иногда очень удачно и очень тонко. Возьму, например, такой фрагмент из этой книги: «Блоковская критика человеческой природы ещё беспощаднее (чем у А.С. Пушкина. — В.Д.):
Не стучись же напрасно у плотных дверей, Тщетным стоном себя не томи: Ты не встретишь участья у бедных зверей, Называвшихся прежде людьми.…Друг — это всё-таки другой. Блоку уже не нужны спутники (в 1916 г. — В.Д.). Он своё дело сделал, ему предстоит скорая встреча с великими предшественниками, от современников же пора отгородиться. Последняя строфа — разговор только с самим собой:
Ты — железною маской лицо закрывай, Поклоняясь священным гробам, Охраняя железом до времени рай, Недоступный безумным рабам. („Ты твердишь, что я холоден, замкнут и сух…“)Что значит „до времени“? До конца земной жизни. А какой „рай“ охраняет поэт своей холодностью и сухостью? Обиталище праведников? Или — скорее — рай своей души, который поймут и оценят люди будущего? Если смогут из „бедных зверей“ и „безумных рабов“ превратиться в людей» (там же, с. 288–289).
Ненавязчиво! Предположительно! Дипломатично! Ему бы не в филологи пойти, этому В.И. Новикову, а в дипломаты. Но как только дело доходит до прилагательного советский, его дипломатичность исчезает моментально. Ни одного доброго слова о советской власти, которая его взрастила, вскормила и в люди вывела, и никакого — о теперешней!
Вот что мы можем узнать о В.И. Новикове из «Википедии»: «Владимир Иванович Новиков (род. 1948, Омск) — российский литературный критик и прозаик. Доктор филологических наук (1992), профессор кафедры литературно-художественной критики и публицистики факультета журналистики МГУ».
Ему уже за 60, а стало быть, большую часть своей жизни он провёл в условиях советского тоталитаризма, которому он по преимуществу и обязан своей карьерой: «Закончил филологический факультет МГУ (1970) и его аспирантуру. Работал учителем в средней школе (1973–1975), в НИИ национальных школ (1975 1978), в журнале „Литературное обозрение“ (1978–1983), консультантом правления СП СССР (1983–1987), доцентом, затем проректором Литературного института по научной и учебной работе (с 1990), обозревателем „Общей газеты“ (1994–1996). Преподавал на факультете журналистики МГУ (1981–1987 и с 1995) и в Литературном институте, в университетах Австрии, Германии, Франции и Швейцарии. Член СП СССР (1988). Лауреат премий журнала „Литературное обозрение“ (1986)».
Да и большую часть книг (о В. Каверине — 1986; о Ю. Тынянове — 1988; о пародии — 1989; о В. Высоцком — 1991) В.И. Новиков написал в условиях той самой власти, которую без устали он поносит в книге об А.А. Блоке к месту и не к месту. Революцию 1917 г. он расценивает как начало новой эры в истории России. Но какой? «Говорить о справедливости случившегося с Россией будет явной ложью, остаётся говорить о неизбежности, о необратимости исторического процесса. Кончилась эра человечности, пора отказаться от иллюзий гуманизма и осмыслить новый мир в новых философских категориях» (с. 324). Он пишет эти слова как бы от лица А.А. Блока, но ещё больше он пишет их от себя лично.
Анализируя слова А.А. Блока о том, что будущее принадлежит человеку-артисту, В.И. Новиков начинает петь самую любимую песню всех антисоветчиков — про репрессии: «…„формированием нового человека“ (в ином смысле) занялся тоталитарный режим. При этом „новый человек“ активно занялся моральным и физическим истреблением ярчайших представителей разновидности „человек-артист“ (перечисляются: Мейерхольд, Мандельштам, Бабель, Хармс. — В.Д.). И судьба каждого — опровержение всех утопических мечтаний» (Новиков В.И. Указ. соч., с. 326).
Бесспорно: нет оправдания людям, которые уничтожили Н.И. Вавилова, искорёжили жизнь Н.А. Заболоцкому и др., но лучше уж совсем ослепнуть, чем видеть в советском времени одни репрессии и списывать на сталинское прошлое все беды постсоветского времени. Хорошо ответил этим неугомонным в своей передаче «Постскриптум» Алексей Пушков: «Не сталинское прошлое мешает преодолеть сегодняшнюю чудовищную коррупцию. Не сталинское прошлое виновно в нынешнем чудовищном социальном размежевании. Не сталинское прошлое является причиной убогого состояния правоохранительной системы. Не сталинское прошлое виновато в трагедии станицы Кущёвской. Не сталинское прошлое привело к тому, что народ продолжает вымирать. Не сталинское прошлое виновато в том, что мы так и не можем слезть с нефтяной иглы. Это всё черты не 30-х годов, а нынешнего времени. Времени Путина и Медведева, Федотова и Караганова». Но я забыл о главном — о контекстуальном анализе.
Контекст № 1. На стр. 212 В.И. Новиков приводит пассаж из статьи А.А. Блока «Интеллигенция и революция» (9 января 1918 г.): «Почему дырявят древний собор? — Потому, что сто лет здесь ожиревший поп, икая, брал взятки и торговал водкой.
Почему гадят в любезных сердцу барских усадьбах? — Потому, что там насиловали и пороли девок: не у того барина, так у соседа.
Почему валят столетние парки? — Потому, что сто лет под их развесистыми липами и клёнами господа показывали свою власть: тыкали в нос нищему — мошной, а дураку — образованностью.
Всё — так.
Я знаю, что говорю. Конём этого не объедешь. Замалчивать этого нет возможности; а все, однако, замалчивают.
Я не сомневаюсь ни в чьём личном благородстве, ни в чьей личной скорби; но ведь за прошлое — отвечаем мы? Мы — звенья единой цепи. Или на нас не лежат грехи отцов? — Если этого не чувствуют все, то это должны чувствовать „лучшие“».
У В.И. Новикова дальше следует: «Этот пассаж в советское время многократно цитировался как убедительный аргумент в пользу революции, осенённой поэтическим авторитетом Блока. Но теперь, когда этой революции (всё чаще именуемой „октябрьским переворотом“) без малого сто лет, когда известны все её роковые и во многом непоправимые последствия, нельзя не видеть, что публицистические гиперболы Блока вступили в непримиримое противоречие с реальностью, а его социально-исторические оценки событий ни в малейшей степени не подтвердились» (с. 213).
Что за «публицистические гиперболы»? Насчёт попа, что ли, или насчёт девок? Какие же это гиперболы? Это литоты. А какие «его социально-исторические оценки событий ни в малейшей степени не подтвердились»? Его оценки отношения взбунтовавшегося народа к своим господам?
То, что нам А.А. Блок поведал про попов да девок, — пустяки по сравнению с тем, что нам рассказал, к примеру сказать, М.М. Зощенко в «Голубой книге»: «Прошлая жизнь, согласно описанию историков, была уж очень, как бы сказать, отвратительно ужасная. То и дело правили какие-то кровавые царьки, какие-то в высшей степени, пёс их знает, свирепые тираны, владетельные господа, герцоги, потомственные дворяне, бароны и так далее. И все они, конечно, делали со всей публикой чего хотели. Отрезали языки у тех, которые болтали не то, чего надо. Сжигали на кострах, если, например, человек высказывал собственные научные или религиозные мысли. Кидали для потехи диким зверям и крокодилам. И вообще без зазрения совести поступали как хотели. И от всех этих дел публика, наверно, нравственно ослабла. И характеры у них отчасти испортились. У них, может, озлобился ум. И они стали ко всему приноравливаться, и с течением веков через это, может быть, произошли коварство, арапство, подхалимство, приспособленчество и так далее и тому подобное, и прочее» (Зощенко М.М. Голубая книга. М., 1996, с. 139).
У А.А. Блока разграбили Шахматово, а он оправдывает своих грабителей. Подобное чувство социальной справедливости В.И. Новикову и не снилось. Он так здесь распинается: «Так с виду красивая, но по сути своей ложная идея об „избирательной“ ответственности за прошлое… привела Блока-публициста к безумно бесчеловечным суждениям» (Новиков В.И. Указ. соч., с. 213).
Автор этих нелепых обвинений не чувствует никакой ответственности за маразм, в котором ещё трепыхается наша страна. Ему бы у Александра Александровича поучиться.
Контекст № 2. «Советские литературоведы старательно выуживали из блоковских дневниковых записей сочувственные высказывания о большевиках и Ленине, фразы в поддержку революции» (Новиков В.И. Указ. соч., с. 292).
А зачем их выуживать? Есть «Интеллигенция и революция» и есть «Двенадцать». А дневники — для узкого круга избранных. Вам мало, например, такого призыва: «Всем телом, всем сердцем, всем сознанием — слушайте Революцию» (Блок А.А. Собр. соч.: в 6 т. Т. 5. М., 1971, с. 406)? А из дневников можно выудить и такой приговор интеллигенции: «Как буржуи, дрожите над своим карманом» (Там же. Т. 6, с. 321). Так на чьей же стороне был А.А. Блок? Не на Вашей.
Контекст № 3. Очень щекотливая ситуация: на стр. 295-й В.И. Новиков довольно старательно приводит антисемитские высказывания А.А. Блока (например, «Тоска, хоть вешайся… Жиды, жиды, жиды…»), а на следующей странице В.И. Новиков пишет: «В советское время при обсуждении дневника и записных книжек Блока подобные пассажи подвергались сокращению и некрасивые слова устранялись». А Вы против?
Контекст № 4. «Воспевание революции? Как в 1918 г. критик-большевик Осинский напишет статью „Интеллигентский гимн октябрьской революции“, так эту песню будет тянуть советское литературоведение семьдесят с лишком лет. Двустишие „Революцьонный держите шаг, / Неугомонный не дремлет враг!“ упорно вырывалось из контекста, а Христос при помощи несложных идеологических увёрток объявлялся „первым революционером“ и „социалистом“» (Новиков В.И. Указ. соч., с. 309).
А для кого А.А. Блок писал свою поэму? Для литературоведов или революционных масс? Литературоведы — народ ненадёжный: сегодня — одно, а завтра — другое. А для многих из тех, кому А.А. Блок адресовывал свою поэму «Двенадцать», Иисус Христос — символ правды. Вот почему он и оказался впереди красноармейцев.
Контекст № 5. Об Евгении Книпович, написавшей воспоминания об А.А. Блоке: «… „советский“ акцент в речи мемуаристки» (там же, с. 317). Антисоветский лучше? Своевременнее? Вот и автору «Несвоевременных мыслей» своевременно от Вас досталось: «Откуда у Горького такая злость — вплоть до потери контроля над словом?.. Это ещё вопрос, кто на самом деле жаден до славы (и умеет её добиться в мировом масштабе, манипулируя политическими темами как игровыми приёмами), чьи философские потуги часто превышают реальный масштаб таланта» (с. 154). Откуда у В.И. Новикова такая злость — вплоть до потери контроля над словом? Видно, чует, что силы не равны.
Контекст № 6. «Зинаида Гиппиус и устно, и письменно высказала немало резких слов по адресу автора „Двенадцати“, но называть это „травлей“, как было принято в советское время, не вполне адекватно» (с. 321).
3. Гиппиус не отличалась особой нравственной чистотой. Она даже в своих воспоминаниях об А.А. Блоке («Мой лунный друг») сумела оболгать своего «лунного друга». «А вот Блок, — читаем у неё, — в последние годы свои отрёкся от всего (и от своей лирики? — В.Д.)… Поэму „Двенадцать“ возненавидел, не терпел, чтоб о ней упоминали при нём» (Гиппиус 3. Живые лица. Л., 1991, с. 41).
А.А. Блок настолько «возненавидел» «Двенадцать», что в последний год своей жизни писал в своём дневнике (17 января 1921 г.): «Научиться читать „Двенадцать“. Стать поэтом-куплетистом. Можно деньги и ордера иметь всегда…» (Блок А.А. Указ. собр. соч. Т. 6, с. 375). Чего не сделаешь ради куска хлеба? Вы плохо знаете А.А. Блока.
Контекст № 7. О Юрии Анненкове: «…почувствовав свою внутреннюю несовместимость с советской властью и советским искусством, художник в 1924 г. едет в Венецию на выставку, станет „невозвращенцем“ и оставшуюся жизнь проведёт в Париже» (с. 322).
В Париже Юрий Павлович Анненков (1889–1974) проживёт ещё целых 50 лет! Он подарит нам не только прекрасные портреты своих современников (в том числе посмертный портрет истощённого А.А. Блока), но и замечательную книгу «Дневник моих встреч. Цикл трагедий» (М.: Советский композитор). Большая часть этих воспоминаний — о русских людях, хотя в России он прожил только 35 лет из 85. Душой он жил больше в России, чем во Франции. Подзаголовок к его воспоминаниям касается в первую очередь их автора.
Вот какие печальные строчки мы можем прочитать в мемуарах Ю.П. Анненкова: «Последним словом, которое я услышал от Блока накануне его последней поездки в Москву весной 1921 г., было:
— Устал.
В конце июля 1921 г. прибежал ко мне Алянский и сообщил, что Блок теряет рассудок и что положение его безнадёжно. Седьмого августа Блок скончался. Через час после его смерти пришло разрешение на его выезд за границу. Говоря со мной, однажды, о смерти, Блок назвал её тоже „заграницей“, той, „в которую каждый едет без предварительного разрешения“» (с. 93).
Контекст № 8. «…с официальной советской литературой, для которой „исторический оптимизм“ станет одним из фундаментальных постулатов» (с. 325). Нам его теперь заменили даже не на «исторический пессимизм», а на бодрийяровский «конец света». Вас это устраивает?
Контекст № 9. Об Александре Кропоткиной (престарелой дочери известного учёного и теоретика анархизма П.А. Кропоткина): «Всё, что советская власть принесла человеку, — это возможность бесплатного сожжения его трупа. „Советское“ ассоциируется со смертью, а воплощением жизни предстаёт женщина из древнего княжеского рода» (с. 343). Все эти сомнительные умозаключения автор вывел из такого шуточного четверостишия А.А. Блока:
Вдруг — среди приёмной советской, Где «все могут быть сожжены», — Смех, и брови, и говор светский Этой древней Рюриковны.Контекст № 10. «„Символический поступок: в советский Новый год я сломал конторку Менделеева“, — записывает Блок 31 декабря 1919 г. Под „советским“ он имеет в виду новый календарный стиль… Но характерно, что эпитет „советский“ Блок никогда не употребляет в положительном или хотя бы нейтральном смысле. Это слово символизирует зло, разрушение, несовместимость с культурной традицией» (с. 329).
Это для Вас, Владимир Иванович, это слово символизирует зло, а не для А.А. Блока. Отсюда следует, что его антоним для Вас — символ добра. Вот до чего может довести человека слепая ненависть ко всему советскому!
На стр. 175 В.И. Новиков спрашивает: «В чём сущность русского интеллигента как такового, каковы признаки того синтетического явления, которое именуется русской интеллигенцией?» — и отвечает: «Они, на наш взгляд, таковы. Постоянная философско-религиозная рефлексия. Критическое отношение к властям предержащим. Неотвязная дума о страдающем народе. Эстетическая искушённость… И, наконец, беспощадная самокритичность, наглядный пример которой явил Александр Блок».
Все перечисленные признаки русской интеллигенции в той или иной мере характерны для А.А. Блока. А в какой мере они характерны для человека, их сформулировавшего? Если оставить в стороне первый и предпоследний, то мы увидим, что в своей книге абсолютно ни разу он не высказал «критического отношения к власть предержащим» — не к тем, которые были после 1917 г., а к тем, которые появились в 1991 г. Не обнаружим мы у него и «неотвязной думы о страдающем народе» — ни до 1991 г., ни после. О какой же «беспощадной самокритичности» в таком случае по отношению к нему может идти речь? Слово — не воробей, вылетит — не поймаешь.
А.В. Суворов назвал политику тухлым яйцом. Он имел в виду плохую политику. Хорошая политика — вовсе не тухлое яйцо, а великое дело. Не перечесть людей, пострадавших за борьбу против социальной несправедливости.
Категории справедливости и несправедливости нашли отражение во множестве высказываний. Вот некоторые из них.
Непоколебимое основание государства — справедливость.
Пиндар.Когда в стране справедливость, стыдно быть бедным и ничтожным; когда справедливости нет, стыдно быть богатым и знатным.
Конфуций.Человек, достигший полного совершенства, выше всех животных, но зато он ниже всех, если он живёт без законов и без справедливости.
Аристотель.Государственным благом является справедливость.
Аристотель.Несправедливость не всегда связана с каким-нибудь действием; часто она состоит именно в бездействии.
Марк Аврелий.Нельзя быть справедливым, не будучи человечным.
Л. Вовенарг.Справедливость — истина в действии.
Ж. Жубер.Пусть все имеют достаточно, и пусть никто не имеет слишком.
Ж.-Ж. Руссо.Видеть несправедливость и молчать — это значит самому участвовать в ней.
Ж.-Ж. Руссо.Один родится с серебряной ложкой во рту, а другой — с деревянным половником.
О. Голдсмит.Когда справедливость исчезнет, не останется ничего, что могло бы придать ценность жизни людей.
И. Кант.
Лишь тот достоин жизни и свободы, Кто каждый день идёт за них на бой. В. Гёте. Всяк суетится, лжёт за двух, И всюду меркантильный дух. Тоска!.. А.С. Пушкин. Пока свободою горим, Пока сердца для чести живы, Мой друг, отчизне посвятим Души прекрасные порывы. А.С. Пушкин. Кто служа великим целям века, Жизнь свою всецело отдаёт На борьбу за брата человека, Только тот себя переживёт. Н.А. Некрасов.Высшая и самая характерная черта нашего народа — это чувство справедливости и жажда её.
Ф.М. Достоевский.Смысл жизни только в одном — в борьбе.
А.П. Чехов.В политике, как в море, бывает обманчивое затишье.
О. Бальзак.Банкиры, торговцы, фабриканты, землевладельцы трудятся, хитрят, мучаются и мучают из-за собственности, чиновники, ремесленники, землевладельцы бьются, обманывают, угнетают, страдают из-за собственности; судьи, полиция охраняют собственность… Собственность есть корень всего зла.
Л.Н. Толстой.Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его.
К. Маркс.Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов.
В.И. Ленин.Заботы о личном благе вполне естественны, и нельзя их скидывать со счетов. Но если заботиться только об э том, пренебрегая общественным благом и защитой всего человеческого общества, жизнь станет постыдной, мелкой и — прямо скажу — гнусной.
Р. Роллан.Бедным приходится уповать на справедливость, богатые обходятся несправедливостью.
Б. Брехт.Да здравствует свободная печать. Будем бороться за истину, но с разрешения хозяина.
Р. Уэйд.Наша «демократия» — это улыбка шантажиста, готовая смениться оскалом, если мы заявим, что шантажу не поддаёмся.
А.С. Панарин.В стране Пушкина, Достоевского, Лермонтова, Толстого, в стране, давшей миру огромное количество писателей, философов, учёных, деятелей искусства, вершится шакалий шабаш. В самом начале 90-х годов к власти пришли люди, руководствующиеся идеей, провозглашённой новым демократическим вождём. Этот лозунг — «Обогащайтесь!» Не Родину обогащайте, не устраивайте новую справедливую, демократическую жизнь. Обогащайте себя! Забудьте о том, чему вас учили раньше, о чём говорили учёные, писатели… Обогащайтесь! Любыми средствами, не сдерживая себя ни моралью, ни нравственностью, ни законами общества. Один критерий успеха — материальное богатство.
Ю. Аракчеев.Кто бы ни сидел в кремлевских палатах, кто бы ни сидел в Белом Доме, Россия управляется олигархатом. Вся наша политика, и внешняя, и внутренняя, направлена на то, чтобы растить олигархический класс.
Л.Г. Ивашов.Огромную опасность для России, в которой народная ментальность выше всего ставит не богатство, а социальную справедливость, представляет резкое разделение общества на кучку богатых (причём это богатство слишком часто добыто нечестным путем), привилегированных, и огромное большинство низкооплачиваемого населения… А как добиться того, чтобы элиты выражали интересы народных масс, а не привилегированных меньшинств. Или поставим вопрос ещё острее: как миллионам людей обезопасить себя от эгоистических действий правящих групп?
Г.К. Атттин.Социальная несправедливость достигла сегодня того уровня, который она имела накануне Первой мировой войны. Тогда и сейчас богатства нации оказались в руках сословий-паразитов: тогда — помещиков, сейчас — олигархов и коррумпированных чиновников.
Е.Т. Бородин.Пришло стадо монетаристов-расхитителей и начинает рушить и разворовывать всё, что создали не они. Во имя чего? Во имя денег. Это стадо «эффективных менеджеров» из всех многочисленных достижений цивилизации интересуют только деньги!..
С чем же оставят нам Россию наши нынешние правители, принявшие Россию с атомной бомбой из рук КПСС? Судя по стремительной деградации страны в последние двадцать лет, нам оставят Россию с сохой! Да и останется ли сама Россия?
В. Чанцев, О. Султанов.Сегодня вся мыслящая, чувствующая часть русского народа испытывает метафизическое, космическое страдание, связанное с быстрым исчезновением, обмелением, убыванием своего этноса. Эта тихая неотступная боль незаметно наполняет наши комнаты, улицы наших городов, движения пешеходов и автомобилей. Эта неусыпная мука вкрадывается в наши будничные разговоры, приходит невидимкой на наши совещания, накладывает свой отпечаток на всё миросознание убиваемого народа. Это страдание, которое накапливается в русском народе, должно, по мнению власти, привести к сгниванию народа заживо.
А. Титов.Да, глобализация несёт в себе идею и задание, и реализацию некоего единого мира. Но какого? Мир как единый рынок, рынок труда, финансов, товаров, услуг, образования, массовой культуры, где, кстати, выигрывают наиболее успешные его агенты, торжествует западно-цивилизационный и корпоративный эгоизм при достаточно спокойном приятии факта упадка или гибели неуспешных, неумелых, неприспособленных под законным, исторически обусловленным глобалистским катком.
С.Г. Семёнова.Глобалистский естественный отбор готов спокойно отсеивать неприспособленные, упрямо-«отсталые» народы, экономики и культуры, перерабатывая их в безличный этнографический материал для выполнения всяческих низких, грязных, непрестижных функций старых и новых космополитических конгломератов.
С.Г. Семёнова.Язык: разобщение ↔ единение
По благороднейшем даровании, которым человек прочих животных превосходит… первейшее есть слово, данное ему для сообщения с другими своих мыслей.
М.В. Ломоносов.Блаженство рода человеческого коль много от слова зависит, всяк довольно усмотреть может. Собраться рассеянным народам в общежития, созидать грады, строить храмы и корабли, ополчаться против неприятеля и другие нужные, союзных сил требующие дела производить как бы возможно было, если бы они способа не имели сообщать свои мысли друг другу?
М.В. Ломоносов.Карл Пятый, римский император, говаривал, что ишпанским языком с Богом, французским — с друзьями, немецким — с неприятельми, италиянским — с женским полом говорить прилично. Но если бы он российскому языку был искусен, то, конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми оными говорить пристойно, ибо нашёл бы в нём великолепие шпионского, живость французского, крепость немецкого, нежность италиянского, сверх того богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языка.
М.В. Ломоносов.Как мы можем определить язык? Язык — это особый — биофизический и психический — продукт культуры, представляющий собою наиважнейшую систему знаков, которая выполняет три основных функции — коммуникативную (общения), когнитивную (познания) и прагматическую (практического воздействия на мир).
Коммуникативная функция языка.
В реальной речевой практике мы сплошь и рядом видим между людьми или недопонимание, или полное непонимание. Вот какие объяснения на этот счёт можно найти в русских пословицах:
1) многословие: Много наговорено, да мало переварено; Недолгая речь хороша, а долгая — поволока; Наговорил с три короба; Умному — немного слов; На его опросы ответов не напасёшься; Язык без костей — мелет; Язык без костей — намелет на семь волостей; Бабий язык — чёртово помело; Язык ворочается — говорить хочется.
2) бессодержательность речи: Мелет день до вечера, а послушать нечего; Красно говорит, а слушать нечего; Хорошо говоришь, да было бы что слушать; Долго не говорит — ум копит, а вымолвит — слушать нечего; Язык — балаболка; Долго думал, да хорошо соврал; Со вранья пошлин не берут; Пустая мельница и без ветру мелет; Мелева много, да помолу нет.
3) непродуманность: Язык лепечет, а голова не ведает; Язык болтает, а голова не знает; Язык наперёд ума рыщет; Что знает, всё скажет, и чего не знает, и то скажет; Что на уме, то и на языке;
4) дефекты речи: Говорит, что родит (т. е. медленно); Говорит, что плетень плетёт; Говорит, как клещами на лошадь хомут тащит; У него слово слову костыль подаёт; Слово за словом на тараканьих ножках ползёт; Слово по слову, что на лопате подаёт; Слово вымолвит, ровно жвачку пережуёт.
Когнитивная функция языка.
Язык — не только средство общения, но и средство познания. Язык разум открывает — вот какую оценку роли языка в познании даёт одна из русских пословиц. Прекрасно сказано! Вот почему нужно уметь слушать умных людей: Я тебе говорю, а ты на ум бери; С умным разговаривать — ума набраться; Слово — знак ума; Язык языку весть подаёт; Хорошо того учить, кто перенимает; Слово ищет ушей, чтоб гнездо свить; Добро того учить, кто слушает.
Но мало уметь слушать, надо ещё и уметь вступить с говорящим в диалог. Тогда голова лучше смекает: Язык языку ответ даёт, а голова смекает.
К сожалению, не всякий способен учиться: Глупого учить — что мёртвого лечить; Словами жернова не повернёшь, а глупого (глухого) не научишь; Хуже всякого глухого, кто не хочет слышать. К счастью, народ наш не ставит крест на глупости. Границу между умным и дураком он считает относительной: Умный не без глупости, а дурак не без разума.
Прагматическая функция языка.
Сущность прагматической функции языка состоит в переходе слова в дело. Если этот переход происходит, то язык становится созидательной или разрушительной силой. В первом случае мы имеем дело с такими, например, пословицами: Мал язык, а горами качает; Язык — стяг, дружину водит; На великое дело — великое слово; Доброе слово железные ворота отопрёт; Язык до Киева доведёт; Сладкий язык и змею из норы вытащит.
Но слово может и разрушать: Язык — опасное оружие; От одного слова да навек ссора; Язык голубит, язык и губит; От слова спасенье, от слова и погибель; Слово не обух, а от него люди гибнут; Слово не пуля, а ранит; Слово не стрела, а пуще разит; Язык мой — враг мой; Язык иглы острее; Слово жжёт хуже огня.
Далеко не всегда слово переходит в дело, поскольку от слов до дела — целая верста. В этом случае язык прагматической функции не выполняет: Языком и лаптя не сплетёшь; Языком капусты не шинкуют; Из слов блинов не напечёшь и полушубка не сошьёшь; Из слов щей не сваришь — нужны капуста и мясо; Словом голодного не накормишь; От слов мошна не будет полна; Не спеши языком, спеши делом; Где много слов, там мало дел; Из-за пустых слов пропал как пёс; Пустые слова что орехи без ядра; На словах орёл, а на деле — мокрая курица.
Выполнению прагматической функции языка препятствуют ложные обещания. Возьмите, например, политиков. Горы золотые они сулят своим избирателям, когда срок подходит. Ох уж это сладкое слово «власть»! Его сладостный смысл доводится постичь лишь редким счастливцам. От кубка власти их может оторвать только грубая внешняя сила. Какими они становятся перед выборами сладкоречивыми, сердобольными, многообещающими! А электорат? Он такой незлопамятный, такой доверчивый, такой стеснительный, такой милосердный, что готов в ответ про все свои обиды тут же забыть и вместе со сладкоголосыми спровадить свою страну в пропасть. С лёгкостью необыкновенной забывают о своих предвыборных обещаниях и власть имущие. Что слово? Звук пустой! Они не из той компании, чтобы постигать смысл, например, таких пословиц, как: Не бросай слова на ветер, Не давши слова, крепись, а давши — держись; От слова не отрекайся.
В реальной жизни коммуникативная, когнитивная и прагматическая функции языка тесно переплетены: общение ведёт к познанию, а познание — к действию. Чтобы язык эффективнее выполнял свои функции, надо учиться культуре речи. Некоторые культурно-речевые правила нашли отражение в русских пословицах. Выделю здесь лишь четыре группы таких правил:
1. Ищи добрые слова: Доброе слово дороже золота; Доброе слово лучше мягкого пирога; Доброе слово человеку, что дождь в засуху; Доброе слово, что весенний день; От доброго слова язык не усохнет; Ласковое слово и буйную голову смиряет; Ласковое слово, что великий день; Ласковое слово и кошке любо; Ласковое слово лечит; Ласковое слово слаще мёду.
2. Остерегайся злых слов: Недоброе слово больше огня жжёт; Дурное слово что смола: пристанет — не отлепишься; Дурной язык без привязи как бешеный пёс; Худого слова и бархатным мёдом не запьёшь; От обидного слова — навек ссора; Злой язык злобою все злости естества превосходит.
3. Избегай пустословия: Во многословии не без пустословия; Язык болтуна работает, как жернова; Язык до добра не доведёт; Язык блудлив как кошка; Слова хороши, если они коротки.
4. Лучше молчать, чем говорить: Молчание — золото; Сказанное словцо — серебряное, не сказанное — золотое; Молчанкой никого не обидишь; На молчок не разевай роток! Меньше говори, да больше делай; С коротким языком жизнь длиннее; Кто мало говорит, тот больше делает; Язычок введёт в грешок; Свой язычок — первый супостат; Не спеши языком, торопись делом; Держи язык на привязи; Лишнее говорить — себе вредить; Не всё сказывай, что помнится; Прикуси язык!; Набери в рот воды!; Заткни рот рукавицей!; Вот тебе сахарный кусок, заткни себе роток!; Зажми рот, да не говори с год!; Ври, да знай же меру!
При чём же здесь смысл жизни? А вот при чём: язык — главное средство к единению людей. Разве не может оно составить смысл человеческой жизни? Разве самореализация не предусматривает единения с людьми? Но язык может служить не только единению людей, но и их разобщению.
Коммуникация — общение. Слово «общение» произведено от «общий». Выходит, общение делает общими те знания, которые говорящий передаёт слушающему. Выходит, общение призвано вести людей к единению, а не к разобщению.
Что такое единение? Взаимопонимание. Взаимопонимание между говорящим и слушающим. Вкратце механизмы этого взаимопонимания выглядят следующим образом.
Говорящий: внеязыковое содержание → языковая форма/языковая система → речь. Говорящий исходит в своей деятельности из некоторого внеязыкового содержания и переводит это содержание в языковую форму; при этом та или иная языковая форма выбирается говорящим из находящейся в его распоряжении языковой системы и преобразуется им из системно-языкового состояния в речевое.
Слушающий: речь → языковая система/языковая форма → внеязыковое содержание. Слушающий исходит в своей деятельности из речи, на материале которой в его сознании формируется языковая система. Используя эту систему, он понимает языковую форму, передаваемую ему говорящим, т. е. соотносит её с тем или иным внеязыковым содержанием.
Механизмы общения, обрисованные в таком абстрактном виде, дают нам лишь общее представление о процессе общения. В конкретной речевой ситуации этот процесс приобретает конкретный вид. Увы, сплошь и рядом мы имеем дело с ситуациями непонимания.
Всем живым существам присуще стремление к единению с себе подобными. Но особенно развито это стремление у людей. Вот почему очень часто они воспринимают непонимание с душевной болью. В особенности это характерно для людей творческих. На 62-м году жизни, ещё до получения нобелевской премии, И.А. Бунин говорил Г.Н. Кузнецовой: «Как обидно умирать, когда всё, что душа несла, выполняла — никем не понято, не оценено по-настоящему» (Бабореко А.К. Бунин: жизнеописание. М., 2004, с. 221).
Желание быть понятым и оценённым живёт в человеческой крови. Столь свойственное молодости стремление открыть душу другому, пожаловаться, поделиться сокровенным, наболевшим, обидным по мере старения всё больше и больше гаснет. Всё больше и больше зреет убеждение, что разделяющие нас пропасти непреодолимы. Вот почему трудно найти человека, умирающего без груза накопившихся обид. По числу обиженных наша страна, вне всякого сомнения, лидирует. Особенно гадко сознавать, что среди этих обиженных, не понятых, не оценённых по достоинству, оставшихся в тени предприимчивых сплошь и рядом оказываются её лучшие представители.
Очень легко объяснить непонимание между людьми отсутствием сходства между их картинами мира. Легко вывести степень взаимопонимания между людьми из их мировоззренческой близости. Но вся беда в том, что непонимание всё равно остаётся.
Свою отъединённость от бесчувственной толпы очень болезненно переживал Ф.И. Тютчев. В известном стихотворении Silentium! он обосновывал её неизбежность. Он выступает в нём как критик языка. Он отказывает языку в его выразительных возможностях. Вот почему он призывает:
Молчи, скрывайся и таи И чувства и мечты свои — Пускай в душевной глубине Встают и заходят оне Безмолвно, как звёзды в ночи, — Любуйся ими — и молчи. Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? Поймет ли он, чем ты живёшь? Мысль изреченная есть ложь — Взрывая, возмутишь ключи, — Питайся ими — и молчи… Лишь жить в себе самом умей — Есть целый мир в душе твоей Таинственно-волшебных дум — Их оглушит наружный шум, Дневные разгонят лучи, — Внимай их пенью — и молчи!.. (Не позднее 1830 г.)До таких сокрушительных масштабов в критике языка не доходил ни один деконструктивист! Если «мысль изреченная есть ложь», то мы очень легко можем обернуть это изречение против его автора, заявив, что мысль, изреченная в Silentium! а заодно и в других его стихах, есть ложь. Но автор этого изречения, я предполагаю, со свойственным ему изяществом легко парировал бы подобное обвинение. Он, очевидно, согласился бы с тем, что в Silentiит! есть преувеличение, но вряд ли бы он отказался от сути самой критики языка, направленной на его ограниченные возможности. В таком случае вышло бы приблизительно следующее: любой язык не в состоянии передать всех нюансов мысли и чувства его носителя. Дело здесь не в том, что человек может плохо владеть языком, а в самом языке, в его неспособности быть надёжным средством для выражения, по крайней мере, внутреннего мира человека. Вот почему лучше молчать — даже если ты прекрасно владеешь, как Ф.И. Тютчев, несколькими языками.
Слава богу, автор приведённого стихотворения в своей жизни не следовал призыву, содержащемуся в нём. Если бы это произошло, он лишил бы своих потомков множества поэтических шедевров, к которым принадлежит и это стихотворение. Уже его одного достаточно, чтобы убедиться, вопреки его смыслу, в неиссякаемых выразительных возможностях языка.
Но есть ли в Silentium! рациональное зерно? Строго говоря, в этом стихотворении не одно, а, по крайне мере, два рациональных зерна.
Первое. Язык — только средство для оформления некоторого содержания, которое говорящий с помощью речи передаёт слушающему. Один человек не может передать то или иное содержание другому человеку, так сказать, в чистом виде. Он может это сделать только с помощью знаков. Языковые знаки — самые совершенные среди других. Но и они — всё-таки знаки, служащие для передачи определённого содержания, но не само это содержание. Язык — величайшее творение культуросозидательной деятельности человека, но он не может заменить собою внеязыковое содержание как таковое — содержание, которое он призван лишь выражать. Адекватность выражаемого содержания волей-неволей вынуждена по этой причине теряться в какой-то мере в языковой форме.
Второе. Слушающему приходится воссоздавать содержание, передаваемое ему говорящим, опираясь на собственный душевный багаж. Он уже потому не может его воспроизвести в своей душе в полном соответствии с содержанием, из которого исходил говорящий, что его внутренний мир всегда индивидуален, всегда своеобразен, всегда специфичен. Адекватность передаваемого содержания по этой причине теряется в какой-то мере в интерпретации.
Отсюда следует: полного взаимопонимания между людьми быть не может. Ему препятствует знаковая и интерпретационная природа языка. Что же остаётся? Молчать. Чтобы сохранить свой внутренний мир во внеязыковой чистоте.
Молчание — золото. Но без общения человек жить не может. Место внешней речи всегда готова занять внутренняя. Последняя в нашей жизни явно преобладает над первой. Но даже и внутреннюю речь мы, как правило, ориентируем на предполагаемого слушающего или читающего. Отсюда изнуряющие внутренние диалоги и муки творчества.
Стремление к социализации, к единению с себе подобными — сущностный признак человека. Сплошь и рядом он натыкается на непонимание, но даже и схимнику не удаётся стать полным молчальником. Он общается с Богом — в расчёте на Его понимание.
Полное взаимопонимание между людьми невозможно. Таков наш удел. Но отсюда не следует, что мы, люди, в состоянии отказаться от самой идеи о единении друг с другом через общение. Мы не можем, в частности, отказаться от стремления к построению единой научной картины мира.
Построение единой научной картины мира невозможно, если общение в области науки не будет иметь успеха, если оно не будет приводить учёных к единению. Назову здесь пять факторов, которые, как чума, угрожают научной коммуникации.
Первая чума науки — отсутствие единого мировоззрения, в качестве которого может и должен выступать только универсальный эволюционизм.
Вторая чума науки — устрашающая мизерность учёных, сумевших сказать своё слово в науке, сумевших создать собственную, оригинальную концепцию. В сознании же большинства — концептуальная пустота, хаотически заполняемая чужими идеями преимущественно иностранного происхождения.
Третья чума науки — полное отсутствие интереса к работам ближнего своего. Даришь книгу и понимаешь, что её чтение закончится на дарственной надписи и оглавлении. Поставят её на полку и похоронят в ней, горемычной, все твои муки творчества, все твои бессонные ночи, все твои изящные формулировки и прозрения. Никто их не заметит и спасибо не скажет. Исключения — не в счёт. Между тем в каждом из нас — неиссякаемая жажда признания. Как горько звучат слова Николая Михайловича Амосова, нашего великого хирурга и учёного, которые он написал в конце своей долгой жизни: «Одно только нужно воспитать в себе: не притязать на признание. Ценить мышление само по себе»! (Амосов Н.М. Энциклопедия Амосова. Алгоритм здоровья. Донецк, 2002, с. 578).
Четвёртая чума науки — наукообразие. Им страдает сейчас чуть ли не каждая диссертация. Лучший способ создать иллюзию научности — навставлять в диссертацию как можно больше терминов. Например, вот так: «Научная картина мира в интериоризованном, объективированном виде подвержена влиянию формирующего её языка. Принцип языковой относительности обусловливает организацию научных описаний, поэтому „объективность“ научной картины мира в современном научном дискурсе должна интерпретироваться как относительный параметр». Почему об этом же не сказать проще и понятнее?
Пятая чума науки — невежественный отзыв. Особенно вредоносен он для молодых учёных. Одно дело — доброжелательный отзыв, написанный настоящим учёным, но совсем другое — написанный лжеучёным, симулякром от науки, который прикрывается при этом научной степенью. Чтобы лишний раз самоутвердиться, такой рецензент самоуверенно изрекает поучения, рекомендации, наставления, советы; с учёным видом знатока указывает вам, что целесообразно и что нецелесообразно, какую работу ещё следовало бы привлечь… Да и где ему набраться научной этики, если кругом деградация — скрытая или явная злоба, скрытая или явная зависть etc., а главное — скрытое или явное невежество — не только в науке, но и в искусстве, в политике — повсюду? Где ему, если он к тому же — симулякр? Поистине прав был Карел Чапек: «Одно из величайших бедствий цивилизации — учёный дурак».
Немного в моей жизни было отрицательных отзывов, но время от времени они мелькали в моём воспалённом сознании. Особенно памятен отзыв о моей первой серьёзной статье — о Вилеме Матезиусе. Её послали одной учёной даме из Иркутска в Томск. Письменного отзыва мы от неё не получили, но по телефону она сказала запоминающиеся слова: «Если автор уже не молод, пусть уходит на пенсию. Если он молод, пусть уходит из науки». Через некоторое время эта статья без каких-либо изменений появилась в Москве в «Филологических науках» (1986. № 1). Отзыв о ней написал Юрий Сергеевич Маслов — заведующий кафедрой общего языкознания ЛГУ.
Но большая часть омерзительных отзывов о моих статьях и книгах были анонимными. Отсутствие фамилии под ними, надо полагать, действовало на их тайных авторов вдохновляюще. Одно дело — самому написать книгу, но другое — покочевряжиться над чужой. К. Чапек на этот счёт сказал следующее: «Если не можешь сделать сам — по крайней мере, помешай другому».
Ни о каком взаимопонимании между людьми науки мечтать не приходится, если её представители сплошь и рядом говорят на разных языках. Язык рассыпается на множество научных диалектов. Он теряет своё единство, а стало быть, служит разобщению, а не единению.
Вдохновляющий образец жизни, посвященной изучению языка, — жизнь Вильгельма фон Гумбольдта. Он родился в 1767 г. в Потсдаме. В школе он, как и его младший брат Александр, будущий путешественник и энциклопедист, не учился, но его домашнее образование оказалось настолько успешным, что оно позволило ему в двадцатилетием возрасте поступить в университет во Франкфурте-на-Одере. Через год он перевёлся в Геттинген, где учился философии, естествознанию и филологии. Но и в Геттингене он ненадолго задержался: по рекомендации известного натуралиста и будущего якобинца Георга Форстера он перевёлся в Дюссельдорф, где и закончил своё университетское образование.
Летом 1789 г. молодой В. Гумбольдт отправляется за границу — во Францию и Швейцарию. В Париже он оказался три недели спустя после штурма Бастилии, произошедшего, как известно, 14 июля. Он имел возможность воочию наблюдать Великую Французскую революцию. Его отношение к ней было сдержанным, в отличие от Кампе — бывшего домашнего учителя и спутника по путешествию.
По возвращении в Германию В. Гумбольдт поступает в 1790 г. на службу в Берлине в качестве судебного чиновника. В 1791 г. он женится на богатой невесте — Каролине фон Дахереден и в этом же году публикует свою первую научную статью «Идеи о государственном устройстве, вызванные новой французской конституцией». В научную жизнь, стало быть, он вступил как политолог.
Вплоть до 1820 г. свою научную деятельность В. Гумбольдт совмещал с государственной службой. Особыми заслугами отмечена его дипломатическая служба. С 1802 по 1808 г. он был послом Пруссии в Риме, а позднее — в Вене и Лондоне. В 1818 г. он становится в правительстве прусского канцлера Гарденберга министром по сословным делам, однако в конце 1819 г. он подаёт в отставку в знак протеста против усиливающегося в стране полицейского режима.
С 1820 г. В. Гумбольдт целиком отдаётся научной работе. С этого времени главным предметом его занятий становится язык. Он обладал колоссальной языковой эрудицией. По свидетельству современников, он свободно владел следующими иностранными языками — французским, английским, испанским, латинским, греческим, бакским, прованским, венгерским, чешским и литовским. Кроме того, с присущим ему тщанием он изучал санскрит, древнеегипетский, китайский и японский. Но и это ещё не всё. Он изучал также туземные языки Северной и Южной Америки, Индонезии и Полинезии. Прибавьте сюда его обширные знания не только в области языкознания, но также и в области философии и культурологии, и вы наверняка воскликнете: «Поистине этот человек был гениален!».
Язык — великая культуро-созидательная сила. Нет сферы культуры, которая обходилась бы без языка. Он как цемент, связывающий культуру, но его возможности небеспредельны, если в культуре в целом господствуют силы, не объединяющие людей, а разъединяющие. Таково состояние современной культуры в России. А.С. Панарин писал: «Культура связывает людей — нашим „реформаторам“ необходимо их последовательное разъединение: и по временной вертикали — как разъединение поколений, и по горизонтали — как разъединение людей, превращённых в самодостаточные социальные атомы» (Панарин А.С. Искушение глобализмом. М., 2002, с. 316).
Эволюционист видит в языке фундаментальный человеко-образующий фактор. В. Гумбольдт считал, что без языка не было бы человека, как без человека не было бы языка. Он писал: «Человек является человеком только благодаря языку, а для того, чтобы создать язык, он уже должен быть человеком» (Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. М., 1984, с. 314). Словом, их не было бы друг без друга. Выходит, антропогенез и глоттогенез — ровесники. В. Гумбольдт был первым среди тех, кто прокладывал путь к эволюционному подходу к изучению языка.
«Истинное определение языка, — писал ученый, — может быть только генетическим» (там же, с. 70). В этом лозунге А.А. Потебня видел самую суть учения В. Гумбольдта о языке. Но что он означает?
Лозунг о генетическом определении языка для В. Гумбольдта означал, что при рассмотрении языка вообще, языкового типа или отдельного языка в частности он не останавливался лишь на их синхроническом описании, но обращался к вопросу об их генезисе, происхождении. На синхроническое состояние языка в этом случае смотрят с генетической точки зрения. За определённым состоянием языка эта точка зрения ищет его истоки, его первоначальные корни.
Генетическая точка зрения (в гумбольдтовском понимании этого термина) должна расцениваться как одна из форм эволюционистского мировоззрения. Её особенность состоит в том, что в центр своего внимания в этом случае исследователь ставит не весь эволюционный путь изучаемого объекта, а лишь его происхождение. Подобным образом подходил к изучению языка В. Гумбольдт. Его эволюционизм, таким образом, может быть определён как генетический. Однако данное определение его мировоззрения является недостаточным: его эволюционизм был не только генетическим, но и культурным. Это значит, что с генетической точки зрения он смотрел не только на языковую эволюцию, но и на культуру в целом. Вот почему в конечном счете мы можем определить мировоззрение В. Гумбольдта как культурно-генетический эволюционизм.
Об эволюции, каких бы сфер духовной культуры В. Гумбольдт ни писал — науки, искусства, нравственности, политики или языка, — повсюду его мысль обращалась к их генезису, к «творящей силе, породившей их» (с. 53). В возникновении каждой сферы культуры он стремился видеть созидательный фактор — фактор, благодаря которому и происходило очеловечение наших предков. Так, по поводу возникновения нравственности он писал: «С появлением человека закладываются и ростки нравственности, развивающиеся вместе с развитием его бытия. Это очеловечение, как мы замечаем, происходит с нарастающим успехом» (с. 49).
На протяжении всего XIX в. языковеды будут биться над вопросом о месте лингвистики среди других наук. Её будут сближать то с естествознанием (Ф. Бопп, А. Шляйхер), то с психологией (Г. Штайнталь, А.А. Потебня, И.А. Бодуэн де Куртенэ), а то и — по традиции — с логикой (К. Беккер, Ф.И. Буслаев). А Ф. де Соссюр станет рассматривать лингвистику как одну из семиотических дисциплин. Между тем ещё в начале XIX в. В. Гумбольдт — благодаря своему эволюционистскому мировоззрению — указал на истинное место языкознания среди других наук — среди наук о культуре, или, как тогда было принято говорить, среди наук о духе. Под духом же В. Гумбольдт понимал тот род деятельности, который является творческим, культуро-созидающим, очеловечивающим. Среди культурологических наук языкознание занимает место на полном основании, поскольку язык — наиважнейший продукт культуры.
Язык для В. Гумбольдта был не просто одним из продуктов духовной культуры. Он выделил его среди других как главный и исторически первичный. Именно с глоттогенеза он начинал генезиз культуры. «Язык, — писал он, — тесно переплетается с духовным развитием человечества и сопутствует ему на каждой ступени его локального прогресса или регресса, отражая в себе каждую стадию культуры. Но есть такая древность, в которой мы не видим на месте культуры ничего, кроме языка, и вместо того, чтобы просто сопутствовать духовному развитию, он замещает его» (Гумбольдт В. Указ. соч., с. 48–49).
Я вижу в этих словах великого учёного предтечу эволюционно-культурогенического подхода к проблеме происхождения языка. Основанием для этого подхода служит тот факт, что язык является важнейшим компонентом культуры, и, вследствие этого, мы можем рассматривать его как один из факторов очеловечивания наших животных предков, а в дальнейшем и самого человека.
На какой основе возникла культура? На основе психической эволюции наших животных предков. На какой основе осуществлялась последняя? На основе биофизической эволюции человекообразных обезьян и их предков. А эта последняя базировалась на физической эволюции как таковой. В конечном счете, мы имеем здесь дело с переходом физических явлений в биотические, с переходом биотических явлений в психические и с переходом психических явлений в культурные (в том числе языковые). Вопрос о происхождении культуры — эволюционный вопрос. Кратко он может быть сформулирован как цепь эволюционных переходов:
Физиосфера → биосфера → психика → культура.
Мы обнаруживаем здесь три перехода. Рассмотрим каждый из них в отдельности.
1. Физиосфера → биосфера. Согласно гипотезе А.И. Опарина первичный океан представлял собой объединение неорганических (неуглеродных) и органических (углеродных) соединений. Неуглеродные вещества в нём преобладали. Вот почему первичный океан следует рассматривать в конечном счёте как неорганический мир, в недрах которого зарождались элементы мира органического.
В результате дифференциации органических и неорганических соединений и дальнейшего развития первых возникли гигантские белковые молекулы, названные А.И. Опариным коацерватами. Их можно рассматривать как элементарные эмбрионы будущих живых существ. В коацерватах уже существовал обмен веществ. Он состоял в том, что одни вещества они в себя принимали, а другие — нет. Они относились к миру более активно, чем неорганические соединения. Дальнейшее развитие коацерватов привело к появлению первых живых организмов как таковых — на первых порах растительных, а в дальнейшем и животных.
2. Биосфера → психика. Когда у животных возникла психика? С того момента, когда появляются животные. Но своим развитием она обязана появлению нервных клеток. Их специализация состоит в том, чтобы служить материальной основой для отражения внешнего и внутреннего мира животного с целью биотического приспособления к нему. Психическая способность у животных стала возрастать в связи с объединением нервных клеток в так называемые ганглии.
Увеличение числа нервных клеток в специальных участках организма привело к созданию материальной основы психической деятельности у высших животных. Есть животные (слоны, киты и т. п.), мозг которых превышает по объёму и весу мозг человека, однако интеллектуальные возможности таких животных не могут даже конкурировать с человеческими. Дело здесь не только в количестве, но и в качестве. Человеческий мозг обладает способностью приобретать огромный индивидуальный опыт — такой, который во много раз превышает опыт генетический, врожденный. У высших животных индивидуальный опыт тоже достаточно богат, однако у людей он несравненно богаче. Именно индивидуальный опыт позволил человекообразным обезьянам создать первые продукты культуры, а тем самым и осуществить скачок от животного к человеку.
3. Психика → культура. За счёт чего индивидуальный опыт обезьяны стал иметь такой объём, что он превратил мозг обезьяны в мозг человека? Это произошло прежде всего благодаря созданию и усовершенствованию орудий труда. Последние в свою очередь позволяли создавать всё более сложные продукты материальной культуры — жилища, одежду, пищу, технику. Усложнение материальной культуры приводило ко всё большему увеличению индивидуального опыта у первобытных людей. А это в свою очередь позволило в дальнейшем приступить к созданию духовной культуры — религии, науки, искусства, нравственности и политики. Первобытный человек благодаря этому становился все более цивилизованным. Какое же отношение к этим рассуждениям имеет вопрос о происхождении языка? Самое непосредственное, поскольку он является важнейшим компонентом человеческой культуры.
Зачаточный язык был представлен уже у наших животных предков. Как только психическое развитие человекообразных обезьян достигло такой степени, что они сумели творчески подойти к своему языковому эмбриону, они перестали быть животными. Они стали усовершенствовать свой язык и тем самым становились всё более человечными. Подобным образом обстояло дело и с другими продуктами культуры — благодаря творческому, преобразующему отношению к миру наши предки превращали грубые камни в удобные орудия труда, естественные деревья в обработанный материал для искусственных жилищ и т. д.
Переход человекообразных обезьян к человеческим существам произошёл благодаря тому, что наши предки, их мышление поднялось до творческого, усовершенствующего, улучшающего отношения к миру. Это отношение и является собственно человеческим: чем более активен человек как творец, тем более он человек. В той мере, в какой язык принадлежит к культуре, это имеет отношение и к языку: чем лучше человек владеет родным языком и чем больше он знает иностранных языков, тем дальше он ушёл от животного.
Об очеловечивающей роли языка свидетельствует разница между человеческим языком и «языками» животных.
Конрад Лоренц, один из основателей этологии и нобелевский лауреат, писал: «Животные не обладают языком в истинном смысле этого слова. У высших позвоночных, а также и у насекомых — главным образом у общественных видов этих обеих больших групп животного царства — каждый индивидуум располагает определённым числом врождённых телодвижений и звуков, служащих для выражения эмоций. Существуют также врождённые способы реакции на эти сигналы, причём реакция наступает всякий раз, когда животное видит или слышит другого представителя своего вида. Некоторые виды птиц, общественная жизнь которых стоит на высоком уровне, такие как галки и серые гуси, обладают усложнённым кодом, состоящим из ряда подобных сигналов. Каждая птица способна произносить и понимать их без всякого предварительного научения. Согласованность в поведении разных индивидуумов у общественных видов животных, возникающая в результате взаимодействия врождённых сигналов и ответных поступков, вызывает у человека впечатление, что птицы разговаривают и понимают друг друга. Врождённый сигнальный код животных, несомненно, коренным образом отличается от человеческого языка, каждое слово которого трудолюбиво заучивается нашими детьми, прежде чем они научатся говорить. Кроме того, такая система сигнализации жёстко закреплена наследственностью и, подобно многим чертам строения тела, является характерной особенностью каждого вида; поэтому сигнальный код сохраняется неизменным на всем пространстве распространения вида. Хотя это может казаться очевидным, однако я испытал нечто вроде наивного удивления, когда услышал „разговор“ галок в Северной России, — они беседовали на том самом знакомом мне диалекте, который в ходу у галок, живущих на нашем доме в Альтенберге. Поверхностное сходство между этими „высказываниями“ и человеческой речью уменьшается, по мере того как исследователь приходит к выводу, что все звуки и телодвижения животных выражают только их эмоциональное состояние и не зависят от того, есть ли поблизости другое существо того же вида. Факты отчетливо доказывают, что даже гуси и галки, живущие с самого рождения в полной изоляции от себе подобных, подают свои сигналы в тот самый момент, когда их охватывает соответствующее настроение. При таком положении вещей становится абсолютно очевидным автоматический и даже механический характер подобной сигнализации. Следовательно, мы обнаруживаем её коренное отличие от человеческого языка» (Лоренц К. Кольцо царя Соломона. М., 1970. URL: -01/chapter01.html).
Человеческий язык — результат культурогенеза, а животный — биогенеза. Человеческому языку научаются, а у животных он записан во врождённые структуры их мозга. Вот почему галки в России, где К. Лоренц находился в плену в 1944–1948 гг., и на его родине в Австрии «разговаривают» на одном и том же «языке», хотя они никогда и не встречались друг с другом. О «языке» животных можно говорить только в кавычках. Между животным «языком» и человеческим такое же расстояние, как между животным и человеком. Это расстояние — разное, поскольку и животные разные, и люди разные.
Человеческий язык эволюционирует, как и любой другой продукт культуры. Одно дело — первобытный язык, другое — современный. Высшую форму языка составляет литературный язык. Он — результат многовековой культурно-речевой обработки национального языка нашими предками. Вот почему к нему следует относиться очень бережно. Иное отношение к нашему языку мы наблюдаем в наше время со стороны людей, переполняющих наш «великий и могучий» культурно-речевыми ошибками.
Яркие примеры культурно-речевой безграмотности часто демонстрируют школьники. Приведу некоторые перлы из их сочинений, которые я извлёк из Интернета.
• Здесь он впервые узнал разговорную русскую речь от няни Арины Родионовны.
• Во время второго акта Софьи и Молчалина у них под лестницей сидел Чацкий.
• Язык у Базарова был тупой, но потом заострился в спорах.
• Мне нравится то, что с таким талантом Пушкин не побоялся стать народным поэтом.
• Троекуров был хотя не глуп, но немного с приветом.
• Чацкий был очень умный, а от ума всё горе.
• Базаров умер молодым человеком и сбыча его мечт не произошла.
• Пугачёв помогал Гриневу не только в работе, но и в любви к Маше.
• Сыновья приехали к Тарасу и стали с ним знакомиться.
• Чичиков ехал в карете с поднятым задом.
• По дороге в Богучарово Андрей Болконский, как старый дуб, расцвёл и зазеленел.
• Фамусов осуждает свою дочь за то, что Софья с самого утра и уже с мужчиной.
• Таким образом, Печорин овладел Бэлой, а Казбич — Каракезом.
• Такие девушки, как Ольга, уже давно надоели Онегину, да и Пушкину тоже.
• С Михаилом Юрьевичем Лермонтовым я познакомилась в детском саду.
• Герасим ел за четверых, а работал один.
• Базаров любил разных насекомых и делал им прививки.
• Пугачёв пожаловал шубу и лошадь со своего плеча.
• У Чичикова много положительных черт: он всегда выбрит и пахнет.
• Тарас сел на коня. Конь согнулся, а потом засмеялся.
• Душа Татьяны полна любви и ждёт не дождётся, как бы обдать ею кого-нибудь.
• Глухонемой Герасим не любил сплетен и говорил только правду.
• Летом мы с пацанами ходили в поход с ночёвкой и с собой взяли только необходимое: картошку, палатку и Марию Ивановну.
• Умер М.Ю. Лермонтов на Кавказе, но любил он его не поэтому!
• Ленский вышел на дуэль в панталонах. Они разошлись и раздался выстрел.
• Дантес не стоил выеденного яйца Пушкина.
• Во двор въехали две лошади. Это были сыновья Тараса Бульбы.
• Андрей Болконский часто ездил поглядеть тот дуб, на который он был похож как две капли воды.
Но не только абитуриенты тешат нас речевыми перлами. Подстать им был В.С. Черномырдин. Вот как изящно он выражался:
• На любом языке я умею говорить со всеми, но этим инструментом я стараюсь не пользоваться.
• Отродясь не бывало, и вот опять!
• Вино нам нужно для здоровья. А здоровье нам нужно, чтобы пить водку.
• Вечно у нас в России стоит не то, что нужно.
• Вообще-то успехов немного. Но главное: есть правительство.
• Если я еврей, чего я буду стесняться? Я, правда, не еврей.
• Есть ещё время сохранить лицо. Потом придётся сохранять другие части тела.
• Красивых женщин я успеваю только заметить и ничего больше.
• У кого руки чешутся — чешите в другом месте!
• Мы выполнили все пункты: от А до Б.
• Народ пожил — и будет!
• Много говорить не буду, а то опять чего-нибудь скажу.
Не разобщение, а единение — вот главная цель общения. Осуществлению этой цели мешает бездна обстоятельств, среди которых следует выделить нравственные и политические.
Слова, по выражению М.М. Бахтина, пахнут эпохой. По частотности употребления тех или иных слов в наше время мы можем смело судить о нравственном и политическом состоянии нашего общества.
Е.В. Никандрова обратила внимание на то, что приблизительно за последние два десятка лет наибольшую частотность у нас приобрели такие слова: алчность, аморальность, агрессивность, безответственность, бездуховность, безнравственность, бездушие, воровство, вымогательство, глумление, гламур, дурость, демография, ёрничество, жадность, жестокость, зависть, злоба, издевательство, индивидуализм, корысть, коррупция, криминал, лицемерие, ложь, мошенничество, мракобесие, некомпетентность, ненависть, наглость, обман, одурачивание, подлость, продажность, предательство, пошлость, похоть, праздность и т. п. (Никандрова Е.В. О словах //К барьеру. 2010. № 6. 28 сентября. URL: ).
Зато реже стали употреблять такие слова, как альтруизм, аскетизм, бескорыстие, благородство, благодеяние, верность, великодушие, героизм, доброта, духовность, естественность, единение, жалость, защищённость, забота, искренность, интеллигентность, культурность, коллективизм, любовь, мудрость, милосердие, нравственность, одухотворённость, ответственность, обязательность, правдивость, подвижничество, праведность и т. п. (там же).
Но эпохой пахнут не только слова, но и контексты, в которых они употребляются. Вот в каких контекстах оказались некоторые слова в книге X. Вальтера и В.М. Мокиенко «Антипословицы русского народа» (М., 2010):
Политика: Политика — это искусство возможного, поэтому возможно всё; Политика — это неустанный выбор из двух зол; Политики приходят и уходят, а их обещания живут вечно.
Демократия: Демократия есть одурачивание народа при помощи народа ради блага народа; Демократия — это форма правления, при которой разрешено вслух говорить о том, какой бы была страна при лучшем руководстве; При демократии одна партия все свои силы тратит на то, чтобы доказать, что другая не способна управлять страной, — и обычно обеим удаётся то и другое; Любая демократия приводит к диктатуре подонков; Демократия — это наука и искусство управления цирком из обезьяньей клетки; Демократия спотыкается на каждом шагу по дороге к правильному решению, вместо того чтобы прямо и без запинок идти в тупик.
Закон: Если законы не работают, работают воры в законе; Закон справедлив, но всех посадить нельзя; Воровать можно сколько угодно, только не надо при этом нарушать законы; Нужно хорошо знать законы, чтобы их обходить; Одни преступают законы, другие вытирают об них ноги.
Деньги: Деньги — это праздник, который всегда с другими; Всех денег не заработаешь — часть придётся украсть; Деньги не пахнут, потому что их отмывают; Деньги пахнут: маленькие потом, а большие — кровью.
Если: Если вы лжёте людям, чтобы получить их голоса, это политика; Если президентом страны станет женщина, то нам придётся работать не на дядю, а на тётю; Если бы не народ, у правительства не было бы никаких проблем; Если народу всё по барабану, то государству труба.
Язык: Типун вам на ваш великий и могучий русский язык; Язык до киллера доведёт; Язык дан человеку для того, чтобы скрывать свои мысли; В наше время даже язык искусства становится нецензурным; Пессимист изучает китайский язык, оптимист — английский, реалист — автомат Калашникова.
Что и говорить, запашистое времечко нам досталось! Это времечко поделило нас на разобщённые группировки, которые сплошь и рядом не понимают друг друга. Конечно, не в одном языке здесь дело, но и в нём тоже. Он всё больше и больше утрачивает свою главную функцию — общения, целью которого является не враждебная разобщённость одного человека с другим, а, напротив, их единение.
В единении людей Л.Н. Толстой видел высшее назначение языка. Полное единение — недостижимый идеал. Встречаясь с ним, мы ощущаем его величие. Иначе и не может быть: этот идеал соединяет наши разрозненные души со всем родом человеческим. Он заставляет нас забывать о тех бесконечных различиях между нами, которые нас разобщают. Этих различий накопилось так много, что с общечеловеческой точки зрения мы выглядим как существа, которых иначе как странными и удивительными не назовёшь. Эту точку зрения Л.Н. Толстой выразил в дневниковой записи, сделанной им в ночь с 28 на 29 июля 1909 г.: «Есть на свете такие существа, которые живут все от произведений земли, но для того, чтобы им было как можно труднее кормиться, они землю свою разделили так, что пользоваться ею могут только те, кто не работает на ней, те же, кто работают, не могут пользоваться ею и страдают и мрут поколения за поколениями от невозможности кормиться с земли. Кроме того, существа эти избирают по одному семейству или по нескольким из многих и отказываются от своей воли и разума ради рабского повиновения всему тому, что захотят делать над ними эти избранные. Избранные же бывают самые злые и глупые из всех. Но существа, избравшие и покоряющиеся, всячески восхваляют их. Существа эти говорят на разных языках, непонятных друг другу. Но вместо того, чтобы стараться уничтожить эту причину недоразумений и раздоров, они ещё разделяют сами себя, независимо от различия языка, ещё на разные соединения, называемые государствами, и из-за этих соединений убивают тысячи и тысячи себе подобных и разоряют друг друга» (Толстой Л.Н. Собр. соч.: в 20 т. Т. 20. М., 1965, с. 352).
Далее читаем: «Не буду говорить о тех миллионах глупостей и гадостей, которые делаются этими существами: как они отравляют себя ядом, считая это удовольствием; как собираются в самые заражённые ими же самими места в огромном количестве в среде незанятых огромных пространств земли, строят в одной местности дома в тридцать этажей; или как, не заботясь о том, как бы им всем лучше передвигаться, заботятся о том, чтобы только некоторые могли ездить, летать как можно скорее; или как набирают слова так, чтобы концы были одни и те же, и, составив вместе, как потом восхищаются этим набором слов, называя это поэзией; или как набирают другие слова без окончаний, но такие же глупые и непонятные, называют их законами и из-за этих слов всячески мучают, запирают в тюрьмы и убивают по этим законам друг друга. Да всего не перечтёшь» (с. 354).
Вывод такой: «Удивительнее же всего при этом то, что существа эти не только не образумливаются, не употребляют свой разум на то, чтобы понять, что глупо и дурно, а напротив, на то, чтобы оправдывать все свои глупости и гадости. И мало того что не хотят сами видеть мучающих их глупостей и гадостей, не позволяют никому среди себя указывать на то, как не надо делать то, что они делают, и как можно и должно делать совсем другое и не мучиться так. Стоит только появиться такому, пользующемуся своим разумом существу между ними, и все остальные приходят в гнев, негодование, ужас и где и как попало ругают, бьют такое существо, и или вешают на виселице, или на кресте, или сжигают, или расстреливают. И что всего страннее, это то, что когда они повесят, убьют, это разумное, среди безумных, существо и оно уже не мешает им, они начинают понемногу забывать то, что говорило это разумное существо, начинают придумывать за него то, что будто бы оно говорило, но чего никогда не говорило, и когда всё то, что говорено этим разумным существом, основательно забыто и исковеркано, те самые существа, которые прежде ненавидели и замучили это, одно из многих, разумное существо, начинают возвеличивать замученного и убитого, даже иногда, думая сделать этим великую честь этому существу, признают его равным тому воображаемому злому и нелепому богу, которого они почитают. Удивительные эти существа. Существа эти называются людьми» (с. 355).
Незавидна участь тех, кто не стремится к человеческому единению. «Ужасно одиноко положение того, — читаем у Л.Н. Толстого, — кто не чувствует своего единения со всеми отдельными существами. Когда подумаешь о всех людях, существах, живущих отдельно, — ужас берёт. Успокаивает и радует даже, когда их обнимаешь разумом и любовью» (Толстой Л.Н. Собр. соч. Т. 20, с. 151–152).
Единение между людьми происходит в первую очередь благодаря языку. Л.Н. Толстой видел в языке в первую очередь средство для установления между людьми добрых, любовных отношений, средство для их братского единения. Но слово может не только соединять людей, но и разъединять. Вот почему Л.Н. Толстой учил осторожному обращению с ним: «Слово — выражение мысли и может служить соединению и разделению людей; поэтому нужно с осторожностью обращаться с ним» (Толстой Л.Н. Путь жизни. М., 1993, с. 294). Далее он уточнял: «Берегись такого слова, которое разъединяет людей или служит вражде и ненависти» (там же).
В разделе «Слово» в книге Л.Н. Толстого «Путь жизни» афоризмы помещены в параграфы:
СЛОВО — ДЕЛО ВЕЛИКОЕ.
Если имеешь время подумать, прежде чем начинать говорить, то подумай, стоит ли, нужно ли говорить, не может ли повредить кому-нибудь то, что ты хочешь сказать. И большей частью бывает так, что если подумаешь, то и не начнёшь говорить.
Есть старинное изречение: «de mortuis aut bene, aut nihil», то есть: о мёртвых говори доброе или ничего. Как это несправедливо! Напротив, надо бы сказать: «о живых говори доброе или ничего».
КОГДА РАССЕРДИЛСЯ, МОЛЧИ.
Несказанное слово золото.
НЕ СПОРЬ.
В спорах забывается истина. Прекращает спор тот, кто умнее.
Лучший ответ безумцу — молчание. Каждое слово ответа отскочит от безумца на тебя. Отвечать обидой на обиду — всё равно, что подкидывать дров в огонь.
НЕ ОСУЖДАЙ.
Почти всегда, поискав в себе, мы найдем тот же грех, который мы осуждаем в другом. Если же мы не знаем за собой именно того самого греха, то стоит только поискать, и мы найдем ещё худший.
Осуждение другого всегда неверно, потому что никто никогда не может знать того, что происходило и происходит в душе того, кого осуждаешь.
Злословие так нравится людям, что очень трудно удержаться от того, чтобы не сделать приятное своим собеседникам: не осуждать отсутствующих. Но если уж непременно угощать людей, то угощай чем-нибудь другим, а не таким вредным и для себя и для угощаемых угощением.
ВРЕД ОТ НЕВОЗДЕРЖАНИЯ В СЛОВЕ.
Мы знаем, что с заряженными ружьями надо обращаться осторожно, а не хотим знать того, что так же осторожно надо обращаться и со словом. Слово может не только убить, но и сделать зло хуже смерти.
Было большое собрание людей, больше тысячи, в большом театре, В середине представления один глупый человек вздумал пошутить и крикнул одно слово: «Пожар!» Народ бросился к дверям. Все столпились, давили друг друга, и, когда опомнились, было раздавлено насмерть 20 человек и больше 50 поранено.
Такое великое зло может сделать одно глупое слово.
Тут, в театре, видно зло, которое сделало одно глупое слово, но часто бывает, что вред глупого слова хотя и не сразу виден, как в театре, а делает понемногу и незаметно ещё больше зла.
ПОЛЬЗА МОЛЧАНИЯ.
Давай больше отдыхать языку, чем рукам.
Если из ста раз один раз пожалеешь о том, что не сказал, что надо было, то наверное из ста раз 99 раз пожалеешь, что говорил, когда надо было молчать.
Люди учатся, как говорить, а главная наука — как и когда молчать.
ПОЛЬЗА ВОЗДЕРЖАНИЯ В СЛОВЕ.
Чем меньше будешь говорить, тем больше будешь работать.
Благо жизни людей — их любовь между собой. А недобрым словом можно нарушить любовь.
Для себя же, в своём дневнике за 1899 г. автор «Пути жизни» писал: «Дороже всего добрые отношения между людьми, а устанавливаются эти отношения не вследствие разговоров — напротив, от разговоров портятся. Говорить как можно меньше, и в особенности с теми людьми, с которыми хочешь быть в хороших отношениях» (Толстой Л.Н. Указ. собр. соч. Т. 20, с. 117).
Дополню правила общения, сформулированные Л.Н. Толстым, афоризмами о языке.
Какое слово скажешь, такое в ответ и услышишь.
Гомер.Многословие — еще не залог разумения.
Фалес.Заговори, чтобы я тебя увидел.
Сократ.Всего приятнее для нас те слова, которые дают нам какое-нибудь знание.
Аристотель.Когда суть дела обдумана заранее, слова приходят сами собой.
Гораций.Язык, который умудрен знаниями, не будет запинаться.
Менандр.Не знаю ничего прекраснее, чем умение силою слова приковывать к себе толпу слушателей, привлекать их расположение, направлять их волю, куда хочешь, и отвращать её, откуда хочешь.
Цицерон.Природа дала людям один язык и два уха, чтобы мы больше слушали других, нежели говорили сами.
Эпиктет.Выражай смертными словами бессмертные вещи.
Лукреций.Как человека можно распознать по обществу, в котором он вращается, так о нём можно судить и по языку, которым он выражается.
Д. Свифт.Мы говорим мало — если не говорим о себе.
У. Хэзлитт.Бранные слова оскорбляют уста, из которых исходят, столько же, сколько уши, в которые входят.
Екатерина II. А впрочем, он дойдет до степеней известных, Ведь нынче любят бессловесных. А.С. Грибоедов. Нам не дано предугадать, Как слово наше отзовётся, — И нам сочувствие даётся, Как нам даётся благодать… Ф.И. Тютчев.Дивишься драгоценности нашего языка: что ни звук, то и подарок: всё зернисто, крупно, как сам жемчуг, и право, иное название ещё драгоценнее самой вещи.
Н.В. Гоголь.Нет слова, которое было бы так замаши сто, бойко, так вырывалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как метко сказанное русское слово.
Н.В. Гоголь.Обращаться со словами нужно честно.
Н.В. Гоголь.Употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово, — значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус.
В.Г. Белинский.Дело не в слове, а в тоне, в каком это слово произносится.
В.Г. Белинский.Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины — ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!
И.С. Тургенев.Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, — это клад, это достояние, переданное нам нашими предшественниками! Обращайтесь почтительно с этим могущественным орудием.
И.С. Тургенев.Как красив русский язык! Все преимущества немецкого без его ужасной грубости.
Ф. Энгельс.Лишь усвоив в возможном совершенстве первоначальный материал, то есть родной язык, мы в состоянии будем в возможном же совершенстве усвоить и язык иностранный, но не прежде.
Ф.М. Достоевский.Русский язык! Тысячелетия создавал народ это гибкое, пышное, неисчерпаемо богатое, умное, поэтическое и трудовое орудие своей социальной жизни, своей мысли, своих чувств, своих надежд, своего гнева, своего великого будущего.
Л.Н. Толстой.Говоря публично, не обращайтесь ни к слуху, ни к уму слушателей, а говорите так, чтобы они, слушая Вас, не слышали Ваших слов, а видели Ваш предмет и чувствовали Ваш момент; воображение и сердце слушателей без Вас и лучше Вас сладят с их умом.
В. Ключевский.Хорошо говорить — значит просто хорошо думать вслух.
Ж. Ренан.Берегись изысканного языка. Язык должен быть прост и изящен.
А.П. Чехов.Русский язык действительно обладает уникальными качествами. Не буду приводить цитаты из Ломоносова, Тургенева и других. Скажу: свобода словообразовательных возможностей, широта синонимики, возможность широчайшего применения оценочной лексики… полнота терминологии во всех областях техники, науки и искусств, гибкость порядка слов и потому безграничные ритмологические и мелодические возможности делают русский язык вмещающем самые разнообразные тонкости смысла. Как лингвист, много лет отдавший сравнительному языкознанию, ответственно утверждаю: нет ни одного языка на земле, который обладал бы такими широкими возможностями передавать эмоции, образы и понятия, как русский язык.
Ю.В. Рождественский.Все морфологически разные типы человека, разные роды и виды между собой общались, являлись сызначала отличными от основной массы живого вещества, обладали творчеством резко иного характера, чем окружающая жизнь, и могли кровно смешиваться. Стихийно этим путём создавалось единство человечества.
В.И. Вернадский.Существовать полнее — это всё больше объединяться.
П. Тейяр де Шарден.Эволюция — возрастание сознания. Возрастание сознания — действие к единению.
П. Тейяр де Шарден.Заключение
Итак, на вопрос «Есть ли смысл в человеческой жизни?» автор этой книги ответил положительно. Этот смысл заключается в максимальном участии человека в развитии культуры.
Это высший смысл. Мы можем назвать его культурогеническим (очеловечивающим) или эволюционным.
Он может конкретизироваться — в зависимости от участия конкретного человека в той или иной области материальной или духовной культуры. Это участие может происходить, например, в науке, искусстве, нравственности, политике и т. д. Но повсюду человеком должен руководить высший смысл человеческой жизни: максимальное участие в развитии культуры.
Почему? Высшее предназначение человека — вливаться в общий поток культурной эволюции, поскольку именно она всё больше и больше отдаляет нас от наших животных предков, делает нас всё более и более человечными, всё больше приближает нас к идеалу человека — ЧЕЛОВЕКУ. Стремиться БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ везде и всегда. Таков идеал!
Культурогенический (очеловечивающий) смысл жизни в идеале превращает каждого человека в сосуд, через который проходит эволюция. Вот почему его можно также назвать эволюционным.
Я чувствовал, что эволюция льётся сплошным потоком и через мою душу, когда писал свои книги. Вот главные из них:
1. Эволюция в духовной культуре: Свет Прометея (в соавторстве с Л.В. Даниленко). М.: КРАСАНД, 2012.
2. Инволюция в духовной культуре: Ящик Пандоры. М.: КРАСАНД, 2012.
3. Смысл жизни. М.: Флинта: Наука, 2012.
4. Функциональная грамматика Вилема Матезиуса. Методологические особенности концепции. М.: ЛИБРОКОМ, 2010.
5. Ономасиологическое направление в грамматике. 3-е изд., испр. М.: ЛИБРОКОМ, 2009.
6. Вильгельм фон Гумбольдт и неогумбольдтианство. М.: ЛИБРОКОМ, 2010.
7. История русского языкознания: курс лекций (с грифом УМО Министерства образования РФ). М.: Флинта: Наука, 2009.
8. Введение в языкознание: курс лекций (с грифом УМО Министерства образования и науки РФ). М.: Флинта: Наука, 2010.
9. Общее языкознание и история языкознания: курс лекций (с грифом УМО Министерства образования РФ). М.: Флинта: Наука, 2009.
10. Методы лингвистического анализа: курс лекций. М.: Флинта: Наука, 2011.
Примечания
1
Вот что писал о рае Л.Н. Толстой в своём дневнике: «Люди много раз придумывали жизнь лучше той, какая есть, но, кроме глупого рая, ничего не могли выдумать» (Толстой Л.Н. Собр. соч.: в 20 т. Т. 20. Дневники 1895–1910 гг. М., 1965, с. 283).
(обратно)2
В наше время у А. Камю нашёлся продолжатель — А.П. Никонов. Но в своей апологии самоубийства он оставил А. Камю далеко позади. С нескрываемым цинизмом он пишет: «Можно расправляться с собой, принимая легальные наркотики — алкоголь, табак. Можно ввести себе шприцем в вену бензин или воздух — и умереть тут же. А вот героин ввести нельзя. Хотя героин убивает не сразу, дает ещё пожить годика четыре. Почему такая несправедливость? Об этом стоит поговорить… В развитых странах общественное сознание медленно сдвигается в сторону большей наркотолерантности. Про Голландию и Швейцарию и речи нет, они уже давно в этом смысле притча во языцех. А вот не так давно Британия легализовала медицинское (пока что) применение марихуаны… В Германии принят закон о создании в стране „Fixerstuben“ — сети пунктов бесплатной раздачи и употребления слабодействующих наркотических препаратов. Первые пункты уже действуют в Гамбурге, Ганновере и Франкфурте-на-Майне. Аналогичные программы существуют в Швейцарии, Испании» (Никонов А.П. Апгрейд обезьяны. Большая история маленькой сингулярности. М., 2005, с. 293).
(обратно)3
Уж не эти ли слова Й. Геббельса вдохновляли автора книги «Апгрейд обезьяны»?
(обратно)4
К этому времени у них появился второй ребёнок — сын Сашка.
(обратно)



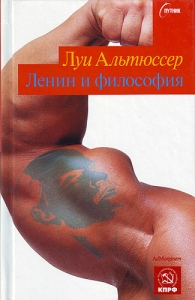
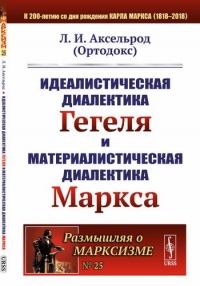
Комментарии к книге «Смысл жизни: учебное пособие», Валерий Петрович Даниленко
Всего 0 комментариев