В. В. Бибихин Собрание сочинений. Том III. Новый ренессанс
© В. В. Бибихин, 2013
© О. Е. Лебедева, составитель, 2013
© Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2013
Историческая задача
Цель любого образования, природного или искусственного, не может быть сложной. Для своей осуществимости она должна укладываться в одну простую идею или, вернее, быть захватывающим тоном, настроением. Конечно, разумное живое существо всемогуще и в силах осуществить любой план. Но обычно гигантские предприятия срываются не из-за трудности, а из-за неувлекательности, когда людям становится скучно выполнять детали расписания. История выдыхается, увязая в условностях.
Конец истории печален. Нет ни искусства, ни философии, повсюду только с утомительным напряжением охраняемый музей культуры. Среди предупредительного, изобильного благополучия человек в самом центре сегодняшней цивилизации витрины и экрана томится ностальгией по прошлому, когда, по воспоминаниям, задавали тон готовность рисковать жизнью ради чистой цели, отвага, воображение, идеализм. «Признавая неизбежность пост-исторического мира, я испытываю самые противоречивые чувства к цивилизации, созданной в Европе после 1945 года, с ее североатлантической и азиатской ветвями. Быть может, именно эта перспектива многовековой скуки вынудит историю взять еще один, новый старт?»[1]
Но прежде чем ставить себе новые цели, история сначала должна продумать, как бы ей не кончиться снова. Достаточно ли для этого быть не скучной? Оттого, как не соскучишься на первых порах с тиранами, берет тоска, которая по мере утомления тиранической власти и ее народа стирается до равнодушия. Именно из-за него в конечном счете под собственным весом развалилось образование коммунизма, оказавшееся по-человечески слишком хитросплетенным. Поддерживают в неслабеющей тревоге, временно разгоняя скуку, и метания неприкаянности, наступающие после крушения расписанного порядка. Но от них так же далеко до смысла, который был бы способен оправдать историю, как и от магических заклинаний наступательной идеологии. Чтобы история кончилась, не обязательно дожидаться, когда общества достигнут обеспеченной стабильности, достаточно и хаоса беспорядочных движений[2].
Радость ключ к живому и его истории. Она не устанет и не соскучится. В основе этого русского слова не случайно лежит покой. О поводах для радости лучше не говорить, потому что их всё равно не найти среди причинно-следственных цепей. О беспричинной радости говорить тоже нелепо. Ясно одно: она бывает. Устроить что-то подобное ей прежде всего хотелось бы распорядителям жизни. Всякая революция предлагается властью как праздник. Тоталитаризм и либерализм одинаково предписывают жизнерадостность, на которую большинство всегда оказывается способно, а меньшинство почему-то всегда нет.
Пытаясь понять суть долговечных исторических образований, мы угадываем в них особенную захваченность. Алексей Федорович Лосев прочитывал античную цивилизацию через упоение человека своим свободным телом. Михаил Михайлович Бахтин, подхватывая интуиции Н. В. Гоголя, разглядывал в сердце средневекового порядка божественный хохот человека над собственным телом. О том, что в белое каление средневековой схоластической логики вшифровано древнее дионисийство кельтов и иберов, говорили до Бахтина.
За торжественным и жутким лицом Средневековья, замечают его внимательные историки, проглядывает чудо. Над его чумой, войнами, злом возвышается jubilatio. Откровения любви стирают границу между божественным и человеческим, даря мир и уверенность. В строгой сдержанности средневековой речи слышен Magnifi cat, гимн хвалы жизни. Омытое этими живыми водами средневековой радости, «мое сердце было как цветочный сад, как утренняя роза», писал Жюль Мишле, который думал именно о возвращении высокого Средневековья, когда впервые предложил в лекциях 1842 года в Коллеж де Франс термин Ренессанс.
Ренессанс XV века стал по Мишле началом истории потому что возродил средневековый порыв. Ренессансом был и X век, время возникновения «Песни о Роланде», начало эпохи свободы и братских союзов граждан. В пустыне, в Параклите Абеляра, возник город знания и свободы. В центральной мысли средневекового ренессанса, историософии Иоахима Флорского, высшим плодом зрелости оказывается «святое героическое детство сердца; им поистине возобновляется всякая жизнь»[3]. Этот средневековый ренессанс X–XII веков предложил миру «скорые и прямые пути инициации в современность». Тогда возможность была упущена, Европа пошла кривыми обходными путями. Угасание началось рано, уже в самом начале XIII века Мишле наблюдает в центральной Европе глубокий надрыв. С падением средневековых городских коммун были подорваны личное достоинство и гордость, дух сопротивления и вера в себя, делавшие свободный город XI–XII веков сильнее Фридриха Барбароссы. Тридцать эпических поэм в XII веке, краткость и энергия слога, стихи поются – но затем декаданс, вплоть до пошлостей «Романа о Розе»; в XIII веке в Европе (но не на Сардинии и в Тоскане) стихи пишутся для глаз, растет многословная риторика. Расплодилась «огромная армия учеников Школы, рожденных ветром и надутых словами. Они свистели. Под их свист Вавилон лжи и пустословия, плотный, магически сгустившийся туман, не поддающийся уколам разума, поднялся в воздух. Человечество уселось у подножия, мрачное, молчаливое, отказывающееся от истины»[4]. Церкви пустели, и был изобретен серпент, чтобы мычать, подражая гулу толпы, – обесчеловеченный человеческий голос. Молящиеся, слушая мессу на латинском и еще менее вразумительный катехизис, молчат, и их ум блуждает по просторам самых фантастических верований, слишком рано объявленных преодоленными. Обездоленным, покинутым существом, блуждающим по пустырям, становится колдунья, по своему замыслу посланница природы, обещавшая Европе возможность новых отношений с силами земли как божества, которому надо служить и жертвовать вплоть до перенесения искупительных страданий.
Только Италия еще сильна и жива в XIII веке. В сверхусилии вплоть до Леонардо, Брунеллески и Савонаролы она умела как-то поддерживать гаснущее пламя. Творческая жизнь проснулась и взбунтовалась в XVI веке с дикарской энергией в Лютере и Кальвине, Везалии и Сервете, в Рабле, Монтене и Шекспире. Парацельс дает человеку имя микрокосма, потому что в нем сходятся небесные явления, земная природа, водные свойства и воздушные черты; человек скрывает в себе все великие чудеса неба и стихий.
Но выдыхается и этот порыв. К XIX веку Европа снова раздавлена построенной ею пирамидой, техника делается злым роком, историческое накопление гнетет вместо того чтобы воодушевить. Во имя истории, которая не имеет ничего общего с этим нагромождением камней, во имя жизни мы должны снова восстать, писал Мишле в Париже 15 января 1855 года; человек обречен на возрождение[5].
Говорить, что Мишле слишком эпичен и не всегда слишком точен, основания есть. Но его видение европейской истории невольно становится и нашим. Нужно задуматься, не слишком ли послушно мы дали загнать себя в безвременье, в застой, в постмодерн, в конец истории. Для академического историографа, может быть, всего ценнее точность, но для истории важнее высота, когда человеческое существование на земле наполняется смыслом. В своих разнообразных увлечениях Мишле понимал историю через собственную жизнь, откровенно ждал от мира того же просветления что и от себя. Иначе не было бы Жюля Мишле, которого надо читать, был бы еще один историограф среди многих забытых.
История вовсе не утратила свой смысл романа, притчи или мифа. Но в подвалах мнимой «современности», отгородившейся от времени в воображении собственной исключительности, слишком тесно для настоящих событий. Современность должна была бы стать встречей времен. Настоящее так важно только потому что через него таинственная глубина прошлого и таинственная широта будущего раскрываются навстречу друг другу (Сергей Аверинцев, «Две тысячи лет с Вергилием»). Всё зависит от решимости каждый раз заново выбираться на свет из тесноты. И наоборот, замкнутость в «современности» никогда не мешает, скорее уж склоняет к методическому оттеснению прошлого в будто бы пройденную даль.
Запад будет идти от Ренессанса к Ренессансу, и Восток тоже. Эта уверенность немецкого писателя Генриха Бёлля[6] убеждает именно потому, что просто и без претензий на пророчество говорит то, что чувствуем все мы. Усталый физически и духовно «современник» на вид участвует в технической гонке, но что продолжает действовать, когда он засыпает? Есть внятный Востоку гений Запада, который нашептывает изобретения ночью. Если бы дело в так называемой технической, европейской или планетарной цивилизации шло об устройстве человечества в мире, о воздвижении великой китайской стены, ум давно бы устал. Теперь он и устает, но каждый раз восстает против самого себя, сохраняя в нерешаемости своих проблем свою внутреннюю свободу. Эта свобода, человеческая природа, занята играми на краю ничто, где ставка больше чем жизнь.
Срыв Ренессанса закономерно повторяется в срыве его толкований. Рассеяние неизбежно из-за ускользания беспричинного и беспредметного настроения, задающего тон всякому крупному событию[7]. Образ праздничного подъема доминирует почти в любой характеристике Ренессанса, часто оставаясь однако непродуманным, иногда до карикатуры. Крайности одобрительного и неодобрительного отношения к Ренессансу сходятся в картине биологического оптимизма, необузданного взлета. Научно-академические редукции Ренессанса к раскрепощению человека, освобождению творческих потенций, расцвету или даже возникновению личности, открытию мира не совсем безвредны в перспективе идеологий национально-культурного возрождения, предписывающих всенародную праздничность или прямо ликование.
О настоящем празднике знают поэты. Они научились фильтровать свой восторг, не смешивая его с опьянением. Праздник скрытно побеждает у них и посреди трагедии. О радости креста помнят ранние христиане. Философия питается своим очистительным огнем. Искусство и настоящая наука умеют выходить к началам вещей. Только эти чистые знания и умения создают собственно Ренессанс. Самые вдумчивые попытки извне реконструировать ренессансную эпистему в лучшем случае останутся поэтому лишь свидетельством захватывающего притяжения Ренессанса и, может быть, вызовом специализированной науке. Мишель Фуко обращает внимание на органику ренессансного мироотношения. Так, обстоятельное энциклопедическое исследование итальянского натуралиста XVI века Улисса Альдрованди о змеях для новоевропейского научного взгляда представляет путаную смесь точных описаний, цитатной эрудиции, мифов и легенд, геральдики, физиогномики, анекдотов, аллегорий и пророчеств; всё это не описание, а легенда, с недоумением скажет о «ворохе писанины» Альдрованди ученый нового склада Жорж Бюффон.
Но описание ренессансной эпистемы у Фуко с равным успехом относится и к античности и по существу к средневековью, не улавливая особенность эпохи. А главное, правда ли, что переход от ренессансного символического языка мира к объективной научности модерна сводится просто к перемене системы взгляда на вещи[8]. Прием новоевропейской науки – не феноменология, которая вкладывает всё свое внимание в разбор существующего, как при изучении змеи (тема труда Альдрованди Historia serpentum et draconum) – в рассмотрение осуществившегося присутствия этого живого существа во всей полноте человеческого житейского и культурного хозяйства от охоты и фармакологии до мифологии и оккультизма. Наука модерна занята предметным исследованием.
Такому исследованию всегда обязательно предшествует выделение объекта, т. е. специализация мира. Конечно, объективируется обычно то, что уже получило имя в традиции. Но раньше существо и сохранность изучаемой вещи обеспечивались в конечном счете миропорядком. Звезды и светила кто-то зажигал, убирал, постоянно передвигал, как светильники на пиру, и за этой сменой иллюминации прочитывался смысл или по крайней мере уверенное присутствие действующего хозяина. Человек модерна не верит не только что вещи несут нам смысл, но и что они имеют сами в себе смысл. Они выданы на руки исследователю, который в случае змеи например, отвлекаясь от символики и геральдики, без предрассудков, т. е. от нуля должен определить биоморфологию, анатомию, генетику живого существа, определить условия его выживания и так далее вплоть до рекомендаций природоохранным структурам. В Новое время произошла инвентаризация сущего с вручением его под полную ответственность субъекту. В качестве объекта выделен и человек и всё в человеке: нос предмет ринологии, гениталии гинекологии, урологии, специализация дробится до бесконечности. Ничто в мире уже не отпущено идти своим природным путем, всё взято под учет и контроль.
Как получилось, что человек повинен отвечать за вещи, начиная с их познания? Он уже не делит заботу о них ни с природой как в древнем хозяйстве, ни с Богом как в средневековом. Оказалось почему-то невозможно спокойно доверить их и себя им. В здравоохранении, санитарии, геронтологии человек берет на себя заботу и о своем собственном существовании. Сменилась «ментальность»? Или, еще раньше и неуправляемо, время-бытие повернулось иначе и мы как всегда не уследили и не успели за поворотом?
Человека, двигавшегося вместе с порядком вещей, словно окликнули. Оглянувшись на оклик, он признал, что звали именно его, и согласился со своим новым призванием. Он обязан в согласии с ним дать отчет о себе и о том, что видит у себя на руках. Он уже никогда не сможет теперь уснуть. Напрасны попытки сделать вид, что оклик ему приснился. Так ребенок, которого одевали взрослые, в один прекрасный день слышит голос, велящий ему найти свои ботинки. Он долго будет противиться, соскальзывая в детство, но вернуться в безотчетность ему уже не удастся.
Окликнутый оказывается при деле. У него призвание. Человечество всегда было обществом посвященных – Богу, земле, отцу, птице, ремеслу, вплоть до отдания всего себя своему обету. Так же захвачен теперь ученый. Но только всегда ли он знает чем именно?
Заколдованный своим занятием, завороженный компьютером, ученый должен узнать, будет ли его объект – живое существо, акции, химическая реакция – вести себя согласно теории. Поглощенный этой задачей, он скорее всего никогда не узнает и никогда не спросит, кому в конечном счете служит. Лучшее, что он отдает, труд, дисциплина, объективность, составляют красивое лицо его посвященности. Но к кому оно обращено? Человек повсюду встречает как в зеркале самого себя. В природе наука модерна находит структуры, развернутые математическим умом. Легко складывается убеждение, что человек сам поставил себе цели, которые достигает своей наукотехникой. Не надо бояться разбить эту видимость. Пленники Платоновой пещеры не сами показывают себе приковавшие их тени. Дело и не в законодательных умах, будто бы диктующих векам свою волю. Предстоит еще понять, кто не дает человеку модерна спать и видеть сны, петь, разыгрывать драму, говорить с Богом или мечтать. Тревожная механика не оставит в покое и никогда сама собой не кончится. Всё новые массы вещей требуют себе заботы в руках человека. Он сам всё больше становится похож на прирученное животное, требующее искусственных условий и надлежащего воспитания. В отличие от этого античность и Ренессанс, Платон и Аристотель, Леонардо и Макиавелли еще могли думать о человеке как о неприрученном, диком существе.
Настойчивый бог, лица которого не видно, разбудил современного человека и требует от него взять мир под сплошной контроль и учет. Его хватка крепнет. Новый диктат велит, не останавливая перебор вещей на Земле, продолжить его в космосе. Размах наукотехники не хочет ограничиться материальными и человеческими ресурсами планеты.
Настойчивый бог принимает облик субъекта, сознания, самости. Тиран, уверенный в своих силах, может снизойти, но не отпустит на волю. Его окрик, требующий отчета и суда, правит человеческими делами. Бог современных христиан давно подвергнут разбору, оценке и суду по тем же правилам научной объективности.
Бог Христа, младенца и Сына Божия, был не менее требователен. Он остался в стороне от всеобщего учета и контроля не по слабости, а потому что не пристал к вещам с проверкой. Он требует дисциплины, внимания, подробности не для аккуратного отчета перед непроясненными инстанциями, а для вглядывания в лица, обращенные к человеку и говорящие ему. Они вовсе не обязательно все отражения самого человека. Призрак инопланетян не уходит из современной культуры. Опрокидывать нашу тревогу с обратным знаком на символическую эпоху Ренессанса значит просто мечтательно воображать себе избавление. Но возрождение не прошлый период нашей истории, а ее суть. Всякое открытие смысла это шаг к Ренессансу, который по своей задаче один теперь и в прошлые века.
У нас на руках рыхлое тело. Поднять его не в наших силах. Нескончаемое исследование, которое ведет современная наука, складывается в длинный отчет перед божеством, лицо которого скрыто под человеческой маской. Оно не обещает спасения. Вглядываясь туда, откуда слышны призыв и оклик, мы встречаем иногда ужас. Не видя, какая власть над нами, мы считаем распорядителями себя. Действительное положение вещей дает о себе знать в том, что мы революционная эпоха. У нас есть стало быть причины мечтать о восстании. Успешными наши восстания будут только когда сменится лицо окликающего нас или, вернее, когда мы научимся ницшевскому вопросу: кто сказал? Мы включены в работу сил, разглядеть которые главное дело человека. Оно требует невозможного.
Механические сдвиги, даже глобальные, смена дискурса, новая графика, переделка человека дают немногим больше чем перетасовку культурных программ. Мы этим лишь увеличиваем размах контроля и учета, перегружая компьютер и заменяя мысль тревогой. Только ренессансный максимализм, готовность бесконечно всё ставить под вопрос, отвлекаясь от практической пользы, мог создать европейскую науку. Человек выступил не в своей функции, а в своем гуманитарном достоинстве. Изобретательство было одновременно художеством, трудом всего человеческого существа. Ренессансный интеллектуализм принципиально отличается от позднейшего рационализма напряжением, не дающим отделить научное творчество от чувства и «личного стиля»[9]. Механика победила позднее.
Чем больше она навязывает себя глазам и рукам, тем явственнее скрывает свою тайну. Верно понятая современность это момент, когда возрождение становится возможно. Захваченность временем, т. е. бытием, не сводится к перебору вещей (встреч, мест, средств, черт) и заставляет вглядываться в лицо мира. Это он послал человека делать всё то, что человек делает. Мир никогда не перестанет быть невидимым, но его таинственность может открыться. Сумеет ли человек оставить невидимое неведомым? В состоянии ли он вообще вынести вблизи себя открытость? Чтобы просто хотя бы услышать эти вопросы, надо сначала перестать заполнять пространство дешевым товаром, подменными голосами и лицами.
Строгое знание, которое началось в Европе давно и стало водителем общества, еще не вполне развернулось. Даже современная фантастическая техника только приглашение для другого, более подлинного творчества (Эжен Ионеско). Если потомки назовут ее магией, если она приведет к прекращению мира на земле, то не как причина, а как орудие.
У ренессансного поэта-философа его слава сверху, coelitus, и его доблесть (virtus) не та, что дается техникой и навыком. Есть достоинство в том чтобы существо, рожденное для усилия как птица для полета (петрарковское определение человека), без надмения и нелживо, с открытой простотой разыграло свою собственную роль, драму смертного перед лицом бессмертных. Быть смертным, который рождается, любит и оставляет после себя мир, умели ученые поэты Ренессанса.
Рядом с этой единственной ролью мыслимо бесчисленное множество других, поразительных. Такова роль субъекта, прорывающегося к трансценденции. Она величественна как мексиканские пирамиды. Есть масштаб в том чтобы подняться над людьми, приобщившись к делу строительства нового общества или банковского капитала. Леонардо да Винчи думал о создании великой птицы, гигантской утки, которая ошеломит вселенную.
Ренессансные люди, перед глазами которых разваливались всемирные предприятия средневековья, Империя и Церковь, хорошо понимали, что для жизнедеятельности могущественных структур часто нужны только некоторые из функций человеческого существа. Рассчитанные на века, эти структуры расседаются, потому что способны лишь отчасти захватить человека. Чтобы не потерять себя, он вглядывался в лицо мира. Открывавшееся тут оказывалось совсем неожиданным. Начинала казаться возможной цивилизация, полная техники, тона и цвета, где главным подвигом было бы возвращение тайной простоты бытия.
Наш Ренессанс
1. Мы постараемся избавиться от Ренессанса как богатой темы, удобной и легкой для говорения[10]. Смеем надеяться, что это нам удастся. Мы избежим богатой темы Ренессанса, которая, как всё богатое, грозит оказаться дешевой, в том случае, если сразу войдем, ввяжемся в само дело, в задевающий нас вопрос, в вещи, т. е. не пойдем по пути формирования понятий и строительства концепций, а попробуем обратить внимание. Действительно, касающиеся нас дела не надо специально искать, изобретать, определять. Мы и так уже среди них. Тот, кто берется что-то говорить, всякий, кто по причине, которую не обязательно знает, начал прислушиваться или наоборот отвернулся, все уже как-то незаметно, хотели того или уклонялись, попали в историю, увязли в чем-то трудном, с чем нелегко или невозможно сразу распутаться, и одновременно вошли в нее в смысле захваченности событием, которое заведомо шире чем мы способны осознать или даже заметить. Такие, по-разному захваченные чем-то, что больше нас, мы существуем с самого начала и задолго до того как обращаем внимание.
Есть способ, особенно в гуманитарной академической среде, где звучат высокие слова, «уйти в науку», как это называется, обезопасить себя от попадания в историю приобщением к «вечным», «неизменным», «неподвижным» темам. Не будем разбираться, сколько в этом уходе трусости и отчаяния. Есть много здравого в том, что студент обществоведения долго противится ассимиляции, лучше может быть сказать, конформизации в научное производство, в процесс исследования. К сожалению, нужда обеспечить себя, – а ученое звание, до сих пор по крайней мере, иногда неплохо обеспечивало, – нередко всё же заставляет к четвертому, особенно к пятому последнему курсу выработать в себе навык ухода от исходной захваченности историей как событием в напускную занятость историей как собранием текстов.
То, что любит, спешит назвать себя наукой, философией, как правило обычно только название, которое в лучшем случае способно только невнятно напомнить о настоящем деле. Забыв причину, по какой мы скатились на плоскость эффектного проговаривания щекочущих слов, наука, философия, история, уже невозможно выбраться из нее. Если называемые вещи действительно придут, называющему не поздоровится, ему станет не по себе, он попросится обратно, в пустые названия. Однако от легкости скользящего произнесения научной лексики называющий не получает никакого преимущества перед молчащим. Происходит как раз наоборот, хотя ведь и молчание со своей стороны нуждается в обеспечении словом. Если по-настоящему думаешь, то одинаковой ошибкой оказывается и ловушка пустых слов, и обиженное умолчание. В любом случае полезно сначала слова научиться слышать, т. е. начать обращать на них внимание. Не слышать пустых слов и обращать внимание на слова, пустые или какие угодно, – это одно и то же. Со словом от простого, чистого обращения внимания сразу что-то происходит. Но, обязательно переставая быть пустым, оно наполняется вот уж вовсе не обязательно тем, что надеялся или думал вложить в него говорящий.
К зовущим словам принадлежит Ренессанс. Литература вокруг него огромна. Как всегда, прежде всего надо читать его авторов, «увеличивающих»[11]. Читать их обычно приходится в переводе. Вначале поэтому необходимо обратить внимание на то, чем хотелось бы по-настоящему заняться как-нибудь потом. Перевод, по Данте, похож на оборотную сторону ковра. Там краски бледнее и рисунок размыт? Если бы так просто! Данте говорил о переводчиках своего времени, о сицилийской школе перевода, о Вильгельме Мёрбеке, создавшем для Фомы Аквинского и надолго впрок латинского Аристотеля с мастерством честного буквализма. При таком переводе латинские Гомер и Аристотель не больше чем оборотная сторона ковра, требуют домысливать оригинал. – Но вот Вяч. Ив. Иванов переводит сонет, где Петрарка у него называет всю свою поэзию воспеванием Лауры; вся она, эта поэзия, «дум золотых о ней, любимой, сплав». Здесь уже не серая оборотная сторона ковра. «Думы золотые» это русский символизм в манящей дымке, в хмельном мареве сытного, загадочного русского межреволюционного десятилетия. Мы видим лицевую сторону ковра, только совсем другого. Никогда Петрарке не приснилось бы свои rime, рифмовки, т. е. уже не поэзию, которая в настоящей классике до рифмы не опускается, да еще и не на языке, т. е. не на латыни, а на volgare, простонародном наречии без грамматики, жаргоне (volgo – простой народ), называть «думами золотыми».
Лицевой стороной ковра оригинала перевод не будет никогда, Данте тут прав безусловно, – но что лучше, оборотная сторона или она же, но переделанная снова в лицевую, как умел переводчик? Бледная схема еще дает угадывать, иначе расцвеченная уже загораживает. Перевод проблема. – Что, правда, не проблема? Надо расчистить перевод, чтобы подступиться к источникам, или выучить латынь и итальянский? Мы не будем делать ни того ни другого, хотя, конечно, браться говорить или писать о Ренессансе, не зная латыни и итальянского, было бы странным предприятием. Но, как везде, дело показывает, а дело не в переводе. Конечно, по ходу дела надо будет касаться перевода. Пока для нас важно одно: мы не должны думать наивно, что купили Петрарку в переводе. Каком? Гершензона; Гершензон такой филолог, такой историк литературы; однажды вот он взял перевел «Secretum» Петрарки. Нет, мы купили Гершензона, который на каком-то повороте своей судьбы, своей захваченности литературой перевел Петрарку – почему? как? Ппотеряв сразу интерес к делу, поспешив только от добросовестности его довести до публикуемого состояния, так что ему не понравилось бы, с каким пиететом к его имени его перевод снова и снова переиздают, когда нужен новый. Также безусловно нужен новый перевод Данте, и не в большей ли еще мере чем Петрарки. То, что мы имели в сборнике «Малые произведения» 1968 года, разных переводчиков, и перевод «Божественной комедии» Лозинского, за который он получил в 1940 году Сталинскую премию, больше чем получал когда-либо Данте, показывают нашу неготовность к раннему Ренессансу, к Данте приблизиться. Мы не знаем еще, как его читать, не то что переводить. Новый перевод Малых произведениий, Vita nuova, Convivio, De monarchia, писем нужен давно, с того самого момента, как он вышел. Вышедший в 1968 году перевод с самого начала был старый, он встраивался в готовое представление о том, чего надо ждать от Ренессанса: чего-то знакомо хорошего, понятного, человечного в смысле гуманитарного, т. е. эстетически возвышенного и отвлеченного.
Чем выше оценивают в XX веке человека, тем острее испытывают нужду в подстраховке на случай срыва. В виду грозящей инфляции надо заранее говорить о человеке завышенно хорошо, поднимать предельно хоть эту планку, вплоть до того чтобы в новой конституции даже записать против всякой очевидности, что личность по значимости первее государства. Чем больше взвинчивается обещание человеку, успокаивание его, гарантирование ему всего, от культуры до благосостояния, тем меньше под этим возвышением человека остается почвы. Сегодняшнему беспределу вполне отвечает вознесение его <человека> выше государства. Что еще можно придумать. Он высшая ценность, его свободное развитие есть цель истории.
Когда заходит разговор о человеке и темой становится гуманизм, отношение к человеку бывает бережно и подчеркнуто благоговейно. Как еще ублажить эту драгоценность, какие еще почести ему оказать, что еще ему обещать. К человеку вежливое отношение, и оно напоминает анекдот об отношении к еврею в послевоенной Германии, болезненно переживавшей комплекс коллективной вины за holocaust, «всесожжение». Водитель, чью машину не по его вине задели и помяли, выходит на проезжую часть, приближается к виновнику, который продолжает сидеть за рулем, снимает перед ним шляпу и вежливо спрашивает: Sie sind Jude, вы еврей? – Nein. Сразу поведение потерпевшего совершенно меняется, он снова надевает шляпу и свирепо кричит: Raus, schwarze Schwein! – Примерно так же вежливо, болезненно-предупредительно и виновато отношение к Человеку. Сняв шляпу, вежливо склонившись. Признав его в начале нашей конституции высшей самоцелью. Заговорив повсюду о «человеческом факторе». Открыв кафедры антропологии. Основав гуманный, гуманитарный, серьезный, проблемный журнал «Человек». Плохо такое предупредительное, ласковое, любезное, с придыханием отношение к человеку? Наверное, не плохо, всякое благоговение хорошо. Но только за этой подчеркнутой, культивированной культурной предупредительностью может вдруг ни с того ни с сего последовать: вон, грязная свинья! Тот самый Человек, его самоценная личность, который в нашей новой конституции провозглашен высшей ценностью, выше государства, был сразу же брошен, запущен в новый неслыханный, добро бы еще важный эксперимент с идеей, а то не имеющий ничего такого, что было бы похоже на новое слово в истории, просто так эксперимент: а посмотрим, если еще и так прижать людей, чтобы им стало уж совсем странно, как они начнут у нас вертеться.
При этом академические разговоры о высокой ценности человека продолжаются. И как будто бы начало этой инфляции положил Ренессанс. Тогда было вроде бы введено в моду это странное, загадочное, болезненное приподнимание человека. Ничего подобного не было ни в античности (для Аристотеля человек самое бросовое в прекрасном космосе), ни в Средневековье (человек червь, гумус, земля). Мы должны будем посмотреть, как в Ренессансе обстоит дело с человеком. Но и человек тоже не первое наше дело, наше дело Ренессанс. Восстановление, возрождение задевает конечно прежде всего человека, проходит сначала через него, но какого человека это возрождение? Известного, знакомого ли нам?
Ренессанс возрождение древности. Надо будет думать о том, что такое древность. Позади она или впереди. Если она и позади и впереди, то значит человеку с самого начала было всё уже дано. Тогда нервическая горячка порыва в небывалое новое происходит от срыва и от надежды упростить себе задачу. Пока заметим одно. Ренессанс совсем другое настроение чем то, которое преимущественно хозяйничает теперь и заставляет считать современное человечество пришедшим к небывалому взлету или упадку. Теперешний, нынешний, самый новейший, актуальный, современный человек такой или стал таким, каких раньше не было, не бывало. С человеком якобы случилось нечто исключительное, уникальное, отчего он, может быть, и страшно пал, извратившись или истончившись интеллектуально и физически, но и то и другое, и пал и изощрился (sophisticated) так, как никогда раньше не падал и не изощрялся, поэтому никакое сравнение якобы теперь уже невозможно. Сознание (здесь слово сознание на месте) своей исключительности, небывалости от изобретений, технических, военных, спортивных, с тем же чувством острой гордости переносится на падение: так пал, как никогда.
Как последняя, исключительная крайность падения, так и доведенное до предела истончение, изощрение входили в ренессансное ощущение себя и своего времени. Однако есть абсолютное отличие. Для ренессансного настроения именно крайность падения и истончения делает человека уже или почти способным на возвращение к самому раннему, к древности. Во всяком случае человек всегда просвечен ее обличительным светом. Этого нет в теперешнем культурном сознании. Есть прямо противоположное убеждение: современный человек так исключителен, что он ушел в неизвестность, в темноту, и к нему стали неприложимы какие бы то ни было мерки, оценки и критерии. Во всяком случае древность к теперешнему человеку неприложима. Он, небывалый, исчез из глаз. Древняя мысль, поэзия; добродетель, добротность были наверное хорошими, но прежними. Теперь всё совсем другое.
С этим рассуждением, которое кажется обоснованным, ведь действительно вроде бы никогда не было того что есть сейчас, современный человек уходит в темноту от собственного суда. Что спрашивать, когда некому отвечать. Человек текущего дня видит себя одиноким, пусть и блудным, но сыном, который уже не может вернуться к отцу. Пусть одиночество и горько и жутко, но отец представляется безнадежно далеким.
Мы ушли. Мы потеряли середину, средоточие, как говорит искусствовед и историк культуры Зедльмайр, утратили устойчивость, с нею чувство меры и обеспеченность. Всё это говорится с ужасом, но и с захваченностью тоже. Констатируют, что необратимый сдвиг произошел в середине XVIII века. Или с Французской революцией. Или после I Мировой войны. Или после русских революций. Или после II Мировой войны. Или с водородной бомбой. Или с несчастной деколонизацией, после которой произошло что-то непредвиденное (в нашей стране сейчас произошла запоздалая деколонизация).
Слово «беспредел» со смесью ужаса и торжества обозначает желанное современному человеку ощущение, что произошло и происходит нечто ставящее его в совершенно исключительное положение. Современности, нашей и мировой, страшно и сладко думать, что наступил «беспредел». Для морализаторов, охранителей эта констатация, верна она или нет, удобна тем, что подвигает табуретку под ноги их высоконравственного требования возвратить норму или хотя бы форму. Допустить мысль, что еще не беспредел или что человек это всегда беспредел, смутило бы и либералов и морализаторов, велело бы задуматься, сделало бы их проповедь не такой жгуче актуальной, как когда решено и общепризнано, что беспредел размахнулся во всем и по-всякому.
Морализирующий дискурс служит привыканию к фантастическому беспределу, пикантно заостряет гордыню современной исключительности. Ренессансное движение было тоже продиктовано чувством предельного падения. Но размах падения воспринимался как сила, способная швырнуть человечество к еще большей, предельной новизне. Причем самым новым будет – нечему больше быть – возвращение к античности, древности. Что при любом размахе беспредела человек, потерял он свою сердцевину или не потерял, вышел век из пазов или не вышел, метнется не дальше чем в пределах древнего (мы пока, повторяю, не знаем, как надо понимать древнее), – такого настроения, такой уверенности у нас нет. Что такое Ренессанс, мы поэтому можем выучить (он есть возрождение античности), но представлять его себе всё равно будем как что-то выручающее из беспредела, возвращающее в колею. Мы справедливо не хотим возвращения в колею. Мы поэтому думаем, что ренессансные люди были другие, классичные, правильные и так далее, но мы-то не такие, к добру или не к добру, мы исключительные.
Ренессанс поэтому для нас красивый музей. Не потому что он невозвратимо ушел в прошлое, а потому что нам кажется, будто для нас он уже невозможен, потому что мы давно хотим видеть себя вышвырнутыми в небывалый беспредел. Нам неведом настоящий Ренессанс, мы не догадываемся, что мы такие, какие есть, на пределе и в беспределе, как раз были бы по нему и для него; что именно так и только так, в размахе, на краю падения и извращения, мы опасно ходим всё-таки на краю спасения, возвращения к своему замыслу. В своем самом главном и в самом главном для нас Ренессанс от нас закрыт нашим воображением, что будто бы в нашей запредельной исключительности мы потерялись из виду так, что происходящее с нами не измеришь никакой мерой. Мы постклассические, постнеклассические, постмодерные, постреволюционные, посткапиталистические, и не приставайте к нам больше с метафизикой, не читайте нас по Платону, по Гегелю, по Хайдеггеру. Хайдеггер принадлежал еще эпохе, после которой мы уже пост.
Чего больше, слабоумия или заносчивости, в этой радости колобка, который и от бабушки ушел, и от дедушки ушел, я не знаю. Только одно совершенно достоверно: совсем новый небывалый колобок попадется на зубы первой попавшейся лисе. Лучше поэтому и вообще и для нашей темы Ренессанса сразу отбросить эту недалекую лазейку для лени, для бездумия, для нечтения древних, для скольжения по поверхности, стратегию Одинокова, который хочет остаться совсем один, такой исключительный, что к нему не подойти. Мы ничего не знаем. Мы не знаем даже, действительно ли мы так уникальны. Мы только видим подозрительное: человеку снова и снова хочется уйти как блудному сыну туда, где глаз отцов его бы не доставал, где он был бы и сам себе невидим. Как если бы такое было возможно иначе как в воображении и в сознании Одинокова. Чтобы подойти к настоящему Ренессансу, надо найти возможность – это трудно заметить другое: что древность не сзади, а впереди, человеку от нее не уйти и, возможно, он всего ближе к старому тогда, когда его щекочет и манит острота небывалой новизны.
Не будем поэтому, всё равно у нас ничего не получится, устраиваться на свое новое постклассическое житье своими теперешними средствами. Так или иначе отцы вернутся. Ренессанс нам поэтому как необходимость предстоит. Наш путь ведет к древности (опять: мы пока не знаем, что такое древность), и вовсе не обязательно так, что надо будет доставать воду ведром из колодца или водить хороводы на свадьбу и на Троицу, а древность расположилась прямо посреди нашего беспредельного размаха как само существо и предельный предел всякого размаха. Обратить внимание на то, что мы говорим и делаем, когда что-то говорим и делаем, всё равно придется. Лучше мы обратим внимание раньше.
Ренессанс тогда окажется сутью истории, которая была и остается порывом к возвращению. Почему к возвращению надо прорываться? Почему не удастся спокойно вернуть, скажем, старое название Ленинграду? Анна Ахматова гневно ответила на Западе эмигрантам, которые сделали ей замечание, зачем она, в Петербурге родившаяся, называет город Ленинградом: не в Петербурге был предельный опыт блокады. Прежнее не может быть заказано по образцам, раннего по-настоящему еще не было, древность осуществляется в будущем, которое не воображаемое, а имеет все черты настоящего, в том числе и его загадочный беспредел.
Ренессанс в своем существе не склеивание прошлого из остатков, а искание настоящего. Настоящим оказывается то будущее, в котором настает древнее. Оно возвращается впервые, потому что было оно без того, чтобы вместить все настоящее. Древности прошлого как настоящего еще не было, она будет. Для этого требуется не отстраивать музеи и реставрировать мертвые языки, формы культурной деятельности, а собирать всё настоящее, т. е. мир. Ренессанс вводит в узел, в котором завязывается история, т. е. настоящее время, которое должно наступить. Как-то хотя бы издалека подступить к этому узлу мы попробуем. Дело, как уже говорилось, не в определении понятий и построении концепции, а в обращении внимания на вещи, в которые мы так или иначе уже втянуты.
Ренессанс, хотя Возрождение неизбежно так иногда представляют, не имеет отношения к введению образцов, на которые ориентируются и которые тем самым восстанавливают. Уважение ренессансных людей к классике приходит от знания, что древность не позади, в давних авторах, философии, поэзии, а в том настоящем, которое наступает, захватывая нас. Тошнотворная иссушающая реанимация обычаев, форм, имен противоположна настоящему Ренессансу. Для начала должно вернуться трезвое знание, что возродиться по своему плану и намерению нам также не под силу, как и родиться. «Долг исторического творчества», о котором мы читаем в благонамеренном журнале – это всё то же тоскливое пустое уловление себя за хвост, полусонное занятие одинокого, который тупо надеется, что если он еще больше исхитрится и поднатужится, то какая-нибудь третья волна вынесет его на золотые пляжи. Настоящий Ренессанс смиреннее. Он возрождение той древности, которая всегда уже настоящее, потому что только настоящее наступает. Не мы его устраиваем, оно само настоящее и требует от нас не чтобы мы распланировали его, а чтобы просто обратили свое внимание. Только так решается задача, загадка, поставленная Чаадаевым: нас минула история мира, мы на ее обочине или нет? Чаадаевский вопрос снимается, если настоящее не в Италии или во Франции, а в настающем. Такое настоящее умеет быть и нигде. Мысль, которая способна иметь дело с ранним, древним как настоящим, принадлежит не «национальной» культуре. Итальянский Ренессанс – не национальное явление, хотя ничего интернационального там нет, и никаким другим, кроме как своим, он не хочет быть.
Явное скопление машин и, несмотря на подорожание бензина, пробка на Большом Каменном мосту у Кремля – это видимое, заметное, вещественное проявление тайной гонки, в которую мы втянуты в нашей стране. Другое, менее явное проявление той же захваченности – кольцевое и радиальное расположение московских улиц, каждая из которых или замыкается на себе, или как стрела, летящая от центра или в центр, втянута в напряжение, в мало берегущее себя сверхусилие страны. Это совсем другое усилие, чем то, для которого, говорил Петрарка, человек рожден как птица для полета, или всякое напряжение, будь оно как угодно слепым, заряжено, взведено коснувшимся нас событием мира? Умеем ли мы в давящей московской тяжести, которую все ощущают, распознать нашу захваченность историей, прочитать ее смысл? Едва ли умеем, слишком закручены водоворотом. Тем более догадываемся ли, что суть всей истории Ренессанс, возрождение настоящего? Еще меньше, почти совсем нет, – настолько, что, много говоря о возрождении, не видим первой вещи в Ренессансе: настоящее древности соберет, если вообще что-то соберет, современность.
Ренессанс цель и мера всякого нашего усилия, если истории не обязательно суждено быть уходом очертя голову от отца, из рая, со света, во тьму. Мы стоим словно впервые перед теми же вещами: раннее, древность, настоящее, настающее; возвращение, обращение внимания. Они задели и задевают нас больше чем мы склонны замечать. Ренессанс не концепция, а событие. О его границах во времени и пространстве спорят – и это значит, что есть что-то не вошедшее в границы, существующее не по способу чего-то размещенного, а по способу имеющего место. При подходе к нему лучше обойтись без готового метода. Пусть он сам диктует свои законы. Это не будет означать отказа от строгости рассмотрения, скорее наоборот, только так можно обеспечить строгость подхода в смысле безусловного внимания к событию.
Событие, о границах которого спорят, т. е. которое не входит в определенные нами рамки, определяется наиболее точным образом как именно оно, такое, какое оно есть. Событие здесь не сводится к своему имени, а имя не подверстывается под схему. Имя остается собственным, имени собственному отвечает собственно именуемое. Мы хотим строгости, которая была бы на страже именности события и держалась его собственности. Событие единственно, оно такое, какое оно есть; строгости, с какой оно именно таково, оно требует и от нас. Его стирает сравнение, подверстывание его к другим событиям. «Не сравнивай: живущий несравним» – это в неменьшей мере относится к событию.
Посмотреть ли нам в учебниках истории, что такое событие, какое оно бывает, как происходит? Или в исторических документах? Но и в самих первоисточниках мы услышим уже только более или менее открытый голос человека, захваченного событием, а чаще крик, насколько еще успел крикнуть человек, захваченный событием и неизбежно думающий: Боже, что это происходит, вблизи не разглядеть, может быть потомки, глядя издали, разберутся. Мы хотели узнать у свидетеля, а он ожидает нас для разъяснений.
Что происходит, когда мы, обращаясь к документам, там ищем события и его смысла? Происходит еще одно событие: мы обращаемся к документам, и хорошо если захвачены при этом исканием, расследованием, а не просто увлечены своим вхождением в ученое сообщество и, обнаруживая, что наши ученые мнения ничуть не хуже других, подключаемся к фабрике перебора и сопоставления мнений. В таком случае всего меньше приобщения к событию, причем большей частью не к тому.
Одним событием, историей, мы так или иначе захвачены, в том числе и тогда, когда силимся уйти от него. Возможно, люди в прошлом оказались способны к большей захваченности им, чем мы теперь умеем, и именно удача в захваченности сделала их эпоху такой, что мы на нее оглядываемся. В таком случае участию в событии мы всё-таки учимся у них, по их книгам, живописи, документам? Читая, вглядываясь? Для этого нужно сначала научиться видеть в том, что до нас дошло, не музей. То, что у нас в руках лишь произведения искусства, не минус, ведь событие это не только движение больших вооруженных масс или вырубка всех лесов. Кто сказал: «Это не событие, это всего лишь мысли», тот уже слишком много знает. Он заготовил прокрустово ложе для истории и не допустит ей быть иной чем согласен ее видеть. Мы лучше не будем пока говорить, что книги и картины относятся к сфере культуры, а кроме них есть еще действительность или реальность; не будем впадать в эту схему, незаметную базу современного историографического метода, – тем менее замечаемую, что совершенно само собой разумеющуюся, настолько, что при любой смене режима новости политики и экономики будут выведены на телевизионном экране первыми, а события того, что экран называет культурой, всегда предпоследними. Почему так? Об этом почти никто не думает. По той же темной причине Ренессанса нет в исторической периодизации.
Откуда идут наши представления о том, что такое действительность? Хорошо бы знать, но мы опять же далеки от того, чтобы всерьез тут думать. Мы в погоне за действием, действенным, а Ренессанс отнесен нами к эстетике, значит он всего лишь отражение действительности. Такая классификация составляет часть нашей стратегии, направленной на то, чтобы в действительности правила не действительность, а идея, идеология. Она незаметна как отравленный воздух, которым мы дышим. Мы самым естественным образом ставим, решительно распоряжаясь, действительность на первое место, а культуру, куда входит и философия, конечно на предпоследнее, но что самим этим нашим разделением правят туманные изводы и дикие мутанты философии, мы уже не видим, и оттого они правят нагло, безраздельно. Мы не успеваем уследить за их хозяйничаньем в наших городах, и там осаждается дым, в котором невзначай, незаметно и быстро происходит всё главное, пока «сознание» еще только на подходе.
Наука тоже, как всё передовое, хочет действовать или хотя бы говорить о действительности, Т. е., в представлении экрана, о передвижении глобальных объемов, оперировании всё большими массивами карты и календаря. Наша история должна быть универсальной. Полезно сравнить современный глобализм с миниатюрностью греческих полисов.
Что Европа, европейское предприятие проблематично, в Европе знают. Что Россия место, от которого можно ожидать настоящего осмысления или даже разрешения проблем, в Европе тоже знают. Что Россия страна, где случаются срывы, знают и в Европе и знаем все мы. Что статус философии как открытой мысли в России странный, что мысль здесь и не ожидается и не исключена, мы тоже можем чувствовать. Избави нас Бог еще и поэтому въезжать словно в открытые ворота в богатую тему и говорить, пока нас не перестанут слушать, всё то многое, что тут можно сказать вообще и в частности. Важно одно: не упустить возможность, которая нам возможно дана, сохранить открытость, быть сторожами строгости.
Мы получим, возможно, нулевой результат. Но одна вещь обязательно произойдет после нашего искания, думания, расследования. Мы сами изменимся. И не надо смущаться, что узнать себя и измениться мало, когда другие люди давно уже изменяют, потрясают и поражают мир. Когда говорят об изменении себя, то думают почти всегда одно: моя данность должна поставить себе цель и как-то расти, оставшись данностью с прибавлением желанного прироста. Но нет: чтобы измениться, не надо над собой совершать никаких экспериментов. Настоящее изменение приходит вдруг и так же незаметно, как всё, что нами по-настоящему правит. В отличие от этого изменения, задуманные для спешного сотрясения мира, не настоящие. Они, кроме того, никогда не достигают своей цели. Историк Ренессанса Якоб Буркхардт говорил о них: очень хорошо еще, если предпринятая революция не по ставит у власти как раз злейшего врага.
Настоящее изменение нельзя запланировать. Оно не нами устраивается, приходит вдруг, исподволь, как сон. О нем все втайне мечтают. От его невидимого присутствия неприметно, но неостановимо меняется весь мир, передвигаются горы. Ради крошечной крупицы такого изменения стоит постараться. Самая большая работа, труд обращения внимания, это всегда мысль. От тяготы ее человек очертя голову, если не в панике, бросается к ворочанию гор и повертыванию рек, только в таком паническом активизме горы как раз не сдвигаются и повернутые реки высыхают. Настоящая мысль вещь почти невозможная, редчайшая. Я говорю о ней понаслышке. Мы едва можем надеяться, что из всего нашего говорения и думания вырастет хотя бы одна маленькая мысль, стоящая одного коротенького слова в истории. Лучше, впрочем, и на это не надеяться, преодолев гордыню. Но знать хотя бы понаслышке, что такое мысль и слово, единственные, каких хватает крупицы на столетие, мы обязаны; так же как и прислушиваться к ним, чтобы не пропустить, и обращать внимание. Иначе какой смысл у жестов всего многомиллиардного человечества.
Которое занято сейчас способами всё более быстрой и далекой, эффективной и точной передачи слова и образа. Человечество стало похоже на один сплошной глаз, на одно сплошное ухо, оно прильнуло к своим слышащим и видящим экранам и слышит и видит только то, что удивительные приборы работают всё более совершенно и безотказно, всё больше готовы подхватить и мгновенно передать слово и образ. Ничто, кажется, так не ценится сегодня как этот экран. К нему приникли, и что ждут на нем услышать? Какие последние новости?
Как если бы решающее событие должно было вот-вот произойти. Для его мгновенной передачи подготовлены все экраны. Или может быть всё это напряженное ожидание новой информации – лишь форма нежелания обратить внимание, услышать то, чем человечество уже захвачено? Оно уже участвует в истории вполне и незаметно для себя, само не зная как. Участвует невидимо, возможно неприглядно, во всяком случае ненаглядно и хочет другого, парадного участия на экране. Так тележурналист и публицист, показывая всё, не показывает свою настоящую привязанность, тех, кому он служит, кто его питает.
Самого человека нет на экране. Видны его проекции и проекты. Сам человек не то же что я. Я бываю и не сам. Есть разница между я сделал и я сам сделал.
2. Будем ли мы настаивать, чтобы изменили историческую периодизацию, признали Ренессанс самостоятельной эпохой, а не явлением в узкой области культуры, и включили его как особый период между Средневековьем, которое у профессиональных историков сейчас кончается к 1600 году, и Новым временем, которому они начинают вести счет в 1600 году? Ведь в Ренессансе содержится ключ ко всей истории. Он возможно даже и есть история в ее существе. Дело мира, в смысле общества и человечества, это всегда возрождение, восстановление, восстание (Валентин Распутин), возвращение полноты, апокатастасис.
Ничего подобного мы не попытаемся делать. Неразумно спорить с частной наукой историографией, которая развернула именно такую периодизацию потому, что должна вести себя определенным образом, чтобы остаться профессиональной наукой. Она не может обращать внимание на философию и поэзию, это для нее побочные темы в конце анализа эпохи и страны, в разделе культуры, до которой в кратком историческом курсе дело вообще может не дойти. О том, что сама наука истории, историография, это далекий и забывший о ступенях своего происхождения извод философии и поэзии, наука не только имеет право, но и обязана забыть, иначе она должна будет приостановить свое научное производство и задуматься.
Если мы будем заниматься тем, что наука не ввела в перечень исторических эпох, то бессмысленно заниматься расщеплением события, отслаивать то в нем, что принадлежит предыдущему периоду, что последующему, стоит ли Данте одной ногой в Средневековье, приветствует ли он другой зарю Нового времени. В Ренессансе мы имеем дело с солью, сутью всякой, в том числе средневековой и новоевропейской истории. Оставив раз навсегда пустое занятие разграничения Средневековья и Ренессанса, мы окажемся прочно на стороне научной историографии, которая ничем подобным не занимается. Выражение (в частности бердяевское) «средневековый Ренессанс» верно как с научной историографической позиции, так и по существу, с тем только промахом, что какой-то Ренессанс должен тогда оказаться вроде бы не средневековым, а это опять же ввязывает в разграничения. Границы есть, и они очень отчетливы. Но они проходят не во времени.
Данте весь, пожалуйста, средневековый, так же как, если угодно, Петрарка. С другой стороны, если пони мать средневековость как ограниченность, то оба поэта преодолели его порог. А в том смысле, в каком надо говорить о Ренессансе как о восстании и восстановлении, в Данте нет ничего не ренессансного.
Хорошо ли, что мы оказались на одной позиции со специальностью всеобщей истории, частной науки, которая выносит культуру за скобки и задвигает ее в последний раздел главы? Ничего плохого в этом нет. Философия и поэзия относятся к вещам, которым не мешает, чтобы их забыли. Они умеют и так. Философ и поэт другое дело чем правитель, который перестанет существовать, если у него отнимут кабинет и он не сумеет любыми средствами отвоевать его обратно. Мысль и слово, образ и изобретение держатся собственной силой, им не надо заранее заготовленных рамок, они, похоже, сами создают пространство, в котором находится потом место для всего.
Средневековый ренессанс поэтому будет таким же законным понятием, как каролингский в начале IX века или оттоновский вокруг 1000, когда началось строительство готических соборов, ренессанс XII века вокруг Шартрской школы и ее популяризатора Иоанна Солсберийского, ренессанс XIII века вокруг Парижского университета. В этом смысле итальянский ренессанс можно считать поздним, итоговым и в таком качестве решающим для Европы.
Нет причин упускать и исламский ренессанс. Нужно обратить внимание на это очень мало известное великое событие и задуматься о давнем переплетении мусульманского (арабского) и европейского миров, например в Испании. Расцвет государственности, поэзии («сицилийские поэты»), философии (Фома Аквинский), богословия (Иоахим Флорский, Франциск Ассизский) на юге Италии в XIII веке при Фридрихе II во многом питался соревнованием с блестящей тогда арабской культурой, настолько продвинутой, что например францисканец англичанин Роджер Бэкон не мог для своих экспериментов найти нужные приборы во всей Европе, таком захолустье, и жаловался, что приходится искать их за границей, где всё гораздо лучше, т. е. у арабов. Недооценка ислама продолжается вплоть до нынешней неспособности осмыслить бурление исламского мира, которое представляется часто только палкой в колеса европейскому распорядку, хотя ясно, что мы не вправе ждать, что исламский мир осмыслит и упорядочит себя, пока сами будем считать его исторической ошибкой. Около 750 года византийская культура перестала быть высшей в мире, уступив первенство исламу. Под его влиянием византийские императоры пошли на модификацию христианства. Лишь самой заметной и для всех очевидной переменой тут был запрет изображения Бога в подражание исламу, так называемое иконоборчество. Иконоборчество было в долгой борьбе преодолено. Но в той части византийского общества, которая отворачивалась от Запада, в XIV веке снова начались богословские реформы в направлении ислама, снова в пользу абсолютной непостижимости божественного средоточия, которая была в качестве безусловно неприступной сущности догматически официально отделена от всего другого в Боге, и в пользу исключительного проявления божества через святых в божественных энергиях, что приблизительно соответствует исламскому догмату о продолжающемся откровении Бога через его пророков. Если бы вместо непродуманных поспешных конструкций «православного энергетизма», противопоставляемого западному «рационализму» или вообще «Западу», для начала исследовали и продумали, как в догматическом новаторстве Григория Паламы продолжалось тайное, но оттого лишь более мощное переплетение западной и ближневосточной традиций, это стало бы действительным вкладом в осмысление исторического христианства: паламизм как глубокая рецепция ислама в Византии.
В этом свете так называемая ночь средневековья была не темными веками, а блестящей эпохой арабо-исламской цивилизации. В середине XII века король Кастилии Альфонс VI покровительствует евреям, они переводят Аристотеля с арабского языка на латынь, и христианский король женат на дочери халифа Кордовы, подобно тому как век спустя сестра византийского императора могла быть замужем за вторым человеком в соседнем исламском государстве. Сицилийское королевство Фридриха II Гогенштауфена возникло в XIII веке на кромке дразнящего и пугающего исламского средиземноморского мира как его симметричное отражение. Затемнена привязанность европейского средневековья к исламской философии и поэзии (Мейстер Экхарт – Авиценна и суфии; «Тристан и Изольда» – «Висрамиани», «Хосро и Ширин»; провансальцы – «Ожерелье голубки» Ибн Хазма). Характерный пример: в Париже XIII века перевели, читают и цитируют «Источник жизни» Авицеброна (Ибн Гебироля), еврейского поэта и философа из арабской Испании, и трактат так хорош, что его автора ассимилируют: он – тайный христианин, но под арабским владычеством вынужден скрывать свою религию. С той же однобокостью мы мало расположены говорить о тюркском, восточном в наших традициях. Смелый Бердяев мог позволить себе назвать Москву христианизированным татарским царством. Надо вспоминать о тюркском в русском этносе и языке, который отличается от других славянских и от всех европейских урало-алтайским делением согласных на твердые и мягкие, звуком ы, и может быть самое главное – выпадением связки есть в настоящем времени, что по мнению некоторых делает в русскоязычном пространстве невозможной онтологию греческого типа.
Как Ренессанс не будет для нас ограничен временем, так и пространством, и если в первую очередь мы будем читать Данте, Петрарку и Боккаччо, то лишь потому что у них всё ближе и виднее, а не потому что изучаемое событие сосредоточено в них.
А Северный Ренессанс? Конечно, он тоже не подлежит исключению. А византийский палеологовский XIII–XIV веков? А русский религиозный и философский ренессанс? Они тоже полноценные Возрождения. Если всё определяющее, задающее меру, отмеченное в истории оказывается ренессансом, то как должно обстоять дело с античностью? В отношении ее о ренессансе не говорят ех defi nitione, ведь она и есть то, что подлежит в первую очередь возрождению? Но вот Плутарх говорит об афинской архитектуре середины V века до н. э. (Параллельные жизнеописания, Перикл 13): «Творения Перикла… созданы в короткое время, но для долговременного существования; по красоте своей они с самого начала были старинными», т. е. возвращали древнее. Одному ли Плутарху классическая Греция, по крайней мере в архитектуре, представилась ренессансом? Для поэта и пророка раннего принципата Вергилия всё римское государственное предприятие было восстановлением, восстанием из пепла древней Трои, какой та Троя сама никогда не была, а только предполагала быть. Несбывшаяся Троя отмщала за себя теперь, подчиняя Грецию миром (рах Romana), как некогда греки войной и обманом покорили Трою.
История, которая является историей, оказывается ренессансной. Кто-нибудь скажет: но единственно Библия показывает не циклическое, возвращающее и повторяющее, а линейное развитие. Что дает бессмысленная в сущности схема линейной и циклической истории? Прежде всего она приносит вред, потому что соблазняет подгонять, вмысливать неповторимость события в ту или иную схему. Никому не посоветуешь опускаться до такой степени оскудения, равнодушия и безразличия к факту, чтобы, просматривая его, видеть сразу прямую линию или круг, словно схемы были прочерчены человеческой истории на выбор. Библия не линейна и не циклична, а вся ренессансна, от Моисеевых многократных возвращений народа на родину и к истинному Богу до возвращения из вавилонского плена, до Нового завета, который весь построен как возвращение Ветхого, восстановление истины смысла пророков. Ветхозаветные вещи были пока опережающими тенями будущего, прообразами того, что еще только должно было стать, наступив именно как возвращение к началу, к исходной истине.
Кому нравится, может говорить, что Ренессанс синтез циклического и линейного развития, когда от возвращения ожидается завершение. Но оттого, что у нас в голове будут обе схемы сразу, линия и круг, геометрической тоски станет не меньше, с каким бы важным видом концептуальных воротил ни сращивали мы круг в понимании истории с линией. Ничего кроме стирания единственности события это не даст.
Можно только догадываться, какая степень вялости, безразличия, равнодушия, какое желание отделаться от подробностей события подталкивает устать от подробностей и редуцировать всё, что можно встретить в событии и в его понимании, к линии, кругу, к сумме линии и круга, к спирали. То, с каким важным видом это делается, каким достижением философского обобщения объявляется, способно только удивить, как вообще многое в подходе к истории удивляет. Жалуясь, что издания сейчас трудны и рискованны, что свежему предприятию хотелось бы надеяться на долгую жизнь, один начинающийся журнал в № 1 за 1992 г. в рубрике «Философия» дает место, бумагу, типографскую краску рассуждениям, из которых достаточно наугад выписать первое попавшееся, потому что читать всё подряд и отбирать характерное было бы расточением времени. «История человеческой мысли удостоверяет, что философия возникла как новый способ миропонимания, состоящий в универсализации картины мира». Кем написана, где хранится история человеческой мысли, в какой главе и какими документами она удостоверяет, каким способом можно в принципе удостоверить, что философия это способ чего бы то ни было. Что такое здесь универсализация, если не всё то же несчастное, очень тоскливое, совершенно безысходное стремление потерянного сознания к захвату всё больших воображаемых пространств. Ясно одно, что она дело явно не философии, подобно тому как и «картина мира» остается заботой только уже совершенно бездомного и растерянного сознания. Мало понятно, чего можно ожидать от наугад подцепленной публицистической лексики кроме худшей порчи языка и слова, вовсе не безобидной, потому что вся катастрофическая экология начинается с неосторожного прикосновения человеческого существа не к вещам, а к миру. Если мысль взламывает его тишину, наворачивая горы хлама, то кроме грязи и порчи везде и повсюду ждать чего-либо будет глупо. – Взгляд случайно падает в другое место того же журнала. Учительно, важно говорится о Данте, в опровержение противоположного мнения. Рецензент-специалист поправляет разбираемого автора, взгляд которого слишком узок, а нужен широкий исторический подход: «Данте – этап в становлении европейского индивидуализма, в том числе, в самосознании личности центром философствования, в осознании общественной ценности работы личности индивидуального сознания». Нам велят не меньше чем включить Данте внутрь процесса, и какого: идет становление европейского индивидуализма, личность ставит себя в центр мира. А что если такой процесс вообще не идет нигде кроме как в голове самой же приватизированной личности? Что если приватное сознание по своей сути неспособно быть ничем больше чем отражением, отталкиванием всего встречного от зеркальной поверхности, когда по другую сторону стекла за его черную эмаль уже ничего не попадает? У Данте тут нет шанса быть не то что прочтенным, но и просто услышанным.
Так обстоит дело со схемами, будь то цикличности, линейности, универсализации или индивидуализации. Они могут оказаться кстати лишь для того, чтобы, отодвинув их, оставить место для чего-то более уместного. – Но ведь от авторов, древних и новых, мы часто слышим о повторении того же самого? от Платона, от Ницше? Да, только это не значит что они мыслят в схемах цикличности. Мы тоже говорим: Ренессанс это возвращение, восстановление, восстание. Значит ли это, что мы сначала имеем в голове схему возвращения и потом подгоняем событие под неё? Мы не Ренессанс хотим понять из идеи возвращения, а наоборот, возвращение пытаемся осмыслить из того, что встречаем и встретим в том едином событии, которое осветило себя и всё вокруг.
Как весело отмести, мстительно и жестоко, все важные учительные голоса, которые от своей пустоты становились командирскими и диктовали, как надо понимать одно и другое. Но вести спор с ними вовсе не обязательно. Нас захватили ведь не они, а то, что случилось раньше чем пришел индивид со своим самосознанием и начал компенсировать свое опоздание глобализмом своих универсализаций.
Только кажется, что без отправных концепций, которые потом надо будет выверять и опровергать, без исходных гипотез не будет встречи с фактами. Вещи это всегда вести, событие приходит всегда как сообщение, новое слово в истории. Другое дело, что его трудно услышать. Намного легче, даже читая авторов, слышать только самих себя. Но весело возвращение к говорящему миру из искусственной ситуации, где вещи сначала препарированы, а потом расчерчены схемами. Нужно расслышать открытые голоса Данте, Петрарки, Боккаччо, Боттичелли, Рафаэля, Микеланджело, Гвиччардини, Леонардо да Винчи, всего этого двухсотлетия, которое прошло от философа-поэта до его почитателя, философа – художника.
Было бы смешно, если бы то, что необходимо увидеть, мы искали бы в предложенной нам клетке классификации. Подходя без концепций, концепции мы и не построим. Будем заниматься только особенностями, случаями (casi Леонардо), подробностями. Наша цель не подвести Ренессанс под обобщенные понятия, а из них окончательно вывести. Наш бунт против схем отвечает замыслу события и помогает распознать именно его. Ренессансов много – и он один не как период в годах, не как собрание содержательных признаков, а как восстание.
Частое или может быть даже постоянное настроение Ренессанса негодование, indignatio. Ренессансное слово редко поучительно, чаще гневно. Мы должны вглядеться в то – недолгое – время, когда философская поэзия смела возмущаться тем, что мир не спешит выполнить ее категорическое требование к нему. Она имела замысел мира и потому смела заговорить с целым светом, требуя от него возвращения к своему замыслу. Отозвалось ли человечество на тот призыв? Ххотя бы поняло его? Этот вопрос до сих пор обращен к нам. Но даже когда слово философии, поэзии, веры не слышат, оно и так открывает мир. Даже если Ренессанс не был понят и подхвачен, он всё равно изменил историю.
Что событие может войти в историю и без того чтобы его поняли, не значит, что всё равно, пытаемся мы его понять или нет, достигаем ли понимания его необъятности или запираем в схему. Наоборот, от этой нашей попытки всё для нас зависит, хотя и сейчас и всегда событие сбывается без нашего согласия, санкции или допущения. Если мы его не вместим, нам станет меньше места в нашей истории.
Современные концепции, видящие в Ренессансе «этап» европейского развития, большей частью принадлежат к истории его непонимания. Ренессанс немыслим без апокалиптического видения конца, без порыва к завершению. Прошедшие с тех пор века сами по себе не дают права считать тот призыв к завершающему собиранию ошибкой. Если история продолжается, то значит, рассуждает прохладный историк, поэты-философы как всегда драматизировали положение вещей, пророчествовали апокалипсис, но дело было не так уж плохо; наверное и сейчас, в сегодняшнем апокалипсисе человечество найдет способы выйти из кризиса, история будет продолжаться, писатели любят нагнетать.
Против догадливых людей, сообразивших со своей наблюдательной позиции, что страхи страхами, а человечество продолжает существовать, кроме того бесспорного, что если колобок ушел от дедушки и бабушки, то сумеет ли уйти и от чего угодно, есть и другое возражение: мы не знаем; нам кроме нашей догадки, которая остается всё-таки неподтвержденной, никто не сказал, нигде не написано, никаким священным авторитетом не подкреплено, что мы действительно можем, имеем право видеть в пророчествах философии и поэзии просто литературно-художественную фигуру. Никакой авторитет, ни божественный ни человеческий, еще не сказал определенно, что слово философской поэзии Ренессанса осталось в области словесности и культуры для предпоследнего раздела новостей. Туда его отнес журналист, а он дал немного поводов ему безусловно верить. Если кто-то достоверно знает, выявил, установил, что философия и поэзия говорят нам не самое главное, а слушать надо журнального и телевизионного публициста, то пусть объявит это. А оттого, что предупреждений философов, художников было уже много, не следует, что они потеряли силу, как когда в театре или в цирке звонят очень долго и не раз, но публика не спешит из буфета, то это еще не значит, что свет в зале не погаснет уже никогда и занавес не раздвинется.
За современной провокативной вежливостью к человеку стоит, как думают, ренессансный гуманизм, возвеличение человека или, как мы читаем у одного исследователя, «ценность личности». Но достоинство человека лишь одна из ренессансных тем. В качестве ее оборотной стороны у Петрарки, Леонардо, Макиавелли развернут такой жесткий разбор человека, который по проникающей остроте не превзойден до новейшего времени, до XX века, эпохи тотального разоблачения. А. Ф. Лосев называет главным итогом своих долголетних размышлений о Ренессансе отказ в отношении его от «монистической формулы». (Почему только от монистической? почему не от всякой формулы?) Он видит «неимоверный дуализм» ренессансной мысли прежде всего в оценке человека. (Почему дуализм, а не трезвая зоркость?) Книга Лосева об эстетике Возрождения кончается захватывающим и захваченным описанием «дуализма», который нес в себе такое напряжение, что накопил в себе долгий запас исторической энергии. Это верно сказано. Неясен, непонятен только оттенок инквизиции, готового жесткого суда, с каким Лосев говорит о небывалости ренессансного человека. «Не было другой… эпохи, которая с подобной силой утверждала бы человеческую личность в ее грандиозности, в ее красоте и величии… Однако самые крупные, самые великие деятели Ренессанса всегда чувствовали ограниченность человеческого существа… Поразительно то, с какой силой, с какой откровенностью и с какой беспощадностью возрожденческий всесильный человек сознавал свое бессилие».
Едва ли схема дуализма и полярного напряжения даст больше, чем любая другая. Почему в событии не быть дуализму и напряжению, что особенного в этом образе из диалектики природы? Полярности можно перечислять более или менее эффектно: ренессансные гуманисты погружены в изучение древностей, воссоздают античное слово, образ; от них же слышишь и насмешки над «ребячливыми стариками», сгубившими жизнь за бумагами перед чадной свечой. Ренессанс, говорят, культивировал риторику, искусство слова; но среди его ведущих писателей были такие, которые намеренно избегали самого имени «филологии», и такие, кто писал нарочито неотделанным языком, подозревая всякую искусность слова в искусственности. Отсюда следует лишь, что дело не в риторике, не в классической филологии, не в красотах стиля.
Неприменимость схем, быстро осаживающая всякого изучающего, который начал подробно всматриваться в событие, с растущей настоятельностью убеждает слушать наконец не себя. Мы послушаем Данте. Что он одной ногой стоит в старом, а другой приветствует новое, мы уже читали. Чтобы не зависать беспомощно в «с одной стороны, с другой стороны», как завис не Данте вовсе, а его исследователь, скажем вот что. Разумеется, видения, как в «Божественной комедии», были и раньше, а «Новая жизнь» это поэтическая биография, какие существовали у трубадуров. Как пушкинский «Евгений Онегин» рассыпается под сопоставляющим взглядом исследователя на сотни скрытых цитат, превращаясь в энциклопедию мировой литературы, так при чтении Данте в его небывалом создании можно выследить чьи-то прежние находки. Но загадкой остается одно, несомненное: Данте знает про себя, многие это знали при его жизни и мы все уже несомненно знаем, что он главный голос своей эпохи. Строки Данте достаточно, чтобы фигура высветилась, выступила на сцену, стала темой разыскания. «Время Данте», говорим мы.
За поколение до того главным голосом эпохи философская поэзия не была, звучания не имела, время говорило языком Фомы Аквинского и Бонавентуры, богословской суммы и «Путеводителя души к Богу». В Данте, благодаря Данте или с его помощью произошла перемена. Для думающих умов средоточие усилия перешло от схоластически-мистической теологии и логики к философской поэзии и искусству слова. Этот поворот с размахом вынес вдруг словно уже готовую философскую поэзию, как и бывает в исторических началах, на высоту, на которой она не стояла и на которую с тех пор она уже не поднималась. Как если бы энергия высокой схоластики перелилась в новую форму. «Средневековый человек падает подобно сгоревшей в пепел ракете. Но этот летящий вниз мертвый пепел взрывает новая ракета, недавно пущенная и стремящаяся ввысь, свежая сила, чистое пламя – мощное» (Ортега-и-Гассет, «Человек в XV веке»). В этом повороте Данте не дуалистичен, не расколот между прошлым и настоящим.
Высказывавшиеся за 650 лет комментирования и изучения догадки о зависимости Данте от тех или иных средневековых, арабских, восточных, даже индийских источников всегда со временем уступали место мнениям о самостоятельности его поэтико-философского мировосприятия, которое с эпической наивностью впитывает верования, представления, мыслительные системы, суеверия средневековья, но перемагничивает всё это знание вокруг новых полюсов. В осуществленный Данте синтез входят и греко-античный образ гармоничной полноты человека, и римско-античный гражданский активизм, и мистическая углубленность христианства, причем эти черты европейской традиции заново воссоздаются, или, по выражению Данте, «прививаются» (Пир IV 22, 12) на народной почве романской поэзии. В художественной весомости и историческом звучании дантовского слова заложено характерное для последующей истории необратимое, внедряющееся отношение к природе и миру. Это делает Данте не только родоначальником итальянской литературы, философии, науки, вдохновителем ренессансной мысли XIV–XV веков, но и всемирно значимой фигурой перехода к Новому времени. Петрарка и Боккаччо развивали заявленную у Данте тему судьбоносности поэтической правды. Во второй половине XV века Данте стал признанным патроном Флорентийской платонической академии. Прослеживается влияние поэтической философии Данте на художественную философию Боттичелли, Рафаэля, Микеланджело, Леонардо да Винчи. Романтизм поставил под эгидой Данте проблему родства философии и поэзии (Шеллинг). Гегель ценил у Данте веру в познаваемость истины (Энциклопедия философских наук, § 440). На Данте опиралась политическая философия Рисорджименто (Маццини). К этико-политическим идеям Данте обращаются современная иреника и теория всемирного государства.
Он решительнее всех проделал эту перемену. Возникла новая духовная среда, которая постепенно сделалась всеобщей жизненной атмосферой, замечал Якоб Буркхардт, автор основополагающей работы об итальянском ренессансе. Даже без «Божественной комедии», только стихами и прозой «Новой жизни» Данте обозначил бы границу эпох. «Ум и душа делают внезапно громадный шаг к познанию своей сокровеннейшей жизни».
Душа, сокровенность. Данте это новый голос, неслыханный тон. Человек возвращался к полноте своего существа.
Ганс Зедльмайр: искусство видеть
Метод «структурного анализа отдельных произведений как конкретных индивидуальных образований» закрепился с посмертной публикацией работы Макса Дворжака «История искусств как история духа», Мюнхен, 1924. Его соотечественник, ученик и продолжатель Ганс Зедльмайр родился 18.1.1896 в Хорнштайне, Бургенланд, восточная Австрия. Сын венского вузовского преподавателя, он служил офицером в I Мировой войне, затем, будучи студентом Высшей технической школы, под руководством Макса Дворжака перешел к истории искусства, получил ученую степень у Юлиуса фон Шлоссера, которого и сменил в 1936 на кафедре искусствоведения в Вене. С 1951 он профессор искусствоведения в Мюнхене, с 1964 в Зальцбурге. Зедльмайр писал о всех эпохах искусства, корректируя ценностную индифферентность иконологической школы Эрвина Панофски структурным анализом с философских позиций.
История Европы связана с ее искусством в определяющих работах Зедльмайра «Утрата середины», 1948, и «Возникновение Собора», 1950. На почве тысячелетней традиции события последних двух веков осмыслены как небывалый сдвиг в его книгах «Революция современного искусства», 1955; «Смерть света: Упущенные перспективы к современному искусству», 1964; «Разрушенная красота», 1965. Свой искусствоведческий подход Зедльмайр подытоживает в книгах «Художественное произведение и история искусства», 1956; «Искусство и истина: К теории и методу истории искусства», 1959. Определяющие современные реалии задевают историка искусств в брошюре «Опасность и надежда технического века», 1970. Сборник его статей носит программное название «Эпохи и произведения»[12].
В подходе Зедльмайра метод как таковой, вообще техника исследования, достигнув предела, отодвинуты на второй план в пользу гораздо более важных вещей, отправной точки и цели, т. е. принципов. Произведение должно быть сначала разбужено или заново создано; без этой своей репродукции (Re-Production, Nachschaffen, Wiedererschaffen) участием зрителя-исследователя оно говорит не больше чем непроигранные ноты[13]. Недостаточно простого объяснения. Только в воссоздании впервые создается первая исходная и необходимая предпосылка для развертывания подлинной истории искусства. В произведении дан пока еще только его текст, надо работать с ним. Прочтение с самого начала ориентируется на целость образа, на «гештальт». Образное целое Зедльмайр называет структурой произведения. Структурный анализ идет таким образом не путем разложения текста. От самого начала, с первого проблеска понимания вплоть до последнего развертывания концепции вглядыванием руководит ориентация на синтез.
Единичность, индивидуальность произведения искусства разбуживает со своей стороны индивидуальность, исходно присущую всякому восприятию. Индивидуальность восприятия не только не подавляется, но наоборот культивируется. Этим создается дополнительная гарантия того, что удастся полностью избежать генерализации и классификации. Методологически допустимо лишь сравнение произведения с явно подобными ему.
Целость Произведения держится его серединой, или сердцевиной, die Mitte; Генрих Вёльфлин называл её формообразующим зерном, gestaltender Kern. Это «живое качественное начало, исходное и индивидуальное», или наглядный характер, anschaulicher Charakter. Его можно было бы назвать лицом произведения. Оно не форма, не сплетение форм, а нечто оживотворенное из неопределимого средоточия. Где оно кроется? В нюансах, в мельчайшем. Всё зависит от неуловимого изменения. Индивидуальное не поддается сколько-нибудь точной фиксации.
Поэтому задача найти живую середину, «исходное порождающее основание» произведения, требует творческого акта. В созерцание вкладывается созидание, сродное творческой энергии. Исследовательская техника, как например расшифровка символики в иконологии, или оживлена проникновением в искомое средоточие и тогда необходима, или в противном случае просто не нужна.
Способность произведения собраться вокруг простого средоточия может быть большей и меньшей. Тем самым вводится тема ценности. Ценность здесь однако не этический и не эстетический, а онтологический и экзистенциальный критерий. Высшее, что может быть сказано о произведении искусства, есть его необходимость.
Наличие этой ценности делает второстепенной как психологию творчества, так и психологию восприятия; необходимое утверждает себя наперекор всякой личной и ситуативной оценке, невзирая на негативную или позитивную расположенность не только зрителя, но и самого художника к произведению.
Критерий, лишь иначе говорящий по существу о том же онтологическом статусе произведения, – его плотность, Dichte, впервые собственно и делающая из него своего рода поэму, Gedicht. При первом приближении эта плотность дает о себе знать как многозначность. Внимательный разбор обнаруживает, что эта многозначность в каждой своей точке неисчерпаема.
Перебор вскрываемых в том или ином шедевре значений поэтому пока еще не проникает в существо его необходимости, или плотности. Сосредоточенность плотности как таковой кладет поэтому запрет на плюрализм интерпретации. Как необходимость, или плотность, если она достигнута, уникальна, так существует только одна правильная интерпретация произведения. В самом деле, иначе история искусства была бы в принципе невозможна. «На том факте, что имеется одна и только одна верная интерпретация, покоится на практике весь прогресс интерпретирования в новоевропейской истории искусств»[14].
Наш механистический век ослабил орган, воспринимающий настоящую живую целость. Нависла и постоянно осуществляется та опасность, что части, периферия схватываются раньше всего и начинают казаться важнее целого. Способность схватывать наглядный характер образа у большинства людей притуплена. На этой патологии паразитирует абстрактный дискурс, развертывающий предметное наблюдение, в котором произвольно выхватываются нравящиеся частности.
Суровая реальность в том, что исходное, физиогномическое видение, требующее всегда всего человека, легко вытесняется частичным, понятийно-предметно-техническим. Отсюда необходимость школы. Первое достижение подлинной школы – остановка предметно-концептуального перебора отдельных выхваченных частностей. «Уметь молчать. Мысль и воля должны быть приведены полностью к покою». Должны молчать и чувства. «Как раз именно дилетанты вводят перед художественным произведением в действие слишком много приватных “эмоций”». Отложив в сторону мнения, надо научиться стоять перед искусством по Шопенгауэру, как перед начальством, держа шляпу в руке и дожидаясь, пока к вам обратятся.
По ходу разбора «эмоции» так или иначе должны будут сникнуть. На этой, убивающей ступени анализа может рассыпаться также и любое представление, которое исследователь мог себе составить вначале. Не изменится на всех стадиях рассмотрения только одно: необходимость не головой только и не одними только глазами, а всей личностью, всем телом уходить в восприятие. Зедльмайр подчеркивает, что требует не так называемого вчувствования, Einfühlung, но экзистенциальной принадлежности всего человеческого существа пространству, открытому в произведении. Такая принадлежность никогда не бывает в ущерб и в убыток, она всегда расширяет мир. Лишь потом, после вхождения в мир произведения, начнутся попытки пробиться к слову, но не через построение концепций и средствами усвоенной терминологии, а в той мере, в какой произведение начинает говорить нам и вызывает на ответ.
Произведение искусства начинается тоже с физиогномического явления лица, «наглядного характера». Вовсе не эмоции руководят художником. Произведение не спрятано в художнике заранее, поэтому термин «выражение» нежелателен. Он предполагает всегда вынесение наружу чего-то внутреннего, тогда как происходит скорее обратное, и художник как личность вместе со всей своей жизнью ощущений формируется вокруг события произведения, в котором художник участвует как мастер.
Творческий акт начинается с «вдохновения», которое можно понимать буквально как дуновение, веяние, идущее от создания, еще далекого, но имеющего быть. Творческий акт можно назвать также импровизацией, из-за непредвиденности его самого и всего впервые совершающегося в нем. Однажды мелькнув, «наглядный характер» сопровождает потом весь процесс работы, действуя одновременно как магнит и как сито для отсеивания всего случайного, что поднято вихрем вдохновения. Художник овладевает своей идеей только в конце упрямого сопротивления прежде всего самому себе.
Наконец произведение готово. Оно достигло статичности. Художник должен быть удовлетворен. Но из удовлетворения тут же, в самой констатации успеха возникает новая потребность. Это парадокс, обеспечивающий продолжение истории искусства.
Современное искусство своей необычностью заставило посетителей картинных галерей и музеев быть менее уверенными. От прежней, конечно кажущейся, самопонятности реалистического искусства и наивности его восприятия не осталось и следа. Растерянность перед произведением искусства, конечно, недостаток эпохи, но здесь можно видеть и здравое нежелание впредь оставаться при субъективном восприятии и мнении. Появляется ощущение, что соглашаться с различием взглядов нельзя и верное понимание в конечном счете единственно. Произведение заставляет уважать себя. Оно само должно раскрыть себя, и мои маленькие частные мнения здесь мало чем помогут. Это большая позитивная черта. Ведь изучать искусство надо для нашей жизни. Забитый, забытый орган оживает, человек возвращается к полноте своего существа, собственно впервые создается. Современная тенденция к рассмотрению искусства с оглядкой на объективные критерии, не из вкуса, не в группке, единит людей. Благодаря подрыву субъективного самомнения искусством XX века расширилась способность видеть, и к жизни возвращены многие создания прошлых эпох.
Всё вышесказанное можно было бы найти даже в более полном развертывании, иногда более сжато, у Генриха Вёльфлина. Отличие от его теории у Зедльмайра однако отчетливо прослеживается и далеко не сводится только к терминологическим вариантам. Да, искусство заключается в отыскании образа (Gеstаltfinпduпng) для того, что прежде не имело гештальта. Но выводы Вёльфлина ошибочны. Он учит разглядеть в отдельном «более общее». Этот путь уводит однако от неповторимости выдающегося создания. Генерализациями пусть займутся падкие до них историки. «Формообразующее зерно» в каждом отдельном случае уникально. Правда, Вёльфлин думает, что оно имеет формальную природу, и в этом еще одна его ошибка. Форма всегда вторична и служебна. Его третья ошибка – в редукции всего художественного явления к зрению и видению. Это слишком абстрактно. Растение под названием «творение искусства» нельзя вытаскивать из его почвы без корней, которые уходят глубже, чем любая из человеческих способностей, взятая отдельно.
Не всякое воссоздание произведения поэтому окажется жизненным. Например, желание по нотам восстановить старинную музыку на старинных инструментах ведет, как правило, к безжизненной историзации. «Чтобы сегодня вновь пережить смысл, к которому художник стремился “некогда”, и достичь задуманного воздействия, оказывается необходимо предпринять известные изменения». Нужно не заклинание духов, а «каждый раз заново въяве – представление чего-то сверхвременного». Перед историком искусства стоит таким образом та же предельная задача, которую всякий раз по-своему решает как может и сам художник.
Как и у художника, работа искусствоведа начинается с (I) первого мгновенного впечатления. Эта ранняя, «физиогномическая» встреча, узнавание лица, всегда связана с настроением, с атмосферой момента, и требуется навык доверия к себе, чтобы ее не упустить. Первое мгновенное впечатление должно сопровождать начинающуюся затем (II) работу «формального» понимания и «сформированного» видения, gestaltetes Sehen. Сюда входит прослеживание пространственного и цветового порядка произведения. (III) «Ноэтическое», «умное» понимание на следующей ступени выявляет предметный смысл произведения, разгадывает его аллегорический смысл, вплоть до эсхатологического значения. Так в «Падении слепых» у Питера Брейгеля Старшего дело идет не просто о явлении глупости, неразумия, предрассудка, но о всеобщей неустранимой слепоте человека, судьбы, мира. На предпоследней ступени разбора открывается (IV) тропологическое значение вещи, ее способность изменить внутреннее состояние души зрителя, как в свое время с созданием произведения необратимо переменился мир самого художника.
И после всего сделанного искусствовед возвращается снова к своему первому, мгновенному, физиогномическому впечатлению. Это – решающая ступень (V) сращивания чувственной и духовной стороны произведения, увидение его простого единства. На втором плане картины Брейгеля царит покой, пастух и стада спят, погруженные в безмятежную слепоту. Тревога движет людьми, которые уже достаточно проснулись, чтобы догадаться о своей слепоте, но еще не знают всего ее размаха и еще надеются на помощь вождя, который вдвойне и губительно слеп, потому что в отличие от тех, кого ведет, не хочет признать своей слепоты. Брейгелевское «Падение слепых» – картина высшего класса, сравнимая с «Эдипом в Колоне» Софокла и «Страшным судом» Микеланджело. Здесь достигнута искуснейшая «плотность», Dichtung, при которой все детали изображения размещены с безошибочной точностью, при том что, как в произведениях природы, ни в чем нет навязчивой намеренности. «То, что присутствовало в первом впечатлении от картины, не опровергнуто, не снято, но лишь обогащено и впервые собственно артикулировано анализом»[15].
Структурный анализ здесь таким образом означает анализ произведения как связного целого. Своим непосредственным учителем Зедльмайр считает Макса Дворжака, стремясь однако придать большую определенность его «спиритуалистическому» методу, сложившемуся в свою очередь как реакция на «физиологический» метод учителя Дворжака, Алоиза Ригля, и на «сенсуалистический» метод Вёльфлина, для которого история искусства оставалась историей «зрительных форм».
Синтезирующий подход Зедльмайра дал о себе знать в выборе им для исследования темы собора. О смысле собора писал уже и его учитель Макс Дворжак. Собор XII–XIII веков, вершина европейского искусства, «сумма» средневекового видения мира, забыт в своем замысле и размахе и подлежит пробуждению в духе. Первоначально весь сияющий и раскрашенный, подобно греческому храму, собор был цельным произведением искусства, Gesamtkunstwerk, и собранием всех познаний и искусств, от богословия до философии мира и природы, от архитектуры, скульптуры и живописи до музыки (хоровое пение), театра (церковные пьесы) и карнавала (игры дураков). Надо добавить, что при соборе обычно действовали школа с ее библиотекой и иногда переписчики, т. е. издательство.
Собор средствами всех искусств изображает небо, небесный Иерусалим. Порыв от земли вверх дает о себе знать в силуэте собора, но то же неуважение к силе тяжести проявляется в круглом окне, в скошенном, иногда вплоть до горизонтального, расположении фигур, как сточный желоб в виде человека на соборе св. Урбана в Труа, Шампань (начат постройкой в 1262). Подобные эксцессы делают понятным отвращение Ренессанса к «безумию» готических форм.
В свою очередь готика в своем веселье и молодости была протестом против тяжеловесной приземленности в антропоморфизме романской архитектуры. Порыв готического собора к чистому и преображенному человеческому образу отвечал мощному движению в религии и искусстве XII века – приблизить Бога, показать его въяве, ни в чем не умаляя его запредельности. Зедльмайр говорит в этой связи о «Кельтском Ренессансе», истоки которого надо искать в древнейшем слое европейского народонаселения и у германцев.
Со времен архитектора и теоретика Готфрида Земпера говорят о соборе как «окаменевшей схоластике». На практике почти никаких конкретных точек соприкосновения между методами Школы и архитектурой собора до сих пор не обнаруживается. Об «окаменении» можно говорить лишь применительно к поздней и подражательной готике, с попыткой ее романтического оживления в неоготике XIX века. В Испании архитектура подлинной готики продержалась всего дольше.
Средневековый готический собор имел основным последствием для искусства приближение к чувственной конкретности после символизма и аллегоризма «темных» веков. Была предпринята решительная попытка средствами искусства приблизить к настоящему времени и пространству церковное таинство. Результат получился противоположным. Изобилие блеска, красоты лишило таинство сокровенной интимности. Искусство, развернувшись до автономности, стало в меньшей мере приникать к своим духовным истокам и могло быть отныне оттеснено в частные сферы.
Не решенной до сих пор антиномией остается принадлежность к одной и той же эпохе расцвета готического собора, с одной стороны, и явления св. Франциска Ассизского, с другой[16]. В самом деле, рядом с обстоятельно подготовленным, грандиозным, тяжеловесным созданием искусства – босая нищая человеческая непосредственность. В чем из двух больше христианства?
В брошюре «Разрушенная красота» Зедльмайр выступил за сохранение старого города Зальцбурга с его готической и барочной архитектурой. «Неслыханное возвышение неорганического духа, заносчивость технического Прометея» грозит стиранием тысячелетней традиции. Европе во всяком случае предстоит переступить «новый абсолютный культурный порог»[17]. Первая фаза технической цивилизации ознаменовалась обращением к неживой стороне мира. Произошло окаменение самого человека, от которого ускользают важнейшие стороны его же собственного существа. Но второй ступенью современной цивилизации становится вынужденное внимание к природе земли, воды, леса. За начальной грубой фазой следует другая, более человечная. Это значит, что настоящая опасность, как всегда, исходит всё-таки не от техники самой по себе, а от древних человеческих пороков.
Человек идет в рабство к одной из своих же частных способностей, подчиняясь технике словно второй природе. Техника давно стала религией, или ересью, автономного человечества. Она обещает человеку освобождение от своей тревожной глубины ради могущества, иллюзию которого создает техника. Техника служит новому верующему в нее, помогая отделаться от Бога, природы, подлинной истории отцов. Так применяемая техника далеко не нейтральна.
В XVII веке началось разделение техники и искусства. Теперь техника не только эмансипировалась от духовности, но и, наоборот, подчиняет себе искусство (модернизм). Вторжение человека, вселенского средоточия, в безжизненную природу равносильно космическому сдвигу. Искусство немыслимо без участия всего человека в его целости. От человеческого существа искусства нельзя отказаться. Техника вызывает художника на агон.
Под неорганическим духом Зедльмайр имеет в виду даже не неживую природу, а хуже, железо, бетон, искусственные поделки. Природу как раз уничтожают. От себя она требовала бы как раз живого, органического отношения. Решительный отход от нее обозначился в середине XIX века. Природа тогда перестала что бы то ни было говорить человеку. Европа вошла во тьму, в духовный туннель. Выход из него способна указать только красота высокого искусства.
«Искусство есть… формообразование (Gestaltung) некоего характерного целого, определенного наглядного характера», увидение и воссоздание лица. Откуда у человека эта способность? От безотчетной силы; от божества. Возвращаясь к нему, человек становится «элементарным», стихийным. В этом смысле искусство во все века и мировые эпохи одно[18]. «Еще и сегодня оно возникает из того же цельного, физиогномически-интуитивного первопереживания, что и во все времена». Его первая материя – по-прежнему «переживание еще не отделившегося, но богато насыщенного наглядного характера, образующего единящее начало художественного произведения». Во все века происхождение искусства празднично-экстатично. Оно всегда поднимается над рутиной обыденности к вдохновенному очищению. «Эти два момента, экстаз и катарсис, безусловно принадлежат подобно выдоху и вдоху ко всякому художественному выражению. Искусство есть движение, ведущее к празднику и торжеству»[19].
В последней современности свободное дыхание искусства стеснено сциентизмом и техницизмом, с одной стороны, и не менее удушающим эстетизмом, с другой. Искусства, утратив экзистенциальную собранность, обособляются, лишаются архитектонической связности, становятся лабильными. Автономному художнику остается выбирать между вариантами техницизма и эстетизма. У него нет опоры в божественном средоточии. Идет борьба не на жизнь, а на смерть. Или на земле – окончательно утвердится машинный человек или может быть «человек ввергнут через оргию сциентизма, эстетизма и иррационализма в хаос лишь для того, чтобы суметь возродиться в новой жизни и силе духа – а с ним и искусство, его спутник с тех пор как он стал человеком».
Но пока шумный парад новомодных богов, вплоть до низшего, машины, захватывая массы, заглушает голос сопротивляющегося искусства. «Воли к очищению» хватает лишь на достижение условной автономии, освободившееся от телесной органики искусство оказывается во власти неорганических форм, элементарной геометрии вне содержания и смысла. Додекафоническая музыка, аналог «абсолютной» живописи, очищается по сути от человека; Пикассо, образцовая фигура художественного модернизма, доводит эстетизм до предела. Машина, ее возможности и ее потребности, начинает определять архитектурную форму; поэт видит себя инженером интеллектуальной стройки. Сюрреализм культивирует рассчитанное, рациональное безумие. Устремившись к автономии, искусство «вышло из себя».
При всей широте познаний и интересов основной схемой Зедльмайра остается космическая схватка божественно-человеческих сил порядка, блага, красоты против соблазнительных, распыляющих, нечеловеческих веяний. Этой схемой в конечном счете продиктованы его систематика, классификация и периодизация.
«Превыше пространства и времени существует духовная общность истинных художников – отдаленно сравнимая с общиной святых… История искусства как духовная история становится таким образом, преодолевая эстетический релятивизм, историей вершин искусства и тем самым историей духовных вершин человечества в его становлении… На этом высшем мыслимом уровне история искусства сливается с пневматологией и демонологией»[20]. Предельными ориентирами работы историка искусства оказываются земля и небо, рай и ад. Так в десятилетия романтики отчетливо обозначилось и заявило о себе иронически-дьявольское в искусстве.
Макс Дворжак в своей «Истории искусства как истории духа» уже поднимался к пониманию художества как «эпифании абсолютного духа». Его достижением, вполне перешедшим к ученику, оставалось при этом мастерство трезвого разбора каждого конкретного произведения в опоре на три главных убеждения:
1. Отдельное произведение искусства есть покоящийся в себе малый мир.
2. Цельность и богатство такого мира всегда разные. Не нужно бояться оценивать его по «рангу».
3. Свободное творчество способно к скачкам, к созданию неожиданно нового.
Его надо искать не во внешних элементах, не в форме, а в той «середине», живом богочеловеческом средоточии, которым началась наша встреча с австрийским историком искусства.
Утрата середины
Ганс Зедльмайр, австрийский искусствовед и философ культуры, автор работ по истории архитектуры и живописи и по теории искусствоведения, в своей методике исследования художественного образа наследует широту подхода и техничность так называемого формализма в искусствоведении, начатого К. Фидлером (1841-1895) и сложившегося к началу XX в. во «всеобщую науку об искусстве» благодаря трудам Г. Вёльфлина, М. Дессуара, Г. Воррингера, Э. Утица, а в Австрии – основателя Венской школы искусствоведения А. Ригля. Имманентизм всеобщей науки об искусстве, полемически заострявшей в борьбе против социологизма О. Конта, И. Тэна и их последователей необходимость конкретного изучения художественных структур, не помешал такому продолжателю Венской школы, как М. Дворжак, прочитывать в истории искусства историю духа. Зедльмайр тоже применяет изобразительное искусство как инструмент для глубинной интерпретации духовных процессов и соглашается с тезисом юнгианского психоанализа, что искусство помогает не меньше заглянуть в жизнь исторических сообществ, чем сновидение – в жизнь индивидуального сознания. Зедльмайр отыскивает в истории искусства так называемые критические, т. е. радикально новые формы, в которых можно распознать симптомы невидимых духовных сдвигов. Эти сдвиги за последнее двухсотлетие имеют по Зедльмайру устойчиво кризисный характер. Искусство, предупреждает исследователь, не ответственно или во всяком случае не всё ответственно за кризис. Хотя оно тоже захвачено им, оно позволяет понять ситуацию и поставить ей диагноз. У искусства, прокладывающего себе путь сквозь хаос новейшей истории, есть свое достоинство. В первой части своей книги «Утрата середины» Зедльмайр говорит о симптомах современной духовной ситуации, ограничиваясь анализом архитектуры, живописи и скульптуры; во второй пытается поставить историко-культурный диагноз кризисным явлениям; в третьей предлагает свои прогнозы, сводящиеся к возможности теперь двух диаметрально противоположных исходов для культуры современного Запада.
Скрытая революция
«В десятилетия, непосредственно предшествовавшие 1789 году, – гласит основной тезис Зедльмайра, – в Европе произошла скрытая революция невообразимых масштабов; события, называемые Французской революцией, сами по себе явились лишь поверхностным частным явлением этой невероятной внутренней катастрофы»[21]. Разбирая ее симптомы, Зедльмайр ограничивается областью своих профессиональных исследований, архитектурой и живописью, хотя замечает, что литература и музыка еще яснее продемонстрировали бы его тезисы. На протяжении почти полутора тысячелетий в архитектуре Западной Европы доминировал храм как обитель Бога, а с эпохи Ренессанса – замок и дворец как жилище божественного человека. Церкви и дворцы возводятся и в XIX в., но они утрачивают оригинальность и стилистическую определенность: преобладает неоготика, превратившаяся в пустую форму. Отсутствие вокруг этой формы смыслового ореола, какой был присущ подлинной готике, подчеркивается как примесью черт противоположного, романского стиля, так и резким упадком храмовой живописи: в XIX в. она делается теологически примитивной, художественно неоригинальной, сюжетно оторванной от контекста. (Оскудение церковной живописи шло в XIX в. параллельно с быстрым падением интереса к классической мифологии.) Признак упадка церковной архитектуры Зедльмайр видит и в ее неспособности ассимилировать новую строительную технологию и новые материалы подобно тому как в начале Средневековья, а потом в XII в. строителям храмов удалось освоить методы и технические возможности своего времени, создав соответственно романский и готический типы христианского храма. Размывание стилистического единства и духовной целеустремленности затронуло и архитектуру замка-дворца, которая к 1830-м годам в том, что касается загородного дворца, приобретает черты музейности и театральности, тогда как тип городского дворца постепенно вырождается в многоквартирный дом. Подлинная новизна и уверенность архитектурного почерка становятся присущи постройкам и архитектоническим комплексам других типов и назначений, которые в свою очередь сменяют друг друга через одно-два поколения и которых Зедльмайр на полтора века насчитывает в Европе шесть или семь. Эти типы отвечали новым ведущим духовным заданиям, необычным ни для предшествовавших периодов европейской культуры ни для какой бы то ни было другой культуры. Перечислим их вслед за Зедльмайром.
С 1720-х годов, возникнув в Англии, по всей Европе распространяется искусство устройства природных парков, сознательно противопоставивших себя саду французского типа, который был частью архитектурного ансамбля. Английский парк подчинял «естественному» пейзажу архитектуру и скульптуру, а также живопись в той мере, в какой художник-садовник был обязательно и живописцем, а живопись подобно поэзии вдохновлялась искусством парка. Паркомания в Англии и у многих государей Германии, но также и во всей остальной Европе мобилизовала такие средства, отняла у земледелия столько угодий и за 70 лет своего цветения (1760–1830) развивалась в таком единстве идеи и с такой последовательностью, что создание природных парков следует считать ведущей архитектурной задачей периода. Духовной основой явления было новомодное религиозное преклонение перед природой, представление, что в своей чистой первозданности природа есть божественный райский сад. Английские парки, место культа нового божества-природы, инспирировали исторически новый образ человека как уединенного мечтателя, погруженного в смутный океан нежных чувств. К 1830-м годам культура природных садов угасает, парк приобретает черты музея, ботанического заповедника. Всепоглощающие интересы эпохи переключаются на другие формы. Однако отношение человека к природной среде с тех пор навсегда остается одновременно сентиментальным и активным: культ девственной природы сохраняется, но в порядок вещей входит целенаправленная организация природной среды.
Уже к 1770-м годам, когда английский парк обретал свои классические формы, целое поколение французских и немецких архитекторов откликнулось на новое духовное задание эпохи проектами монументальных сооружений и памятников, сначала сочетавших в себе позднебарочные и античные элементы, а позднее явно тяготевших к простым массивным формам куба, шара, пирамиды, колонны. Революция и войны помешали осуществлению большинства этих проектов, поэтому в отличие от архитектуры английского сада архитектура шаров, кубов и пирамид известна большей частью только историкам искусства. Клод-Никола Леду (1736–1806) проектирует городской колумбарий в форме наполовину утопленного в землю шара колоссального диаметра (80 м) с катакомбными ходами внутри и потолочным освещением – символ вечности и выхода из царства мертвых к небесному свету. Леду принадлежат проекты дома-шара, дома-пирамиды, дома-игрального куба, дома-кольца. Архитектор Лекё, ученик Леду, задумывает создать Плутоновы врата – встроенный в скалу храм «неизвестному богу», первое здание подобного назначения после древнеримских скальных храмов. Булле, второй рядом с Леду вождь революционной архитектуры, планирует в 1790-х годах массивные как бы врытые в землю постройки простейшей конической, кольцевой и кубической формы – кладбищенскую капеллу, цирк на триста тысяч мест и колоссальные городские ворота. Немецкий архитектор Гилли хочет создавать подземные постройки в архаических формах. В числе осуществленных монументальных сооружений этого периода – триумфальные арки на парижских площадях Карусель (1806) и Этуаль (1806–1836). Вторая, без колонн и только с одним проемом, представляет собой по существу массивный параллелепипед высотой 50 м, шириной 45 м и глубиной 22,5 м. Аналогичные монументы были воздвигнуты в 1816 г. в Берлине и в 1824 г. в Вене. Проектом остался памятник прусскому королю Фридриху II в виде колоссальной гладкой пирамиды. (Крайним всплеском этой мегаломании Зедльмайр называет «звездный памятник» тому же королю, т. е. наименование десятков новооткрытых звезд в честь Фридриха, как бы вынесение его надгробия в космос.) Зедльмайр видит в архитектуре гигантских геометрических форм, льнущих к земле и вместе как бы перекликающихся с внеземным пространством, аналог революционных религий Разума, Человечества, Грядущих поколений. Для этих религий был характерен рецидив хтонической тяги к первозданности вместе с безудержным абстрактным утопизмом. Храмы, гробницы, монументы революционной архитектуры не предусматривают места для индивидуальной личности и не соразмерны ей: в Плутоновы врата можно только заглянуть, внутри них нет пространства для молящейся общины; шарообразный кенотаф Ньютону не гробница, а монумент духу, проникающему в тайны Вселенной; триумфальные арки не столько служат человеку, сколько организуют его. Они играли свою роль в так называемой «архитектуре масс»: на больших государственных празднествах в революционном Париже армия и народ выстраивались в гигантские каре и, по наблюдению Зедльмайра, впервые в западноевропейской истории омассовление человека приобрело здесь зримый облик. Архитектура монумента как бы не хотела видеть маленького живого человека. Не случайно после своего угасания в начале XIX в. она возродилась потом лишь в массовых памятниках жертвам Первой мировой войны, и характерно, что оставшиеся от наполеоновской эпохи триумфальные арки в Париже, Берлине, Вене стали в 20-х годах памятниками Неизвестному солдату.
К 1820-м годам на смену частным художественным собраниям приходят публичные, и музей как прогрессивнейшее учреждение эпохи становится ведущей архитектурной темой, священной задачей зодчества. Сейчас трудно представить, пишет Зедльмайр, какой святыней было в то время искусство. Гёте назвал художника богоравным, помазанником Бога; романтики говорили о «жреце искусства» как высшем среди смертных. Музей был тем «эстетическим храмом», о котором мечтал Гёльдерлин. Музейная архитектура стремилась возвысить посетителя над обыденностью и внушить ему чувство благоговения перед окружавшими его святынями. Возрождая атмосферу языческого храма, музей стремился заменить собой церковь, только с той разницей что культ единого божества сменился в музее культом всякого божества. Это был пантеон, где Геракл и Христос братались между собой, окруженные одинаковым ореолом почтенной старины. В те годы возникли наиболее впечатляющие музейные постройки Европы: Мюнхенская глиптотека (1816–1834, архитектор Лео фон Кленце), музей-монумент Вальгалла в Мюнхене (по проектам Гилли), Старый музей в Берлине (1823, архитектор Шинкель), Британский музей в Лондоне (начат в 1824 г.). Музейный стиль распространился и на постройки другого рода. У Людовика I, короля Баварии с 1825 по 1848 и заказчика Мюнхенской глиптотеки, некоторые залы дворца были устроены по типу музея. Вильгельм фон Гумбольдт после своего удаления от государственной службы построил в Тегеле под Берлином резиденцию-музей (1824, архитектор Шинкель), куда перенес все свои антики и гипсы, приобретенные им в Риме, чтобы медитировать в окружении любимых образов (см. Письмо Гумбольдта к Гентцу от 21 мая 1827). В 1815 Гёте выражает желание жить в зале полном изваяний, чтобы пробуждаться от сна среди божественных ликов. Даже городская и церковная архитектура приближается в тот период к музейному типу, и не случайно Гумбольдт с женой специально приехали из своей тегельской резиденции в Мюнхен, который начинал при Людовике I превращаться в своего рода архитектурный музей. Позднее музейное строительство уже никогда не достигало идеальной высоты 1820-х годов, но дух музея прочно укоренился и даже упрочился в европейском сознании. В настоящее время для больших масс людей церковь стала чем-то вроде музея. Многие дворцы в Европе открылись для посещения, и есть аристократы, которые живут на доходы, получаемые со своих превращенных в музеи жилищ. Музейное «табу» распространилось на некоторые старые города, кварталы, здания, природные заповедники, даже на некоторых людей. Музей, непосредственный преемник предшествовавшей ему эпохи монументального памятника, выполняет в европейской культуре, по мысли цитируемого Зедльмайром Эрнста Юнгера, роль религии мертвых и культа гробниц.
Последующее десятилетие 1830-х годов отказывается в своей архитектуре и живописи от монументальности и историчности в пользу простоты, удобства и теплого буржуазного уюта. Немецкий архитектор Шинкель, пройдя в качестве ученика Гилли через период монументальных памятников, а потом через период музейных построек, теперь, проявляя замечательную гибкость, если не беспринципность, провозглашает в качестве новой задачи разрыв с оковами старых традиций и «классицистической лжи» и проектирует здания практического назначения (торговые ряды, Строительная академия), которые по архитектурной правдивости и простоте предвосхищают конструктивизм начала XX в. Другой архитектор этого периода, Г. Хюбш, в тех же целях отказывается от обработки поверхности строительного камня и требует чтобы стены, остающиеся по архитектурному замыслу глухими, были гладкие, без ложных окон, балконов и карнизов. Расцветает архитектура жилого дома с подчеркнуто маленькими, для уюта, комнатами и с мягкой мебелью (для сравнения: у Гумбольдта в его тегельском доме-музее скамьи были мраморные). Характерными живописцами периода становятся Камилл Коро с его чарующими пейзажами, полными мягкой светотени, и Фердинанд Вальдмюллер, провозгласивший в 1832, что каноны античного и средневекового искусства неуместны в современную эпоху, требующую прямой передачи действительности. Именно в это десятилетие был изобретен дагерротип (1839), символ стремления эпохи к деловитой непосредственности в воспроизведении действительности. К тому же периоду Зедльмайр относит конец серьезного отношения к мифологии, как античной, так и христианской. Мифологические образы теряют величественность, миниатюризируются, карикатурируются, становятся детской забавой; эпос превращается в сказку, героические сказания в истории для детского чтения; главным праздником горожан становится домашний и детский праздник Рождества, где Богочеловек выступает в образе божественного младенца. Заменителем мифа в мирочувствии эпохи становится сентиментальное и мягкое юмористическое отношение к происходящему (Диккенс, мастера европейского юмора Жан-Поль Рихтер, Швинд, Шпитцвег, позднее – певец патриархальности Адальберт Штифтер). Несмотря на длинный ряд военных и политических потрясений, идеалы мирного семейственного уюта, наследие 1830-х годов, до сих пор владеют сердцами широких масс Европы и Америки.
С середины XIX в. ведущим заданием западного искусства оказывается театр, особенно оперный, – этот новообретенный пантеон всех искусств. Между 1840-м и 1890-ми годами возникли все главные театральные здания мира. Они строились с роскошью былых дворцов, здание парижской оперы обошлось в 50 миллионов франков. Зедльмайр истолковывает театр этого полустолетия, возродивший красочную драматическую пестроту высокого Ренессанса и Барокко, как дионисийский противовес аполлоновскому храму-музею. В архитектуре Жак-Иньяс Итторф (1792–1867) и его ученик Готфрид Земпер (1803–1879), изменив винкельмановско-гётевской черно-белой, высокопарной мраморной античности, возрождают античность раскрашенных статуй и разноцветных, пышно увитых лепными украшениями, уставленных живописью храмов. Для оживления театральных зданий предусматриваются не только блестящие металлические украшения, занавесы, балдахины, передвижная утварь в барочной гамме красного, золотого и белого цветов, но и соответствующее внешнее окружение и даже стаффаж с изображением людей в пестрых одеждах, священства в пышном облачении, праздничных процессий. Архитектор, теоретик опережает драматурга и композитора. Первое построенное Земпером здание дрезденской оперы (1838), демонстрировавшее чувственный синтез всевозможных художественных средств и дионисийское буйство форм и красок, было эпохальным событием и несомненно помогло Вагнеру в его попытке синтеза искусств.
Для Вагнера театр священен. Цель человека искусство, писал он в трактате «Художественное произведение будущего»[22], и драма есть всеобъемлющее художественное произведение, которое объединяет под своей эгидой, обеспечивая им полноту развития, обе великие троицы художеств: архитектуру-скульптуру-живопись и хореографию-музыку-поэзию. В желании Вагнера собрать искусство воедино и прежде всего вырвать живопись из рук эгоистического единоличного владельца, вернуть ее общине и новому художественному культу, Зедльмайр видит реакцию на ту социальную бездомность, которая стала уделом обособившейся от церкви «чистой» и «самостоятельной» живописи.
К середине XIX в. Вагнером живописи, как это понимали Ницше и Бодлер, был Эжен Делакруа (1798–1863), вернувший этому искусству барочный чувственный жар красок и тематическое богатство. На его полотнах стихии, звери, женское тело, рыцари, сцены охоты, войны, кровавого насилия; всё это делает его живопись аналогом вагнеровских драм. Зедльмайр обращает внимание и на мало осмысленный, но явственный и многозначительный факт театрализации всей европейской жизни описываемого пятидесятилетия. Так, в 1848 парижская палата депутатов приобретает облик театра с просцениумом и разрисованной стеной и парламентские дебаты делаются зрелищем, за которым наблюдают посетители с галерей. Мюнхенский дворец Людовика II, короля Баварии с 1864 по 1886, и ряд замков в его королевстве за счет подновлений и изменения антуража уподобляются трехмерным театральным декорациям. В состоятельных домах всего мира салон для приема гостей часто устраивается архитекторами в духе театральной залы, нередко со скошенным диагональным расположением мебели, характерным для позднебарочного театра (так называемая scena al angolo). Излюбленными публичными зрелищами эпохи становятся косморамы, диорамы, панорамы, где объемные фигуры первого плана выступают на фоне рисованного задника. В исторической живописи второй половины XIX в. Зедльмайр замечает ту же театрализованность, часто заставляющую думать, что мы имеем дело с изображением не исторического события, а его сценического представления. В моду входят процессии в исторических костюмах и балы в масках. Профессиональные актеры пользуются небывалым престижем. Это отметили в свое время Кергегор и Ницше. «Виктор Гюго и Рихард Вагнер, – писал Ницше, – означают оба одно и то же: то, что в упадочных культурах, повсюду, где право решать попадает в руки массам, подлинность становится излишеством, обузой, помехой. По-настоящему большое воодушевление пробуждает уже только актер. Для актера наступает золотой век…»[23]. Эпоха театра по существу иссякает со смертью Вагнера в 1883; «серебряный век» драмы как синтеза искусств (Рихард Штраус, Гуго фон Гофмансталь, режиссер Макс Рейнхардт) в 1920-е годы лишь очень несмело, в отличие от Вагнера, претендовал на возрождение сакральной функции драмы.
Театр, расцвет которого пришелся на время расцвета капитализма, называвшее себя «веком искусств и промышленности», имел в области инженерной архитектуры двойника – выставку. Сооружения этого типа из железа (позднее стали) и стекла появились, строго говоря, одновременно с возникновением новой революционной архитектуры, т. е. в эпоху, непосредственно предшествовавшую Французской революции. Первый железный мост через реку Северн в Англии, построенный в 1773, был ровесником шарообразного дома Леду. Но по-настоящему выставка встала в ряд первоочередных архитектурных задач тогда же, когда и театр. В 1837 французский инженер-архитектор Эктор Оро (1801–1872), которого Зедльмайр считает не меньшим революционером в архитектуре чем Леду, проектирует гигантский паутинообразный выставочный зал из металла и стекла, а в 1848 – рынок диаметром 86 м. В 1838 англичанин Пакстон (1801–1865) строит «стеклянный дом» в Чэтсворте для герцога Девонширского, в 1851 он же воздвигает знаменитый «хрустальный дворец», увековеченный в романах Достоевского, – выставочный зал в Лондоне для первой всемирной промышленно-художественной выставки. Гигантомания этих построек дошла до того, что для Парижской всемирной выставки искусств и промышленности в 1889 инженер Гюстав Эйфель (1832–1923) построил свою знаменитую башню, а инженеры-архитекторы Коттансен и Дюсер – безопорный выставочный «зал для машин» высотой с Амьенский собор, но в десять раз шире (соотв. 43 и 110 м). В 1910 этот зал был разобран, что по выражению Зедльмайра было злостным, варварским разрушением свидетельства о безвозвратно ушедшей эпохе. Выставочная архитектура имела свою многозначительную эстетику. Парящая, беспочвенная легкость этих строений, которые делались нарочито разборными (так, лондонский «хрустальный дворец» был перенесен в Сиднем-Хилл), их ажурная призрачность подчеркивалась массой света, свободно лившегося отовсюду и, казалось, растворявшего в себе все оставшиеся еще прочными части конструкции. Человеку, незнакомому с назначением здания, машинный зал Коттансена мог показаться храмом светопоклонников. Почти космическая громадность безопорных куполов делала человека ничтожно малым и выступала неким символом всевмещающей вселенной, «ярчайшим – наравне с крупным театром – символическим выражением капиталистической эпохи, объявшей в себе целый хаос сил и противосил»[24]. Стеклянно-металлической архитектуре соответствует пленеризм импрессионистической живописи с ее культом трепещущего естественного света и фотографической чистотой изображения; едва ли случайно, что ведущий мастер этого направления Эдуар Мане (1832–1883) был первый художник, кто сделал своей темой выставочную архитектуру третьей Парижской всемирной выставки 1867 года.
«Выставочный» стиль распространяется в свою очередь на постройки иного назначения. В Бельгии оранжерея перестраивается в церковь; в Оксфорде (Новый музей), в Мюнхене (стеклянный дворец) строятся музейные здания из металла и стекла; наконец в Париже без какой бы то ни было практической цели возводится Эйфелева башня как памятник, который человеческая изобретательность поставила самой себе. Формы парящей выставочной архитектуры переходят впоследствии на жилые здания, а ее дух разносится гораздо шире и порождает современный плакат, рекламу (особенно световую), систему театрального освещения, приемы ночной подсветки зданий, музейных экспонатов, парковых насаждений. Дух выставки, этого очередного суррогата художественности, требует сенсаций, небывалых нововведений, новизны во что бы то ни стало. Два одновременных и взаимовосполняющих явления, театр и выставка, пишет Зедльмайр, не хотят быть идеалистическими на манер своих отцов – они видят в себе позитивную направленность. «Оба в высшей степени публичны и громогласны. Словно два жернова, они перемалывают между собою то, что еще жило в предыдущие десятилетия XIX в. От тишины первой половины столетия не осталось уже практически ничего»[25].
Около 1900 г. ведущей задачей для архитекторов становится помещение для машины – гараж, фабрика, вокзал, ангар, эллинг. К стали и стеклу прибавляется бетон и железобетон, постройки становятся тяжеловеснее, но «трезвее» и универсальнее. К 1920-м годам «фабричный» стиль утрачивает последние следы архитектурной монументальности («архитектурных излишеств») и достигает однотипности как для заводских построек, так и для жилых домов, театров, дворцов, церквей, памятников. Верфь Вальтера Гропиуса в Дессау стилистически неотличима от Женевского дворца Лиги наций Корбюзье; здание театра может в эти годы выглядеть как гараж (Антонен Арто мечтал о театральных представлениях в заводском цеху, а парижские театральные коллективы 1920-х годов нередко арендуют ангары и цирки). В народе церковь тогдашней постройки называют «гаражом для душ»; от окна ночлежки, роскошной виллы, дворца Лиги Наций требуют одинаковой внешней формы; жилая квартира в проектах Корбюзье похожа на мастерскую и лабораторию. Это подчинение всех архитектурных задач самой низкой, технической было бы невозможно, если бы не имело глубокого скрытого смысла в новом почти религиозном энтузиазме перед идолом XX века – машиной. Корбюзье приветствовал машину как небывалое в истории орудие духовной реформации, несущее с собой неведомую природе строгость и точность и делающее человека, строителя машин, равным Богу по совершенству своего творения.
В череде архитектурно-художественных задач, сменяющих собой безраздельно главную до XVIII века задачу церкви, замка и дворца, Зедльмайр видит нисходящую поступь новых религий, заменяющих для европейского человека сначала христианского личного Бога, а потом друг друга. Сначала это было поклонение природе в двух ее ипостасях – райского сада и первостихий, земного цветения и звездного неба, вечной переменчивости времен года и гранитной неизменности космоса. За религией природы следует религия эстетизма, поклонение искусству, снова в двух формах – статически-аполлонической (музей) и динамически-дионисийской (театр). Наконец приходит промышленность с ее криптокультом прометеевского гения; человек, покоряя природу, обожествляет сперва свою изобретательность, а потом машину. Опуститься ниже обожествления машины, по убеждению Зедльмайра, невозможно.
С искусствоведческой точки зрения эта небывало стремительная, лихорадочная смена целей и подходов предстает как неизбежно нервная реакция на ту полную утрату единого стиля («стилистический хаос»), которую констатировала у себя Европа в начале XIX века. С тех пор происходило нечто подобное тому, как в последние сознательные минуты перед умирающим человеком неудержимой чередой проносятся картины всей его прошлой жизни. Стиль есть органическое начало, придающее всем проявлениям жизни единый характер. Чехарда художественных манер говорит о настойчивой воле к такому стилю и вместе с тем об отсутствии внутренней почвы для него.
Долгие века на Западе романский стиль оберегал внутреннюю цельность всех искусств во главе с архитектурой, сосредоточивая их вокруг единой и постоянной главной задачи собора. Всё национальное и местное своеобразие являло вариации единого стиля, всё возникавшее за пределами главной духовной задачи представляло как бы ступени последовательных отражений сакральной сферы. Ренессанс достиг аналогичного синтеза вокруг другого, характерного для него средоточия замка-дворца. Эпоха барокко на католическом юге Европы сумела совместить обе задачи, создав на почве романского стиля небывалое и уже не повторившееся впоследствии единство храма и замка, слившихся в едином архитектурном ансамбле. Зримым символом этого слияния был излюбленный художниками барокко эллипс, фигура с двумя центрами и одной окружностью.
Началу и середине XVIII века еще удавалось ввести новые создания в рамки той или другой из двух традиционных задач: конюшня формально трактовалась как замок для лошадей, библиотека как дворец книг или храм мудрости, аудиторный корпус университета как дворец наук, кунсткамера как галерея замка, больница и дом инвалидов как монастырское подворье. Революционная архитектура ломает иерархию взаимоподчинения художественных задач: все они одинаково высоки, священны, ценны. Для Леду дворец, пригородное кабаре, дом полевого сторожа, проектируемый им в форме шара, вообще здания любого назначения одинаково величественны тем высшим величием, какое вообще доступно мироощущению революционного архитектора.
Аналогично этому утопический социалист Сен-Симон провозглашает царственное равенство всех людей. Однако громогласное провозглашение, что «все одинаково хороши», звучит с угрожающей двусмысленностью. Когда таможни у городской черты Парижа имеют облик храма, мавзолея или тюрьмы, а печь для выжигания угля – фараоновой пирамиды, то ясно, что заданный тут максималистский тон грозит срывом и от подобного величия только шаг до комизма. Эпоха Реставрации попыталась вернуться от революционной архитектуры к эллинизму и готике, но эти почтенные формы оказались уже лишь фасадом, часто в буквальном смысле этого слова. За безразличием, с каким архитекторы выбирали теперь какой-то один из традиционных стилей, стоял эклектический плюрализм, стилистическое «многоязычие».
Последнее исподволь подготовило «вторую архитектурную революцию» в начале XX века. С деградацией чистой архитектуры в пользу архитектурной инженерии, с применением бетона и железобетона возник «тоталитаризм» обнаженных форм, которые уже не стремятся к величественной монументальности и наоборот равняют всё по низшему критерию технической функциональности и материальной полезности. Правда, жилые, промышленные постройки, дороги, транспортные средства приобретают не лишенную своеобразного блеска целеустремленную простоту. Однако модернистское единообразие, подчиняя всё диктату машинно-фабричной рациональности, удовлетворяет только материальные нужды различных сфер жизни и оставляет без внимания душевные и духовные запросы. Даже энтузиасты нового искусства понимают эту его чреватую непредвиденными последствиями односторонность. Реакцией против модерна был недолгий начавшийся в 1930-е годы возврат от него к неоклассицизму во многих странах мира, причем решительнее всего в СССР, Италии и Германии. Но неоклассический стиль здесь был всего лишь маской на сооружениях откровенно утилитарной бездуховной архитектуры, глухой к индивидуальным строительным задачам. Гуманизм внешней формы служил вместо алиби для отвода глаз. Не имея сил творчески преодолеть монотонную техническую гладкость модернизма, современность может предложить взамен только диктатуру предписанной формы или анархическую пестроту произвола. И всё равно трезвая правильность технического мира, будучи лишена трансцендентной глубины, безвольно уступает этим чуждым ей и в свою очередь тоже бесперспективным альтернативам, потому что в сфере машинного разума слишком сильна полуосознанная тоска по чему-то большему чем чистый функционализм.
Изоляция искусств, по Зедльмайру, настолько характерна для последних двух веков, что может служить хорошим критерием для отличения «леворадикальных» художественных течений от консервативных и «ретроградных». Самая суть современной художественной практики в том, что каждое искусство, а потом каждое отдельное умение внутри данного искусства заявляют о своей самостоятельности. Садовое искусство конца XVIII – начала XIX веков, культивируя «чистые» формы природного парка, обособляется от архитектуры. Архитектура в целом изгоняет из своей сферы пластические и живописные искусства, потом свою традиционную антропоморфную изобразительность (колонны, капители, карнизы, рельефные крыши) и даже орнамент, которому объявила войну архитектура бетона в XX веке. Скульптура, которая в эпохи барокко и рококо была обычно цветной, стала целомудренно-белой, сознательно ограничилась чистыми линиями и выдержанными статическими формами, связала себя предписаниями, почерпнутыми из археологического изучения древностей. Со своей стороны, живопись отказалась от линии как осмысленного содержательного момента и ограничилась цветовым пятном как своим наиболее специфическим выразительным средством, полагаясь только на стихийное чувственное воздействие красок, отрешенных от предметов и фигур.
Зато внутри самой живописи еще в безобъемном рисунке англичанина Дж. Флаксмана (1755–1826) выделилось искусство чистой линии, а парижский художник Хассенфрац на заседании революционного Художественного жюри в 1790 предложил выписывать все предметы художественного изображения только линейкой и циркулем, и Зедльмайр угадывает здесь смутное предвосхищение конструктивистских опытов начала XX века. И если в XX веке гибнет орнамент, то причина не в аморфности новых строительных материалов, а в том обстоятельстве, что из всех родов искусств только орнамент не может существовать автономно и потому в эпоху всеобщей автономизации искусств вынужден сойти со сцены.
Распадается не только макрокосм христианского собора как синтезирующего средоточия искусств и умений, но и заменявший его в европейской культуре со времен Джотто и раннего Ренессанса микрокосм живописного полотна, по-своему в меру сил синтезировавшего в себе теологический, философский и исторический смысл, архитектоническое, пластическое, декоративное и орнаментальное искусства. «С конца XVIII века из старых церквей, замков, дворцов устремляются бескрайним потоком множества изолированных, обособленных произведений искусства, фрагменты некогда единой совокупности, отрываясь от материнской почвы и теряясь в бездомности художественного рынка, в пышных сиротских приютах публичных и частных музеев»[26]. Музей увековечивает то разделение беспочвенных искусств, которое, думает Зедльмайр, пророчески прообразует будущую беспочвенность европейского человека. Попытки Земпера и Вагнера в середине XIX века остановить процесс изоляции искусств лишь ненадолго замедлили его.
С распадом семьи искусств распадается и мир изображаемого, «умирает иконология»; становится всё равно что изображать, в какой идейный контекст помещать изображенное, и наконец даже в живописи и скульптуре изгоняется предмет как таковой, при том что архитектура и так давно уже вообще забыла о своем призвании – символически воссоздавать космические структуры, недосягаемые для чувственного восприятия. Живопись, когда она еще сохраняет предмет, старательно вытравляет трансцендентный, мифический или аллегорический ореол изображаемого, и не случайно среди названий картин теперь не встречаются «Диана с нимфами», «Венера», «Тщеславие», «Мадонна», а остались только «Купальщицы», «Обнаженные», «Женщины перед зеркалом» и «Женщины с ребенком».
Как бы компенсируя изоляцию искусств друг от друга, границы между искусством и неискусством наоборот расплываются. Подобно тому как в английских парках XVIII века заботы садовника были часто неотличимы от работы природы, архитектор в XX веке стал мало отличим от конструктора, а живописцу стало иногда трудно доказать, что он вкладывает в свои полотна больше искусства чем примитивный самоучка, ребенок или пишущий красками шимпанзе. Искусство смешивается в своем падении с конструкцией, монтажом, фотографией, бессознательным и болезненным псевдотворчеством, сновидением.
Зедльмайр согласен с Фридрихом Ницше, что обособление искусств ведет к их дегенерации. Это всего очевиднее в архитектуре, которая, будучи по смыслу своего имени («перво-созидание») и по своему традиционному положению главным среди искусств, при автономизации оказывается лишь одним из них, да и свою оскудевшую роль всё больше уступает инженерии. Различие между архитектурой и инженерным конструированием радикально: первая всегда имеет дело с человеческим существом как идеальным целым, второе всегда обслуживает ту или иную его частную функцию. После малозамеченной первой «революции против архитектуры» (1770-е годы) и особенно после «второй революции» (1920-е годы) шарообразное, свечеобразное, столбообразное здание с гладкими жесткими гранями, плоскими крышами, часто без надобности вывешенное на тонких опорах словно космический корабль, нередко имеющее подвижные части и разборное устройство, а то и просто парящее в воздухе как в первом проекте Ленинского института на Воробьевых горах в Москве, отрывается от земли и уподобляется машине, тем самым переставая быть в собственном смысле архитектурой. Зедльмайр замечает, что теперешний конец архитектуры, которая становится исторической категорией и «снимается» конструкторством, подобно тому как религия «снимается» наукой, пророчили словно в вещем сне планировщики английских садов, размещавшие в укромных уголках парка искусственные руины, и современник Леду выдающийся французский пейзажист Г. Робер (1733–1808), впервые в истории живописи писавший существующие, целые постройки так, как если бы они были уже разрушены.
И всё же современная живопись, продолжает Зедльмайр в главе «Раскованный хаос», являет еще безмерно более хаотичную картину чем архитектура. Вторжением иррациональных космических стихий было ознаменовано творчество Франсиско де Гойи (1746–1828), которого Зедльмайр наряду с Кантом в философии и Леду в архитектуре причисляет к великим всесокрушителям. Неслыханная революционность Гойи (который при всём том, как и Леду, официально работал при королевском дворе) объясняется тем, что в его творчестве громко заговорил о себе мир сновидения и безумства. Чудовищное, адское в предыдущей живописи (демоны, искушающие святых, и нравственные уроды, издевающиеся над Богочеловеком) всегда теснилось в мире внешнем для художника и его героя, но в изображении Гойи людей и мир неудержимо захлестывает неуемная адская сила, полная свирепой, жуткой витальности. Даже пейзаж иногда предстает зловещим. «Капричос» (первоначально эта серия рисунков называлась «Сны») возникли в разгар Французской революции (1792) после тяжелой болезни художника, характер которой нам неизвестен, но которую Зедльмайр сопоставляет с депрессивными состояниями и демонической одержимостью, затронувшими в ту эпоху Месмера и всевозможных духовидцев многих художников (уродливые головы скульптора Франца Мессершмидта, галлюцинаторные образы Фюссли, дьявольские лица Флаксмана, предельное отчаяние и заброшенность на картинах Каспара Фридриха).
Впрочем, за напряженным трагизмом картин ада и хаоса у Гойи и художников его периода стоит еще не подорванное желание сопротивляться иррациональным стихиям. К 1840-м годам это внутреннее сопротивление по всей видимости ослабевает, потому что изображения человеческого уродства, пошлости, нелепости из трагических всё чаще становятся комическими. Разоблачительство не ограничивается человеком: карикатурные серии Оноре Домье «Трагические физиономии» (Physionomies tragiques, 1841), «Древняя история» (L’histoire ancienne, 1843) и Гюстава Доре «Подвиги Геракла» (Travaux d’Hercule, 1848) сделали навсегда невозможным серьезное восприятие греко-римских богов и героев.
Углубляющееся сомнение искусства XIX в. в человеке еще как-то уравновешивалось отдельными всплесками веры в его достоинство, пока наконец в «чистом видении» Сезанна изображаемый человек вообще в принципе не перестал быть духовно-нравственным, ответственным существом и сделался предметом безучастного оптического наблюдения. В своих полотнах Сезанн смотрит на мир глазами полупроснувшегося человека, когда разум еще дремлет и привычный мир предстает хаосом цветовых пятен и неустоявшихся форм. Человеческое лицо и яблоко равны для такого взгляда по своей физиогномической валентности, глаз художника живет отрешенной жизнью, в которую нет доступа духу и душе. Культивируя ту же непричастность к изображаемому и то же нежелание вчувствоваться в него, Жорж Сёра (1859–1891) делает своих людей похожими на деревянных кукол, манекенов и автоматов. Матисс придает людям не больше значения чем ковровому узору. Наконец кубисты XX века низводят человека до статуса конституируемой модели.
Вместе с человеком затуманивается и связность мира. Какими бы идеалами самовыражения, свободной фантазии, смелого искания ни прикрывался модернизм XX века, в его основе действуют развязанные стихии хаоса, смерти и ада. «Близость к смерти здесь не трагична, а инфернальна; она утверждает хаос и она тем ужаснее, что теперь уже нет ни одной сферы бытия, которая могла бы избежать этого вторжения разрушительных стихий… В разных “направлениях” современной живописи выступает та или иная комбинация этих античеловеческих сил, причем, грубо говоря, в кубизме преобладает омертвение всего живого, в экспрессионизме – огненный хаос, в сюрреализме – холодный демонизм ледяных глубин преисподней». Конечно, живописи Севера Европы (Босх, Брейгель, Грюневальд) были давно знакомы картины ада и даже образ искаженного смертью Христа, совершенно отсутствующий в восточнохристианском искусстве. Но, наклоняясь над пропастью, художники вплоть до XX в. никогда не срывались до отказа от человечности, который равносилен отказу от искусства. «Большая часть новой живописи, особенно в 20-е годы, фактически уже не искусство. Вместо него воцарились погоня за новизной во что бы то ни стало, выходки бездумного цинизма и сознательный блеф, холодная эксплуатация искусства как средства для разрушения всякого порядка, безбрежное корыстное мошенничество и обман обманувшихся, бесстыдная самореклама посредственности»[27]. История искусства прослеживает прямой путь от Сезанна, не видящего человека за потопом чистого цвета, к абстракционизму, превращающему живопись в пустой узор.
Автономия человека
Утрата середины – вот образ, под которым Зедльмайр объединяет и упадочные явления искусства и те бытийные сдвиги, симптомом которых выступают современная архитектура и живопись. О других явлениях культуры автор сознательно умалчивает. Утрата середины происходит во многих смыслах. Искусства лишаются своего объединяющего средоточия, каким некогда была архитектура. Художество перестает быть необходимым средним звеном между духовной и чувственной сферами, становится эксцентрическим. Вместе с ним современный человек лишается опоры в человеческой природе как такой, которая всегда была общей мерой, местом схождения всех вещей, связью между верхом и низом.
Теперь становится почти безразлично, в какую сторону ведут отпадения от середины, потому что за невозможностью возвратиться к ней порывы ввысь, прочь от «человеческого, слишком человеческого» к сверхчеловеческому кончаются наоборот недочеловечеством и озверением; порывы к будущему прочь от современности кончаются первобытным примитивизмом; попытки вырваться за пределы обыденного рассудка, погрузиться в бездны бессознательного кончаются господством разоблачительных схем мысли с их плоским рационализмом.
Близкую ему критику дегуманизации современного искусства и диагноз распадения человеческого образа как такового Зедльмайр находит у русских философов культуры В. И. Иванова и Н. А. Бердяева, а на Западе у Ясперса, Эрнста Юнгера, Ортеги-и-Гассета[28]. К XX веку оказывается в конец разбазарен капитал гуманистической традиции. Современный человек ставит художника в тупик тем, что так мало может вдохновить его; а художник в свою очередь не находит в себе сил, чтобы преодолеть преображающей любовью неприязнь к несимпатичному предмету. Не случайно современному искусству так легко дается образ демонического и одержимого человека, так трудно – правда великого и человечного, и совсем фатально, в принципе не удается святой и Богочеловек. Гораздо уютнее дух современности чувствует себя среди внечеловеческой, бездуховной и особенно неорганической стихии. На счет внечеловеческого пафоса последнего века Зедльмайр относит с одной стороны успехи атомной и космической физики, с другой – возникновение «рабочего», машинизированного человеческого типа с доминирующими чертами жесткости, мобильности и подчеркнутой пунктуальности, расцвет тоталитарных распорядков жизни, настроения тотальной мобилизации (выражение Эрнста Юнгера) всех наличных сил и средств, притупление чувствительности и сострадательности человеческого существа, неумение обращаться с органической и живой природой, для которой мир машины в лучшем случае отводит место в музее или заповеднике.
Проблематичной оказывается не нравственность, а онтология, первые основания бытия или вернее их отсутствие. «Этот перенос центра тяжести человеческого духа за пределы органики есть несомненно сдвиг космического порядка, нарушение как в микрокосме человека, который теперь односторонне развивает те свои духовные способности, которые под стать чертам неорганического мира… так и в макрокосмическом балансе вследствие одностороннего сохранения и пролиферации неорганического начала, которое воздействует на все области жизни почти всегда за счет органического, что ведет к опустошению жизни… Это нарушение… лишь привходящим образом отдается нарушениями в социальной, экономической и культурной областях»[29].
Никак нельзя утверждать, что научно-техническое конструирование в экономической и социальной сферах лишено творческих моментов, но это творчество отсекает органически-жизненную сферу и всё неохотнее соглашается видеть в человеке нечто большее чем вещь среди вещей. Австрийскому культурологу удается подробная аналогия симптоматических аберраций современного искусства с душевными болезнями. Экспрессионизм сближается с депрессивными, футуризм с маниакально-психотическими состояниями, кубизм и конструктивизм с утратой чувства реальности, сюрреализм с шизофренией. Конечно, предупреждает Зедльмайр, художники – не душевнобольные, иначе они были бы неспособны к творчеству; скорее эпохи, подобно людям, тоже могут терять душевное равновесие, и тогда они окрашивают в свой тон прежде всего то художественное выражение, которое чутко к ним.
Автономия искусств есть лишь симптом и символ автономии человека. Впервые в XVIII веке человек отважился открыто не признать над собой высшей личной воли. Дело не просто в том что он отверг Бога; ясно выраженные, а больше бессознательные культы сохранились, будь то щемящее чувство благоговения перед Вселенной, перед «природой», перед Человечеством или самозабвенное служение машине. Не стало Бога как высокого, но интимного друга, с которым человек был бы связан любовью и советом. Прекратив непрестанный внутренний диалог со своим божественным «вторым Я», человек перестал понимать и себя; а когда он упустил себя, не могло не нарушиться его отношение к людям. Способность любить природу и красоту, может быть, не ослабла, но сентиментальность здесь стала опасно соседствовать с холодностью и даже жестокостью. А из-за того что прервались те единственные личные отношения, которые могли без остатка наполнить смыслом существо, по-своему вмещающее весь мир, в сознание прокралась неудовлетворенность и, никогда не довольствуясь мимолетной преходящей данностью, человек стал ценить прошлые и будущие времена, нездешние места, другие социальные условия больше чем свои. Пантеизм и деизм XVIII века обещали уму очень высокого и чистого бога, сторонившегося земных подобий: антропоморфность из него изгонялась примерно так же как из архитектуры. Но тогда и в человеке не оставалось ничего похожего на Бога. Выпутываясь из религиозных оков, уходя от разумной веры в боговоплощение, в Троицу, в девственное рождество, человек и сам освобождался от божественного достоинства. У него не было больше причин и оснований считаться подобием и образом Творца.
Потом, запредельный бог деизма и пантеизма так приподнят, что со временем всё равно выходит из употребления за ненадобностью. Деизм и пантеизм – шаг к отставке Бога, и возможно, темный расчет на это руководил рвавшимися к свободе просвещенческими мыслителями. Так или иначе европейское человечество начинает со второй половины XVIII века колоссальный исторический эксперимент. Оно посвящает свои силы и устремления только себе, заполняя собой все области бытия, которые раньше с отрешенностью оставлялись божеству. Осязаемым результатом было и планетарное распространение европейского духа, и прорыв в космос. Исход эксперимента уже теперь, похоже, определился. «Поезд должен был отправиться во Вселенную, но он идет в Ничто»[30].
Чтобы осмыслить исключительность современной эпохи, Зедльмайр сравнивает ее с тем, что было из наиболее близкого ей в прошлом. У новейшего искусства были предтечи. В конце романской эпохи (романики), около 1125 г., была краткая, уместившаяся в одно поколение, фаза странной демонизации священных образов. Портал «Страшный суд» Отенского собора, романская часть церкви св. Магдалины в Везле, романский портал в Муассаке, барельефы в Суйяке, скульптуры храма в Болье-сюр-Дордонь даже в сравнении с остальным доготическим средневековым искусством, не отличавшимся особой правдой изображения человека, останавливают исследователя потусторонностью и мертвенностью образов святых. Христос иногда походит на азиатского божка или деспота. Апокалиптические звери и ангелы демонически страшны. Далеко не всё здесь можно объяснить средневековой эстетикой, которая допускала крайние искажения зримого, лишь бы хоть так навести зрителя на мысль о незримом. Похоже, дело было в другом, когда рядом со священными изображениями теснились демоны, адские звери и химеры, проникая даже внутрь храма. Формы становятся нестойкими, расплываются, фигуры на вращающемся колесе фортуны впервые в истории искусства, по наблюдению Зедльмайра, размещаются вниз головой, символизируя переменчивость вещей. Главной темой изображения становятся Страшный суд и его ужасы. Темная, как склеп, внутренность церкви усиливает чувство жути. Экспрессионисты открыли для себя позднероманское искусство, но Зедльмайр предлагает говорить, что своим пристрастием к этому периоду они открыли свою внутреннюю сущность.
Позднероманская сумеречность была преодолена готикой (которая называлась тогда «французской манерой»), возникшей в конце той же первой половины XII века. Образы демонических существ были изгнаны из внутренних помещений храма; человеческие изображения стали возвышенно-реалистическими; вместо церквей-склепов с массивными стенами и гнетущими сводами поднялись нефы многометровой высоты, на которой ажурные нервюры казались моделью платоновского неба; витражи превращали огромное внутреннее пространство в волшебную обитель света; грозное колесо фортуны над входом было переосмыслено в лучащийся символ Солнца правды. Интеллектуалистская философия (Шартрская школа) и мистическая теология (Бернар из Клерво) так называемого французского ренессанса XII века, хотя и враждовали между собой, были одинаково далеки от настроений страха и обреченной подвластности судьбе[31].
Однако в самом конце готики еще более неистовый демонизм дал о себе знать у Иеронима Босха, писавшего между 1480 и 1516. Ровесник Леонардо да Винчи, Босх создает в противовес новому космическому искусству высокого Ренессанса адский мир, имеющий свою логику хаоса и населенный не просто уродливыми людьми и падшими ангелами, но большей частью неслыханными изощренно въедливыми чудовищами и зловещими аппаратами в окружении одичалых пространств и развалин, освещенных не солнцем и луной, а пожарами и странными заревами. Композиция босховских картин тоже дезорганизована, изображаемое нескладно, шатко, пустотело, призрачно. Как у Ван Эйка небо вдвинулось в земное бытие и освятило его собою, так у Босха ад, словно прорвав невидимые запруды, пропитал всё земное своей гнилостью. Божественному у Босха едва достает сил устоять перед напором ада, который достигает даже до Эдема, извращая его в рай сластолюбия. Конечно, разгул нечистых сил у Босха остается всё же лишь искушением внутри христианского мировосприятия. Но Зедльмайр видит историческую закономерность в том, что Босх был извлечен из забвения в 1920-е годы и признан одним из родоначальников сюрреализма.
Отдельные черты современного искусства рано мелькнули и в так называемом маньеризме, антиклассическом стиле 1520–1590 годов. Зедльмайр предлагает осмысливать маньеризм и отслаивать его от параллельно существовавшего позднего Ренессанса исходя из маньеристского мирочувствия: это сомнение и отчаяние, внутренний раскол и страх, завороженность смертью. Классическая форма здесь каменеет, застывает, мертвеет; верх берет вычурная надуманность. Маньеризм тянется к холодным и неприступным материалам вроде хрусталя, предпочитает панцирь человеческому телу, маску – лицу; он возвышен, загадочен, чересчур духовен и смертельно серьезен. Маньеризм тоже был заново открыт в 1920-х, и причина здесь возможно в том, что он страдал той же болезнью, что и модернизм.
Еще одно явление, современное маньеризму, но, как считает Зедльмайр, независимое от него, перекликается с искусством XX века: это принижение человеческого образа в живописи Питера Брейгеля Старшего. Брейгель смотрит на человека со стороны как на причудливую странность, залетного инопланетянина, и человек предстает в беспощадном свете: мелким, испорченным, зловредным, придурковатым, неуклюжим. Человеческий мир опять хаотичен и бессмыслен, обуян бесовщиной, одержим смертью. Замечательно внимание Брейгеля к детям, безумцам, уродам, эпилептикам, слепым, к состоянию опьянения, к поведению массы, к обезьянам, т. е. к тем аномалиям и отклонениям сознания, которые особенно интересуют современную психологию. Зато природа на картинах Брейгеля рядом со скверной человека величественна и чиста. Этим, и еще явственным у него чувством стыда за человека и сочувствием к нему, Брейгель отличается от модернизма.
Наконец, почти во всём английском искусстве, обособляя его от искусства континентальной Европы, Зедльмайр наблюдает бесстильность архитектуры, неумение органически связать ее с другими искусствами (что выражается в неразвитости потолочных фресок), отсутствие скульптуры и отсутствие такого портрета, который идеализировал бы и возвышал человека, при том что Англия обладает большой и богатой литературой, т. е. он замечает здесь весь комплекс черт, ставших характерными и для остальной Европы начала и середины XIX века.
Даже краткий анамнез такого рода позволяет говорить, что болезнь искусства XIX–XX веков назревала на протяжении столетий, временами обостряясь, особенно после размежевания церковной и светской власти и после Реформации. «Существенно при этом заметить, что предтечи современного искусства появляются внутри тех направлений, которые стоят в духовной противоположности к Ренессансу. Часто высказываемое и несколько легкомысленное предположение, что беды XIX и XX веков начались с Ренессанса, решительно опровергается внимательным наблюдением»[32]. Зародившееся в XVIII веке революционное искусство тоже противопоставляло себя стилю барокко, который Зедльмайр считает прямым продолжением ренессансного стиля.
Все три сменявших друг друга стиля французского XVIII века, а именно стиль регентства (1700–1725), рококо (1725–1750) и Людовика XVI (с 1750; вначале он назывался «стилем Помпадур») отказались от очень важной для Ренессанса и барокко идеи «великого человека». Художественная деятельность переносит свое средоточие из храма и официальной королевской резиденции в относительно небольшие и интимные залы городского дворца и обращается к миниатюрным, игровым предметам и амурно-идиллическим темам. Вместо Геркулеса и Аполлона – Венера и Амур, вместо палицы первого – выструганный из нее лук последнего как символ всей эпохи; вместо величия – миловидность (в портрете). Главными достоинствами становятся приятность для глаза, рафинированность, роскошь, чарующая фривольность, под которыми кроются меланхолия или холодный скепсис. Начинающийся раскол человека на рассудок, рацио, с одной стороны, и иррациональные влечения – с другой, дает о себе знать, возвещая будущую поляризацию искусств, в таких чертах этого периода как сочетание крайне рациональной архитектуры с крайне иррациональным орнаментом. Всё вместе позволяет Зедльмайру говорить о скрытых симптомах будущего разлада начиная уже с 1700 г. во Франции. Аналогичную роль прямого бациллоносителя играет у автора и Англия, которая примерно к тому же времени (к началу XVIII века) сделалась для Европы рассадником сентиментальной культуры чувств, оголенной плоскостной архитектуры с бесстильными аппликациями, приниженного изображения человека (карикатуры Хогарта, сатиры Свифта), импрессионизма (Констебль, Тернер), спиритуализма и духовидения (Джон Флаксман, Генри Фюссли, У. Блейк), новых форм практического жизненного стиля вплоть до одежды и, наконец, философий пантеизма и деизма. «Как Франция для готики и Италия для Ренессанса – барокко, так Англия явилась классической страной для всего начала XIX века»[33]. Но радикальные выводы из английских предпосылок сделала опять же Франция, чья революционная геометризованная архитектура была первым шагом всего последующего художественного процесса.
Исходя из симптомов в области искусства Зедльмайр намечает фазы болезни современного человечества. Первая, острая фаза (1760–1830): застывание и безжизненность форм, классицизм; геометризм и холодная рассудочность; высокие эстетические и этические идеалы рядом с неверием в человека; тягостный конфликт между могучим сверх-Я и разгулом иррациональных порывов. Символ периода – луна. Вторая, компенсированная фаза (1830–1840): переключение внимания с прошедшего на настоящее, с великого и мощного на малое и близкое; приспособление к реальности; расцвет европейского юмора, который где-то тайно соприкасается с демонизмом (Оноре Домье, Карл Блехен), однако в своих утрированных, карикатурных формах еще успевает «отреагировать» его. Третья, скрытая фаза (1840–1855): кажущееся возвращение к здоровью; оживление чувственности; снова краски, движение, пестрота; позитивное отношение к текущему моменту вместо присущего революционным годам раскола между чувством потерянности и футуристической утопией; вера в прогресс, т. е. в постепенное улучшение и оздоровление; лихорадочное дионисийство, за которым, правда, чудятся тревога и тоска, потому что вся эта подвижность – лишь фасад тяжелого расстройства, вытесненного в бессознательное. Четвертая фаза, новое обострение болезни (с 1885, но еще явственней с 1900 до конца 1940-х): мир, люди, природа отчуждаются; воцаряются отчаяние и страх; художественные формы снова леденеют и разлагаются: пациент как бы уже не способен связно мыслить, он чувствует себя во власти демонических сил; временная потеря речи (дадаизм); явное моторное возбуждение, спешка, гонка, желание постоянно менять свое состояние; шатания между усильной надеждой на будущее и крайней безнадежностью. Первая фаза всего больше коснулась Англии, Севера Германии, Америки, России; вторая наиболее явственно проявилась на Юге Германии и в Австрии; третья – в Германии и Франции; в четвертой фазе Англия уже не участвует (она начала революцию, но не приняла наиболее крайних выводов из нее); ведущими странами оказываются Франция, Америка, Германия, Россия. Замечательна роль Испании, которая дает вождей трем революционным движениям в живописи (Гойя, Пикассо, Дали).
Зедльмайр заключает свой анализ: «Сколь бы подозрительным ни казалось объявление своего собственного времени поворотным пунктом мировой истории, мы всё же не можем избавиться от впечатления, что после 1920 сложилась не имеющая аналогий экстремальная ситуация, за пределами которой едва ли можно ожидать чего-либо кроме тотальной катастрофы – или начала возрождения. Положение похоже не на один из тех многочисленных кризисов, мучительное сознание которых само относится к типическим признакам переживаемого времени, а на кризис человека как такового»[34].
Четыре эпохи
Переходя к прогнозу, Зедльмайр уточняет свое понятие антропологической катастрофы. Ликвидация архитектуры и вообще искусства лишь полбеды; гораздо хуже превращение человека в человекомашину, в анархическую нравственную развалину или в демоническое существо. Точнее определить опасность мешает уникальность сложившейся ситуации. Несмотря на всё сказанное им в адрес искусства последних двух веков, историк искусства не хочет признать пройденный лучшими художниками путь бессмысленным и пытается разглядеть в трагическом опыте залог возможного обновления. Неразумно было бы сказать, что всё в современности есть чистое зло и что следует просто вернуться к старому гуманизму.
Даже отрицание духа может быть творческим шагом духа, более высоким чем упрямое бесплодное эпигонство. И атеизм, говорит Зедльмайр, ссылаясь на русского философа Н. А. Бердяева, может идти от беспокойной любви к истине, а за бездушной уравниловкой может таиться заблудившаяся тоска по всеобщему братству. Многое, что тревожит гуманиста в современном искусстве, продиктовано стремлением художника к чистоте, ясности, к первозданности и к избавлению. Адские вещания, которыми часто одержим современный художник, выдают в нем тревогу за Бога или человека. Бегство искусства в мир сновидений и бессознательности заводит в тупик, но всё равно в его основе лежит более глубокое понимание сущности искусства чем это доступно ремесленникам и наивным реалистам.
Нельзя просто сторониться новшеств, тем более что добрые старые времена, к которым хочется ностальгически вернуться, тоже таили в себе, как выявляется теперь, дозу яда и заразы. Единственно верной политикой Зедльмайр называет «живой консерватизм» В. С. Соловьева, звавшего и верить в богочеловечество, и не сторониться водоворота истории. «Будущую награду… требуется заслужить настоящим усилием и самоотверженным подвигом… Дело одно: идти вперед, взяв на себя всю тяжесть старины… Наша святыня могущественнее Троянской, и путь наш с нею дальше Италии и всего земного мира. Спасающий спасется. Вот тайна прогресса – другой нет и не будет»[35].
Как ни отпугивает традиционалиста современное искусство, оно с внимательной точки зрения историка делает больше для спасения вечных прообразов, чем можно увидеть с первого взгляда. Да, оно отказалось от изображения внешнего облика вещей, но ведь подражание видимой природе хотя и не противопоказано искусству, не обязательно для него; когда художник задумывается о сверхчувственном или погружается в мир сновидений, верность обыденной реальности ему не нужна. Искусство XIX и XX веков сделало очень много для создания новых изобразительных средств, отвечающих небывалым условиям эпохи. Можно только удивляться нравственному подвигу немногих великих художников, которым вопреки окружающему их недопониманию и подозрению достает сил не подчиняться черствой прозе века и продолжать работу над мертвенной, хаотической, непривлекательной данностью, поднимая ее в сферу жизни, упорядоченного строя, красоты или светлого юмора. Только пошлый ум откажет изображению отвратительного и ужасного в художественности и будет требовать, чтобы искусство обязательно украшало, а то и приукрашивало бездуховную реальность. Из той несомненной истины, что искусство живет красотой, еще не следует, что оно должно заняться ремесленным изготовлением красоты.
Нужно помнить и о второй опасности, помимо разрушительно-демонических веяний. На другом их полюсе академическое бездушие, закоснелость ложно понятой традиции. Зедльмайр предостерегает от гальванизации отживших художественных форм. Нигилизм в искусстве, напоминает он, почти невозможно выявить, если полагаться только на чисто эстетические критерии. Есть профессионально безупречное искусство, которое унижает и оглупляет человека. Зедльмайр вспоминает тут слова австрийского писателя Адальберта Штифтера (1805–1868) о том, что единственный смертный грех художника – это искажение изначального богоподобия человеческой души. Падение искусства можно измерить лишь степенью его безразличия к человеку. Искусство XIX и XX вв. достигало вершин тогда, когда ему удавалось, не закрывая глаза на новооткрывшийся материк неорганических, внечеловеческих сил, противопоставлять ему в обновленных формах безущербную идею человека. Величайшие художники современности не отмахивались от ужасов и пророческих видений, но они умели хранить мужество на грани отчаяния. Таковы Домье, Ван Гог. Искусство XIX–XX веков падало всего ниже, когда увлекалось новым из чистого любопытства. Так К. Д. Фридрих и У. Тернер принадлежали к одному поколению и оба тяготели к изображению стихий, земли, воздуха, моря в их космичности; однако у Фридриха стихии всегда уравновешены продуманным присутствием человека, а искусству Тернера, несмотря на его большую виртуозность, недостает этого необходимого противовеса, оно часто служит любопытству, лишается существа и разлетается театральным фейерверком. Примеров человеческого равнодушия и отвлеченной чувственности у художников, сочетающих изысканный формальный вкус с зловещими и болезненными темами, Зедльмайр насчитывает много в новейшем искусстве. Внечеловеческие увлечения тем опаснее, чем отточеннее техника мастера. Но с другой стороны, как сказано, искусству грозит стерильность, условная академическая красивость, в которой умирает художество.
Собственно говоря, утратившее творческий импульс академическое ремесленничество и провоцирует модернистские эксперименты. Тогда даже крайние направления модернизма ощущают свою правоту на фоне провала попыток консервировать старые нравственно-эстетические идеалы. Пресная безвкусица надсадного гуманизма неизбежно вызывает в ответ стремление романтизировать напряженную остроту, глубину, страстное могущество зла, в котором начинают искать антипод и противоядие против пошлости. Темные порывы и демоническая энергия, это Зедльмайр признает, ссылаясь на Н. А. Бердяева, заманчивее худосочного добра. Неверно, что новые направления в искусстве автоматически идут к новому религиозному синтезу; но они стимул, придающий творческое горение и религиозным художникам. Лучшее из современного искусства в хорошем смысле авангардно на фоне школ, пропагандирующих банальное подобие искусства. Это – серьезная легитимация модернизма.
Выходя в историософскую перспективу, Зедльмайр разбивает всю историю христианского мира на четыре отрезка и подчеркивает, в сравнении с предыдущими эпохами и с другими мировыми культурами, радикальную новизну современности.
Первая эпоха: предроманское и романское искусство (550–1150) посвящают свое служение Богу-Вседержителю; всепоглощающая задача художества – храм как синтез искусств. Между прочим, уже на этой стадии романское искусство расходится с восточнохристианско-византийским. На Западе светский полюс искусства, искусство дворца, до известной степени поглощается храмом (так, двойные хоры в немецких церквях этого периода олицетворяют в себе оба начала власти, церковное и княжеское). В Византии церковь и императорский дворец противостоят друг другу как две внутренне равноценные художественные задачи, причем дворец намного обширнее церковной постройки и ставит перед искусством более разносторонние задачи, тогда как на Западе всё возникающее вне храма, в пфальцах и епископских резиденциях, лишь фрагмент или рефлекс церковного искусства. Впрочем, одинаково в христианском и светском искусстве исключительный предмет изображения – надмирное; строения и живописно-скульптурные образы как бы освящены и своими чувственными формами, по принципу «неподобного подобия», передают опыт чего-то такого, что по существу выходит за пределы всякого опыта. «Человек и природа, так сказать, приподнимаются до таинственности запредельного». Законы художественного изображения вытекают из этого первопринципа. Во всём господствует плоскость, даже в архитектуре и в рельефной скульптуре, которые как бы окутаны в оболочку, в панцирь. Отсутствует стремление к изучению натуры; нет полной скульптуры (только рельефная), в живописи нет теней, нет изображения действительных пространственных соотношений, нет перспективы. Как говорит Зедльмайр, ссылаясь на И. Грабаря, по существу и на Западе и на Востоке, несмотря на заметные различия, изобразительное искусство не отходит от постулатов плотиновской эстетики (III век), принятых в константиновскую эпоху (IV век) церковным искусством. Тут произошло то же, что в христианской философии, которая вплоть до возрождения аристотелизма в XII веке стояла на неоплатонической основе. Постепенно западный храм приобретает черты, отличающие его от старохристианского и византийского. Купол вырастает в башню, делающую церковное здание чем-то вроде божественной крепости, и со стен убирается мозаика, т. е. элемент света. Стена делается массивной, мощной, как в постройках архаических культур. Внутренние помещения темнеют, важную роль играют подземные склепы. Бог изображается на Западе, как и на Востоке, обычно в своей отеческой ипостаси, Христос – в виде царя и вседержителя, но на Западе больше подчеркивают грозность божества, а в конце описываемого периода в его образ примешиваются прямо демонические черты (как об этом подробнее говорилось выше). Подобное проникновение демонических и хтонических фигур (из тематики апокалипсиса, падения ангелов, битвы небесных воинств и Страшного суда) вплоть до капителей нефа, не говоря уже о порталах храмов, было бы немыслимо в восточнохристианском ареале. Истоки отличительных черт западного искусства, в одной стороны, в живучести его древнегерманских корней, а с другой – в его типологическом сходстве с древневосточным искусством.
Вторая эпоха: искусство готики (1140–1470), стоящее под знаком Богочеловека. Для нового благочестия, проповедником которого был Бернар Клервоский, Бог приближается к миру в образе вочеловечившегося Спасителя; любящая связь его с человеком определяет собою всё. Храм, уподобляясь небесному своду, озаряется светом, украшается золотом и драгоценными камнями, наполняется звучанием органа; Христос чаще изображается как человек, что подчеркивают льнущие к нему Богоматерь и святые. Натура признается достойным внимания предметом, человек реалистически изображается в живописи и возродившейся пластике; наконец, отправляясь от орнамента, к которому вернулись живые натуралистические черты, начинается изучение природы и античности. В живописи Джотто – событии мирового значения – тела благодаря светотени обретают объемность, пространство – естественную глубину; вскоре после Джотто приходит перспектива, размещая вещи на картине так, как их видит человеческий глаз. Картина, синтезируя в себе живопись, пластику и архитектуру, становится микрокосмом и скоро примет на себя функции собора. От воплощения священной истории и святых в реалистических чувственных образах живопись переходит к встраиванию их в современность так, как если бы они присутствовали здесь и теперь, в этом мире. На вершине этого движения Ван Эйк стремится передать действительность с зеркальной правдивостью. Потом искусство еще теснее приблизит к человеку божественное лицо, изображая Богочеловека в час унижения и муки, когда на передний план выступает его человеческая природа. Евангельские сцены выносятся прямо в окружающую повседневность, на улицы и в дома средневекового города. Перед искусством открывается тем самым громадное поле для наблюдения. С возрастанием достоинства человека, с новообретенной способностью искусства не только возвышать дух, но и радовать глаз, возвышается второй, мирской полюс дворцового и городского искусства, занятого, подобно романам той эпохи, чисто светской тематикой.
Третья эпоха: Ренессанс и барокко (1470–1760), время Богочеловека и «божественного» человека. В двоякой человеческой природе подчеркивается почти исключительно его высокая сторона; он не просто образ Божий, но отсвет его славы, а в своей творческой способности – его точное подобие. Человек божественных достоинств, святой и – в ином смысле – государь служат в известном смысле ступенью от человека к Богу. Человеческое тело просветляется и преображается так, как это было бы невозможно вне веры в воскресение плоти. Совершенство тела принимается за образ духовного совершенства, нагота – за образ чистоты и правдивости. В Христе видят прежде всего Воскресшего, сверхчеловечески прекрасного победителя над смертью, в телесном отношении атлета; даже в его смерти и мученичестве просвечивает всепобеждающая энергия. Земля и небо сплетаются, и зримое выражение тому – потолочная фреска, переживающая именно между 1470 и 1760 величайший расцвет. Господствующее религиозное чувство теперь – триумф, и это отражается в новых канонах церковной архитектуры (подобие триумфальной арки на фасаде, триумфальные троичные и богородичные колонны, сияющие купола, в которых, поднимаясь к божественной славе, земное пространство как бы без резкой границы переходит в пространства неземных светов). Вознесения и апофеозы, центральная тема ренессансной и всей барочной религиозной живописи, господствуют в потолочной фреске. «Во всём этом проявляется не столько оязычивание христианства, сколько христианизация высокой языческой античности»[36]. Правда, рядом с церковью теперь возвышается дворец великого человека со своей иконологией, со своим культом, в котором можно различить два ведущих образа – Геракла и сияющего Гелиоса. В залитой светом архитектуре Версаля этот культ достигает своей вершины. Однако в барокко церковная и светская сферы постепенно сближаются вплоть до смешения. Под знаком человека-героя осваивается Вселенная, коль скоро человеческий микрокосм пребывает в симпатической связи с макрокосмом природы, начиная от звезд и кончая историческим и мифологическим миром. Уровни плавно переходят друг в друга; в чувственном просвечивает духовное, всё как бы едино по своей субстанции. Художник тоже обожествляется в своей творческой способности; Леонардо да Винчи полагает начало типу универсального человека, последним воплощением которого был Гёте. Внутреннее состояние человека теперь пламенно, страстно, энтузиастично; отношение к нему оптимистично. «В основании этого мирочувствия лежит чуть ли не дерзкий расчет на благость, милосердие и миротворящую силу Бога. Мир по существу уже спасен и возвышен до преображенного состояния Христом и его Воскресением, зло уже потеснено, обессилено, обращено в ускользающую тень». Реакцией на такое мирочувствие был трагический мир Микеланджело, маньеризм с его настроениями сомнения и тоски и протестантизм, по религиозным соображениям не принимающий идею героя: в протестантизме продолжает жить средневековый образ маленького бедствующего человека, секуляризованный впоследствии до образа рядового обывателя и прозаической природы, которые и стали в современном мире безусловно преобладающим объектом изображения. В творчестве Рембрандта достигается неповторимый синтез между барочной и позднесредневековой картинами мира. Человек на всех ступенях своего смертного бытия, от нищего до царя и первосвященника, предстает тут одновременно и низким и возвышенным. Неповторимость единой эпохи Ренессанса-барокко заключается в недоступном для романтики и готики и исчезающем впоследствии союзе христианства с жизненной органикой. В этом отношении Ренессанс и барокко, по Зедльмайру, оказываются, наряду с греческой античностью, вершиной мировой истории. В другом аспекте этот третий европейский период близок своим антропоцентризмом не только к классической античности, но и к готике. Человеческие образы высокого Ренессанса через Мазаччо и Джотто восходят к скульптурным образам «воскресшей жизни» на классических готических соборах XIII века. Со своей стороны, человеческий образ в протестантской нидерландской живописи XVI и XVII веков уходит своими корнями в сниженный – «в яслях и на кресте» – богочеловеческий образ ранней готики, а протестантская церковная архитектура имеет прообразом храмы нищенствующих орденов XIII века, противников готического собора. Ренессанс вырастает в недрах готики, готика кончается с Ренессансом и барокко. Позднему немецкому барокко (Бальтазар Нойман) удается органически сплавить готику с Ренессансом. Наоборот, органическое слияние романики с Ренессансом-барокко немыслимо.
Четвертая эпоха: «модерн» в смысле нового искусства (с 1760 до сего дня)[37], время «автономного человека», стоящее под знаком пропасти между Богом и человеком и замены троичного христианского божества новыми богами и божками (Природа, Разум, Искусство, Машина и наконец Хаос в религиях атеизма, антитеизма и нигилизма). За счет прежней пластики снова развертывается плоскость, протяженность (перрон как основная архитектурная форма), пространственность, хотя, в отличие от доготического романского искусства, плоскостность означает теперь вытеснение человеческого элемента, ограничение свободной человеческой чувственности уже не в пользу надмирного, в которое теперь нет веры, а в пользу стихийного и механического. Это трансцензус человеческой сферы, но не ввысь, а вниз.
Иератическое романское искусство смотрит на вещи «надмирным оком», и ему грозит оцепенение, подобно тому как монотонная молитва может превратиться в бессмысленное бормотание. Готика и Ренессанс-барокко живут всеми своими чувствами, совокупно участвующими в постижении возвышенной реальности. Современное искусство дробит чувственное восприятие, причем его взор то напряженно-трезвен, то туманится в полусонном забытьи. Опасность иератических эпох – мумифицированность, схематизм; опасность готики – красивость, игрушечность, фотографичность в изображении человеческого тела, а также сухость, доктринерство, истонченность; опасность антропоморфной эпохи Ренессанса-барокко – погоня за правдоподобием (иллюзионизм), смешение искусства с наукой, виртуозность и академизм; опасность модерна – бесчеловечность. Романское искусство движется как бы возвращаясь к архетипам; готика опускается к земной действительности; Ренессанс и барокко развивают всё более синтетические и богатые формы; с конца XVIII века дух движется скачками – к максималистским крайностям и от них снова к более умеренным позициям. Символ романской эпохи – большой круг религиозной идеи, целиком включающий в себя малый круг светской сферы; символ готики – круг, из которого частично выступает, разрастаясь, круг меньшего радиуса; символ барокко – овал с его двумя центрами; символ современности – гипербола, разлетающаяся от обоих прежних центров до бесконечности в противоположных направлениях к двум взаимоисключающим пределам высшей рациональности и крайнего иррационализма.
Четвертую из вышеописанных эпох Зедльмайр чуть ли не готов был бы считать по Шпенглеру фазой старения и смерти, если бы не две небывалые черты, исключающие ее из всякой исторической типологии. Чуждое другим культурам вытеснение человеческого элемента и столь же неслыханное планетарное распространение культуры Запада заставляют исследователя понимать современность как поворотный пункт во всей мировой истории.
Европа прошла в свою первую эпоху обычную стадию теоцентрических культур, приобрела в эпохи готики, Ренессанса и барокко черты антропотропных культур (таких, как древнегреческая и китайская), но ее последнюю дегуманизирующую ступень сравнить не с чем. Техническое объединение планеты столь же уникально. Причем «всё говорит за то, что выйти вспять из этого состояния уже невозможно, что техника с ее космогоническими последствиями не уйдет со сцены даже в случае если погибнет сама Европа. Это однако означает, что с приходом западной культуры кончается мировая эпоха отдельных цивилизаций и среди страшных кризисов начинается эпоха планетарного единства, структуру и характер которой совершенно невозможно предугадать. На западной культуре с изначально присущим ей невероятным динамизмом, по-видимому, лежит задача подготовить этот переход. Запад, возможно, последняя высокая культура старого типа, а с другой стороны, в своей последней уникальной фазе она приоткрывает перспективу какой-то новой культуры, когда всё частное и отдельное будет перекрыто всемирным образованием неопределенного и неопределимого характера; в этом смысле можно говорить о каком-то новом начале»[38]. В самом деле, эпохе высоких культур предшествовала эпоха первобытных, пространственно ограниченных, племенных; не исключено, что человеческая история движется путем сплочения всё более обширных культурных общностей, вплоть до всемирной.
Дегуманизация, взятая сама по себе, есть возврат к первобытному состоянию человекообразных существ, только уже в условиях необратимого хаоса. Если этому ничто не помешает, можно будет считать, что человечество примерно до 1760 г. прошло высшую точку своего развития и ныне разрушается как таковое. Однако при наличии сознательных усилий первая поверхностная, техническая унификация нашей планеты может перерасти во внутреннюю, духовную реинтеграцию человечества, возвратившегося к своей середине. Эту возможность, говорит Зедльмайр, предвидел в своей метафизике истории В. С. Соловьев, писавший, что каждый раз перед приходом великого нового появляется его искаженный образ: перед возникновением человека – обезьяна; перед откровением Богочеловека – его карикатура, эллинистический человекобог; перед вторым пришествием – «обезьяна Христова», Антихрист. Явление машины как символа внешнего господства над миром тоже может быть прелюдией теургического и вместе органического овладения мировой реальностью. Обе возможности, пишет Зедльмайр, относятся не к отдаленному будущему, а уже сейчас полновесно присутствуют в мире.
Прогнозировать что бы то ни было с помощью исторических параллелей, подчеркивает Зедльмайр, невозможно за отсутствием таковых. Сопоставления сами по себе способны разве что навести на мысль, что распад искусств и гипертрофия внехудожественного начала, оледенение и хаос зашли так далеко, что баланс между разрушительными и целительными силами невосстановим. Нужна имманентная оценка ситуации. Непохоже, что в области искусств в ближайшее время можно ждать существенных перемен. Ожидать ренессанса церкви, церковной архитектуры и религиозного искусства тоже не приходится. И всё-таки само превращение архитектуры в инженерное конструирование, выведя преобладающую часть строительной деятельности из сферы искусства, в некотором смысле высвободило место для архитектуры церкви, гробницы и памятника. «Это означает, что искусство – если оно еще к тому способно – снова может уйти в узкую область сакрального, как некогда в начале великих культур. Техническое унифицирование тем самым, по-видимому, предоставляет искусству шанс как раз такого ограничения, которое может вернуть ему необходимую внутреннюю сосредоточенность»[39]. Это однако кажется Зедльмайру слишком далекой перспективой. Пока единственной сферой, где хотя бы отчасти произошло первое улучшение после начавшегося в XIX веке упадка, представляет искусство могильных памятников. Подобный симптом важнее, чем может показаться. «Ведь всякая культура буквально стоит на культе мертвых – наравне с культом земли; без уважения к умершим нет уважения к человеку. На этой первооснове, на этом внутреннем базальте религиозности и держатся все более высокие и светлые религии, и когда они слишком отрываются от этой своей основы, им грозит истончиться до спиритуализма».
В области материальной культуры поворота к лучшему можно ожидать от осознания человеком того, что определенные формы его мысли и действия разрушительны и ведут к опустошению земли в буквальном смысле слова. Сама земля опровергает неорганическую, механически-техническую ментальность. Есть признаки, что началось медленное и трудное возвращение к нормальному положению вещей. После того как в 1930-е годы выветривание и смывание сплошь распаханных плодородных земель в США достигло катастрофических размеров, американская администрация под напором крайней необходимости приняла меры, в которых европейские наблюдатели усматривают возрождение средневекового подхода к земле и благотворный пример для европейцев, еще зачумленных техническими завоеваниями XIX века. Среди центральноевропейских стран, по наблюдениям Зедльмайра, только Австрия благодаря упрямству и отсталости своих крестьян устояла против «даров» сельскохозяйственной науки XIX века и сберегла свои земельные угодья: все полевые тропы, ручьи, межи сохранены и обсажены плотными рядами деревьев и кустарников, а участки, оберегаемые этими естественными оградами, обрабатываются с традиционной тщательностью. В США перестали срывать неровности почвы; избегают при планировке участков прямых углов; в холмистой местности располагают поля террасами; вернулись к чересполосице, стараясь высевать узкими лентами рядом друг с другом по возможности разные культуры; закладывают живые изгороди и рощи посреди полей; подсевают по углам поля просо, сорго и подсолнечник для птиц и дичи; разводят бобра, чтобы он строил бесплатные плотины; перегораживают овраги и пускают в образовавшиеся водоемы рыбу; ставят земляные дамбы в местах естественных стоков, чтобы дождь и снег оставались там, где они выпали, и пополняли запасы подземных вод. Мечта инженеров американской Службы консервации почв – ландшафт, густо усеянный лесками, кустарником, живыми изгородями, мелкими водоемами, прудами, с небольшими лесопильнями и ветряными двигателями, с использованием всех хозяйственных возможностей земли, – словом, цитирует Зедльмайр немецкого сельскохозяйственного специалиста А. Зейферта, «настоящий староевропейский ландшафт, который мы сейчас пока продолжаем разрушать, потому что еще не избавились от механистического духа XIX века»[40]. Таким образом, сама жизнь может вызвать добрые перемены в обращении с землей.
Какая-то надежда на самоисцеление есть и в области духа. Обнадеживает в частности то, что сейчас реже слышатся призывы к разнообразным видам «освобождения». Даже некоторые авангардисты начинают догадываться, что искусству доступны более высокая строгость, точность и объективность мысли чем научно-техническому рационализму. Впрочем, Зедльмайр не скрывает, что футурология интересует его лишь постольку, поскольку прогноз способен пробудить духовные силы людей. Прогноз облегчает спасительное понимание того, что автономный человек, как автономная архитектура, автономная живопись, автономное искусство, автономное государство были роковым губительным сном, который теперь уже досмотрен до конца и должен уступить место более светлой и более достойной человека мечте.
В сфере коллективной психологии оздоровление начнется, когда тоска, меланхолия и отчуждение уступят место более бодрому и светлому состоянию души. Угрюмость, пессимизм, подавленность стали преобладать в психологии масс сравнительно недавно, в эпоху Просвещения, и они могут снова смениться всплеском бодрости, светлой легкости, взаимного доверия. Для этого, думает Зедльмайр, не требуется даже особых внешних обстоятельств, потому что чистая радость имеет внутренние истоки. Во все исторические времена, когда этой радости удавалось потеснить пугающие видения ада, ее спутником был освобождающий юмор, как бы воссоединявший землю с небом. Даже слабая его примесь в новом искусстве, как например иногда у художника-абстракциониста Пауля Клее, пересиливает нечеловеческие и мрачные черты. «И в этом свете полны обещанием будущего те неприметные прибежища искусства и человечности, где под ледяными глыбами эпохи с ее страхами и тоской пережила зиму и дала ростки подлинная радость. А ее питательная почва – сознание нашей сотворенности».
Гуманность не сохранить без веры в то, что человек потенциально есть образ Божий и стоит в середине миропорядка, пусть хрупкого и уже полураспавшегося. Так или иначе, восстановление миропорядка может исходить только от его средоточия, человеческой личности. «Не надо терять веру в то, что и отдельный человек, выздоравливая сам, способен помочь выздоровлению целого. Ведь существует такая вещь как солидарность в страдании. Да и недуг целого начинается прежде всего с распада отдельных клеток. Он будет преодолен только усилиями людей, которые в себе решительно преодолеют всеобщий разлад и духовно обновятся». Обновление есть возвращение к истокам и началам, и к обновлению стремятся только там, где болезненно чувствуют искажение человеческого образа, стыдятся этого, страдают, доходят до грани отчаяния. Страдание таинственными путями высвобождает целительные силы, и где больше страдания, там больше и надежды.
Среди страдальцев, всего мучительнее переживавших распад человека и его мира, Зедльмайр встречает величайших художников XIX и XX веков. В это время «сложился целый новый тип страдающего художника», какие раньше являлись самое большее единицами, – одинокого, ищущего, отчаивающегося художника, стоящего на грани безумия. Художники XIX века, великие и глубокие натуры, часто несут в себе черты жертвы и жертвенности. От Гёльдерлина, Гойи, Фридриха, Рунге, Клейста через Домье, Штифтера, Ницше (который тоже был художником) и Достоевского до Ван Гога, Стриндберга (с его возгласом: «Досадно за человека!»), Тракля проходит единая солидарность страдания, вызванного эпохой. Все они страдают от того, что Бог отдалился или «умер», а человек унижен. И всего больше страдает от этого Запад. Поэтому здесь есть духовная надежда.
Приходят в отчаяние только способные благоговеть и любить. Для них отчаяние может стать той мертвой точкой, через которую ведет путь к новой полноте бытия. Только таким кризисным путем Европа может вернуть себе свое место в мире. Есть люди, цитирует Зедльмайр Христиана Моргенштерна, которым нужны катастрофы. Как знать, не нужны ли они и народам, и культурам. «Что касается искусства, то, пожалуй, на первых порах, а то и еще долгое время нечего будет поставить в опустевший центр. Тогда должно по крайней мере оставаться сознание, что в утраченной середине стоит незанятый трон»[41].
После этого изложения, в котором мы как можно вернее следовали за мыслью Зедльмайра, может быть уместно сказать несколько слов о нашем отношении к нему. В эклектическую систему Зедльмайра, помимо профессионального усвоения и критического развития традиции Г. Вёльфлина (идея художественного ядра произведения), А. Ригля (теория художественной воли), искусствоведческой школы его учителей М. Дворжака (история искусства как история духа), Ю. Шлоссера (интерпретация художественного произведения как искусство), входят элементы философии жизни, экзистенциализма, эстетики Бенедетто Кроче, гештальтпсихологии, структурализма, религиозно-философского мистицизма (Ф. Баадер). Для Зедльмайра характерно обильное, иногда адаптирующее цитирование обширного круга литературы от средневековой схоластики до современной теории музыки. Особенно часто он обращается к русской этико-философской и эстетической мысли (Достоевский, Вл. Соловьев, Вяч. И. Иванов, Вл. Вейдле, М. В. Алпатов). В своих концепциях духовно-космического сдвига, вытеснения органики инженерией, стилевого хаоса в искусстве, в оценке творчества Пикассо, в понимании машины как обращенного к человеческому духу вызова, в ожидании второй, органической фазы планетарной техники Зедльмайр обнаруживает далеко идущую близость к Н. А. Бердяеву. Философия искусства Зедльмайра свидетельствует о внутреннем кризисе искусствознания как автономной науки. Наследник всего методологического инструментария, накопленного за столетие со времени возникновения всеобщей науки об искусстве, Ганс Зедльмайр дает ясно видеть неизбежную зависимость всякой теории художественного творчества от фундаментальной философии.
Конец или начало?
Тема опасности нынешнего момента укоренилась в общественном мнении конца XX века. От частого повторения ее острота притупляется. Растущая угроза становится привычной чертой окружающего мира, и чтобы привлечь к ней внимание, оказываются необходимы заявления в повышенном тоне.
Один из многих примеров здесь – «Открытое письмо к научному интернационалу» французского академика Ива де Константена. Он зовет ученых, обладателей «абсолютной в человеческом роде власти, власти знания», «прокричать истину людям». «Раскрыв грозящую беду, поднимите людей из отчаяния, в ответ на ваш призыв они восстанут; революционное веяние, в конечном счете всегда победоносное, охватит их, и вместе с вами они восторжествуют, подобно тому как благодаря вам им покорилась самая сумасшедшая утопия, астрофизика, астронавтика, электроника, информатика и сколько еще других невероятных и поразительных вещей, которые вы извлекли из области химер единственно силою вашей пылкой и деятельной воли». Константен обращается к ученым потому, что кроме них не видит в мире другого столь же беспристрастного и влиятельного сообщества. Для спасения мира, считает он, нужно, чтобы ученые не впадали в «нечувствие и беззаботность», не превращались в «бездушных богов», а понесли нравственную ответственность, которую на них накладывает «верховенство науки, хозяйки современного мира, делающей вас (ученых) хозяевами ситуации… Спасите человека!»[42].
Константен характерным образом мало уточняет состав угрозы. Это не лишает его опасения реальных оснований, а его напоминание – актуальности, хотя еще не так давно подобные заявления показались бы речами фанатика. Общепризнанная особенность конца второго тысячелетия новой эры, этого, как часто говорят, «жуткого и апокалиптического времени»[43], заключается в том, что человечество реально стоит на краю полного уничтожения.
«Европа: Упадок или ренессанс?» – такое название для брошюры о довольно-таки частных вопросах экономики и политики показывает, как неотвязно европейской мысли сопутствует образ Возрождения[44]. Память о нем настолько жива, что до сих пор – или с годами всё больше – эпоха Ренессанса способна сосредоточивать на себе и суровое негодование из-за якобы совершившегося тогда взлома «охранительных механизмов культуры», и надежды на выход из кризиса и новый расцвет.
За постоянным обращением к Ренессансу стоит нечто большее чем публицистический прием. Ясно, что Новая история не могла бы начаться в инертном обществе, принимающем сложившийся уклад жизни и историческую судьбу за непременную данность. Именно с XIV в. в европейском регионе начинается всестороннее изменение такой быстроты, какая неизвестна в других культурах. Европейское Возрождение оказывается несомненной отправной точкой, хотя вовсе не единственной определяющей причиной исторических сдвигов последней половины старого тысячелетия.
Безысходная двойственность понимания и оценки Ренессанса в западной мысли связана с проблемой западной цивилизации как таковой, ее всемирно-исторического смысла и замысла, ее перспектив. Разбираемые ниже авторы часто попадают в «культурологический круг», откладывая решение судьбы нашей культуры на будущее, а с другой стороны ставя будущее в зависимость от нового творчески-изобретательского усилия, подобного тому, каким было вызвано к жизни Возрождение в Европе. О той же цепкости культурной традиции говорят постоянные повторения ренессансных тем и настроений в попытках мысли, претендующих на новизну.
Для сравнения, во времена больших моровых поветрий прошлого, например в 1348 г., когда чума охватила почти все известные земли, наблюдателю, окруженному со всех сторон накатывающейся бедой, естественно представлялось что всему человеческому роду приходит конец. Однако исторический опыт, сохранявшийся в предании и литературе, напоминал, что после подобных эпидемий всегда остается еще большое число уцелевших; было известно также, что некоторых местностей со «здоровым воздухом», особенно в горах, язва не достигает. Кроме того даже после гибели человека сохранялась в неприкосновенности по крайней мере растительная и животная среда. Успокаивающим было и то, что человек как таковой (Адам) в сознании той эпохи оставался абсолютно необходимым связующим средоточием в иерархии земли и неба, потому человеческий род мыслится мистически таким же вечным, как космический порядок. Земля, управляемая своим хозяином – человеком, согласно учению философов, одобренному христианской догматикой, находилась в середине вселенной. На фоне всего, что теснило человека раньше, современная угроза выступает поэтому действительно «небывалой», а переживаемый кризис культуры – «беспрецедентным» и во всяком случае более глубоким чем при развале Римской мировой империи[45].
Современная критика Ренессанса
Сегодняшнюю тревогу пробуют сравнить со страхом конца света, охватившим Европу перед 1000 годом[46]. Тысячелетний юбилей христианства внушал людям суеверный ужас. Если не тогда надо было ожидать Второго пришествия, то когда же. Распространившиеся сейчас массовые нигилистические настроения, включая равнодушие к окружающей среде, к собственной жизни и к потомству, могут быть сопоставлены с тем безразличием к труду, имуществу и семье, которое охватывало средневековые селения перед воображаемым концом света. Ожидание суда над миром и космической катастрофы бросало впечатлительных неграмотных людей, может быть, в еще более пассивную завороженность, чем ныне – угроза физической гибели. Вместе с тем, наше время отличается от конца I тысячелетия тем, что необратимые изменения в биосфере не ожидаются, а уже произошли. Радиоактивные отходы с неускоряемым процессом распада будут очень долго требовать для своего хранения специальных технических усилий, специалисты говорят о «заражении окружающей среды на тысячи лет вперед»[47]. «Лавина вторичных последствий техники», от скопившихся в почве химических реактивов и изменения водного баланса до воздействия экрана на детей, уже наблюдается и надвинется на человечество в ближайшие десятилетия[48]. Исчезновение видов живых существ и истощение ресурсов Земли у всех на виду.
Менее очевидно, но более тревожно по своим последствиям для сохранности самого человеческого типа разрушение традиционных, да и всяких, укладов жизни, кроме структуры «общества потребления». Строго говоря, о структуре здесь говорить трудно, она слишком способна к внезапному распаду. Традиционное общество знает, что делать в период острой нужды, общество потребления не знает. Даже в развитых индустриальных странах, которые, казалось бы, имели время приспособиться к изменениям, социальная ткань ветшает вплоть до распада национального чувства[49]. Термин тринидадского романиста и культуролога Видьядхара Найпола «раненая цивилизация», относящийся к европеизированной Индии, приложим и к Африке, где европейским влиянием «вытоптана почва для самостоятельного развития»[50], и к Америке индейцев, которой, по выражению современного культуролога, были вскрыты вены при ее завоевании. Прошлое, во имя традиций которого проходило национальное освобождение, умерло (по энергичному выражению Найпола, «зря освобождались»), и региональные возрождения самостоятельных неевропейских культур представляются уже утопией. Хотя национальные идеологии еще строятся вокруг ценностей древней традиции, насущные нужды – бедность, голод, эпидемии – так или иначе заставляют неевропейские страны наскоро перенимать западную технологию. Вступление на «западный путь развития» таким образом казалось бы неизбежно. А с другой стороны, подтягивание всех стран до уровня развитых фактически невозможно по причине небесконечности ресурсов: это вызвало бы «почти немедленную гибель биосферы, а тем самым и человеческого рода»; в самом деле, чтобы житель Руанды, например, догнал по энергообеспеченности североамериканца, он должен потреблять в 1 100 раз больше энергии чем в настоящее время[51].
Промышленная революция, определившая облик современного мира, продолжается чуть больше двух веков и имеет определенное место рождения. Индустриализация началась «на группе островов около северо-западного побережья Европы» в середине XVIII века; все остальные страны мира получили машинное производство как импорт[52]. Тем не менее ни эта первая, ни последующие научно-технические революции сами по себе характерным образом (революция всегда права) не подвергаются критике даже самыми радикальными идеологами на Западе, как и во всём мире. Виновником глобальных сдвигов – технизации сознания, истощения эксплуатируемой природы, небывалого роста населения – часто, особенно в среде неевропейских культурологов, называют Ренессанс. Ему ставят на вид прежде всего освобождение сознания от священного страха, расколдовывание природы, пространства и времени. Считают, что без подъема ренессансной внецерковной культуры человек остался бы в связанном состоянии внутри священной ограды и не нарушил вечного природного баланса, лишь звеном в котором на протяжении тысячелетий было человеческое хозяйствование на земле. Эмансипация сознания, которое в Средние века предположительно имело координирующий центр, а с десакрализацией потрясло надежные устои и впало в индивидуалистические блуждания, разоблачается как главная причина зла.
Иранский философ и поэт, живущий во Франции, Дариуш Шайеган винит пять европейских веков, со времен подавления «религиозного, догалилеевского» сознания, в «церебрализации» человека, сделавшей из него по существу умственного урода. Поскольку незападные цивилизации в целом недобровольно вступили на путь «научно-технической мутации», им со стороны явнее видна, хотя и непостижима начавшаяся в эпоху Ренессанса метаморфоза западной мысли, перешедшей от созерцания к изобретательству (инструментализация интеллекта), от субстанциальных форм к механико-математическим конструктам (математизация мира), от ориентации на идеальные нормы к первичным импульсам (натурализация человека), от эсхатологии к историзму (демифологизация времени).
По Шайегану, планетарное шествие западного человеческого типа куплено ценой усечения всех сторон человеческого существа кроме одной – инженерной. «Вторая мутация» человечества (первая произошла в VII–V веках до н. э.) наметилась в XIII веке и завершилась в эпоху гуманизма. Коперник не просто открыл астрономический закон, он прогнал человека от родного очага. Вместе с подрывом космического порядка распалась иерархия бытия. Ренессансный анимизм на поверхностный взгляд, не разделяемый Шайеганом, еще одушевлял природу, однако по сути дела он работал на переход от символического осмысления к математическому расчетливому исследованию мира. Научное мировоззрение словно намеренно вытравило всякую символическую связь (симпатию) между макрокосмом вселенной и микрокосмом индивида. Пятивековое вытеснение органической религиозно-символической природы человека не пройдет даром. Религия уже возвращается в облике идеологии. Явление Гитлера, «шамана технологического орднунга», «жреца новой иррациональной религии» показывает, что искаженный, но не ослабленный homo religiosus грозит снести научно-культурные ценности, накопленные столетиями секуляризации. Другие культуры до сих пор еще, в меру своего выживания, благоразумно оставляют за природой черты божества. Видимое и ощущаемое сохраняют здесь важное духовно-символическое значение. Абстрактные понятия до сих пор переводятся китайской и японской философией в конкретные (универсум – «горы», «река», «великая земля»; эго – «капля воды в источнике», человеческая природа – «изначальный лик и взор»). Признак нежелания мира пойти разрушительным путем Запада Шайеган, как многие, видит в том, что неевропейская мысль в принципе не может создать философию истории, понимает перемены как вечную игру бытия, которая только кажется (космическая иллюзия, майя) зависимой от человеческой воли, как змея только кажется кем-то брошенной веревкой.
В этой эффектной конструкции всему предпосылается видение такого человека, с которым еще ничего не случилось и который еще не попал в историю. Он живет созерцанием и заворожен тайной бытия, угадывает сущности вещей, женственность мира; он эсхатологичен. Нетронутый человек – конструкт; мы видим вокруг всегда уже только «тронутых». Но само спазматическое хватание за идеальную спасительную соломинку говорит о степени и серьезности тревоги. И хотя полагаться на продиктованный ею диагноз нельзя, всё тревожное, что хотят проанализировать, никуда не уходит.
Вот уже 2 500 лет, но особенно с Ренессанса Запад, говорят его критики, тренировал у себя способности абстрактного мышления, безжалостно ломал предохранительные механизмы боязливого благочестия и почтительного страха, полагал высшую ценность в расширении свободы, давал волю любым порывам и только теперь перед лицом наступившего опустошения земли засомневался, не правее ли цепкая традиционность Востока с его сознанием, не захотевшим выйти из спасительного гипноза. Сначала рационализированная мысль, потом техника Запада прошлись катком по планете, «сравняли мир до единообразия, свели его богатую пестроту к предсказуемому и распланированному состоянию»[53]. Земля оказалась слишком хрупкой, а силы человека слишком разрушительными после того, как он перестал ограничивать себя «человеческой мерой» (Аббаньяно).
Остальной мир, не приняв вполне Ренессанс и промышленную революцию, снова и снова пытается строить общество на религиозных или унаследованных началах. Больше того, не только восточные народы, «словно магнетизированные»[54], не могут отрешиться от религиозного почитания нерационализируемых устоев жизни. Похоже, что инстинктивные сдерживающие начала так неискоренимы, что даже в самых индустриализованных странах тоже дает о себе знать потребность завязать связи с иррациональным через астрологию, парапсихологию, обрести опору в какой-либо религии, почувствовать тепло территориальной общины, уют укорененности в традиции[55]. В последние десятилетия там происходит «ренессанс ремесел» как альтернативы капиталистическому хозяйству: даже без прибыли, без прибавочной стоимости ремесленный труд с его этикой («сделать хорошо»), со своим стилем человеческих отношений («по душам»), со своим спокойным либерализмом вновь укореняется в нишах общества, не впускающих нивелирующей организации[56].
Иррациональные привязанности внутри промышленных обществ обычно рассматриваются как пережиток религиозного прошлого. Не являются ли они отдаленным предвестием будущего возврата к нему. На протяжении тысячелетий они эффективно сковывали внутри традиционных общин процесс автономизации способностей и потребностей. Современное промышленное производство ограничено лишь своими ресурсами, тогда как традиционное ограничивало свои потенции. Живущий в нем ничего не изобретал заново, а заполнял «гнезда» внутри заранее данной и хранимой структуры, например воспроизводя на стенах дома, на коврах и посуде фольклорные мотивы. Жизнь людей была настолько поглощена общением с невидимыми силами, что реальное хозяйствование не интенсивировалось и потому не мешало биологическому самовосстановлению окружающей среды. Рабочая сила земледельческих племен недоиспользована; труд, занимающий от одного до четырех часов в день, ненапряжен, «порист», прерывается пением и беседами. У жителей древних городов-государств жизненная энергия аналогичным образом поглощалась этическим и социальным нормированием в целях поддержания и сохранения социума[57]. Только в последние столетия культура стала не сдерживающей нормой, а предметом производства, сбыта и потребления. Современное общество разучилось регулировать рождаемость и точно так же перестало вводить в рамки порождения ума. Разрастание обособляющихся способностей уравновешивается еще более лихорадочным разрастанием потребностей. «Жажда развития переходит в развитие жажды»[58].
Критика Ренессанса разгорается до повышенных тонов. В истоках «технической цивилизации», затопившей мир, усматривают всё тот же раскол сознания, который позволил автономной инженерно-изобретательской мысли оторваться от почвы вековых навыков, иррациональных императивов и благоговейных страхов. Подчеркиваемое на Западе отличие его от Востока в глазах критиков Запада лишь воспроизводит «шизофреническую раздвоенность» европейского человека, культивирующего в себе научно-техническую сноровку за счет мудрого вчувствования в мир. «После Ренессанса, т. е. после одновременного зарождения капитализма и колониализма, человеческая история функционирует только одной половиной самой себя, западной, игнорируя, презирая или разрушая свою же собственную восточную составляющую»[59].
Предвестия и предпосылки «ренессансной катастрофы» иногда усматривают в более глубоком прошлом. По Анатолю Франсу, «самым злополучным днем всей истории… был день битвы при Пуатье, когда, в 732, арабские наука, искусство и цивилизация отступили перед франкским варварством»[60]. Идя глубже в историю, находят, что «западная модель роста, порвавшая связи с природой и обществом и… бесстыдно манипулирующая природой посредством технических приемов, которые дали Западу власть разрушать землю вместе с живущим на ней», коренится в христианстве; оно с самого начала презирало природу, а со времен Ренессанса последовательно капитулировало перед наукой, пока, окончательно одряхлев, не впало в дуализм. Ренессанс выступает в этом свете лишь одним, пусть и самым решительным, шагом Запада на пути «конфискации вселенной». После Ренессанса «мы (европейцы) подходим к природе с воинственным и победоносным настроением, в намерении установить между нею и нами отношения собственника и собственности, рабовладельца и раба». После Ренессанса человек обречен на «индивидуализм, который с века конкистадоров вплоть до новейшего декаданса одиноких толп постоянно обостряется, ведя к расширению одичалой конкуренции в рыночной экономике, к подавлению самых беззащитных самыми бессовестными, к совершенствованию технологии соблазна, находящей свое грубейшее выражение в рекламе и в “маркетинге”, которые прививают людям искусственные потребности – поистине протезы эгоистической жадности»[61].
Протест против Ренессанса достигает иногда взвинченной резкости последнего проклятия, посылаемого по отдаленному в истории адресу от имени поруганного мира. «Как всё мышление после Средних веков есть либерализм и гуманизм, как вся социально-экономическая жизнь этих веков основана на отъединенном индивидуализме, т. е. оказывается капитализмом, и на рационализме, т. е. оказывается машинной культурой, так миф о всемогуществе знания есть всецело буржуазный миф. Это – сфера либерального мышления, чисто капиталистический и мещански-буржуазный принцип»[62]. «Разве западная цивилизация есть… слово о новой земле и обновленном небе? Трижды преступна хищническая цивилизация, не ведающая ни жалости, ни любви к твари, но ищущая от твари лишь своей корысти, движимая не желанием помочь природе проявить сокрытую в ней культуру, но навязывающая насильственно и условно внешние формы и внешние цели»[63]. «Хотя Ренессанс прозвучал великим кличем к оружию во имя науки и благосостояния, он кончил тем, что разнуздал научную “истину”, дал простор всем ее безумствам и тем убил человека – будь то человека тоталитарных государств или человека буржуазных демократий»[64].
Легко заметить неувязки таких обвинений. С одной стороны, идеализируемое традиционное или средневековое общество на деле вовсе не отличалось гармоничностью. С другой стороны, критики не замечают, что движутся в круге представлений, открытых Ренессансом, и пользуются языком его понятий, начиная с восприятия истории как создания человека. Сама позиция критиков, их пафос обличителей «машинной культуры» тождествен бунту против судьбы и «негодованию» (indignatio) раннего Возрождения против сложившихся исторических условий. Чувство «кипящего возмущения» было одним из главных двигателей Данте. Эта черта сближает его с Петраркой. «Негодование есть возбужденное движение благородного ума, вызванное негодностью дел человеческих; да, признаю, это чувство редко или никогда меня не покидает, и оно тем неистовее, чем больше для него повод; мои писания, может быть, выйдут наружу и покажут, что я был учеником истины… И кто знает, не я ли сам с моей негодующей и не боящейся призраков душой проложу путь имеющим волю идти вперед?»[65] Достоинство распрямившейся личности, протестующей против своего окружения, – возможно, самое устойчивое среди ренессансных настроений, завещанных последующим векам. Забота современных критиков о полновесном достоинстве личности тоже по прямой линии восходит к протесту ренессансного гуманизма против средневековой функционализации человеческого существа. Наконец, именно у ренессансных философских поэтов и художников очень рано впервые возникли мотивы хранения внешней и человеческой природы.
Развернувшийся сейчас пересмотр западной культуры часто включает обличение Ренессанса, редко замечая свою собственную зависимость от него. Еще чаще однако к нему, возобновляя его темы, обращаются за помощью через голову последних четырех веков.
Железный корабль
Как правило, критика Запада со стороны внеевропейских культурологов повторяет темы самокритики, которою европейская мысль последних ста лет занимается с непревзойденной остротой и въедливостью. Всё-таки инициатива суда над собой и самые жесткие приговоры принадлежат западной мысли в лице Ницше, Хайдеггера, Антонена Арто, их современных интерпретаторов. Этот процесс часто достигает остроты самораздирания. Века веры в прогресс, в просвещение, в разум, науки, в чистоту нравов, в возрождение классики не знали такого разочарования всей культурой. Возможно, опять же только гуманизм XIV века, отвергавший всю современность, показал сходную способность к недовольству временем и собой[66].
Самокритика Запада связана с концом питавшегося событиями последних веков чувства непрерывного роста. Общая схема происшедшего большинством авторов рисуется следующим образом. Ренессанс был восстанием человека против всевластия природы и судьбы. Это восстание оказалось успешным. С тех пор были развернуты такие технические и социальные силы, что природа и судьба не просто покорены, но могут быть в прямом смысле стерты с лица земли. Зато механизм поддержания и наращивания человеческой силы так разросся и требует для своего обслуживания таких жертв, что сам занял место рока. По образному выражению физика-теоретика Вернера Гейзенберга, непрерывно совершенствуемый корабль настолько перегружен железными и стальными конструкциями, что стрелка его компаса указывает уже только на его собственную массу, и нужно решать, идти ли прежним путем, усовершенствуя теперь не только корабль, но уже и компас, или бросить компас и снова смотреть на звезды[67].
Человек в войне против природы окопался так прочно, что забыл выход из своих блиндажей. Современная наука разучилась думать о чем-либо кроме максимально осязаемого успеха в своих экспериментах с природой. «Экспериментирование означает осуществление власти над природой. Обладание властью оказывается последним доказательством правильности научного мышления»[68]. Говорят о «злоупотреблении орудием»[69], о «вечной зиме», в которую погружается человечество, ходя по кругу обеспечения своей независимости от природы. Юрген Хабермас предупреждает, что само по себе «давление вещей», экономические и административные императивы «монетаризируют и бюрократизируют всё более обширные области жизни, превращают в объекты манипуляции всё больше видов межчеловеческих отношений»[70]. Технический человек создает «термитные государства», массивные структуры, в которые живое встроено наравне с механическим и задавлено этим последним[71]. Дальнейшее окостенение этих структур только упрочивает их. Дезорганизованное общество «смертельно отравлено агонией Порядка, который еще надолго сумеет пережить свою собственную смерть, схоронив нас под своей косной арматурой»[72]. Механизированное варварство «утверждает себя как отравленный плод цивилизации, сбившейся с магистрального пути и забывшей человеческую меру; оно грозит сегодня человеку, ставя под удар само его выживание на земле»[73].
Наука, переходящая в технику, в промышленность, в национальное производство, следует своей логике и требует от человека соответствующего функционирования. «Тайный закон промышленного века, обусловливающий всё его фронтальное шествие – в науке, технике, политике, этике, социальном устроении, философии – есть детерминизм: отношение причины к следствию»[74]. Однажды приведенное в движение, техническое производство не может быть остановлено по воле человека. Техника по своему существу есть нечто такое, чем человек сам по себе овладеть не может, утверждает Хайдеггер. «Современная техника – вовсе не “орудие” и не имеет уже с орудиями ничего общего». Интервьюер, записавший эти слова Хайдеггера, возразил: «Но ведь Вас можно самым наивным образом поправить: чем здесь еще надо овладевать? Всё прекрасно функционирует. Строится всё больше электростанций. Производится масса полезных вещей. В высокоразвитой части земного шара человек хорошо обеспечен. Мы живем зажиточной жизнью. Что тут, собственно, не так?» Хайдеггер: «Всё функционирует. Жутко как раз то, что всё функционирует и это функционирование ведет к тому, что всё начинает еще лучше функционировать и что техника всё больше отрывает человека от земли и лишает его корней… Нам даже не нужно атомной бомбы, искоренение человека налицо… Происходящее сейчас разрушение человеческих корней – просто конец, если только мышление и поэзия снова не придут к своей ненасильственной власти»[75].
Еще в 1855 г. в предисловии к своей книге о Ренессансе и реформации Ж. Мишле писал: «Наш прогресс обращается против нас. Самая громадность производимого нами, по мере того как мы всё это возводим, унижает и пригнетает нас. Перед этой пирамидой мы оказываемся крошечными, мы больше не видим сами себя. А кто ее построил, как не мы сами? Промышленность, которую мы создали вчера, уже кажется нам помехой, нашим роком. История должна была стать пониманием жизни, должна была нас животворить; она нас наоборот подавляет, заставляя нас думать, что время есть всё, а воля – невеликое дело. Мы вызвали историю к жизни, и вот она повсюду: мы осаждены, задушены, раздавлены ею; мы идем согбенные под этим грузом, мы уже не дышим, не изобретаем. Прошлое убивает будущее. Почему случилось так, что искусство (за редкими исключениями) умерло? Это история его убила. Во имя самой истории, во имя жизни мы протестуем. История не имеет никакого отношения к нагромождению камней. История есть история души и оригинальной мысли, плодотворной инициативы, героизма – героизма действия, героизма творчества. Она учит нас, что душа весит бесконечно больше чем какое-нибудь царство, империя, система государств, иногда – больше чем человеческий род. По какому праву? По праву Лютера, который со своим нет, брошенным папе, Церкви, империи, поднял половину Европы. По праву Христофора Колумба, который опровергает и Рим, и столетия, соборы, традицию. По праву Коперника, который, наперекор ученым и народам, презрев одновременно инстинкт и науку, самое чувство и свидетельство зрения, подчинил наблюдение разуму и один пересилил заблуждение всего человечества. Таков прочный камень, лежащий во главе XV века»[76]. По Мишле, у современного рока два лица – промышленность и история. Восстание ренессансного человека было направлено против рабства у вечных законов рока, против «колеса Фортуны». Рок вовне был осилен, но он «интериоризировался», угнездился в действиях самого человека. Со времен Мишле гнетущими идолами промышленной цивилизации всё так же остаются техника и прогресс, «два главных мифа нашего времени» (Эллюль).
Мишель Фуко, один из ведущих критиков рационально-научного дискурса как логики системы и власти, рассказывал, что у него с детских лет повторялся кошмарный сон. Ему будто бы предлагают текст, совсем неразборчивый или понятный только в малой части; он «читает» текст, понимая, что выдумывает; вдруг текст совсем расплывается, так что не только прочесть, но и довообразить его делается невозможно; наступают ужас и пробуждение[77]. Наукообразная литература, на которую опираются современные идеологии, политика и экономика, уже одной своей рационализованной организацией (синтаксис, строй предложения, концептуальная структура) подавляет сознание, втягивает его в свой порядок, функционализирует. Человек «устанавливается» системой дискурса[78]. Мнимо отвлеченные научные «исследования» по сути оказываются эффективнейшим производством, фабрикой сознаний, штампующей мыслительные схемы. Капитализм, подрыву которого посвятил себя Фуко (называвший себя арсенальским рабочим, торговцем оружия, тактиком, наводчиком, картографом, штабистом, подготовителем сокрушения буржуазии), возник до машинного производства в форме накопления определенного рода знания – «функционального знания», рассадника организующей структуры, т. е. иерархии, т. е. власти[79].
Социальное насилие не могло бы ступить и шага без предписательного текста. Текст-установка, текст-парадигма отводит человеку функции объекта или субъекта «позитивного знания», дуалистически отделяя тело, подлежащее управлению, от сознания, призванного слиться со знанием. В качестве и объекта знания, т. е. власти, и его субъекта человек для Фуко – продукт не столь давно возникшего «функционального знания», изобретение конца XVIII – начала XIX века. Этот схематический человек был создан наукой прежде всего потому, что хорошо служит интересам ее собственного развития. Без особого умножения запасов информации или обострения наблюдательности научное мировоззрение сделало огромные успехи в направлении строгости и системности за счет «реорганизации знания». Были отброшены такие источники сведений как легенда, верование, ощущения вкуса, запаха, почти исключены осязание и восприятие красок. Зрение ограничилось фиксацией бесцветных форм, их количества, взаимного соотношения, относительной величины, структуры. Перестали учитываться настроение, интуитивное чувство реальности, биологическая сращенность с окружающей средой[80]. Мимолетное переживание не имеет в современной науке не только ценности, но и средств выражения. В свете рациональности любой текущий момент рассматривается как стадия движения к заранее определенной цели, т. е. редуцируется к прошлому или будущему.
Рациональность для критиков научного дискурса подлежит разрушению в самом своем корне через деконструкцию системы позитивного знания как такового, через разложение синтаксиса констатирующей и предписывающей речи. Сам язык заражен программированием, за правильно выстроенной фразой маячат иерархия и ориентировка, т. е. власть и организация. «Нет дискурса, в котором насилие не было бы за работой, которым не командовала бы жадность»[81]. Ненасильственной может быть только «антисистематическая речь» (Делез), лишенная субъекта и адресата.
Если системность языка вызывает подозрение, то тем более концентрированный организующий систематизм массовых идеологий, индустрии, рекламы, культурной промышленности вызывает у критиков технической цивилизации только сосредоточенную ненависть. «Империя Капитала похожа на военно-политические империи былых веков… И нужна совсем уж ненормальная доза пессимизма, чтобы думать, будто эта империя, построенная по крайней мере на такой же массе несправедливости и страдания, как Римская, избегнет разрушения, полагавшего конец всем прошлым системам власти. Империя Капитала развалится в свой черед… В добрый час! Лучше конец западной цивилизации и созданной ею технической системы, чем конец человеческого рода, к которому эта цивилизация ведет»[82].
Образом нераспавшейся вселенной для Мишеля Фуко одно время служила «ренессансная эпистема». Подобно тому как поэтическая философия Возрождения противопоставила конструкциям схоластического рационализма свободу поэтического вдохновения, современные критики технической цивилизации противопоставляют массивному дискурсу знания-власти живой опыт настроения, переживания, художественного творчества. Функционализация личности должна быть остановлена «возвращением человека в чувство» (Sensibilisierung, Хабермас), реабилитацией непосредственного восприятия.
Ренессансное мироощущение, считал Фуко, извратилось в рационалистическом сознании современной эпохи до своей полной противоположности, хотя формально здесь наблюдается далеко идущее сходство. Обе эпохи – интерпретирующие, т. е. заглядывающие за внешнюю кажимость явлений, с той разницей, что ренессансные откровения вели от знаков к вещам, тогда как для современной просвещенной, научной, развенчивающей мысли вещи, которыми она оперирует, отсылают к другим вещам и так далее до бесконечности, т. е. выхолащиваются до функции знака. Ренессанс, по Фуко, был культурой символических сближений, самой мощной формой которых оставалась симпатия – внутреннее тяготение вещей и явлений друг к другу, способное связать всё со всем, в конечном счете спаять весь мир в одно родное целое. Начиная с любой частицы разум по ниточке сущностных аналогий каждый раз восстанавливал внутреннюю связь миропорядка и его отнесенность к единому началу. Так, ценные бумаги до XVII века, т. е. вплоть до времени упрочения централизованных государств, изготовлялись и обменивались как временные заместители конкретных запасов драгоценностей или как лично удостоверенные обязательства, исходящие от реальных держателей власти; иначе говоря, даже бумажные деньги были полномочными представителями осязаемых богатств и достоинств. Наоборот, в наши дни не только промышленный капитал, но и золото переоцениваются в зависимости от курса, держащегося на валютной или товарной бирже. Этот курс в свою очередь зависит от соотношений валютного обмена и уровня акций, которые являются абстрактными знаками отдаленных экономических процессов. А индексы экономического производства тоже нельзя считать показателями реального богатства, потому что спрос и потребление в растущей мере определяются искусственными потребностями – в свою очередь знаками трудноуловимых социальных и духовных сдвигов, и т. д. Одна вещь указывает на другую. Реальность ускользает от тянущегося к ней ума. Реорганизацию европейской культуры Фуко относит к середине XVII века, когда ренессансное чувство мира было подавлено просвещенческим рационализмом. С тех пор знак – не продолжение вещи, не ее след или расписка, а условное обозначение, от которого путь к вещи закрыт. Тогда наступает возмездие. XX век стал веком «тотального подозрения» именно потому, что за исключением отчасти искусства и литературы не осталось никакой системы ценностей, за которой признавалась бы недвусмысленная весомость. Ренессансное первичное бытие прочно забыто и его можно отдаленно угадать только у безумных поэтов Гёльдерлина, Ницше, Антонена Арто. Опустошение вещей, превращаемых в знаки, с точки зрения Фуко и всего течения критики рационалистической цивилизации – одна из черт нигилистического упадка. Современная научно-рационалистическая мысль без помех покоряет пространство и время потому, что перестала искать и встречать вещи, которые останавливали бы ее. По сути дела ей не о чем мечтать и нечего ожидать, потому что действительность заранее раздроблена ею на принципиально разрешимые проблемы.
Повседневная действительность могла бы снова стать полной бесконечного значения. Фуко напоминает о плотности окружающего мира для детей, поэтов и безумцев. Ситуации, встречи, вещи, привычно осваиваемые нормальным сознанием, с неожиданной силой действуют на невооруженный ум. Мир для такого ума не манипулируемый объект, а скорее затаившийся субъект, в котором всё – загадочный знак важного и грозного смысла. О том, что Ренессанс жил столь же немеханическим ощущением мира, говорит уважение той эпохи к безумию. Безумца не спешили изолировать и лечить. В роли юродивых, кликуш, шутов они составляли непременную приправу общества, высказывая необходимую правду о человеке. В поэзии и искусстве, внедрявшихся в ренессансное общество и государство глубже чем когда бы то ни было позднее, безумию тоже были даны широкие права. Поэт, воспевавший Прекрасную даму, по определению томился в страстном бессонном бреду; ренессансный художник непредставим без своенравных странностей; сама идея возрождения древности и переселения в нее выставляла гуманиста «антиком», нестандартной фигурой. Доверчивое соседство с безумием Фуко относил к признакам гибкости и открытости ренессансной общины. Способность выдерживать присутствие безумцев с их тревожащей странностью помогала коллективу перепроверять себя, а потому выстаивать среди бедствий и потрясений, столь многочисленных в XIV–XV веках. Вплоть до Шекспира и Сервантеса, понимавших мудрость безумия, диалог с «другим» сознанием не прерывался. В неразумии умели разглядеть высокий смысл.
Первой заботой рационализма, вставшего на ноги в XVII веке, было обеспечение себе прочной опоры в непоколебимом субъекте и подчинение мира как объекта активности. Тогда и безумие было лишено прав, и его странности объявлены вредными. Одновременно с рационализацией мира, природы, общества всё, что не укладывалось в рамки науки, стало считаться аномальным. Одержимые были развенчаны, к их бреду перестали прислушиваться. В безумии увидели не глубокомысленную загадку, а одно негативное качество – отсутствие рационального смысла. С утратой интуитивного понимания безумцев началось их психиатрическое исследование, направленное на приведение умственных отклонений к норме. То, что безумец, завороженный своими видениями и страхами, способен подставлять себя невероятным лишениям, стало считаться доказательством его животной бесчувственности. Сумасшедших начали сторониться и изолировать. Лишь в XX веке психоанализ снова пожелал прислушаться к тому, что говорят душевнобольные, но и он не понимает их без сложной дешифровки. Одновременно с превращением слова в знак и вытеснением безумия из общественного сознания в XVII–XVIII веках, заметил Фуко, совершилось еще три роковых сдвига: приравнение богатства к достоинству, а бедности к пороку; переход от безрассудной средневековой веры в Христа к просвещенному культу Природы, Истории и Человека; «ошеломляющее отождествление нравственного долга с гражданским правом».
Как трудно, предупреждал Фуко, восстановить хотя бы крупицы ренессансного мирочувствия. Для этого нужно сломать, словно гипсовую маску на собственном лице, привычные механизмы манипулирующего мышления, сквозь которые внешний мир представляется собранием объектов. Не исследование, не восстановление исторической точности, не развитие науки захватывали Фуко больше всего, не реабилитация безумия и секса, не критика и реформа медицинской и тюремной системы сами по себе, а сугубо личное дело: «прежде всего самому, а потом – пригласив и других, вчувствоваться на опыте, пройдя через определенное историческое содержание, в наше сейчасное существование… то есть испытать нашу современность до такой степени, чтобы выйти из этого опыта преображенными»[83]. Не философствовать, а «переживать прямой, личный опыт бытия», углубляясь в логико-рациональные конструкты только чтобы «разобрать» их и через них, за их рамками заглянуть в немой тревожный простор докатегориальной жизни. Такой предельный опыт должен «разнять» и субъекта, «вывести его из себя». Фуко анализировал дискурсы – надличные идеологические механизмы – для того чтобы путем от противного лучше понять неповторимую первичность незащищенного, непосредственного чувства. Человек – переживающее животное, animal experiens. Вдали от опыта, переживаемого здесь и теперь, всё абстрактно и мертвяще. Преступно подавлять безоружную жизнь ради верности планам или даже ради надежд на будущее спасение души. Что даст минута бытия, то и ценно; ведь смысл собран в том, что неожиданно открывается уму и сердцу. «Каждое переживание есть тот решающий опыт, в котором мы, так сказать, пропадаем в погибели или спасаемся; третьего не дано»[84]. Для такой настроенности книга-учебник, система предписаний, вредна или бесполезна и имеет смысл только книга-вопрос, способная сбить человека с накатанной колеи расчета, смутить самоуверенность субъекта, напомнить о текущей минуте.
Бежать из «диалектической вселенной» и идеологического догматизма молодых лет Мишелю Фуко помогло приобщение к новому искусству. Первым культурным шоком были двенадцатитонные композиции его друзей Буле и Барраке. Серийная музыка не меньше повлияла на его философские установки чем чтение Ницше. В живописи тот же освободительный смысл несли абстракции Пауля Клее и Василия Кандинского. В литературе сходную работу вел А. Роб-Грийе. В физике поворот сознания был связан с переходом от ньютоновской к эйнштейновской картине мира. Жан Пиаже отметил сходство между некоторыми подходами современной физики и той особенностью детского восприятия, что ребенок верит в предмет, пока в силах определить его местонахождение, а перестает считать реальной вещь, вышедшую из круга его непосредственного опыта. В антропологии Клода Леви-Стросса рациональной мысли было противопоставлено не менее строгое, хотя и не объектное мышление «дикарей». В идеологии, политике, теории государства философскому антисистематизму отвечали теории неорганизованного очагового бунта и безгосударственного местного самоуправления. В области социальной этики не в том же ли направлении указывали «новые переживания, связанные с наркотиками, сексом, коммунами, альтернативными формами сознания и альтернативными формами индивидуальности». Не эти ли искания намечали облик будущего общества. «Если научный социализм возник из утопий девятнадцатого столетия, то, возможно, какая-то реальная форма социализации возникнет в двадцать первом столетии из опыта непосредственного переживания»[85].
Исследовательница прозрений Фуко Памела Мейджер-Пётцль считает космологическим символом начинающейся переориентации сознания одну быстро достигшую популярности концепцию современной астрофизики, под новым обликом повторяющую древний архетип Феникса. Согласно гипотезе звездного коллапса, гравитационное поле небесного тела или тел может сгуститься выше определенного уровня, называемого горизонтом события, когда вещество, ускоренно обрушиваясь под собственной тяжестью вовнутрь самого себя, станет ненаблюдаемым. Даже свет не сможет преодолеть непомерного тяготения образующейся сверхмассы, вследствие чего такие участки вселенной оказываются черными дырами, откуда коммуникация с нашей вселенной невозможна. Казалось бы, вещество превращается в точку бесконечной плотности или в ничто. Но, предположительно, оно восстанавливается в каком-то другом пространстве, и, возможно, так называемые квазары – это хлынувшие в нашу вселенную сквозь «белые дыры» возрождения свернувшихся миров. Перестройка мышления требует, чтобы постройки разума рухнули под собственной тяжестью. Так в романах Роб-Грийе гротескное нагромождение литературщины призвано заставить мысль вернуться от слов и вещей к своей чистоте, высвобождая место для непрепарированной, обновленной данности.
Наивная впечатлительность детей, безумцев, дикарей, в которой по необычности восприятия совпадают интуиции творческих ученых, художников, поэтов, предлагается как «новая парадигма сознания», претендующая не меньше чем на вытеснение властных механизмов рационально-системной, рассчитывающе-планирующей мысли. В самом деле, борьба антиидеологов идет не просто за равноправие новой парадигмы рядом с более привычными типами сознания и поведения, а за вытеснение субъект-объектных моделей мышления отовсюду, где они имеют идеологический, организующий вес, – из политики, государственного управления, народного образования. В технике новоевропейского рационализма антиидеологи видят не только ложь и попрание жизни («цинизм», Глюксман), но и примитивизацию человеческого разума («ребячество», Башляр) Здесь тоже угадывается повторение ренессансных мотивов. Гуманизм ввел в свое время новый стиль мысли, сказавшийся не просто в переходе от обобщенного системосозидания и комментирования авторитетов к диалогу и эссе, построенным на интуиции и чувстве, но и в борьбе на вытеснение против рационализма схоластической диалектики, которая возрожденческими философскими поэтами была вызывающе объявлена забавой незрелого или одичалого ума.
Онтологическая этика
Время примерно от середины XIX столетия до наших дней называют веком тотального подозрения. Вначале на повестке дня стояло обличение тирании и корысти. Для XX века более характерно разоблачение идеологий. Ницшеанство и поздний психоанализ вскрыли среди мотивов человеческого поведения тягу к смерти. В последнее десятилетие прежние разоблачительные мотивы перекрываются одним главным: глобальным подозрением в нигилизме. Разоблачается сознательное или неосознанное пособничество убыли бытия в мире[86]. Под подозрение ставится в этом свете вся западная цивилизация как таковая. Ее обвиняют в том, что при всей интенсивности производимой ею теоретической, практической и материальной проработки мира она по совести мало заинтересована в продолжении его существования. Слишком занятая своими расчетами и сохранением своих механизмов, она с преступным равнодушием относится к природной данности. «Расчеты не дают развернуться ничему кроме исчислимого. Каждая вещь есть лишь то чем она считается. Уже сочтенное обеспечивает продолжение счета… Расчет заранее требует, чтобы сущее было расчислимым, и употребляет учтенное для дальнейшего высчитывания. Это потребляющее употребление сущего обнажает истребляющий характер расчета»[87]. Отношение цивилизации Запада к природе называют «человеческим шовинизмом». «Смертоносный прогресс»[88], в ходе которого технический человек расправляется с миром, предстает зловещей колонизацией времени, воспринимаемого уже не как обещание новых событий, а как возможность увековечить прошлое в будущем.
Подозрение в нигилизме, ставящее под вопрос западную культуру в целом, резко снижает актуальность этики как учения о нормах и ценностях, сложившихся в данной культуре и служащих ее сохранению. В самом деле, любые традиционные ценности на поводу у потаенного нигилизма окажутся ловушкой. По Андре Глюксману, именно уроки элементарной этики в начальной школе, гражданское воспитание в системе среднего образования, грамотность, столь же обязательная как и военная служба, вбили в головы европейских масс ту послушную покорность разнообразным идеалам, по вине которой миллионы дисциплинированных пехотинцев добросовестно уничтожали друг друга и будущее Европы в I Мировой войне[89]. Простой добросовестности оказывается мало. Человек должен отвечать за то, чтобы первые, тайные и непроизвольные движения его мысли и воли были посвящены хранению, а не растрате бытия.
Таким образом, под судом оказывается не сознание, а «бессознательное» или, вернее, сама человеческая природа. В письме, которое современный итальянский философ и критик нигилизма Эммануэле Северино якобы получил от Фалеса Милетского, ионийский мудрец спрашивает, для чего людям еще жить на земле и почему, если человеком разрушается природа и навсегда уничтожаются многие ее создания, непозволительно такое же уничтожение человека[90]. Высказывается опасение, что человек как вид, возможно, вообще не удался[91]. На страницах лондонского журнала «Философия» дискутируется вопрос, действительно ли исчезновение человечества нежелательно и каков критерий, позволяющий верить, что определенная форма жизни не является ошибочной. Обсуждается предположение, что природа без человека или вообще без жизни была бы лучше, тем более что мгновенное уничтожение биосферы, технически возможное уже сейчас или в скором будущем, представляет шанс почти безболезненного самоубийства человеческого рода. Природа вернулась бы тогда к первозданной красоте. У каждой формы жизни есть имманентная цель, свое сохранение и развитие, и тем самым смысл. Однако разные формы человеческой жизни, разные цивилизации взаимно отрицают друг друга. Жизнь, отрицающая другую жизнь, тем самым отрицает и себя. По этой логике выходит, что ни одна форма жизни не может дать себе собственное оправдание. Самооправдательной была бы только такая форма жизни, которая сумела бы, не разрушая, вобрать в себя все другие. «В настоящее время на Земле не наблюдается такой интеграции… Возможно, самая тревожная черта современности – отсутствие веры в какую бы то ни было общность критериев между разными формами жизни и вытекающие отсюда отчаяние и пассивность вместо диалога, конструктивного спора и жажды понимания»[92].
В конце II тысячелетия христианской эры человек привлекается к ответственности за уничтожение форм бытия и, в конечном счете, бытия как такового. То, что еще в прошлом веке казалось естественным, самоценность человеческой жизни и право человека на место во вселенной, оказывается теперь под вопросом.
Французский философ Эмманюэль Левинас заострил поставленный Лейбницем вопрос о том, почему существующее существует, хотя было бы, так сказать, естественнее, чтобы ничего не было. Нынешние общества настолько невозможны без убийства, подготовки убийства или подавления разнообразных проявлений жизни, что для человека важнее общего вопроса о наличии или отсутствии бытия стало решить, не участвует ли он лично самим фактом своего существования в том или ином уничтожении. «Имею ли я право на бытие? Не занимаю ли своим существованием в мире чье-то чужое место? Под вопрос ставится наивная и “естественная” привязанность к жизни». Левинас возвращается к мыслям Паскаля, что узурпация Земли началась, когда человек посмел заявить: Вот мое место под солнцем; что похоть научилась прикрываться общественной пользой; что под ложным видом любви действует далеко запрятанная ненависть. Прямое или косвенное участие в коллективном ограблении и насиловании живой и неживой природы делает человека нежеланной и тягостной частицей космоса. «Я никоим образом не хочу внушить, что из любви к ближнему и истинной человечности вытекает самоубийство. Я хочу сказать только, что в подлинно человеческой жизни никогда не может быть довольства от спокойного пользования бытием; что надо проснуться к другой жизни, т. е. жизнь всегда требует отрезвления, и одно существование – вопреки уверениям массы мудрецов – никогда само себя не оправдывает; что пресловутый conatus essendi вовсе не является источником всякого права и всякого смысла»[93].
Левинас констатирует изменение этической проблематики, происшедшее в последние десятилетия. Вместо ценностной этики, обсуждавшей нормы культурного поведения, укореняется онтологическая, признающая единственной мерой ценности человека хранение, а не расточение им мирового бытия. Требуется, чтобы человек хотел и был готов, преодолевая обман, спасать не одну часть существующего за счет другой, а весь порядок бытия от небытия. Так называемая экологическая этика – лишь часть онтологической, сосредоточившаяся на сохранении внешней природы и отвлекшаяся от таких задач как сохранение природы человека. Необходимость экологической этики (этики самоограничения) как бы сама собой вытекает из состояния окружающего мира. По наблюдениям создателей «Проекта изучения моделей мирового порядка (WOMP)», стремящихся к реформе международных отношений, даже академическое изучение глобальных экологических проблем благодаря внутренней логике этого предмета неизбежно приобретает практически-этическую направленность, потому что сталкивается с обстоятельствами, в отношении которых безоценочность суждений, когда-то требовавшаяся от науки, оказывается неуместной или безнравственной[94].
Онтологическая этика, призванная стоять перед обвинением в нигилизме, предъявляет человеку требование небывалой самопроверки. «Человек “поднялся на ноги”. Отныне не он задает коренные вопросы о смысле и назначении жизни. Вопросы встают к нему. Чем ты намерен быть? – вот вопрос, не дающий ему вздохнуть. Чем ты можешь быть? Никакие подпорки и отсылки больше не действуют, ни благочестивые, ни патриотические, ни социальные, ни идеологические. Человеку некуда уйти от нового возложенного на него совершеннолетия. Ему не на кого больше свалить бремя ответственности»[95].
Первичный выбор между бытием и ничто, между ответственностью и безразличием, между подлинностью и видимостью предшествует любому человеческому поступку. Тем самым изобретательная, манипулирующая сторона научного познания и творчества отодвигается на служебный план. Былая вера в «чистопородных ученых», в то, что наука, служа беспристрастному познанию, исполняет высшее предназначение человека, отбрасывается как метафизическое недоразумение[96]. На повестке дня «ограничение научной свободы»[97]. Говорят уже не просто о гражданском долге ученого, ясном для всех с тех пор как техника перестала быть политически нейтральной; речь идет уже о том, что не ученые заслуги придают значимость человеку, а наоборот, его нравственное достоинство – его знаниям. По Эйнштейну, «величие ученого сводится к тому, что останется, если у него отнимут его науку»[98]. П. Фейерабенд говорит о необходимости воссоединить науку с мудростью. Мудрость понимается тут в старом смысле высшей добродетели. Она призвана восстановить деятельное единство человеку, распавшемуся вслед за научной специализацией на отдельные функции. Предел науке должен быть поставлен философией, в которой филия, любовь, понимается не как субъект, а как атрибут софии, мудрости, поскольку «благо никогда не бывает случайной находкой, мы приходим к нему только в любящем искании». Нельзя мириться с тем, чтобы «от любящего искания философа в науке оставалось одно лишь безлюбовное усердие»; научно-техническая мысль должна покончить с иссушающей специализацией, видеть в природе не объект для исследования, а страдающее существо, ожидающее от человека защиты и спасения, «заключить мир с природой»[99]. Некоторым наблюдателям кажется, что революционный сдвиг науки в этом направлении уже наметился.
Порок западного рационализма по Левинасу в его заносчивом замысле охватить, исследовать, освоить и в конечном счете присвоить всё, что противостоит ему в облике иной культуры, отсутствия культуры; в облике природы, человеческой натуры. Культура Запада конечно поднялась над слепой репрессивностью и давно чтит диалог как равноправную форму общения с Другим. Но это мнимое равенство; со стороны Запада диалог ведется сознанием, давно заготовившим мыслительные схемы, в которые оно укладывает всё с чем имеет дело. Податливый «Другой», с которым культура Запада, пожалуй, готова считаться, – это заранее обреченная на освоение, одомашненная величина, подопечный нашего энциклопедического обзора и нашей снисходительной благожелательности, наш мыслительный конструкт, в конечном счете – мы же сами.
«На всём протяжении западной истории Другое природы включается в замысел, проект, идею Тождественного». Но стоит попытаться с трезвостью, какой научил XX век, зажатый между радикальным злом Освенцима и ядерной угрозой, прикоснуться к настоящему, непридуманному Другому, как отдернешь руку; он совсем не такой как казалось, он «сам по себе», «не наш», не домашний. Левинас не отрицает, что в историческом намерении греко-римского Запада снять инаковость природы, растворить ее в тождественности человеческого Я было свое величие. Но этот грандиозный замысел привел в конце концов к искажению самого же человеческого Я. Оно запуталось в сети, которую само сплело. Всё ощущаемое и умопостигаемое было приравнено философским идеализмом к казусам и перипетиям «интриги духа». Субъективность под эгидой абсолютного духа отслоилась от конкретного человека и построила индивида по своему образу и подобию. Новоевропейское субъективное Я, как и объект, заслонивший Другого, – конструкты, частицы одной схемы, уголки одной мыслительной паутины.
«Радикальная запредельность индифферентной или враждебной человеку природы, трансцендентность бытия перерабатываются познанием в наличность, что означает как учет их реальности, так и их отдачу в компетенцию и в сферу действия человека. Настоящее время, внутри которого мыслит и действует человек, в свою очередь перетолковывается как наличность, т. е. по сути дела как изъятие из непроницаемости бытия, из тайн прошлого и будущего. Воспоминание и воображение трактуются как приведение скрытого в наличность, репрезентация, собирание и синхронизация диахронных событий в рамках закономерности и системы с их математическим выражением». Всё попавшее в сети такой культуры будет исподволь препарировано, повернуто в сторону потенциальной практической и технической проработки. Самая казалось бы отвлеченная теория есть на деле цепкая хватка. Даже отношение человека к Богу было понято на Западе как накопление коллективного религиозного опыта, т. е. как вклад в познание истины. Захватническая установка настолько подчиняет себе человеческий ум, что на почве личности вырастает, заглушая чувство и интуицию, «жадный и гегемонический Субъект». Субъект подминает под себя не только личность, но и, в качестве коллективного субъекта, человеческую массу, соблазняя ее отождествить себя с его могуществом. Как сгусток организованной силы субъект бронирует себя от сомнений и совести. «Субъект упорствует в своем самотождестве, и ничто “Другое” не может поставить его под вопрос или “выбить из седла”».
Декартовское «я мыслю», колыбель новоевропейского субъекта, было с самого начала отвлеченной ложью. Мыслит никогда не чистая мысль, а человек. Рука предшествует сознанию. Раньше сознания всегда уже есть человек как тело и воплощенность. Конкретность (сращенность) плоти и психики раньше сконструированных абстракций духа и материи. До расщепления на дух и материю человек был и всегда остается прежде всего живым целым. Его первичное бытие как воплощенная и воплощающая пластика с самого начала принадлежит к области искусства. В человеческом искусстве пропасть между культурой и Другим не спрятана, но и не обнажена, а «заживляется» в ходе такого же сращения противоположных начал, каким уже является воплощенное существо – человек. Уникальную конкретность человека, «изначальную воплощенность Тождественного в Другом» Левинас называет первичной культурой.
Первичная культура – «божественная сращенность духа и материи», «немудрствующая мудрость тела». Она вместе с тем и универсальная всечеловеческая культура, которою жива всякая частная, так что в имманентистской культуре Запада как согревающая тайна тоже теплится конкретность художественного воплощенного жеста. Культура живет приближением к этому универсализму или, что то же, возвращением к исходной конкретности. Грядущая культура будет отмечена «образом такого согласия между Тождественным и Другим, которое обойдется без редукции Другого к Тождественному, т. е. расстанется с имманентизмом и развернется в плане более “древнем” и вместе более “будущем” чем тот, в котором сейчас происходит эта редукция». Поскольку Другой будет признан как подлинно и абсолютно Другой, общительность станет считаться не функцией разумности, а чудом и подарком. «Подлинная общительность не зависит ни от какой предварительной разведки и ни от какой подготовки рамок для нее. Этическое отношение!.. Мое отношение к неподдельно Другому, а не к такому Другому, которого я уже редуцировал до тождественного себе, до домашнего, до своего».
В культуре будущего, которую продумывает Левинас, онтологическая этика определит собой восприятие природной данности, но прежде всего – другой личности. Социальная реальность откроется в «эпифании человеческого облика, во встрече лицом к лицу… Небезразличие к другому нарушит равновесие души, невозмутимо и бесстрастно погруженной в познание». Новая этика приучит ценить не воспарения ума, не «имманентность, которая сходит сейчас на Западе за высшую благодать духа», а разоружение перед другим сознанием. Другого иногда хочется убить, настолько он встает поперек нашей имманентистской стратегии. Другой дальше от нас чем природа; он может оказаться жестче чем всё грозящее нам извне. Нет опасности страшнее варварства, каким грозит отчужденная враждебность другого. Но зато и осмысленность существования, и чувство избранничества, и спасение культуры – тоже от него, когда он из своей неприступности признает в нас, как мы в нем, трансцендентность. «Культура не есть ни преодоление, ни нейтрализация трансценденции; через этическую ответственность и долг перед другими она становится отношением к трансценденции как таковой. Это отношение можно назвать любовью. Им правит лицо другого человека, которое не назовешь данностью нашего опыта или составной частью нашего мира»[100].
Ренессанс, Средневековье или античность?
Бросается в глаза сходство этого культа Другого с космический значимостью Друга в ренессансной философской поэзии. Однако когда новая онтологическая этика требует «спиритуализации» мироотношения и «понимания того, что священный ужас и тайна – не менее важная составляющая человеческого существования чем хлеб и разум»[101], то образцовой спасенной эпохой представляется Средневековье как время благоговейной серьезности.
Даже при высокой в целом оценке Ренессанса новая этическая требовательность XX века кажется необходимой коррективой к тому якобы безотчетному упоению жизнью и творчеством, которое легкомысленно приписывается возрожденческой эпохе. «Идущая от Ренессанса задача утверждения автономности личности в наше время должна быть согласована с императивом родовой ценности человека. Момент беспрепятственного внутреннего развития, расцвета субъективности должен быть дополнен глубоким сознанием ценности человеческого рода, его истории, уникальности человеческой цивилизации. Исторически сложившиеся требования гуманизма, которые предполагали пиетет в отношении к индивиду… должны быть распространены на человеческий род как целое, на нашу живую среду… Возрождение со всем раскрепощением, которое оно несло, было не просто освобождением плоти и расковыванием субъективности… Между тем, чрезвычайный акцент на индивидуальном ослабил это чувство органической связи с окружающим»[102].
Главная претензия к «ренессансному индивиду» – неуместность его веры в вечную ценность личности и в право безудержно развертывать свои изобретательские силы. Говорят, что ренессансный человек плохо рассчитал. С одной стороны он переоценил глубину своей субъективности, надеясь на ее неисчерпаемость даже тогда, когда плавал в мелких водах себялюбия. С другой стороны, он недооценил свою инженерную мощь и свою способность к размножению и без всякой соразмерности распространился по Земле, нарушив не только равновесие природы, но и, главное, целость собственного существа, которое стало однобоким. Дерево познания распадается на ветви, каждая из которых признает только свои законы и интересы, так что науки служат не Богу и не человеку, а «развертыванию реально достижимого до бесконечности»[103]. На тревожные вопросы бытия человек умеет теперь отвечать только лихорадочным развертыванием новых промышленных, научных, военных систем.
Понятно, что такая линия развития должна навевать ощущение безысходности. 23 октября 1828 Эккерман записал слова И. В. Гёте: «Я вижу, идет время, когда всё это надоест Богу, и ему снова придется всё сломать, чтобы омолодить творение». Подобные мысли имеют убедительность непосредственного ощущения. Граф Пауль Йорк писал в 1889 Вильгельму Дильтею: «Круги на воде, вызванные эксцентрическим началом, ознаменовавшим более четырехсот лет назад приход Нового времени, как мне кажется, разошлись до крайности далеко и до крайности измельчали; познание ушло вперед вплоть до самоотмены, человек так оторвался от самого себя, что себя уже не замечает. “Человек Нового времени”, т. е. человек с эпохи Ренессанса, готов к своему погребению»[104].
В прошлом веке Жюль Мишле понимал Средневековье как область вещей ночной тьмы, когда хлопотливое дневное сознание спит и на небе разума проступают вечные звезды. С подобным углублением сознания и «новым Средневековьем» сегодня снова связывают надежды на воссоединение творческих сил человека и «новое Возрождение Запада»[105]. Бердяев, на чье мнение часто при этом опираются, следовал за Мишле, считая, что подлинный Ренессанс развернулся в XIII веке. В отличие от Мишле Бердяев говорил однако не о последующем подавлении ренессансного духа силами инерции и о его продолжающихся вплоть до современности вспышках, а о его фатальном перерождении. Средние века были временем собирания личности подвижниками аскетизма, рыцарства и монашества; разрешив себе спуститься с этой сосредоточенной высоты, Ренессанс, по Бердяеву, мало-помалу превратился в малоответственную игру вольных творческих сил и, расплеснувшись, истощился, потерял «онтологическое укрепление». Эксперимент, без сдерживающего стержня, продолжался до XX века, когда, исполняя пророчества XIX века, в мир вторглись нечеловеческие силы – машина и тоталитарная машинизация общества, – которые показали пустоту прогрессивного оптимизма и потребовали отрезвления от «кипучей игры».
«Человеку пришлось особым каким-то образом смириться», вернуться к элементам аскезы, дисциплинировать себя в подчинении святыне[106]. Подобная тоска по средневековой закваске ощущается многими. Смирение называют в числе главных опор новой этики[107]. Карл фон Вейцзеккер говорит о приближении «аскетической мировой культуры». Бернар-Анри Леви, один из популяризаторов новой онтологической этики в философской публицистике, надеется на восстановление ориентиров средневековой теологии, которая исходила из сверхприродной непостижимости и свободы как благодати, так и зла. «Не пришло ли время попытаться еще раз, в новом свете осмыслить права человека? А заодно не пора ли задуматься и о человеке – в том теологическом плане, к которому он всегда принадлежал?» Средневековье Леви представляет временем, когда внутренняя достоверность переживания, не разъеденная анализом, считалась и доказательной, и общезначимой; она развеяна Новым временем и впервые снова реабилитирована, возможно, только в философии Хайдеггера.
Смысл обращения к Средневековью в том, чтобы драстически подчеркнуть неуместность самовольного индивидуализма. Настойчиво повторяется, что, хочет того человек или нет, о его самоценности речь уже не идет и, чтобы не посвятить себя окончательно машине, он призван служить предельным целям. «Надо поступать так, как если бы наперекор всей мировой бессмыслице, тревоге, неразберихе всё-таки еще можно было непрестанно двигаться к чему-то вроде царства высшего смысла». В отчаянной борьбе против механизма истории нравственная воля упорствует на позиции одинокой и беспочвенной этики чести, этики героизма. Зло опознается по противоположности не к ценностям и нормам, а к сохранению бытия как такового. Мировое зло усматривается в силах, как бы они себя ни именовали, которые «подстригают», планируют жизнь и враждебны к непредсказуемости человеческого существования в меняющихся настроениях, внезапных озарениях, страстях. Угашению «летучей случайности» этика героизма противопоставляет стремление самой жизни к выживанию. При так понятой расстановке сил о полном торжестве добра не заходит речи. Достаточно, что по крайней мере еще существует цивилизация, в которой неизбежная смута всё же как-то пересиливается волей к жизни и общению и которая пока еще отстаивает себя против организованного насилия, т. е. окончательного одичания. Варварство опознаётся прежде всего по своей нетерпимости к свободному поступку, по вытеснению «всего, что есть наиболее редкого, хрупкого, необычайного среди человеческих единичностей». Нравственный императив Канта получает новый оборот, каждый должен выверить нормы своего поведения вопросом: «Если бы Франция, Европа, мир начали думать по-моему, стало бы от этого немножко больше или немножко меньше варварства?»
Иногда начала бытийной этики отыскивают не в Средневековье, а в языческой античности. Вину за сегодняшний экологический кризис перекладывают на «иудео-христианский антропоцентризм и монотеизм»; именно они соблазнили человека обособиться от мира и унизить природу, лишить ее божественности, представить поделкой вышестоящего Бога-творца[108]. Если «адекватная экологическая этика» призвана вытеснить «антропологический шовинизм Запада», то философской базой тут будет платоновское отождествление блага, богатства и бытия[109].
Иногда даже классическая античная мысль представляется рассадником метафизического нигилизма, и тогда конструктивных начал ищут еще раньше, у досократиков. Некоторые авторы, углубляясь в историю, уже у ионийских натурфилософов видят заразу аналитизма, «которому позднее суждено было стать на Западе решающим методом мысли, вытеснившим миф логосом, чувство – рациональностью, мир богов – каузальной закономерностью»[110]. Наконец, презрение к природной данности обнаруживают вообще у всех досократиков, отравленных «телесными безумствами Диониса и духовными безумствами Аполлона»; говорят, что если Гераклит еще как-то помнит о богах, то Парменид «захвачен диалектическим вихрем», с Зенона воцаряется тотальный нигилизм, а для Горгия вообще ничего не существует[111].
На апелляцию к Средневековью, античности, архаике в поисках позиции, не разрушающей мировое бытие, можно заметить, что статус первой философии возвратил этике именно Ренессанс. Средние века привлекают своей статичностью. Они, казалось бы, вернули мир после своего тысячелетия таким же сохранным, каким получили. Ренессанс со своих первых мечтательных шагов включил природу в историю и завязал с миром отношения участия. Но неверно, что Ренессанс начался «художественным и познавательным созерцанием тайн природы» (Бердяев). Выше красоты и знания Данте и Петрарка поставили философию как любящую мудрость. Она питается причастностью ума к любви как двигателю личного и вселенского бытия. Историков философии смущает то обстоятельство, что метафизику как учение о первых нерушимых началах бытия и физику как науку о численно оформленном, движущемся и протяженном теле Данте поместил ступенью ниже этики. Примат этики в ренессансной мысли склонил исследователей считать, что в сравнении со Средневековьем Ренессанс был упадком философской культуры. Но современное восхождение онтологической этики, которая разными направлениями мысли признается необходимой основой всякого познания и любой практики, ведет к реабилитации ренессансной этической философии.
Неверно, что цельная личность была сформирована Средневековьем или что ренессансный гуманизм поощрял самодовольную самодостаточность индивида. Средневековый человек был по своему тогдашнему определению (animal rationale) распределен по функциям, которые отправлял на разных ступенях космической и социальной иерархии, и прежде всего – разделен на естественную и духовную, природную и благодатную половины, каждая из которых мало знала о другой. Человек ощутил себя единством, когда нашел себя не в логических схемах вселенского миропорядка, а в слове и образе, отвечавших его настоящему существованию. И неверно, что ренессансный гуманизм замкнул человека наедине с его творческими потенциями, превратив его в самодовлеющего субъекта. Ренессансная этика от Данте до Леонардо да Винчи не признавала индивида самоценным и с античной жесткостью требовала от человека «добродетели», мужества-справедливости-мудрости. Лишь позднее сомнительный средневеково-христианский догмат о бессмертии души дал отдачу в светском персонализме. Такая метаморфоза происходила в атмосфере, уже противоположной тем настроениям поэтической завороженности, в которых, начиная с ранней лирики на национальных языках, вокруг чувства благодарности и долга перед «другим» – Прекрасной дамой или одушевляемой природой – складывалось ренессансное простое единство человека. Бытие открывалось в образе любимого создания и было поводом для восторга, заботы и тревоги раньше чем для изучения, тем более применения.
Николай Бердяев называет «провал Ренессанса» (т. е., в его понимании, творческого индивидуализма) «священной неудачей истории», учащей, что высшее призвание человека сверхисторично и не осуществляется в этом мире. С такой позиции создания истории, человеческое тело, природа лишь декорации в трагедии духа, которые пойдут в костер после конца представления. Ренессанс с его этикой любви к бытию, участия к природе как хрупкому сокровищу, ответственности за историю ставит перед человеком более захватывающие и сложные задачи, чем духовность средневекового типа, которая в кризисной ситуации легко оставляет мир.
Новый ренессанс и техника
Нагромождение трудноразрешимых проблем почти со всех сторон современной действительности выветривает в общественном сознании чувство осмысленности мировых событий. Остается мало веры, что где-то на глубине, вопреки массовому настроению, невидимо совершается целительное, восстановительное движение коллективной жизни. Надежда Бенедетто Кроче в начале века на историзм как на последнюю религию, способную питать человека ощущением плодотворности и преемственности его усилий, сейчас кажется малоуместной. По наблюдениям Э. Гарена, последний подъем интереса к историзму на Западе пришелся на конец 1930-х годов[112]. Тогда же в связи с событиями, дискредитировавшими идею необратимого накопления культуры, среди западноевропейских мыслителей укоренился протест против машины истории, если не страх перед ней. Карл Поппер заявил, что историзм есть религия тоталитарного строя, Альбер Камю – что положиться на течение истории значит очертить себя нигилистическим безразличием к действительности, тогда как долг личности судить историю и восстать против нее. По Мишелю Фуко, история существует только как роман, сплетаемый историком из дискретных атомов-фактов.
Многие культурологи и публицисты обличают идею поступательного хода истории как более или менее опасный миф. Вместо разочаровывающей истории внешних событий ищут «другой концепции того, чем должна быть история» (Partant, 151). Исследователей привлекает «теневая» история, «история бытия» (Хайдеггер), история мировосприятий (Фуко), «потенциальная история», изучающая культурные периоды с точки зрения внутренних возможностей, открывающихся перед человеком[113]. По Джорджу Стайнеру, «наша так называемая история есть неописуемый провал – по вине садизма, варварства, невероятной глупости» политиков, и единственный медленный, сантиметр за сантиметром, прогресс совершается там, где умеют среди мирового неустройства и личной необеспеченности со стоической радостью (alegria estoica) уйти в бескорыстное творчество. «Начинаешь всей душой верить, что стихотворение, которое сейчас кто-то пишет Бог весть в каких жутких условиях, музыкальная вещь, которую кто-то сочиняет, картина, которая где-то создается, кем-то задумываемая и доказываемая математическая теорема – это и есть смысл всего нашего существования. Может быть, в один прекрасный день кто-то решит последнюю теорему Ферма, и думаю, что целую эпоху будут помнить за это, а не за ее экономические успехи или провалы, тем более – не за кровавое варварство ее тупой политики»[114].
Эти альтернативные концепции предполагают полемическое размежевание с фактической историей, «дистанцию в отношении к существующему». Во всяком случае, среди масс населения наблюдается упадок исторического чувства. Необходимость изучения истории приходится доказывать, при том что «сейчас не существует ни единого связного взгляда на историю и никакого консенсуса относительно значения и функции истории для индивидов, социальных институтов, систем, для других наук»[115]. Из-за упадка общественного интереса к истории преподавание ее в ФРГ, например, резко сократилось. Высказывается крайнее мнение, что история, собственно говоря, незаметно закончилась. Под угрозой мирового конфликта нации и общества обречены на замораживание существующего положения вещей. «Ядерная катастрофа – единственная реальная катастрофа, т. е. создание невозможности перемен, – у нас за спиной… Мы уже вне истории, время прекратилось»[116].
Сгустившееся безвременье вместе с растерянностью навевает однако и чувство небывалой свободы. Мертвая точка истории заставляет предполагать начало какого-то нового такта. «Человечество стоит… в точке глубочайшей дезориентации и, судя по всему его предшествующему опыту, оно явно не подвластно никаким принудительным эволюционным шаблонам, располагая свободой новых ориентаций и самостоятельных решений»[117]. Если «будущее перестает быть продолжением тенденций прошлого… и направленность истории становится неопределенной», то «завтрашний день в небывалой до сих пор мере подлежит изобретению»[118]. Поскольку человек на небывалом историческом перепутье вправе «называть всё, чему нас учили до сих пор, ложью», ему приходится выбирать между хаосом и прорывом «к новым прозрениям, которые преобразят мир»[119]. Время крайней потерянности – пора предельных проектов. «Современная западная культура обречена на смерть, и для многих ее составляющих уже наступил конец», но именно в подобные эпохи строится новое[120]. Даже в факте упадка всех и всяческих традиций некоторые авторы видят свидетельство новой свободы человека, появление у него «небывалой регулирующей роли»[121].
Ответить на «конец Ренессанса», тупик истории, глобальную дезориентацию, кризис культуры и экологии часто предполагается той же инновацией, какая была определяющей в западной истории последних веков, только в удвоенном, утроенном темпе. Необъятные технические возможности поставили человека «на пороге нового скачка вперед, новых горизонтов цивилизации, великого всеобъемлющего движения, прорыва к научному обществу… Наперекор путанице знамений и реву неисчислимых толп, среди удушающего изобилия социальной системы, в которой исчезли безмятежный покой, расстояние и время, мы видим впереди сквозь оболочку тумана еще расплывчатые очертания нового мира». Путь к нему – развертывание изобретательства в надежде на «серое вещество мозга, главное сырье Европы»[122]. При такой настроенности решение проблем, поставленных техникой, сводится к ее же ускоренному развитию, к «ренессансу технической культуры»[123].
Средство от техники – еще больше техники. Поскольку возврата к традиционному укладу всё равно нет, единственная альтернатива «либо модернизация, сросшаяся с порочной волей к власти и бездонной жадностью, опирающаяся на мучительство и воздвигающая монументы тирании, либо модернизация, окрашенная гуманизмом»[124]. Ее сторонники верят мудрости древней легенды, что исцеляет рану только нанесшее ее оружие. Обращают внимание на то, что если в начале века интересы техники требовали конвейерной элементаризации труда, то ЭВМ, наоборот, по необходимости ведут к антитейлоровской системе; что если телевизор, склоняя к пассивному восприятию мало связанных впечатлений, способствовал расшатыванию сознания у молодежи 1950–1970-х, то компьютеры, электронные игры и игрушки «приучают ум к небывалой интеллектуальной строгости», так что теперь сонно-мечтательный телевизионный мир даже необходим как противовес чрезмерной рациональности электронного программирования[125].
Техника уже показала свое могущество, но ее будущий размах всё-таки невозможно предвидеть. Рождер Бэкон и Леонардо да Винчи оказались правы. «Техника есть по своей природе безгранично развертывающаяся сила, она может и удовлетворить любые потребности, и распространить любую власть»[126]. Внешние изменения, вызванные техникой, бросаются в глаза. Меньше внимания уделяют тому, как она исподволь меняет психологию и, возможно, природу человека. Автомобиль, кроме средства передвижения, дает миллионам чувство царственной независимости, мощи и свободы. Он изменяет социальную структуру, вынуждая отказываться от общинного существования и жить в одиночку или малой семьей. Машина имеет также мистический смысл посвящения в культ технологии. Наконец, машина обостряет и возбуждает чувственность даруемым ею приобщением к рискованной игре, в которой Эрос соседствует с Танатосом. Кабина водителя – род святилища, келья жреца технологической религии, где он пользуется невозможным в других условиях уединением. «Избежать натянутых соседственных отношений, ускользнуть от служебных, квартирных, житейских забот – эта странная свобода действует как надежное психологическое обеспечение, позволяя индивиду погрузиться, как в детстве, в сон наяву». Машина возвращает человека к давно изжитым элементарным состояниям души («психологическая регрессия»), он снова избалованный ребенок, могущий беспрепятственно наслаждаться скоростью, мощью, комфортом… всемогущий бебе, тиран своего окружения, удивительное и устрашающее дитя. Упрощая сознание, автомобиль и расширяет его. «Водитель перестает ощущать границы собственной личности и на свой страх и риск затевает диалог со своим бессознательным». Отсюда легкость, с какой мы умираем за машины; на уровне бессознательного душа не знает страха. Еще решительнее меняет самочувствие человека современная медицина. Благодаря ей возрастающая часть населения, особенно в развитых странах, стала считать для себя нормой телесную и душевную бодрость, активность, непрекращающуюся молодость. Болезнь и даже смерть кажутся уже почти противоестественными. Хорошо питающийся и ухоженный человек не может чувствовать себя угнетенным. «Мы стараемся быть всегда улыбающимися, раскованными, добродушными, но вместе с тем деятельными, динамичными, предприимчивыми в своей семейной жизни и дружеских отношениях, а также, разумеется, результативными, экспансивными и находчивыми». Юношеский образ жизни сохраняется до преклонного возраста. Транквилизаторы и психотонические средства изгоняют плохое настроение, нейролептические препараты и психоанализ приводят в норму отклоняющееся поведение. Массам доступны препараты, создающие приподнятое настроение (эвфоризанты), сеансы снятия стрессов, тепловые процедуры, морские лечения, групповая психотерапия, аэробика и другие методы восстановления энергии как массаж, всепогодная гимнастика. «Замечательные результаты, достигнутые в деле улучшения субъективного благополучия, дают право на самые невероятные надежды». «Создавая нового человека, медицина способствует созданию нового общества»: продление жизни упрочивает статус накопленного знания и опыта; «впервые в истории человечества благодаря медицине обеспечено одновременное сосуществование, а тем самым интеллектуальное и аффективное общение между тремя, а то и четырьмя поколениями». Традиционной медицине за тысячелетия накопления опыта не удалась и малая доля того, что сделала за сто лет медицинская наука, которая в 1979 покончила с оспой, справляется с малярией и близка к победе над гепатитом, полиомиелитом, корью, тифоидом. В течение нескольких поколений совершилась незаметная женская революция. Вследствие небывалого сокращения детской смертности женщине достаточно рожать в среднем 2,1 ребенка, чтобы обеспечить продолжение рода, вместо 5–10 в прошлом. Биологические противозачаточные средства почти сравняли ее с мужчиною в возможностях сексуальной свободы. Одновременно промышленная техника и особенно электроника подготовили ей равенство на производстве, а бытовая техника освободила от тысячелетней домашней каторги.
С другой стороны, научно-техническое развитие уже не столько служит решению хозяйственных, социальных задач, сколько само становится главным служением человечества. Научно-технический прогресс часто называют религией современности, ссылаясь на то, как даже бедствуя люди безотказно жертвуют технике силами, временем, жизнью. Никто не возмущен почти добровольной смертностью на дорогах, которая давно намного превышает смертность на полях сражений XX века. В форме запасов ядерного вооружения «готовятся фактически костры для гекатомб». Совершенно ясно, что если для прогресса понадобятся новые жертвы, человечество их принесет. На примере медицины можно видеть, как наука и техника в отплату за творимые ими чудеса требуют повиновения своим механизмам: «Система медицинской помощи отбирает у вас тело, она не признает за вами никакой способности судить о вашем собственном благе и одна берет на себя ответственность за вашу жизнь, предписывая, какие лекарства принимать, какие анализы делать, у кого лечиться»[127]. Житель современного государства пассивно вверяет себя организованному здравоохранению, правда отчасти, но другие социальные и производственные системы тоже по-разному требуют его частицу себе.
В механизме научно-технического прогресса заложена тенденция ко всё более детальной организации жизни. Микроэлектроника и информатика с их безграничной способностью к сбору, обработке и хранению данных пригодны для такого всестороннего упорядочения человеческой жизни, что слившийся с электронной техникой государственный аппарат «сумеет осуществлять над индивидами гораздо более разветвленный и точный контроль, чем контроль, осуществляемый мозгом над клетками организма»[128]. Ученые производят власть, над которой они сами не властны; «нашим жизням сегодня угрожает не только то, что их губит, но и то, что призвано их охранять: наука и медицина». На путях естественного разрастания и самоупрочения обезличивающая технизация ведет к «новому варварству»[129]. По сравнению с относительным рабством прежнего человека у природы техника грозит последним и вечным порабощением.
Техника – «ставка века» (Эллюль). В ней главная проблема эпохи, и все другие вопросы так или иначе возвращают к ней. Техническую цивилизацию сравнивают с машиной, всё быстрее движущейся по незнакомой дороге после заката солнца. Свертывание техники и возврат к патриархальному хозяйству по общему признанию нежелательны и невыполнимы. Выжидательная, тем более пассивная надежда на развитие истории ведет к результату, который очевиден уже сейчас, а именно к сплошной научно-технической заорганизованности человеческой жизни (термитное государство).
Вынужденным выводом из сложившейся ситуации представляется необходимость духовного роста, не отстающего от роста техники. Равнодушие техники требует соразмерного неравнодушия человека, а размах ее возможностей – соответствующей широты замыслов и решений. Сгущение техники во всё меньшем материальном объеме и такое усложнение электроники, которое делает управление машинами простым, позволяет переключить внимание с вещи на человека. Проблема теперь не столько в создании технических средств, сколько в умении найти для имеющихся человечное применение. Дело за политической волей, ее смелостью, решительностью, последовательностью, изобретательностью. Говорят о переходе от технокультуры к социокультуре. Как некогда физическая сила, а позднее интеллект, так в новой цивилизации личность и отношения между людьми станут определяющими. Важнее материальной энергии природных ресурсов окажется нравственная энергия. В этом свете тот факт, что западная цивилизация разрушила природные ритмы и сделала будущее объектом планирования, уже не обязательно рассматривается как конец истории: пусть планируемая история, строго говоря, изготовляется человеком, изготовление не обречено иметь характер эксплуатации времени, оно может перейти в творчество[130].
По Эллюлю, могущество техники подчиняется своей инерции и своей каузальной, никогда не финалистской логике. Техника стоит на принципе максимальной эффективности и, будучи предоставлена сама себе, создает нынешнюю массовую культуру. У нее есть свои святыни, Труд, Доход, Успех, Достижение. Некогда церковь, подменив учение Иисуса Христа христианством, именем сфабрикованных святынь угнетала людей, опутывала их чувством вины, заставляла блуждать в тумане лживого идеализма, поддерживала неправедную власть, порочила истину, насаждала привычки догматического мышления. Человечество избавилось от старого рабства, чтобы идти прямым путем к огосударствлению своей новой религии, техники, которая, переплетаясь с властью, укрепится над головами людей несокрушимой глыбой. Чтобы так стало, не надо ничего специально делать, «достаточно довериться порядку вещей или историческим законам, или просто держаться техники, понимая ее как прогресс и как высшее человеческое завоевание… Тупик мы распознаем только в конце, потому что ведущий к нему путь так приятен, так соблазнителен, так усеян поддельными успехами, что маловероятно, чтобы человек отверг его и двинулся путем тяжелым, аскетическим, подвижническим, требовательным, непарадным, единственно позволяющим прийти наконец к тому очеловечению техники и власти, о котором так много говорят». Всем преобразователям, от Христа до современных революционеров, недоставало средств для подлинного освобождения человека. Общество не могло не обездоливать части своих членов. Теперь впервые в истории техника освобождает всех от истощающего труда, дает всем заняться любимым делом, отменяет всякую необходимость государственного принуждения. «Психологическая, идеологическая, нравственная мутация, преображение целей и смысла жизни должны совершиться в каждом»[131]. Элитарная культура не только несправедлива, но и неполноценна; отгораживаясь от остального человечества, она незаметно обкрадывает сама себя. История показывает провал всех элит. «Дело поэтому может идти только об обращении каждого, о появлении у каждого нового понимания жизни, где производство, работа, уровень жизни, стремление преуспеть перестали бы задавать тон… Речь идет о мутации всей нашей культуры». Задача в том, чтобы ликвидировать пролетариат как класс обделенных и манипулируемых. Задача не из легких, признает Эллюль, но любые другие пути утопичны или не вполне человечны. Поднять на небывалую перестройку всех людей, да еще против технологической системы, впервые в истории обещающей всеобщее благоденствие, способны только исключительные причины. «Чтобы положить конец могущественной структуре, в которую мы вросли, чтобы набраться мужества и поставить всё в ней под вопрос, чтобы сначала просто допустить в себе мысль о возможности этого, нужны такие сущностные, радикальные мотивации и такая уверенность, которые превосходили бы всё, что доказывает нам история или теория». Моральные принципы бессильны вызвать такой сдвиг, а кроме того, они едва ли еще существуют. «Ценности нашего западного общества справедливо отвергнуты вот уже с полвека назад. У других обществ нет нравственных или религиозных ценностей, способных повести нас в этой драме, в которую пока втянут только Запад. Нужен чрезвычайно мощный рычаг, побудительные причины, перевешивающие чувство риска, и к нему – неподвижная точка опоры». Если ни прошлый опыт человечества, ни разумная логика, ни соображения морали не имеют достаточной власти, то пересилить инерцию может только «Откровение Бога в Иисусе Христе» – ранние заповеди, отставленные из-за их наивности и неприложимости к реальным обстоятельствам. Эллюль перечисляет их: десакрализация – развенчание всех святынь, которые устраивает себе человек из вещей; абсолютное бескорыстие взаимоотношений, чтобы людей связывала забота о другом, а не о себе; безраздельный дух невластвования, т. е. не просто ненасилия, а доброй воли никогда не начальствовать, никого не эксплуатировать, не применять даже тех средств воздействия, которые сами идут в руки; надежда, помогающая снова и снова подниматься из отчаянного положения и идти на риск покинутости; всегдашняя готовность перемениться, начать работу сначала, всё обновить. Это последнее настроение Эллюль приравнивает к присутствию Святого Духа.
Далеко идущие планы преображения жизни в опоре на технику могут показаться сугубо современными чертами западной культуры, наметившимися, самое раннее, в начале Нового времени. Важную роль в этом смысле приписывают Декарту, который создает программу для будущих веков, когда доказывает, что «вместо спекулятивной философии, преподаваемой в школах, можно создать практическую, благодаря которой, познав силу и действия огня, воды, воздуха, звезд, небес и всех других окружающих нас тел с той же отчетливостью, с какой мы познаём различные ремесла наших мастеров, мы сумеем применить эти вещи для всех употреблений, какие им свойственны, и сделаться таким образом хозяевами и властителями природы, что желательно не только в надежде на изобретение бесконечного множества искусных устройств, позволяющих без труда пользоваться плодами земли и всеми имеющимися у нее благами, но прежде всего также для сохранения здоровья, которое, пожалуй, есть первое благо и основание всех других благ нашей жизни, ибо даже дух настолько зависит от слаженности и от состояния телесных органов, что, будь возможно найти какое-то средство, делающее всех людей более мудрыми и более способными чем до сих пор, это средство, по-моему, следовало бы искать в медицине»[132].
Вместе с тем уже у Леонардо да Винчи упорная мысль об исправлении человечества переплетена с инженерным изобретательством. То, что его открытия, достойные XIX века, не изменили сразу же хода истории, объясняют злополучной судьбой его рукописных трудов. Ранним предшественником Леонардо по праву считается Леон Баттиста Альберти (1404–1472). Правда, с точки зрения, отделяющей «подлинный» Ренессанс XIII–XIV веков от последующего, «упадочного», именно поворот к машине был противоположностью ренессансного духа, причиной его угасания. «Леонардо да Винчи, искавший источники совершенных форм искусства и познания в природе… был одним из виновников того грядущего процесса машинизации и механизации человеческой жизни, который убил ренессансное обращение к природе, оторвал человека от природы, по-новому поставил между человеком и природой машину, механизируя человеческую жизнь и замыкая человека в искусственную культуру»[133].
Однако против принципиального отделения позднего, инженерно-изобретательского, от раннего, поэтико-философского Возрождения говорят разнообразные наблюдения.
В «Декамероне» Боккаччо компания из десяти девушек и юношей на третий день своих бесед, а именно в Вербное воскресенье, приходит в дивный пригородный дворец, окруженный садом неменьшей красоты. Сад обрамляли и пересекали просторные дороги, прямые как стрела и покрытые навесом из ароматно цветущих, по сезону, и обещающих обильный сбор виноградных лоз. Благоухали цветы и масса плодовых деревьев всех пород, какие растут в итальянском климате. На ухоженном лугу посреди сада из беломраморного источника искусной резной работы била к небу и опускалась шумным водопадом струя чистой воды такой силы, что с запасом могла приводить в движение мельничные жернова. Поток воды скрытым путем выводился за луг, расходился по «весьма красивым и искусно устроенным каналам» и сначала окружал и орошал сам луг, а потом разветвлялся по всем частям сада, но в конце его ручьи снова сливались в одно русло и, прежде чем уйти в долину, вода «с огромной силой и с немалой пользой вращала две мельницы хозяина». Гуляющие по саду не сразу замечали другую его «развлекающую красоту»: он был полон не менее чем ста разновидностями прекрасных животных, и из зарослей выходили кролики, выбегали зайцы, выглядывали козы и пасущиеся молодые олени и множество других явно прирученных и одомашненных, но вольных зверей. После обеда за столами, расставленными под открытым небом вокруг фонтана, после песен и хороводов, сладкого отдыха, игр, чтения романов компания расселась по порядку на лугу и приступила к третьему десятку новелл на предложенную очередной царицей тему.
Сад Боккаччо прекрасен, благоухающ, упорядочен, полезен для жизни, экономически доходен, пригоден для игр, удобен для занятий. Окружающая его стена подчеркивает, что в нем есть всё что нужно человеку для счастья. «Если бы можно было устроить на земле рай, то… ему нельзя было бы придать форму, отличную от формы этого сада». Прелесть сочетается тут с эффективностью. В нем все мыслимые виды растений и система ирригации, не мешающая использовать воду еще и как источник энергии. Сад является автоматом: в нем не видно работающих, полив осуществляется сам собой, как и работа двух мельниц, а полнотой набора растений, птиц и животных, по-видимому, обеспечивается природное равновесие. Люди в саду могут безбедно следовать желанному образу жизни. Они выбрали искусство, мудрость и общение с любимым существом, поэтому мало вероятно, чтобы зависть, злоба или жадность смутили их счастье. В своем саду они не созерцатели, потому что пользуются его изобильными благами, и не эксплуататоры, потому что дают его природе расцвести.
Сад Боккаччо – соединение природы, искусства и техники, но беструдной, автоматической, почти магической. Мечтательность и нереалистичность была общей чертой итальянских ренессансных прожектеров. Северный гуманизм, поставленный на более трезвую научную и производственную ногу, быстро перегнал Юг по практическому осуществлению научно-инженерных проектов и планов; так, книгопечатание явилось северным изобретением. Однако сейчас фантастические прожекты и даже магизм итальянского Ренессанса оказываются неожиданно близки к новейшему пониманию возможностей техники. Итальянские мечтатели как бы не желали входить в детальные проблемы, сразу тормозившие поле мысли. В самом деле, сопротивление природного материала, практические трудности воплощения инженерных замыслов в камне, дереве, металле, коже сковывали даже гениального Леонардо, который спроектировал цилиндр паровой машины, но, не имея технической возможности хорошо хонинговать цилиндр по сечению поршня, получил заниженное представление о силе пара и устроил для поршня противовес, «чтобы испарению не было трудно подталкивать тяжелую крышку вверх».
Раннему философско-поэтическому и художественному Ренессансу было еще далеко до опытной науки. Но мечтательное освоение природы не переходило в исследование и изобретательство именно потому, что пророчески переносилось в такое состояние свободы от материальных обстоятельств, которое реально приоткрывается только после веков кропотливых инженерных усилий. В утопической мысли античности мотив вынужденного или каторжного труда части населения оставался более или менее явственным фоном. Тема полного освобождения человека от трудовых забот для жизни сердца и ума появляется только в философской поэзии XIII–XIV веков. Ренессанс с самого начала был расположен к машине, но не к той, которая заменяла физическую силу на протяжении двух первых веков промышленной революции, а к той, которая лишь сейчас становится безотказным продолжением человеческого ума, т. е. к автомату. Заслуживает специального исследования то, как в размеренности поэмы Данте, в непрерывном сцеплении ее строф, в безотказной чистоте рифмы, в архитектуре ее пространства, в ее хронологии дала о себе знать та же техническая воля, которая проявилась и в распространении как раз на рубеже XIII и XIV веков механических часов – первого автомата и прообраза всех автоматов.
Общеизвестное презрение ренессансных поэтов к «механикам» не касалось умельцев, изобретателей, тем более – ученых и художников. Петрарка с уважением говорит в своем завещании о планетарии – «дивном создании» врача и физика Джованни Донди. «Механиками» называли людей, не знающих свободных порывов духа или полета вдохновения. «Я любил твою дочь, люблю и буду любить всегда, – говорит Джаннотто королю в VI новелле Второго дня «Декамерона», – потому что считаю ее достойной моей любви; и если я вел себя, по мнению механиков (secondo l’oppinion de’meccanici), не вполне благородно, то я совершил грех, всегда сопутствующий юности». Механики здесь – это рассудочные моралисты. К предрассудкам исторической филологии относится представление, будто классическая традиция помещала ремесленный, технический, инженерный труд ниже созерцания. Низко ценились только занятия, в которых не было фантазии и художества.
Во всяком случае, ренессансная мысль о природе и мире, далекая от манипуляции вещами, жила предчувствием беспредельной власти над ними и послушности вещества человеку.
Ренессанс и человечество
Еще одна черта итальянского Возрождения, смысл которой полностью оценивается только теперь, заключается в его обращении к человеческому роду в целом. Убеждение Данте, что назначение человека, тем более дело народа, переплетено с целью человечества, в XX веке, как никогда прежде, подтверждается растущей взаимозависимостью всех частей мира. Еще недавно могло казаться, что Возрождение, несмотря на вселенские замыслы его начинателей, остается всё же явлением европейской культуры. Теперь ясно видны его всемирные последствия. Мир уже немыслим без активного отношения к природе и истории, зародившегося в ренессансной Европе.
С другой стороны, судьбу европейского культурного наследия решает уже не Европа. И проповедники «нового ренессанса», и провозвестники его конца одинаково ожидают последнего слова от человечества. Большинство западных авторов, в том числе европоцентристов, согласно с тем, что даже если роль Европы в мире сохранится, эта роль уже не будет политико-экономическим лидерством, как в прошлые века. Отмечают изменение характера европейцев, совершившееся за последние десятилетия. Происходит что-то вроде угасания воли у европейского населения, проявляющегося во всех формах – в готовности обвинять себя и выслушивать уничтожающую критику извне; в нежелании работать в целом ряде профессий, на которые теперь приглашаются африканцы, арабы, турки; в намечающейся неспособности европейцев воевать: «всеобщая размягченность, упадок энергии и упругости, род душевной расхоложенности»[134]. В последние десятилетия в европейских странах практически нет прироста производства. Быстрыми темпами идет маргинализация экономики: ремесленничество, черный рынок, неучитываемая занятость безработных; распадается социальная ткань, вплоть до утраты национального чувства; наиболее вероятной перспективой представляется «всеобщий социальный хаос». Отказ от атомной промышленности имеет упаднические обертоны, отличающие его от того страха перед железными дорогами, который охватил Европу в 1840-е. Антиядерное и экологическое движения – «лишь вторичное следствие изменения ментальности в Европе и США». По неизвестным причинам «мораль западных людей меняется», исчезают напористость, способность к насилию и жестокости. «Новые боги Запада именуются “мир”, “уважение к жизни в любых ее формах”»[135].
Уход французской, потом американской армий из Вьетнама был осознан чуткими наблюдателями как знамение всемирно-исторического сдвига. Грэм Грин писал, что при Дьен Бьен Фу в 1953–1954 произошла самая важная битва в новейшей истории. «Это было не просто поражение для французской армии. Битва ознаменовала по существу конец всякой надежды, какая еще могла быть у западных держав, что они способны владеть Востоком. Французы приняли этот вердикт с картезианской отчетливостью. Поняли его, хотя и в меньшей мере, и англичане: независимость Малайи, нравится малайцам сознавать это или нет, была завоевана для них, когда коммунистические силы… разгромили корпус генерала Наварра. То, что молодым американцам предстояло еще умирать во Вьетнаме, показывает только, что эхо даже от полного поражения не сразу облетает земной шар. 1950-е годы видели триумф партизанской тактики: Индокитай, Малайя, Центральная провинция Кении. Как раз когда военная техника невероятно возросла по мощи и действенности, плохо вооруженная герилья, полагаясь на внезапность, подвижность и природу родных мест, показала, что фабрика оружия не всесильна. Эпоха пулеметов “лиэнфилд” и “максим” была благоприятнее для европейцев, чем времена пикирующих бомбардировщиков и бреновских скорострельных автоматов. Мы, возможно, еще увидим тут счастливое предзнаменование для самих себя в нашем тревожном будущем». Главная причина поражений, думает Грин, не в технике. «Мы, европейцы, утратили силу четкого действия, потому что утратили способность верить… Нерешительность непонятна для африканского ума. Она раздражает его в мельчайших деталях жизни… Привычная племенная структура с ее развитой системой правил давала ему ощущение непоколебимой устойчивости; европейцы разрушили ее и пока еще мало что дали взамен… На место ушедшей в прошлое племенной дисциплины африканец кикуйю искал себе другой дисциплины, взамен своих племенных жертвоприношений – других таинств».
В 1973 из Вьетнама явно навсегда ушла огромная армия, переоснащенная всевозможным оружием, тогда как в 1511 португальцы, отброшенные было двумя годами ранее, завоевали войском численностью восемьсот человек страну размерами намного больше Португалии. «Ныне Португалия, бывшая мировая империя, – смирный народ, потихоньку живущий впроголодь». Еще в 1947, когда в восстании 29–30 марта на Мадагаскаре погибло несколько сот французов, карательные войска уничтожили от 10 до 80 тысяч мальгашцев, а осадное положение было снято только в 1956. Спустя поколение подобная свирепость была бы непредставимой. «Европейцы успокоились внезапно и полностью. В течение столетий они гнали свои колесницы от германских лесов до калифорнийских пляжей. Теперь они их остановили и расселились в пригородных коттеджах. Они были победителями. Теперь они хотят мира. Они мечтают о тихой, спокойной жизни в гармоничном окружении, где была бы обеспечена охрана природы». Из-за нежелания народов воевать «Запад более разоружен, чем можно судить по числу его солдат и качеству их экипировки». После опыта Вьетнама, Алжира, Анголы американские военные считают невозможным покорить даже Сальвадор. Меры экономии, интенсификации производства внутри западных стран наталкиваются на неодолимое сопротивление. Японское производство не столько вырывается вперед, сколько выявляет конец промышленно-технического роста Европы.
Демография показывает объективную картину сдвига. Европейцы создали демографическую бурю между XVIII и первой третью XX века, когда их численность возросла от 150 до 800 млн. человек. К 1900 они составляли примерно треть всех жителей земного шара. Но к 1925 население Третьего мира начало расти быстрее чем в европейских странах. В настоящее время прироста населения в развитых странах Запада почти не наблюдается, тогда как неевропейский мир находится в разгаре демографической революции, переживаемой им с запозданием в полтора века от Европы, и численный рост его жителей пропорционален тому, который наблюдался в свое время на Западе, т. е. от примерно 1 миллиарда человек в 1900 до, по прогнозам, 8 миллиардов в 2050. Таким образом европейцы, численно вырвавшиеся было вперед, возвращаются в строй, и теперь все шесть главных групп человечества – Китай, Индия, Европа, Латинская Америка, страны ислама, черная Африка – приходят примерно к тому же взаимному соотношению, какое существовало до экспансии Запада. Снова относительно малочисленные, европейцы ощущают себя «средиземноморским клубом, затерявшимся среди джунглей». На этом фоне особенно абсурдными кажутся расистские бредни Гитлера, преподнесенные им миру как раз в годы, когда еще неосознанный демографический сдвиг уже невидимо шел полным ходом и белые империи начинали стареть. Наша новая смиренная мораль подоспела как раз вовремя, чтобы спасти нас от более обжигающих поражений, чем в Алжире и во Вьетнаме»[136].
Расцвет западной культуры пришелся на XIX век, время наибольшего прироста населения европейских стран. В результате последующих внутренних войн и кризиса четырех столпов культуры – языка, обычаев, техники (исчерпание природы), ценностей, – «достойная удивления духовная форма, которую западному человечеству удалось придать себе веками тяжелого труда и ценой бесчисленных жертв, быстро распалась; всё ее громадное и пышное здание развалилось на куски»[137]. Оглядываясь на былое, европейцы дивятся сами себе. Прошедшее кажется отшумевшей драмой. «Целая историческая эпоха, эпоха Ренессанса, разваливается на наших глазах… Экспансия внезапно окончилась около 1960 года. Мы до сих пор переживаем шок нашего отката, подобно тому как освободившиеся народы всё еще не оправились от неожиданности, какою явилась для них столь легко добытая автономия»[138]. «Мы вынуждены констатировать, что наша цивилизация смертна. Хотя ей удалось опереться на все народы земли, ее приходится считать авантюрой меньшинства».
Разные авторы приходят к одинаковым наблюдениям. «В 1973 уход американцев из Вьетнама, как в 1511 (захват Вьетнама португальцами), история изменила свой ход. Авантюра продолжалась пять веков. Пять веков открытий и исследований. Пять веков эпопеи и славы. Пять веков колонизации. В течение пяти веков появление белых длинноносых людей означало поражение и подчинение, в худшем случае рабство, в лучшем – конец прежней жизни. Такое не забывается». Бывшие колонизаторы теперь с горечью сознают, что внешний мир все эти пять веков видел их не такими, какими они видели себя. Героический первооткрыватель Васко да Гама извне Европы предстает военным преступником. «Португальцы ворвались в Индийский океан как стая изголодавшихся волков… Установилась систематическая политика террора… Правда в том, что на протяжении пяти веков европейцы вели самую большую интервенцию всех времен», в результате которой погибло от 50 до 100 миллионов человек, половина из них – в Америке от руки испанцев. Поэтому, если Запад гордится своей демократией, то «Третий мир считает западных людей одновременно и демократами и жуткими грабителями». Европейцы говорят о человечности христианства, но, пускаясь на завоевание мира, они обосновывали христианством свое право вести себя по отношению к «внешним» по-охотничьи. В Индии христиан приравнивали к монголам Чингисхана. Идея вселенской цивилизации и христианский мессианизм обернулись геноцидом и неслыханным губительством жизни. Культ развивающегося индивида и идеология прогресса привили Западу «глубокое неуважение к физическому миру и к другим живым существам»[139]. Только сейчас белый вдруг перестал быть хищным и начинает уважать всех других как равных себе. «Одна из самых подвижных человеческих групп планеты, люди Запада, вышла из варварства». Поведение предков-переселенцев задним числом объясняют «духом инициативы, ненасытной любознательности, огромной изобретательности, в сочетании с жестокостью, агрессивностью и мужеством»[140].
С другой стороны, как ни оценивать прошлое Европы, она явилась частью света, в корне изменившей лицо Земли. «Ренессанс был гигантским предприятием. Говорили о греческом чуде; с таким же успехом и с неменьшим основанием можно говорить о европейском чуде»[141]. Ренессансная Европа помыслила природу, земное пространство, социальную реальность, науки, искусства как цельности, которые можно и должно полностью охватить. Верно то, что экспансия европейской культуры в некоторых частях мира шла путем колонизации и насилия, граничившего с геноцидом. И всё-таки гуманистические нормы нередко брали верх даже на практике. Работорговля, например, осуждалась европейским обществом. В сравнении с европейскими идеологиями такие политические доктрины, как индийская Артхашастра, более жестоки и откровенны. Историки, отнюдь не имеющие цели обелить Запад, напоминают, что вне Европы и без европейцев геноцид иногда достигал еще худшей свирепости.
До прихода европейцев человеческая жизнь почти везде в мире подчинялась природе и судьбе. «Освободившись сама внутри своего периметра, Европа внушила всем народам земли по крайней мере вкус к свободе; она вырвала мир из обреченности, из плена вечных повторений, открыла перед ним путь обновления и сделала возможным общение всех обитателей планеты»[142]. Конечно, почти повсюду были нарушены сложившиеся образы жизни и мысли. Однако оказывается, что их восстановление явилось бы не всегда желательным. Даже идеологи национальных культур не хотят простого возврата прошлого. Сам пафос критиков униформирующей европеизации говорит, что они захвачены творческим отношением к истории и ищут третьего, не западного и не патриархального пути. Санкционированный Ренессансом диалог между верующими и неверующими предпочитается религиозной нетерпимости, и так называемые религиозные фундаменталисты или интегралисты почти повсюду остаются в меньшинстве. Страны Запада справедливо осуждаются за их несоразмерное благосостояние на фоне бедствий большинства остального мира. Но, опять же, сама Европа сравнительно недавно, немногим больше века назад покончила у себя с периодическим голоданием, причем уже теперь ее современная технология позволяет достичь аналогичных успехов, например, в Индии.
Происходит втягивание всех регионов мира на путь культурного, социального преобразования и научно-технического развития, причем не обязательно в ходе прямого заимствования европейских идей и методов, а, может быть, еще чаще в конфронтации с ними. Так, «окцидентализация» сознания, удававшаяся лишь с большим трудом при бывшем прозападном правительстве Ирана, несмотря на его технократическое реформаторство, пошла быстрее после исламского революционного переворота: сама интенсивность противостояния Западу заставляет исламских революционеров идейно вооружаться, отталкиваясь от западных идей.
«Ислам идеологизируется… Религия попадает в ловушку коварной логики: желая восстать против Запада, она заражается им; желая подчинить своей духовности мир, она обмирщается; желая отвергнуть историю, полностью тонет в ней»[143]. Суд над стареющей Европой от имени молодых народов означает не столько отказ от ее культурного наследия, сколько готовность впредь обходиться без ее помощи. «Понятие “Запад”, когда-то неотделимое от европейской цивилизации и ее экспансии, отслаивается от нее… Больно думать, что ведь именно наш континент стоял у истоков западной модели. Сегодня Европа наблюдает, как, подобно бумерангу, ее вчерашние культурные и экономические колонии, Россия и Америка, обращаются против нее»[144]. «Всё человечество за пределами стран, населенных европейцами, проходит через демографический взрыв. Съежившись на удержанных ими территориях, дряхлеющие белые ощущают нашу эпоху как конец мира. Они ошибаются. На земле никогда не было так много людей и детей… Человечество переживает разгар юности»[145].
«Исламу принадлежит наше будущее, хотя им осенено и наше прошлое, – пишет французский автор. – Ибо ислам не только объединил, оплодотворил и распространил от Китайского моря до Атлантики и от Самарканда до Тимбукту самые древние и самые высокие культуры Китая, Индии, Персии, Греции, Александрии и Византии… Благодаря своей простой и сильной вере он явился зародышем обновления наук и искусств, профетической мудрости и законов… создал условия для обновления цивилизации и расцвета новой молодости мира»[146]. Взлет исламской мировой культуры начался около 750. Описание Китая мусульманским путешественником Сулейманом на три века опередило книгу Марко Поло; открытия, приписываемые Торричелли, были сделаны за столетие до того у арабов; катаракту глаз лечили в Багдаде еще в 1000 году, тогда как в Европе это научились делать только в 1846; лигатура артерий вошла в медицинскую практику арабов в XI веке, т. е. на 600 лет раньше достижений А. Паре. В этом свете VII–XIV века представляются не темным провалом, а блестящей эпохой одной из наиболее высоких цивилизаций мира, арабо-исламской[147]. «Великолепная изоляция» Запада – европоцентристский миф или лживый сон; Фома Аквинский следовал не за Аристотелем и не Галилей возродил науки. Франкмасоны заимствовали в XII веке так называемый «готический свод», существовавший в арабской архитектуре с VIII века.
Проводниками арабо-исламского знания в Европе была школа переводчиков в Толедо, созданная архиепископом Раймундом (1126–1151) под покровительством короля Кастилии Альфонса VI, женатого на дочери халифа Кордовы, а также переводчики и комментаторы, работавшие в Сицилии при дворе Фридриха II Гогенштауфена и его наследников[148]. Мусульманская культура стала акушеркой и кормилицей ренессансного Запада. Стендаль писал: «Искать прообраз и родину истинной любви нужно под темными шатрами арабских бедуинов… Это мы, европейцы, были варварами в глазах Востока, когда пошли тревожить его своими крестовыми походами. И всем, что есть благородного в наших нравах, мы обязаны этим своим походам да испанским маврам» («О любви», гл. 53). Мейстер Экхарт многим обязан Авиценне и суфиям; «Тристан и Изольда» – европейское подражание «Висрамиани» и «Хосро и Ширину». Всего значительнее влияние суфизма, испано-арабской философии любви («Ожерелье голубки» Ибн-Хазма, 994–1064) и любовной поэзии на amor cortes трубадуров и на Данте[149].
Согласно авторам, симпатизирующим исламу, новая Европа «изменила этой любви – самой высокой и самой утонченной, какую знала человеческая культура», и теперь предстоит снова брать у ислама уроки, «отучиваясь от того, что со времен Ренессанса заставляет нас подходить к природе с воинственной и победительной настроенностью». Суть нашей эпохи – «фундаментальная проблематизация самоубийственной мифологии прогресса, понятого на западный манер… Речь идет о нашем будущем… В исламе и, шире, в незападном мире решается судьба планеты»[150]. Наоборот, исследователи, изучающие характер и перспективы культурно-промышленного развития дальневосточного и тихоокеанского регионов, иногда приходят к выводу, что «судьба всего человечества зависит от того, как будет развиваться индустриализация в Японии в XXI веке».
Вместе с тем, говоря об успехах Японии, часто забывают о связанных с ними экологических и социальных издержках. Если учитывать их, то оказывается, что на общем фоне развивающихся стран индустриализация Бразилии наименее известна и наиболее успешна[151].
Рядом с признанием, что Европа, по-видимому, закончила свое историческое дело и новая цивилизация «будет создаваться медленным трудом человечества, над которым перестанет властвовать европейский дух», сохраняется надежда, что Европа как идея, пример и образ исторического творчества сейчас рассеяна по всему миру, и ее фрагменты станут, возможно, зародышами какой-то другой культуры… Новая цивилизация по необходимости окажется наследницей Ренессанса, даже если восстанет против него[152]. В свете ожидаемого культурного синтеза, призванного охватить всё человечество, нынешнее «размягчение» Европы представляется культурологам уже не ее закатом, а необходимой предпосылкой для выполнения ее новой всемирно-исторической роли. «Бережное отношение к личности, защита природы – это вовсе не декаданс. Запад еще никогда прежде не ставил себе таких благородных целей. Мы хотим построить такое человеческое общество, где принуждение и несправедливость будут иметь мало места. Наше постдемократическое общество станет наиболее развитым из всех создававшихся до сих пор»[153]. Сторонники «слабой» Европы указывают на то, что утраченная ею военно-государственная, административная, промышленная мощь всё равно бесполезна в условиях, когда ее наращивание ведет в экологический тупик и главным фактором исторического выживания становится безоружная нравственная энергия. Тем более что и техническое развитие зависит уже не столько от изобретательности ученых и инженеров, сколько от социально-политического искусства, умеющего вплетать новые изобретения в жизнь общества.
Культурологи, занявшие такие позиции, исходят из того убеждения, что дальнейшего развития истории на прежних путях или вообще не будет ввиду исчерпания ресурсов природы, или же история пойдет по пути развертывания мало использованных ресурсов ума и чувства[154]. Упоминавшиеся выше наблюдения наводят на эти мысли разных авторов. При всём различии Юга и Севера, Запада и Востока «поверх своих этнических или политических расхождений все страны обнаруживают одну и ту же озабоченность: они стремятся сохранить за собой статус общества потребления или приблизиться к нему». Даже так называемый Третий мир «тоже переступил порог, за которым возвращение к прошлому невозможно; общество потребления остается нашим единственным будущим». «Позади нас выжженная земля», наука так или иначе вытравила традиции, привычки, устои жизни, память рода и племени[155]. В таких условиях почти невероятно чтобы какая-то часть нынешнего тесно сплетенного мира пережила местный ренессанс. «Стремление к самостоятельному и самообеспечивающему развитию напрасно; только действительно новое международное разделение труда, основанное на сотрудничестве и на известной доле планирования, обещает реальный выход»[156]. Кроме того, в атомный век не может уже быть речи о суверенности национальных держав в привычном смысле слова. С другой стороны, бесконечный научно-технический прогресс и рост производства немыслимы как высшая цель человечества. Невозможность ни вернуться к доиндустриальным природным ритмам, ни эксплуатировать природу прежними темпами заставляет думать, что человеческий род пришел к такой стадии эволюции, когда он обязан в корне измениться или исчезнуть с лица земли[157].
Свертывание механической, развертывание интеллектуальной работы, всеобщий мир, единение рода в общем деле – это черты, которые рисовались Данте в его замысле будущего человечества. Казавшиеся в начале XIV века мечтательным пожеланием, в конце XX века они предстают как вынужденная необходимость. По Тейяру де Шардену, человечество не только может жить в мире, но и в конечном счете не может не прийти к миру. Оно достигло границы, когда его способность к выживанию проверяется тем, способно ли оно к новому сознанию, к вертикальному порыву в высоту, к переходу от «энтропически эгоистического» к «синтропически кооперативному» типу эволюции.
К растущей культурной интеграции человечества сводятся все предсказуемые формы будущего взаимодействия людей – от помощи развивающимся странам до такого слияния, когда каждый человек станет «чувствительной единицей, вносящей вклад в коллективный интеллект», органом «вселенского сознания», которое займется селекцией типов культурного поведения[158]. От «выхода к человечеству» ожидают не просто новой силы, которую дает единение, а широты кругозора, который откроется для культуры, когда ее почвой станет не нация, а род в целом. То, что Запад был до сих пор «монокультурой, плодом брака единокровных родственников» (христианства и иудаизма), начинает ощущаться как его увечье[159]. «Отсталые» общества с этой точки драгоценны уже тем, что не похожи на все другие. «Если мы добьемся помощи от Третьего мира, чтобы вместе с ним изобрести новые употребления для вещей, новые формы повседневной и социальной жизни, если сумеем открыть для себя ценности, уважаемые другими, то вновь обретем и смысл наших собственных ценностей. Запад, кажется, пока не готов принять условия этого не столь уж неравного обмена; если так, наше общество технических объектов, превращаемых в товар, никогда не перерастет в цивилизацию и упрется в тупик. Если мы, наоборот, сумеем подняться до подобного обмена и подобного дележа, сегодняшнее общество потребления преобразится в новую культуру, пронизывающую повседневность»[160]. Она впервые даст возможность высвободить действительно каждого человека для духовно-культурного творчества.
Эти требования становятся чем-то само собой разумеющимся для современного европейского сознания. И первой задачей представляется именно «полная перестройка производственных мощностей западного мира с целью оказания даровой – без финансовой заинтересованности, без процентов, без протекционизма, без наставничества, без интервенции, будь то военной или культурной – помощи Третьему миру с целью предоставить ему средства не просто для выживания, но для самостоятельного строительства своей истории». Вторым, связанным с первым, аспектом политико-технической революции называют «добровольную решимость не применять власть и силу в какой бы то ни было форме», третьим – культурное разнообразие без партикуляризма, свобода человеческого лица.
Рядом с этими планами широкой планетарной и антропологической перестройки строятся программа непосредственных действий на ближайшее время: пересмотр понятия «рабочего места» (главный труд и вклад человека в цивилизацию происходит, возможно, в его неоплачиваемой деятельности); свертывание отраслей промышленности, которые еще недавно считались «ведущими»; сосредоточение усилий на здравоохранении, уходе за престарелыми и прежде всего на воспитании и всестороннем образовании, «обучение и еще раз обучение» при отмене системы массового образования; культура создания непромышленных ценностей, прежде всего в человеческих отношениях. Прагматическая разносторонность и умеренность делают подобные программы осуществимыми. Не исключено, что развитие событий в европейском мире примет именно такое направление, как описано здесь.
Подрыв христианства
В какой мере наша культура христианская? В какой мере Ренессанс создан христианством или, наоборот, ставит его под вопрос? Вместо того чтобы пускаться вслед за толпой в решение этих нерешаемых проблем, прислушаемся к предельному мнению, имеющему достоинство отчетливой ясности и убедительной простоты.
Философ техники и политики, протестантский мыслитель Жак Эллюль (1912-1994) уверен, что современная европейская цивилизация оторвалась от своих библейско-христианских истоков. Всякое вообще учение может содержать в себе незаметные ростки порчи. Оно может оказаться нежизнеспособным и по причине своего бессилия невиновным в повороте событий. О христианстве не скажешь ни того ни другого. Его корни ясны и оно проявило незаурядную действенность. Тем не менее всё вызванное к жизни им и благодаря развязанной им энергии оказалось противоположно его первоначальному замыслу. Беда не в евангельском благовестии самом по себе, а в его нечеловеческой, невыносимой высоте. Боговоплощение, церковь как тело Христово, христианская жизнь в истине и любви, если они до конца поняты и приняты, предъявляют человеку настолько предельное требование, что оно не поддается привычному определению и Эллюль предпочитает обозначать его через символ «Х» (Икс)[161].
Церковное христианство уже со II века, тем более позднее имело очень мало общего с этим изначальным «Х». Спорить тут, прав Эллюль, сможет только человек, не имеющий представления о том, что такое на самом деле пребывание духа Божия в человеке, обещанное Иисусом Христом своей невесте Церкви. «Тут нет речи о каком-то принуждении, тяготящем человека и заставляющем его исполнять предрешенную Господню волю. Совсем наоборот. Дух – сила, которая, раз навсегда избавив человека от рабства, возвращает ему простор свободы, выбора, открытых возможностей. Дух – сила света, дающая человеку глубже и по-новому увидеть себя и наш мир. Он – сила, способная поддержать человека, избравшего исполнение высшей воли. Наконец, это сила совести, подсказывающей человеку, какова эта воля Божия». Присутствие Святого Духа вносит остроту и интенсивность в экзистенцию верующего, делая его очагом обновляющей инициативы, благодатного подрыва рутины культурного, социального, политического существования людей. Учение Христа несло с собой пренебрежение реальной политикой и готовность переплавить социальную действительность огнем любящих отношений между людьми. «Не было ни программы политических изменений, ни желания сменить социальные учреждения или власти, ни предпочтения демократии диктатуре… Подход был гораздо радикальнее: отвержение всего этого, проблематизация не только данной власти, но всякой власти, замысел просветления всех человеческих отношений».
Аналогично этой антиполитике строилось евангельское, да уже и библейское непринятие религий и инфантильного духа религиозности. Недаром греко-римская языческая власть называла первохристиан безбожниками. Отменялся морализирующий догматизм любого рода. Истинный Бог «освобождал человека от морализма и помещал его в единственную этически подлинную ситуацию личного выбора, изобретательной инициативы и творческого воображения, в поисках конкретного образа послушания Отцу». Это был подрыв всей культуры как идеологический системы, со скандальным неуважением к любой традиции, с дерзкой решимостью переиначить всё и поставить на службу новому пониманию мира.
Увы, этой революции духа официальное христианство противопоставило глухой консерватизм, в религии оно обернулось повторением древнего жречества, в морали – догматизмом самого мелочного и гнетущего сорта, в культуре – беззубой всеядностью. «Христианство становится пустой бутылкой, куда последовательно меняющиеся культуры вливают что хотят».
Разбирая причины такой крутой траектории, Эллюль обращает внимание, что не только у евангелистов и апостолов, но и у большинства ведущих богословов нет крупных, роковых искажений евангельского откровения. Если даже ошибки были, они не могли сами по себе извратить исходный смысл до противоположного. Причина отката не в лжетолкованиях, а в «ослаблении усилия противостояния» естественному процессу стирания первоначальной остроты благовестия. «Старое социальное тело, поставленное под смертельную угрозу верой, несущей в себе анархизм, утрату интереса к вещам мира сего (к власти, торговле), небывалые способы общения, ответило оборонительной реакцией и поглотило инородное тело, заставив его служить собственным целям». Поскольку христианство не просто учение, а историческая реальность, явившаяся в лице вочеловечившегося Спасителя, оно не может не действовать в человеческой массе, но, приспособляемое ею, порождает псевдоморфозы. Возникает новая, абсолютистская мораль, появляется доктрина священной власти, начинается прочесывание расколдованного мира, эксплуатация десакрализованной природы, «и в конечном счете можно считать, что например светское государство, демократия или социализм явились естественными порождениями христианства, только не имевшего уже никакого отношения к Иисусу Христу и к вере, что прекрасно объяснил Фейербах». Роковым провалом было отождествление христианства с моралью. «Оно не имеет с ней ничего общего. В Откровении Бога через Иисуса Христа не заключено никакой моральной системы. Оно – антимораль». Библия прислушивается только к велению Бога, вождя своего народа, говорящего с верными ему людьми и ожидающего от них ответа. Сделать руководством для действия кроме прямого божественного водительства еще и независимую систему некой общезначимой, тем более «вечной» морали значит совершить как раз самый великий грех, взять на себя знание добра и зла. В истории о зарытом таланте и в других евангельских притчах осуждаются люди, сующиеся со своими моральными нормами там, где единственным законом должно быть слово Господа. Мораль помеха верности Богу. «Любовь не подчиняется никакой морали и не учит никакой морали… Любовь рождает к жизни исключительный род бытия, уникальный способ экзистенции, крайне необеспеченной, неизменно рискованной, постоянно обновляющейся. Это антимораль еще и потому, что христианская жизнь не терпит повторений. Тут никогда нет затверженного долга, который можно было бы регулярно и многократно исполнять в течение жизни. Мораль в жизни с Христом только помеха и ведет к оставленности, проклятости им. Отвечая ему взаимностью, морализаторы со своей стороны тоже всегда осуждали Христа».
Всем была дарована свобода перед лицом мира и природы. Но она слишком много требовала от каждого. Провозглашенное христианством беззаконие уравновешивалось экстазом жертвенной самоотдачи: поди, продай имение, раздай нищим… «Дарованная Христом свобода с необходимостью предполагала совершенное владение собой, совершенную мудрость, совершенное единение с Богом, совершенную любовь. Такая свобода есть абсолютно сверхчеловеческий риск без подстраховки, радостная и гибельная акробатика. Подобными вещами человека не заманишь. Но поскольку свобода вместе с тем всё-таки получена, возникает трагический конфликт между реальностью свободы (превратившейся в общепризнанный идеал, в лозунг, в так называемую потребность цивилизации) и отказом идти на связанный с этой свободой риск, т. е. тот самый конфликт, которым порождены неувязки западного мира, беспрестанно мечущегося между диктатурой и революцией».
Небывалая в истории человечества свобода была так или иначе усвоена всем христианским миром, но ее опасности не были уравновешены преображением человека. Поколения богословов и законников положили жизни на доказательство того, что Христос не требовал всех тех крайностей, о которых говорят его слова: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать… Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем… Не клянись вовсе… Кто захочет взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду… Благотворите ненавидящим вас… Не собирайте себе сокровищ на земле… Не заботьтесь и не говорите: что нам есть?.. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними…»
Эллюль по-своему оправдывает предательство впавшей в морализм церкви. Свобода без крайней самодисциплины давала фантастические толкования Благой вести в духе такой распущенности, что здравое ядро церкви в страхе метнулось к авторитарности и нравственной проповеди. «Люди, жестоко обвиняющие церковь в том, что она стала машиной по производству еретиков, люди, осуждающие ее за уничтожение свободы мысли, просто не имеют представления о взрыве безумных, эротических, шизофренических новоизобретений, которые потрясали Церковь между III и X веками. Злейшие вещи под прикрытием Духа Святого! Есть мера ужаса, постичь которую невозможно». Разумная дисциплина была тут необходимым противоядием – но она же отменяла любящую свободу во Христе.
Невыносимость свободы духа для массы была еще раз продемонстрирована Реформацией. Ранние реформаторы, Гус, Уиклиф, Савонарола еще старались напоминать о евангельской свободе, о верховенстве любви. Но социологически актуальнее теперь было насаждение элементарной нравственности в массах. Нельзя было спокойно смотреть на сексуальные эксцессы. Возрожденное было Лютером в XVI веке сознание крайней ответственности свободы и возлагаемого ею творческого долга опять было вскоре перетолковано в серию более или менее внешних моральных предписаний. Очень быстро, уже у Кальвина «жизнь во Христе» уступила место щепетильному нравственному нормированию. Кальвину, столкнувшемуся с вопиющей массовой безнравственностью, пришлось заниматься черновым делом так же, как ранней церкви, естественно реагировавшей сперва на распущенность римлян, потом на дикость варваров.
Конъюнктурная уступка морали превратилась в норму. «Сегодня, как уже и при Константине, богословие выходит на сцену после того как высказались политики и моралисты, ради обоснования их решений и очистки совести, ради подтверждения своей христианской принадлежности. Коль скоро такое случилось, содержание веры становится идеологией».
Тяжелым грузом морализация легла на женщин, которые по своей мягкости и душевности понесли на себе преобладающую часть запретов. Подчиненное положение женщин в «христианском» обществе обычно оправдывают двумя-тремя случайными евангельскими изречениями. Однако повышенную строгость правил, наложенных апостолом Павлом на женщин в сравнении с мужчинами, Эллюль объясняет именно большей ответственностью женщин как носительниц религиозного вдохновения. Христос возвещает свое воскресение прежде всего женщинам. В своей личности он, между прочим, всего лучше воплощает современные феминистские ценности. В евангельские времена женщины служили в храме наравне с мужчинами. Логично, что с извращением Евангелия они оказываются первыми в числе оттесненных. «Церковь избрала дух принуждения и господства и отвергла Евангелие… И всего хуже тут морализация, ведущая к вытеснению женщины как живой свидетельницы этого Евангелия».
Так довершилось спровоцированное имморализмом окружающего общества превращение Евангелия – Благой вести, благодати, радости, свободы, любви, милости, такта в отношениях между людьми, внимания к малым мира сего, защиты слабых, открытости – в мораль долга и суда. Этическое нормирование «полагало конец всему, что в Христовой истине и в духовной свободе было вызывающего, опасного, будоражащего, взрывного. Чтобы противостать брожению массы, церковные власти избрали путь нравственных регулятивов, тогда как извращенной порочности еретиков следовало (хоть это гораздо труднее) противопоставить святое безумие креста. Тут был смертельный риск, если учесть косность и массу новообращенных. Оставайся христиане в малом числе, битва могла бы быть выиграна. Массовость делала необходимыми порядок и нравственную норму».
Известно влияние арабов в IX–XI веках на европейскую философию (аристотелизм), математику, астрологию, магию, химию, военное искусство (кавалерия), сельское хозяйство (ирригация), архитектуру («готический» свод), социальный строй (крепостной европейский крестьянин – аналог арабского дхимми). Меньше говорят о том, какой след встреча с исламом оставила в теологии, каноническом праве, церковной политике. В исламе существует узаконенная связь между религией, которая сливается там с правом, и властью. Священник, он же богослов, судит в гражданских и уголовных делах; власть ведет священную войну во имя истинной веры. Соединение религии и власти представилось таким соблазнительным для средневековых европейских правителей, что разделение властей в Европе было спасено лишь с большим трудом. Церкви не удалось удержаться от искушения в другом аспекте: она переняла от ислама манеру насильственного распространения веры. Правда, этому предшествовала, например, насильственная христианизация при Юстиниане в VI веке.
Ислам подчеркивает свою природность, настаивая на том, что в своем естественном состоянии люди ближе к вере Магомета чем к любой другой. И вот начиная с XI века в христианском богословии «чтобы не отстать» тоже множатся попытки отождествить природу и откровение, представить познание космического бытия подобием богопознания, выработать «естественную» теологию, доказать, что падение твари не было полным, изобразить благодать простым дополнением к природе. Душу стали называть «от рождения христианкой», Творца первопричиной всего существующего. От Дионисия Ареопагита взяли рискованный образ нисхождения божества по ступеням космического и земного бытия. Расцвела мистика – восточное изобретение, своеобразная техника богообщения, отсутствующая в Библии и Евангелии: в Павловом перечислении даров духа мистики нет.
Дух ислама – покорность судьбе, Аллаху, его пророку, земному владыке. Библия ставит свободу человека выше всего; в исламе всемогущество Аллаха выше начала любви, и диалог Иова с Богом тут был бы невозможен. В евангельской вере нет никакой «естественности», иначе Христу не было бы надобности страдать и умирать. Однако Европе приходилось соперничать с исламом, и она поневоле начала подражать в нем тому, на чем держался его исторический успех. «Если вся Библия, и Ветхий Завет и Евангелие провозглашают, что не существует рока, что они отменены любовью, – именно этой радостной свободой жили первохристиане, – то под влиянием ислама мало-помалу, исподволь восстановилась в своих правах судьба. От ислама шла и философизация богословия, средствами греко-арабской мысли». Идея предопределенности спасения – тоже магометанского происхождения. «Имеет ли женщина душу» – проблема мусульманской теологии, не имевшая бы смысла в раннем христианстве. Под влиянием ислама и по проторенным им путям с XV века возвращается работорговля, преодоленная было в христианских землях, тогда как с X по XV век главной статьей мусульманской торговли оставались рабы. Даже колонизаторская деятельность, в которую пустились европейцы, развернулась в порядке соперничества с исламом, давно разработавшим механизм колонизации. Крестовые походы были прямым слепком с исламского джихада – священной войны во имя насаждения веры.
Политическим извращением Библии Эллюль считает как ее интерпретацию в пользу той или иной идеологии, так и ее перетолкование в смысле аполитичности. Учение Христа не аполитично, а антиполитично, оно не признает за политикой никакой ценности. «Отдайте кесарево кесарю, а божье Богу» означает вовсе не раздел земли между небесным и земным богами. Богу принадлежит всегда всё, и если Цезарь сфабриковал такую вещь как монета, то надо ее просто вернуть ему, она не представляет никакого значения и никакого интереса. Иисус не имеет отношения к праву (отказывается делить имущество между братьями), не занимает ролей в политической игре (не поддерживает ни саддукеев, сторонников Рима, ни фарисеев, его противников). Ответ Иисуса наместнику Рима: «Ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше» (Ин 19, 11) равносилен осуждению политической власти, падшего ангела, восставшего против Бога. Никакой божественной санкции за властью тут не признается, ответы Иисуса Пилату откровенно ироничны.
Эллюль называет вздором соображение, будто своим подчинением Пилату Иисус фактически легитимирует власть мировой державы. Поразительно, что великие богословы могли до такой степени заговариваться. Вся Библия учит упрямому противлению власти, евангельский политический идеал – антиэтатизм, децентрализация, антиидеология, диалог вместо угнетения, подозрение ко всему что претендует стать властью. Только глухота к духовному радикализму Евангелия заставляет некоторых западных ученых, по своим политическим симпатиям революционеров, подозревать апостолов и евангелистов в спиритуализации первоначального учения Христа, которое при условии верной реконструкции оказывается якобы планом социально-политической перестройки жизни.
Модная на Западе трактовка Христа как революционера не радикализирует и заостряет, а наоборот сглаживает и притупляет радикальность его благовестия, не умещающегося в человеческую логику, а потому выразимого только через кричащие противоречия. Бог воплотился в человеке – и вместе остается абсолютно Другим; человек, спасенный боговоплощением, оправдан и безгрешен – и одновременно он грешник. Человек, всерьез принявший евангельскую истину, должен прокладывать свой путь между абсолютной, почти божественной независимостью – и вместе полной покорностью высшей воле. Революционизация Христа есть одна из его рационализаций, понятная по человеческой слабости, но подрывающая смысл его завета. «Вообще вся политизирующая интерпретация Евангелия, с какой стороны к ней ни подходить, ложна. Мы должны держаться той бесспорной истины, что Библия несет нам невластительное, антигосударственное и антиполитическое слово, что однако вовсе не означает аполитичности, спиритуализма, бегства от жизни и замкнутой благочестивой религиозности».
Нынешняя лево-революционаристская политизация Евангелия есть лишь запоздалая подправка к тому огосударствлению христианства, которое произошло самым выпуклым образом при Константине в IV веке и повторилось позднее при крещении короля франков Хлодвига в 496 и киевского князя Владимира в 988. Эллюль присоединяется к начавшемуся в 1950-х годах осуждению константинизма протестантскими церквами. Обращение Константина в христианство во имя военно-политической победы было денатурацией Евангелия. Крест – знак спасения через свидетельство любви к Богу, идущей до самой смерти, и ничего более. Он не может быть знаком военной победы.
Приспособление Бога к политике аналогично его утилизации в философии для объяснения мироустройства или хода человеческих дел. В обоих случаях Бог встраивается в систему земных или космических обстоятельств. Оказывается, что царство Божие, не от мира сего, надлежит учредить политической властью, утвердить через военный триумф. Так называемая симфония церкви с государством, утвердившаяся в Византии IV–VI веков и служившая вплоть до начала XX века прообразом всех соглашений христианской церкви с государственно-политическими образованиями, была откровенным извращением. «Церковь дала себя соблазнить, оккупировать, подчинить в обмен на возможность распространять Евангелие силой (не той, которая от Бога) и пользоваться своим влиянием для христианизации самого государства».
Церковь поддалась искушению Сатаны, отвергнутому в свое время Иисусом. Загадочному замечанию Павла, «нет власти не от Бога» (Рим 13, 1) был придан абсолютный смысл. Пугает легкость, с какой Церковь приняла союз с государством. Она стала преследовательницей, сама едва избавившись от преследований. Слившись с властью, она благословила царей; в лице Лютера она вступила в союз со знатью против императора; в лице Кальвина заискивала перед восходящей буржуазией; с XIX века, как хамелеон, она стала республиканской, при Гитлере – гитлеровской (Немецкие христиане), подобно тому как в наши дни так называемая теология освобождения оправдывает союз Церкви с властью нового типа, опирающейся на терроризм. «Преступление Церкви заключается в этом процессе оправдания политической власти». Известный довод о том, что не все режимы одинаково плохи и Церковь должна поддерживать лучший против худшего, признается Эллюлем, требующим от Церкви четкой политической позиции, однако с той оговоркой, что она должна не пассивно выбирать одну из предлагаемых ей ориентаций, а указывать творческий новый путь. «Церковь должна изобретать, обновлять, вести, предлагать Новое и никогда не служить инструментом пропаганды или легитимации ни для какой политической силы».
Итогом заигрывания с властью стало превращение самой Церкви в государство. Римский папа стал правителем и заботился о расширении своих владений за счет других «христианских» владетелей. Уже Августин жаловался, что епископ перегружен административно-управленческими заботами. Позднее, с национальным дроблением государств, раздробилась по национальному признаку Церковь. Конечно, среди христиан всегда были верные Евангелию анархисты; их преследовали еще со времен Константина. Однако победили два полюса: бессовестная власть, с одной стороны, и малодушный эскапизм под маской благочестия, с другой.
Перед теми же двумя путями, которые оба неверны, стоит и сегодняшняя Церковь. Либо конформизм, интеграция в существующую политико-социальную систему, либо бегство от жесткой политической реальности в «духовность», во «внутреннее самоусовершенствование», в мистику. Хотя Церковь после своей юридически-административной контаминации с властью делает много доброго, подобно тому как в IV–V веках она защищала рабов, улучшала правовое положение женщин, облагораживала семью и брак, смягчала уголовное право, всё равно именно поэтому она перестает быть вестницей Слова Божия и становится просто организатором менее неудовлетворительного человеческого общежития. «Из-за признания христианами и Церковью государства и из-за политического хвостизма произошло изменение, имевшее по сути дела характер подрыва. Откровение несло с собой сдвиг всего человеческого миропорядка, отмену власти. Я принес огонь на землю, я принес не мир но меч, говорил Христос. Этот непримиримый радикализм выветрился из последующей истории политиканствующей Церкви».
Взрывной радикализм Евангелия не мог исчезнуть без следа и дал о себе знать в неожиданной форме христианского нигилизма. В 1980-е годы Эллюль констатирует пышное цветение европейского нигилизма. Ни государство ни общество уже не предлагают массам никаких осмысленных жизненных целей, а у самих людей нет сил на свой страх и риск оживить былые нравственные ценности. Да только глупцы еще могут мечтать в современном мире о введении каких-то нравственных табу. Причем сами эти мечты в свою очередь продиктованы нигилистическим духом нормирования и рационализма. Всё современное общество по своему настроению нигилистично. «Любой коллектив, близящийся к своему концу и исчезновению, отвергает свои собственные ценности. Обычно это сопровождается распадом социального организма. Но вот уникальная черта нашего общества: наш нигилизм сопровождается могуществом, он не предвещает никакого развала, не расшатывает железные структуры нашей экономики и нашей техники». Крайний нигилизм сопровождается ростом технической мощи и эффективности. Нигилизм царит в литературе и искусстве, которые делом чести считают открещиваться от служения каким бы то ни было целям, будь то красота, смысл или даже развлечение. Нигилизм в политике отмечен даже не столько разнузданностью таких идеологий как нацизм, сколько параличом творческой воли, несмотря на наличие колоссальных средств, и полной неспособностью глядеть в глаза правде: слова и дела вращаются по идеологической орбите, нигде не соприкасаясь с реальностью. Другие нигилистические явления – самоубийственное безумие, небрежность к собственной жизни, наклонность к террористической мнительности, особенно у молодых, глухой пессимизм в отношении к социальному телу.
Главной нигилистической чертой остается отказ видеть жизнь как она есть, втискивание ее в идеалистические и доктринерские рамки. Современное христианство, на наивный взгляд, учит нравственности, традиции, участию в истории. На деле всё не так просто. Христианская церковь стоит у истоков всего исторического зла современного нигилизма, хотя оно и не единственный виновник. Главная ошибка церкви в том, что она отодвинула Бога в слишком трансцендентную даль. Если Бога нет, то всё позволено. Но еще вернее будет сказать, что если Бог неприступен в своей вечности, то на долю человека остается холодное одиночество. Абсолютное божество парит на такой высоте, что для земного взора сливается с ничто. Трансценденция эвакуировала Бога из мира и тем релятивизировала всё здесь. Раз всё одинаково далеко от его бесконечности, всё одинаково ничтожно.
Ведь разрушив религии с их почвенной моралью христианство не дало ничего взамен. Строго говоря, оно антирелигиозно. «Христианство не религия. Оно не удовлетворяет религиозные потребности человека, а наоборот, по своему существу и в своей истине противоречит им». Христианство не мораль, коль скоро откровение Святого духа заменяет автономную мораль требованием прямого отклика на веления Бога. Но когда Бог ушел в неприступную высь, его веления оттуда стало слишком трудно услышать. Важная тема христианской догматики, первородная греховность человека, усилиями поколений проповедников укоренилась в массовом сознании в виде обреченного чувства, что все дела людей скрывают в себе роковую гниль. Человек заранее пойман в сети зла, и всё что делается на земле заранее осуждено уже тем, что бесконечно удалено от трансцендентного Бога. Постхристианские и нехристианские идеологии переняли тезис о коренной порче человека. Правда, современная психологическая наука сняла с него груз совести. Но хотя понятие греха в секуляризованном мире забыто, всё ежедневно сообщаемое по телевизору, в газетах, не говоря уже о потоке беллетристики, укрепляет подозрение к греховности и злобности человека, воспитывает убеждение, что мировое зло не исправишь. Выходит, что с одной стороны человек весь греховен, с другой – свободен безгранично эксплуатировать природу. Злой и негодный, он тем не менее может делать с нею что угодно. Тогда отрицание мира совмещается с отрицанием самого себя, эксплуатация человека (грешника) присоединяется к эксплуатации мира (отданного человеку) и дает в итоге сознание тяжкого долга, чувство мрачной силы, наконец – одержимости.
Упрочивается нигилистическое убеждение, что надо как можно скорее уничтожить современное общество, которое приравнивается к злу. «Сейчас имеет место всеобщее искушение нигилистического сумасшествия, возможно, спровоцированное или про крайней мере питаемое реальной возможностью коллективного самоубийства, способностью современного вооружения положить конец нашей истории и всему человечеству». Христианство расколдовало мир, не оставив в природе никаких святынь. «Сегодня вследствие вызванной христианством десакрализации в мире природы видят просто-напросто материальный хаос, что не вызывает к нему особого уважения. Для неписаного права творить что угодно с этим бездушным миром не существует никаких ограничений кроме препятствий, поставленных человеку его собственным воображением и недостатком технических средств. По мере накопления этих средств безграничная утилизация природного капитала возрастает, заодно с соответствующим разрушением природы. Нестесненность человеческой деятельности ничем, кроме наличных технических средств, выдается обычно за признак свободы человеческого существа, но на деле происходит от нигилистического равнодушия к природе.
Парадокс сложившейся ситуации в том, что удаление Бога из человеческой среды, расколдовывание мира, преодоление почвенной религиозности, словом всё, что в христианстве стало почвой для нигилизма, в подлинной библейско-евангельской вере имело прямой антинигилистический смысл. Мера требуемой Евангелием свободной ответственности исключает и тень пренебрежения к миру. Дорогу эксплуатации природы открыли другие силы, применившие в своих целях достигнутую библейско-евангельской верой десакрализацию.
Естественный человек всегда был религиозен и наделял исключительным мистическим смыслом явления природы или функции социального организма. Да, христианство подорвало такую религиозность, дало бой богам природы, видит в явлениях и силах природы именно явления и силы, не имеющие ровно ничего священного. Всё уравновешено одинаковой сотворенностью, хотя человек, тоже тварь, выше остальной твари и посредничает между нею и Богом. В иудаизме еще сохранялись черты сакрализации определенных мест (горы), дней (суббота). Христианство пошло дальше, его Бог – сокровенный, в видимой природе нет святынь или сверхъестественных тайн, подобно тому как и среди людей тоже не должно быть особого священства. «Христианский мир насквозь нецерковен. Эта в подлинном смысле профанация, эта десакрализация, это обмирщение были самыми радикальными из всех когда-либо совершавшихся».
К этой десакрализации мира возводят происхождение науки и техники. Поскольку вещи – всего лишь вещи, не более, и внутри них нет ни частиц божества ни таинственных сил, то можно попытаться и полностью познать их и беспредельно использовать. Однако надо спросить: если предпосылкой научно-технического покорения мира было его расколдовывание христианством, то почему христианство так медлило развертывать свои потенции, почему техническая цивилизация выжидала еще почти полтора тысячелетия после победы христианства или почему она не возникла в ареале иудаизма, тоже расколдовавшего мир? Почему в X веке всемирной колонизирующей силой был ислам, а в XII веке завоевательной, технически оснащенной, научной державой явился Китай?
Библейско-христианское сотворение мира – не развертывание от века сущих предпосылок, семенных логосов или первоединства, а абсолютная инициатива, беспримесная новизна, воля, которая и не прихотлива и не негативна, а созидательна и цельна как любовь. Человеку как возлюбленному Божию творению библейской верой завещано столь же вольное и вдохновенное любовью действие. Поскольку мир создание любящей воли, в нем есть простор для такой же встречной воли, но совершенно нет места для утилитарно-хозяйственной экспансии. «Будучи творением, мир покоится не на человеческом решении о нем, а на любви творца. Поняв мир как творение, человек уже не может осуществлять свое всемогущество эксплуататора и разрушителя. Его своеволие останавливается знанием, что перед ним творение творящего Лица, а не природа как безразличная среда обитания». Библейский Бог живет в истории, складывающейся из его вольных деяний и ответных поступков его твари. Он поэтому не вычисляется философскими выкладками, и даже высокая идея трансценденции ничего еще не говорит о нем, если первая и единственная реальность есть не Первоединство и не Субстанция, а живая всемогущая личность в истории своих отношений с человеком. В любящей связи между личностями нет места ни для вечных повторений, ни для дурной бесконечности, ни для обязательной энтропии.
Эллюль задается вопросом, как из такого учения могла получиться теология трансценденализма, согласно которой человек заброшен одиночкой в мир без ориентиров, без надежды и без теплоты божественного присутствия. Каким образом волнующая близость личных отношений превратилась в метафизическую схему двух полярных миров, земного и небесного? Он приходит к выводу, что евангельское откровение было трудно сберечь из-за того что вместо рассудочного осмысления оно требует перемены жизни. Когда в Евангелии увидели текст, произошел трагический провал в нигилизм. Рассуждения о греховной природе человека завели богословов в непролазные философские дебри.
По смыслу Евангелия грешна не природа, а мое личное Я, слышащее благую весть и понимающее свою вину перед лицом страдающего Бога. Слышащий благую весть Я в то же время и спасен: греховен и спасен вместе, а не на манер ребенка, который сначала шалит, а потом выпрашивает прощение. Одновременное сознание вины и спасенности придает небывалое напряжение евангельской жизни. Верное соблюдение буквы Евангелия не уберегло его от худшего искажения – перевода живой истории Бога и человека в область богословских прений. Виноваты вовсе не ошибки толкователей, а то, что теологи вообще перенесли всё в сферу философии, выставив свои метафизические проблемы. Стихия веры не вечные теологические проблемы, а конкретное событие божественного откровения и его принятия человечеством. Бог открывает себя истории как хочет и когда хочет. Библейские истины другой природы чем философские первоистины, это конкретные веления, обращенные к человеку здесь и теперь; в другое время и в других обстоятельствах истиной может оказаться иное. В Евангелиях Бог в лице Сына приходит на землю, т. е. история личных богочеловеческих отношений продолжается. В новую эпоху заветы Бога по-прежнему конкретны.
Для библейско-христианской мысли вся реальность настолько исчерпывается богообщением, что даже загробная жизнь целиком принадлежит его истории. Как в иудаизме, так и по апостолу Павлу душа не отдельна от тела, одушевленное тело составляет всё человеческое существо; по смерти нет разлучения души и тела, душа смертна, поскольку тело смертно. Воскрешение плоти признается Библией как еще один добровольный акт Бога: животворчество по чистой благодати. Нет никакого субстанциального бессмертия отдельной человеческой души. Доктрина вечной души – фольклорно-философская перверсия, Возрождение языческих верований. Если Пифагор сделал из царства мертвых идеальное царство душ, настрадавшихся в мире, то «христианство» вдобавок еще произвела это царство мертвых в Царство Божие.
При философском понимании Библии исчезает действенное, живое, переменчивое присутствие первого Бытия, источника смысла. С этого момента сразу же как абсолютное господство неподотчетного человека над природой, так и его сознание своей греховности, отныне непрощенной, неискупленной, становятся факторами нигилизма. Почему из Откровения почти неизбежно выветривается момент жизни и абсолютной новизны? Именно потому что Откровение нельзя ни уловить, ни фиксировать, ни обосновать, ни объективировать, а ведь нам неизменно кажется, что если мы не доберемся до осязаемой реальности, то всё потеряем. Сегодня еще больше чем когда-либо мы счетоводы, жаждущие явственной достоверности, гарантированного продвижения вперед, простой формулировки нашего долга и прозрачной нормы поведения. Нас отпугивает недостоверность, необеспеченность таких летучих вещей как любовь и благодать. Услышать, что Бог нас любит, нам скорее тревожно. Нам спокойнее услышать, что он требует от нас пятидесяти конкретных вещей, и когда мы их исполним, мы наконец вздохнем свободно. Мы не желаем вечно неожиданных отношений с Богом, предпочитая подчинить себя нормам. Нам не довольно, что Бог посылает благодать и избавляет от рабства. Мы хотели бы привязать его к себе нашими добродетелями, думая почему-то, что он в отличие от нас не свободен сам решать, что ему угодно.
Всеми путями мы силимся опредметить наши отношения с Ним. Мы построили идею природы, которая служит нам системой отсчета: раз она сотворена Богом, вполне достаточно сообразоваться с ней. Мы учредили суверенные инстанции, церковные или политические, которые представительствуют за Бога на земле и с которыми можно установить упорядоченные отношения. Мы наделили чрезвычайным смыслом право, сделав из него выражение воли Божией. Суверенность любви мы подменили политическим суверенитетом, свободу – долгом.
Но ведь именно эти наши нагромождения и готовили наш переход к нигилизму. Ни одна из наших построек не могла устоять перед простым вопросом, заглушенным, задвинутым в угол всё то время, пока социальный контроль достаточно силен, но ведь не навсегда: к чему? Зачем надо повиноваться праву, государству? Ответить на эти и подобные вопросы никто не может. С момента их появления обнажается бессмысленность наших рутинных занятий, выражающаяся в активности ради активности, во власти ради власти, в потреблении ради потребления, в росте ради роста. Всё это временно заполняет пустоту мира, в котором мы очутились, получив на руки далекого бездейственного Бога. И поскольку ничто из этого нас не может по-честному удовлетворить, мы тянемся к ничто, которое маячит издалека единственным исходом, неумолимым роком, приход которого, раз уж мы на него обречены, хорошо бы по возможности ускорить, положив конец человеческой авантюре, вполне бессмысленной с тех пор как ее перестала воодушевлять любовь.
Эллюль заостряет свою мысль. Требования Евангелия противоположны естественным наклонностям и привычкам, невыносимы и неприемлемы для здравого рассудка. Рискованной требовательной свободой миллионные массы не заманишь. Тогда начинается препарирование Евангелия в вековечном религиозно-мистическом духе. Во все эпохи человек тоскует по религиозному успокоению, по обетованиям вечной жизни, по благочестивым утешениям. Сегодня научное просвещение нисколько не ослабило эту тоску, а может быть только изменило или упростило ее формы. Невыносима не религия, – человек как раз всегда готов вынести любую дозу культа и ритуала, – а именно перспектива оказаться в евангельской нерелигиозной, десакрализованной вселенной без других опор кроме благодати и любви.
Естественный человек ненавидит Христа, победителя Медузы, прилагает хитроумные усилия для обратной переделки Откровения в религию с новыми легендами, мифами, таинствами, экстазами и созерцательностью. Церковь охотно подменяет своей священной утварью реальное присутствие Святого Духа в земном мире, крещение в духе – крещением в воде, участие в истории богочеловеческих отношений – участием в обряде и т. д. Языческая мысль, восточная мистическая религиозность совратили церковь, когда, поддавшись соблазну успеха, она после «обращения» Константина начала массовую евангелизацию. К деструкции христианства вели естественные процессы. Состоятельные люди, крестившись, начинали жертвовать в пользу церкви; та богатела и создавала для управления массами администрацию, иерархию, суд. Массой войдя в церковь, общество инстинктивно хотело сохранять свой прежний природный порядок. Шел совершенно понятный процесс принятия малых компромиссов без всякого злого умысла. Для рядового верующего крещение и посещение храма стало достаточной аттестацией, тогда как во времена Христа и апостолов малое стадо христиан, не смущаясь своей малочисленностью, тревожилось только о чистоте веры.
Эллюль держится мнения Керкегора, что одного настоящего христианина достаточно, чтобы сделать всё христианство реальностью, и больше того, его чистота состоит в обратной пропорциональной зависимости от численности. Когда христианами становятся все, это понятие опустошается. С христианством произошел тот же социологический казус, что и со всеми элитарными движениями. Хлынувшая потоком масса паганизировала церковь. Иного быть не могло, когда новая вера вводилась приказным порядком в 24 часа и прежние прихожане, явившись в старый храм, на месте жреца видели священника с крестом. Дух и мораль язычества ожили под новой шапкой. Местные полубоги сохранились в обличии новых святых. Языческая витальность, вкус к природной жизни или изыскам цивилизации прокрались в христианские формы. С пугающей откровенностью мера преемственности между новым и старым отобразилась в латинском именовании римского папы – Понтифекс максимус. Так назывался верховный жрец в Риме. От христианства осталась разве что может быть особенная острота угрызений нечистой совести.
В стертых формах христианства десакрализация прошла половинчато. Восстановилось почитание заповедных мест, священных дат, храмов, чего не было у первых христиан; по апостолу Павлу, уважение к дням недели дело чисто человеческое. Хлеб и вино причастия в массовом сознании снова становятся святыми. Вода крещения действует «сама», природная вещь обретает магическую силу; ритуал тоже святит сам собой; начинается поклонение церковной утвари, тогда как Христос отвергал поклонение даже себе, пересылая его небесному Отцу. Не хуже любой религии христианство создало с веками священное пение, священное искусство, священные книги, священные сосуды; рядом с общей историей появилась священная, так что современная церковь вязнет в разросшейся вокруг нее сфере святого. Тут ее страшный исторический провал. Даже протестантизм, отметая большую часть этого суеверия, сделал предметом культа книгу, Библию, вырвать листок из которой до сих пор считается в протестантском кругу тяжким проступком. Когда в 1950-х годах молодые французские протестанты захотели использовать молитвенное помещение как обычный зал, где можно устроить общий обед, праздник, собрание, разразился скандал; говорили, что оскверняется святое место.
В роли новой религии христианство сделалось структурирующей идеологией данного общества. Оно перестало быть взрывным ферментом глобального пересмотра жизни во имя той истины, какою явился Иисус Христос. Социальная польза церкви как агента мира и порядка перекрыта непоправимым историческим ущербом от сокрытия подлинного евангельского замысла. «Божий порядок – вовсе не организация и институирование. То, что говорит нам Библия, не годится ни для какого общества. Удалось упорядочить распад атомного ядра, но распад вековых социальных структур, вызванный Евангелием, упорядочению не поддается. Если начинает казаться, что упорядочение прошло, то значит Евангелие просто улетучилось: мы сфабриковали еще одну, очередную религию – христианство, не имеющее уже никакого отношения к Иисусу Христу».
Подобно тому как в Христе дух действовал поверх смертного тела и наперекор ему, так и неведомый Икс, христианство, каким оно должно было стать и не стало, идет своим путем наперекор и, возможно, в ущерб социальному организму. Конфликт между порывом духа и косностью общественных порядков неизбежен. Дух не от мира сего, он режет по живому привычный уклад человеческого общежития. Эллюль называет эту черту социальной нестерпимостью Откровения. Соблазну выработать джентльменское соглашение между духом и природой почти невозможно противостоять. Подрывная работа против христианства велась не потому что общество было дурно, а потому что Откровение оказалось общественно невыносимым. Благодать только кажется желанной всем, на деле она тревожит и сбивает с толку своей полной независимостью от нашей воли. Положиться только на благодать значит как бы отдать себя полностью в чужие руки, а этого человек стерпеть не может.
Человек хотел бы сам работать для своего спасения. Однако Евангелием обрядовое оправдательное делание отменено. Евангельский юноша, исполнивший все религиозные и нравственные предписания, слышит обескураживающий приказ: продай имение, раздай деньги, иными словами, откажись от жизненных опор, положись на милость и благодать. Современный человек стремится к частной собственности; по Евангелию он должен согласиться на пожизненную необеспеченность. Тысячелетиями человеческое общество кристаллизуется вокруг соперничающих центров силы. Только Христос предлагает вместо реальной политики даже не ненасилие, а принципиальное неприменение какой бы то ни было силы. Совершенный отказ от силы и власти, надежда на непредсказуемую благодать – всё это идет вразрез с жаждой обеспеченности, обуревающей современного человека. «За подлинную свободу надо платить необеспеченностью и ответственностью. Но современный человек старается прежде всего ни за что не отвечать. При всем том он любит выглядеть свободным, хочет голосовать, хочет многопартийной системы, хочет путешествовать, “выбирать” себе врача, школу, – и эти пустяки он смеет называть свободой». Эллюль тут же оговаривается, что демократия лучше тоталитаризма, но лишь так, как для дворового пса двухметровая цель лучше тридцатисантиметровой; более длинная цепь – еще не свобода.
Для современного раба, желающего выглядеть свободным, вся Нагорная проповедь целиком невыносима, если принимать ее всерьез. Благодать нестерпима. Бог-Отец невозможен. Неприменение власти сбивает с толку. Подлинная свобода не дает вздохнуть. Принять Евангелие нельзя, отвергнуть жаль, и начинается подтачивающая работа приспособления Христовых заветов к жизни; в них видят крайности пророческого экстаза, иносказания, норму для избранных единиц. С помощью искусства экзегезы доказывают, что смысл каждой фразы не совсем тот, что при первом чтении. Самое мощное подрывное усилие направлено против провозглашенной Христом неотмирности своего царства, парадоксально сочетающейся с заповедью деятельной любви. Из Евангелия вычитывают или уход из мира в благочестивую обрядность, или политическое изменение в мире. В сознании не укладывается, что Христос звал жертвенно и неустанно работать в мире, но не обещал тут воли, покоя, правды, равенства, обеспеченности, требуя подвига без расчета на награду. Если вы делаете то же, что всё, то что особенного делаете? «Мы призваны поступать именно особенным образом, – пишет Эллюль. – “Будьте совершенны, как Отец ваш небесный совершен”. Не менее того. Всё остальное – извращение».
Он допускает возможность, что подрыв евангельских заветов идет не только от людей, но и от сил, властей и господств, духов злобы поднебесной, хотя они действуют только через людей. Под властями и господствами надо понимать не мифических падших ангелов, а действующие силы мира, поименованные в Библии: маммона (деньги), князь мира сего (государственная власть), князь лжи (сила обмана), сатана (садистское обличение или мазохистское самообвинение), диавол (разделение, раздор, война), смерть (разрушение). Никакой мистики властей и господств не существует; речь идет о трезвой оценке земных реалий. Всего больше злых сил вокруг источников благодати. Над Иисусом Христом все силы зла достигли своего пароксизма. Где есть хотя бы один христианин, там собираются все силы зла. Бернанос и Достоевский видели это с замечательной ясностью. Цель властей и господств, нередко достигаемая, – сделать из земли ад.
Маммона – прямая противоположность благодати. Маммона правит везде, где берет верх уверенность, что блага, от земных до духовных, надо заслужить, заработать. Эта мирская мудрость не более как слепота, наступающая от затянувшейся бездуховности. В духовном горении человеческая жизнь устраивается так, как не придумать плоскому рассудку. «Пока духовный тонус или, если хотите, духовное горение высоки, пока вера жива, пока братская любовь непрестанно обновляется, проблемы денег не существует. Деньги становятся императивом, когда люди перестают по-настоящему надеяться, по-настоящему верить и впадают в рутину и конформизм… Маммона устанавливает свои правила в Церкви исключительно в той мере, в какой Церковь утрачивает свое отношение к Иисусу Христу».
Земля как творение свободного художника Бога не подлежит эксплуатации, но князь мира сего, государственная власть, уподобляемая в Евангелии наемнику, ведет себя при терпеливом молчании настоящего хозяина как безраздельный распорядитель.
И маммона и князь мира сего еще могут быть обращены во благо: богатство и деньги – для раздаривания, государство – как орудие посильного устройства общежития. Другие силы и господства опаснее и злее.
Князь лжи превращает живую истину в вещь, идею, мнение, догму, в философскую систему, научную теорию. «Ложь царит везде, где идут поиски гнозиса, спиритуализирующего или утилизирующего Иисуса на нужды метафизики, а также там, где из него делают тезис замкнутого догматического вероучения». Ложь господствует в церкви, объявляющей себя телом Христовым, словно такова объективная реальность, хотя действительным телом Христовым она бывает только по благодати, ее принадлежность Христу никогда не гарантирована, всегда зависит от новой милости творца.
Сатана, «осуждающий», присутствует всюду где звучит обвинение, пусть даже точное и справедливое. Он дух обличения, пафос судебного процесса и разбирательства. В Ветхом завете сатана предстоит перед лицом Господа и требует от него испытания веры Иова, которого подозревает в небескорыстном благочестии. Иначе – в Новом завете. «Я видел сатану, спадшего с неба», говорит Христос апостолам. С вочеловечением Сына сатана свергнут, он уже не смеет подозревать человека, за которого поручилась высшая инстанция. Тот, кто был перед Богом олицетворенным обвинением, больше не существует с момента, когда Иисус Сын Божий пришел нас простить; по выражению отцов Церкви, рядом с Господом теперь восседает уже не человеконенавистник обвинитель, а человеколюбивый заступник. Обвинительная страсть должна была бы тем более прекратиться среди людей. Однако изгнанный с небес сатана процвел в человеческом мире. На свой позор Церковь стала инквизицией. Вместо прощения грешника заговорив о прощении греха, она в каждом верующем воспитала самообвинителя, призванного во что бы то ни стало отыскать в себе порок. Поощряется психоэтическое копание в себе, микроскопическая хирургия движений души, доходящая до извлечения греха любой ценой даже из недр бессознательного, из-под земли. «Извольте отыскать порок в невыразимой глубине, в самом смиренном движении души, в духовных побуждениях. Всё оказывается подозрительным. Во всём можно видеть прегрешение. Вот великая ошибка Церкви, покорившейся сатане и извратившей истину Откровения. Сатана расположился в ее сердце, она сама сделалась великой мастерицей обвинения и превратила его в разрастающуюся раковую опухоль, беспросветно и безысходно гнетущую человека… Именно Церковь виновна в том, что наш сегодняшний мир стал миром ненасытного политического, социального, интеллектуального, морального обличительства».
Слово «диавол», означающее не персону, а социально-духовную реальность, раскол, Эллюль тоже пишет со строчной буквы. Диавол правит миром через вполне естественный пафос войны и раздора. Церковь питала и этот пафос; самыми беспощадными и свирепыми войнами становились религиозные. Феномен религиозных войн пережил саму Церковь. «Мы живем в век светских религий, и войны, вызванные гитлеризмом, как и войны, вызванные коммунизмом, суть религиозные войны, подобно тому как революционные движения суть движения религиозные». Эллюль показывает на общую закономерность: секуляризация имеет своим противовесом причудливую сакрализацию социальных реалий; с упадком значения Церкви святыней становится государство.
Эти силы зла в союзе с шестой и последней, смертью, и в опоре на человеческую слабость взяли верх в исторической борьбе против Христа. В их триумфе над Евангелием не было фатальной неизбежности. Ничто не мешало и евангельской истине взять верх. Что произошло бы тогда? Всё или ничего – так стоял вопрос для Иисуса Христа; речь шла о решительном и уникальном утверждении в человеческой истории триады жизни-любви-свободы. Дело шло не менее как к отмене самого существования властей, сил и господств; если бы им не удалось вовремя извратить Евангелие, то и деньги и государство и феномен массы стали бы маловажными, невесомыми вещами. И наоборот, победив самого Христа, эти силы побеждали уже окончательно. Больше того, они не могли прийти к полному торжеству иначе как через труп извращенной ими евангельской истины. Ведь только Евангелие сняло замки с мира и природы и оставило единственной сдерживающей человека силой любовь. Без Христова духа в политике не могло возникнуть – через извращение этого духа – подчинения политики идее, не было бы современного государства, самого холодного из всех ледяных чудовищ. Без даровой благодати, снявшей религиозное почитание природы, не возникло бы – за счет извращения ее идеи – мировой власти денег и равнодушной к природе технической рациональности. Нужен был дух неприменения силы, чтобы всемогущая техника смогла завладеть миром и эксплуатировать всё. Нужна была истина Откровения, чтобы наука стала абсолютной истиной в последней инстанции. Верховная власть сил и господств оказалась возможна только за счет подорванного христианства. И эта разнузданность властей и господств, эта идеологизация всей нашей жизни, эта крайность, до которой за последние два тысячелетия человек дошел повсюду, куда достигло христианство, есть своеобразное жуткое доказательство того, что Иисус был поистине Христос и всё, о чем нам говорит Откровение, поистине правда.
Следует ли констатировать исторический провал проповеди Христа? Да, отвечает Эллюль, подобно тому как вся Библия это история провалов: неудачи с Адамом, Каином, Ноем. После каждого падения человека Бог снова дает ему шанс, не желая принудить его. В случае с Иисусом Христом произошел провал добровольного отказа от силы. Власти и господства одержали эффектную победу, взнуздав в своих интересах даже Христову истину. Вместе с тем Христос потерпел неудачу только в истории. В области духа, где его Воскресение продолжает иметь для веры убедительность факта, Благая весть действует и даже сохраняет способность подрывать в свою очередь мировые силы зла. Заглавие книги Эллюля звучит теперь в родительном падеже субъекта: подрыв, проводимый христианством. «Всё-таки крест, водруженный в средоточии мировой истории, не может быть из него вырван. Всё-таки воскресший Христос с нами до конца света. Всё-таки Святой Дух действует, тайно и с бесконечным терпением. Всё-таки, несмотря ни на что, существует Церковь, непрестанно рождающаяся и возрождающаяся».
Вообще говоря, Эллюль дает отвод привычному комплексу обличений Церкви, возникших по сути дела в лоне самой Церкви в эпоху Реформации и получивших окончательную форму в эпоху Просвещения и романтизма. Они имели мишенью Церковь своей эпохи, уже захваченную буржуазией и превращенную в защитницу эксплуатации и экспансии. Ошибкой и пропагандой было распространение на всю историю Церкви того, что наблюдалось в ней в XVIII и XIX веках. Преувеличивалась роль инквизиции – регионального и в общем, за исключением дела катаров, малоопасного института. Фальсифицируется дело Галилея, которого изображают мучеником науки. Несправедливо сводят Крестовые походы к жажде денежных и земельных приобретений. Неверно, что миссионеры были проводниками западного империализма; ложна теория, по которой капитализм вырос на протестантской почве. Со своей стороны Церковь неправильно реагировала на критику, горделиво замыкаясь, когда требовались терпеливые разъяснения. Многолетняя замкнутость подвела ее к катастрофе 1945–1970-х годов, когда жесткое противостояние светской культуре сменилось ни с того ни с сего излишним сближением с ней. Железный занавес рухнул. Подхваченные потоком, христиане внезапно обнаружили в себе наклонность к научной рациональности, к коммунизму, к революции, к гиперкритичности в отношении собственных Церквей. Былая гордыня самоправедности сменилась излишком самообвинения. Главный недостаток Церкви Эллюль видит не в перечисленных пороках, мнимых или действительных, а в оскудении дара света, свободы, любви. Если бы Христос пребывал в Церкви как в апостольские времена, история пошла бы другим путем. Сегодня Дух Божий уже не присутствует в Церквах. Притязания официального христианства на духовную исключительность неоправданны, оно теперь лишь одно из социальных учреждений.
И тем не менее эта распавшаяся, разделенная, лживая, предательская Церковь еще живет, и живет она вовсе не в качестве института или организации, а наперекор этому. Она существует как тело Христово и как истинная Церковь. Эллюль поясняет, что его надежда идет не от ощущения, что дело обстоит пока не так уж плохо, такого ощущения у него нет, а от знания, что Дух непредсказуем и неотвратим, яко тать во нощи. Дух нарушитель по своей природе, он работает в обход психологическим, социальным и прочим закономерностям. История падения Церкви, начавшегося почти 2 тысячи лет назад и до сих пор никак не кончающегося, это история победы духа над последним врагом, смертью. Свидетельство обещанного Христом Воскресения Эллюль видит в феноменальном выживании Церкви, непрестанно гибнущей, многократно расколотой, преданной собственными служителями, превращенной в «христианскую религию», в институт. Она не может умереть. Мы видим, что она умирает. А потом она появляется в другом месте или иначе. Погибнув на Ближнем Востоке, она возрождается в Галлии, Ирландии, Испании; погибнув на севере Африки, появляется в Британии, Германии. Возможно, современная западноевропейская Церковь обречена, но она оживет в Индонезии, в Африке, подобно тому как в настоящее время (начало 1980-х) возвращение христианской истины происходит в России. Слово Божие еще живо и еще проходит высоким напряжением через старое, до отчаяния косное церковное тело. Смерть словно остановилась у крайней черты, потому что хотя продано и предано казалось бы всё, последнее слово остается за Воскресением.
История Церкви это ряд непредвиденных провалов и взлетов. Почти немедленно после Франциска Ассизского начинается раздор внутри основанного им ордена.
Чуть ли не при жизни Лютера реформированное христианство превращается в очередную религию, не лучше прежней ограниченную и приспособленческую. А с другой стороны, внутри падшего протестантизма в XX веке появляется такая фигура как Карл Барт. Христианская община жива и при наличии одного истинного верующего, будь то даже полуграмотная старушка, неслышно молящаяся за всех. Многократно в ходе истории мы видим восстановление, без изъяна, истины Откровения, которую воспринимают, подхватывают, воплощают, хранят уже и не герои, а какие-нибудь смиренные верующие, не оставляющие своего имени потомству. Истинная Церковь феномен, не поддающийся социологическому учету.
С Церковью всегда происходит нечто подобное захвату, описанному в «Легенде о Великом Инквизиторе» Достоевского. Однако словом Божиим никогда не удается полностью овладеть и распорядиться. Как только человек мнимо присваивает себе это живое слово, оно в буквальном смысле перестает существовать, в него становится невозможно верить, оказывается невозможно его понять, передать кому бы то ни было. Всякий раз как человек надеется сделать из него философскую или политическую догму, построить на нем общество, обосновать или оправдать им свои действия, сделать его объектом позитивного познания, оно исчезает. Поэтому всякий социальный институт, основанный якобы на Евангелии, всякая так называемая христианская мораль есть неизбежно нарушение Нового завета, вложенного Богом в своего Сына Иисуса Христа, завета небесного царства. «Христианские» политические организации, общественные учреждения, этика, даже церковная обрядность, созданные якобы во имя Божие, на деле суть подрыв Слова. Однако оно имеет свойство звучать со свежей силой и в свою очередь взрывает все окаменения, мстя подрывом за подрыв: истина Христа, всякий раз оживая, сметает паутину религиозной системы.
Эллюль формулирует нечто вроде фундаментального закона, описывающего способ существования Слова Божия. Тут имеет место не борьба, а последовательность источник – отклонение через измену – возвращение к источнику – измена измене. Истина Слова существует лишь в непременно повторяющейся последовательности этих четырех тактов. Церкви никогда не удается реформировать саму себя, ее очищение идет только через омертвение и взрыв мертвой маски свежими силами обновленной истины. Иного пути для христианства кроме этой неминуемой трагедии Эллюль не видит. «Церковь преображается не усилием, исходящим от ее разумных верхов, а взрывом, зарождающимся среди тех кто стоит на самом краю».
В Церкви никогда ничего не бывает окончательно решено. Но по этой же причине ничто никогда и не потеряно навсегда. С неумолимой закономерностью всё, что построено ради подрыва исходного замысла христианства, оказывается рано или поздно подорвано его неотменимой истиной. Царство Небесное, т. е. продолжающаяся возможность возвещенной Христом новой истории богочеловеческих отношений, пересиливает и опрокидывает логику мира.
Тема неразвернутых потенций первохристианства развернута Жаком Эллюлем в другой книге. Он называет там современный момент уникальной констелляцией, впервые в истории позволяющей благодаря возможностям современной автоматической техники отменить государство, капиталистическую экономику и неравенство между людьми на волне революции нового рода с такими евангельскими чертами как полная деидеологизация, бескорыстие в отношениях между людьми, отказ всех от любой власти, неустанная воля к переменам и обновлению, свобода, трезвость, правда. «Церковь и христиане сфабриковали новые святыни, подавили человека, опутали его чувством вины, пошли вспять, захотели властвовать, закоснели в догматизме худшего сорта, покрывали неправду, нападали на истину, заставили человека жить в лживом идеализме. Иисус Христос был превращен в христианство. Но не всегда так должно быть. Нам, возможно, еще достанет сил, чтобы вступить в преддверие эпохи, когда рабству и пролетариату будет положен конец, ибо Бог Авраама, Исаака и Иисуса Христа жив, и он есть освободитель. Лишь бы только человек по-настоящему пошел на крайний риск партнерства с Ним, и все предпоследние вещи переменятся, неизбежный пролетариат исчезнет в этом громадном сдвиге»[162].
Лишь бы… Эллюль понимает опасность проектов любого рода. Человек не может не искать себе какой-то опоры. При отсутствии ответа на современные вопросы, при невозможности предрассчитать будущее всего проще конструировать идеальное общество, отвлекаясь от досадных препятствий. Мечтатели вырываются в своем воображении из оков технизированного и рационализированного мира, но подобные мечты справедливо именуются утопией. Утопия по своей сути – способ не вступать в конфликт с реальностью. Все утопии надеялись механически справиться с проблемами совсем не техническими. То, что бессознательно предлагают благонамеренные проектировщики, это радикально технизированный мир, рай осуществленных планов. Утопия самая монотонная, самая скучная из всех мыслимых вселенных. Обитатель утопии безнадежно инфантилен. Страшно то, что утопия не просто теоретическая модель: сейчас мы благодаря нашему техническому оснащению в состоянии осуществить многие утопии полностью.
Не только пленная мысль современности, но и теперешнее искусство тоже отражение технической реальности; только, подобно зеркалу, отбрасывающему назад всякий попавший в него образ, оно ее не знает и не исследует. Художники, режиссеры, музыканты, скульпторы редко пробуют вникнуть в действительную суть технической системы, которой они невидимо принадлежат. Иногда искусство служит для утешения, для компенсации невыносимых сторон технической культуры, чаще оно слепо вторит той же технике и очень редко избегает рабства у технической идеологии.
Итальянское возрождение
Ренессанс в последние годы едва ли не чаще оказывается темой историко-культурных чем специальных исследований. Это лишний раз говорит о его продолжающейся актуальности. Он лишь кажется хорошо изученным явлением, в котором осталось уточнить лишь отдельные, пускай и важные детали. По сути дела завершенный образ Ренессанса существует в нашем воображении только до первого анализа. Да и было бы невероятно, если бы событие, признанное в прошлом веке величайшим переворотом в жизни человечества, – значение этой характеристики приоткрывается только теперь, в эпоху планетарной техники, – осталось пройденным этапом и получило однозначную формулировку.
Ренессанс присутствует в современном сознании не только в виде расхожей историко-культурной тематики (гуманизм, индивидуализм, возрождение античности, расцвет изобретательного художества), но и без сравнения весомее – в виде укоренившегося навыка деятельного подхода к истории и захватывающего отношения к природе и миру. Эти черты так естественны для теперешнего человека, что нам уже трудно представить себе времена, когда история понималась как судьба (рок, фатум), а обитаемый мир ощущался как малая часть неведомо огромных Земли и океана с их неисчерпаемой природой.
Примером того, как эти внедрившиеся ренессансные начала современного мировосприятия могут оставаться непонятыми и неосознанными, служит распространившаяся в XX веке критика Ренессанса. Ее авторы не замечают, что их концепции продиктованы ренессансным пониманием истории как человеческого дела и что жанр философской публицистики, которым они пользуются, вместе с органом этой публицистики, печатью, был заготовлен для них Ренессансом. Само деление человеческой истории на древнюю, срединную и новую эпохи, позволяющее солидаризоваться с одной из них в ущерб другой, было введено Возрождением. Критика Ренессанса, неосознанно ведущаяся с позиций этого последнего, вносит добавочную путаницу в его понимание, зато она напоминает о том, что его актуальность прячется намного глубже чем расположилась посвящаемая ему академическая исследовательская проблематика.
До сих пор сохраняется та парадоксальная ситуация, что Ренессанс отсутствует в периодизации, которой пользуется современная научная историография. Здесь до 1600 длятся Средние века, затем начинается Новое время. Для этого есть свои причины. Между тем ясно, что Ренессанс событие не только в «сфере культуры», тем менее – лишь один из меняющихся литературно-художественных стилей. С ним в европейском человечестве решительно изменился тысячелетний подход ко всему бытию. По-видимому, главная причина невыделения Ренессанса в отдельную историческую эпоху – его метаисторический размах, который выходит за временные пределы и не исчерпывается ролью переходного периода от Средних веков к модерну. В этом смысле многие, особенно внеевропейские культурологи считают, что Ренессанс начинался не раз и что он продолжается или продолжался вплоть до новейшей современности и связан с такими ее определяющими факторами, как науки и планетарная технология.
Другой парадокс связан с разнообразием Ренессанса, из-за которого его исследователи часто понимают под ним совсем разные вещи и дают ему разную периодизацию. Якобы плавный, как склоняют думать применяемые термины, переход от «раннего» (XIV век) к «зрелому» или «высокому» Возрождению (XV и XVI века), ощущался современниками и на деле был резким разрывом. Примерно на рубеже XIV и XV веков кончается демографическая, экономическая и территориальная экспансия итальянских городов-государств. Народное самоуправление сменяется скрытыми или явными формами тирании. Почти полная независимость городов уступает место сложному балансированию этих теряющих самостоятельность социально-политических образований между силами восходящих европейских национальных монархий. В культуре сдвиги еще очевиднее. Со смертью Петрарки (1374) и Боккаччо (1375) обрывается период великой итальянской поэзии и народной словесности, надолго уступая место искусственному литературному творчеству латиноязычных гуманистов – своеобразной «ренессансной схоластике», которая, обожествляя и комментируя «великого Данте», изменяет ему, потому что не в силах не только продолжить, но даже и просто понять его национальное и всечеловеческое дело. Зато ренессансный импульс, иссякший в словесности вместе с угасанием ранней философской поэзии, ищет и находит себе путь в изобразительном искусстве, в научно-техническом изобретательстве, в географических открытиях, наконец, в социальном реформаторстве. Ренессансное начало, ведя в непредвиденных обстоятельствах борьбу за выживание против нового подчинения ходу исторического развития и порядку природы, открывает небывалые и могущественные средства сопротивления.
Во всяком случае, переход от всенародной к келейной культуре в Италии конца XIV – начала XV веков оказался резче перехода от Средневековья к раннему Ренессансу. «Периоды» Ренессанса поэтому трудно считать просто ступенями развития единого процесса. Смешно говорить, что призвание создателей национального языка и начинателей новой европейской литературы – Данте, Петрарки, Боккаччо – ограничивалось подготовкой почвы для «второй стадии» Ренессанса, не сумевшей по существу выставить в словесности никого кроме филологов, чьи имена известны сейчас только нескольким специалистам во всём мире.
Конечно, XIV–XVI века в Италии охвачены единым культурным движением, но не в смысле непрерывного развития одной и той же гуманистической образованности. В ранней философской поэзии конца XIII – начала XIV веков уже была по-своему написана вся далеко идущая программа действия нового человека, но она так широка, что не могла быть осуществлена ни на «второй», ни на последующих «стадиях». Возможно, только теперь она может быть осмыслена как таковая, а не просто как прекрасная мечта.
Между гуманизмом XV века и италоязычной поэзией, историографией, художественно-научными и политическими исканиями XVI века пролегает второй решительный водораздел. Возродившаяся всеитальянская поэзия (Ариосто), трезвая политическая мысль (Макиавелли, Гвиччардини), социальное реформаторство (Савонарола), изобретательство (Леонардо да Винчи) намеренно и не без презрения отвернулись от риторико-филологического гуманизма, погруженного в свои латинские и греческие реликвии и в платонические парения. Через их голову XVI век снова обращается к ранней философско-поэтической мысли, связан с нею гораздо теснее чем с идеализмом XV века и несравненно серьезнее этого последнего работает над воплощением ее программы, хотя и на совершенно иных, внешне почти противоположных путях.
Явная поляризация периодов Ренессанса требует осмысления того, что их объединяет. Это общее принято называть гуманизмом, идеей высоты и достоинства человека. Ренессансная литература, начиная с ранних поэтов, поставивших благородство ума и сердца выше богатства и аристократической породы, и вплоть до Джордано Бруно полна прославлением достоинства человека. Но одновременно она (особенно у Петрарки, Леонардо, Макиавелли) развертывает такую жесткую критику человека, которая не превзойдена по своей остроте вплоть до новейшего времени. А. Ф. Лосев называет главным итогом своих долголетних размышлений о Ренессансе отказ от «монистической формулы», признание «неимоверного дуализма» ренессансной мысли прежде всего в оценке человека. «Не было другой эпохи, которая с подобной силой утверждала бы человеческую личность в ее грандиозности, в ее красоте и величии… Однако… самые крупные, самые великие деятели Ренессанса всегда чувствовали… ограниченность человеческого существа… Поразительно то, с какой силой, с какой откровенностью и какой беспощадностью возрожденческий всесильный человек сознавал свое бессилие»[163]. Книга Лосева об эстетике Возрождения кончается драматическим описанием этого «дуализма», который, согласно ее автору, был полон внутреннего напряжения и, надо думать, именно поэтому нес в себе заряд исторической энергии. Ренессансные гуманисты, как известно, погружены в древности и возрождают античную культуру; но от них же в XIV веке исходят горькие насмешки над «ребячливыми стариками», сгубившими жизнь за бумагами перед чадной свечой. Ренессанс, как принято считать, культивировал риторическое искусство; но среди его ведущих писателей были такие, которые сознательно избегали употреблять само слово филология, и такие, которые писали нарочито сырым языком, подозревая во лжи всякую отделку слова. Исследователи часто останавливаются на одной стороне той богатой эпохи просто потому, что трудно или невозможно охватить в единой концепции полярные противоположности. Чтобы включить их в себя, понимание Ренессанса должно быть одновременно и очень простым, – иначе его нельзя приложить к контрастным явлениям, – и очень богатым, иначе оно останется неинтересной абстракцией.
В такое понимание должно войти обязательной частью ощущение места, занимаемого Ренессансом в истории и в современности. Конечно, научный рационализм XVII века, Просвещение XVIII века, промышленная революция XVIII–XIX веков непосредственнее участвовали в восхождении технологической цивилизации. Но ясно, что «заря современного мира»[164] не могла бы взойти в инертном обществе, в котором «новое» означает «дурное», всевластие Фортуны над земной участью человека и циклические повторения принимаются за неизбежную данность. Строительное отношение к истории и к обществу, участливое отношение к природе и миру остается отправной точкой, хотя и не единственным фактором исторических сдвигов последних четырех столетий.
За современной критикой Ренессанса стоит та тревожная истина, что наметившийся тогда разрыв с покорностью природе и Фортуне и с неспешными органическими ритмами грозил риском, настоящие размеры которого приоткрываются только сейчас. Был ли этот риск оправдан, и если да, то чем? Обязательно ли раннее поэтически-философское освоение природного и социального бытия шаг за шагом вело к последующей истощающей эксплуатации природы разросшимся человечеством, наука и изобретательство – к технике как «современному року», открытие исторической перспективы – к «рабству у истории», ренессансная автономия личности – к кризису сегодняшнего человека, уличаемого одновременно в антропологическом империализме и в утрате человеческого облика?
Непосредственное ощущение говорит, что нет фатальной преемственности между историческим сдвигом XIV–XVI веков и современным нагромождением глобальных проблем. Но чтобы вывести на свет, отсеять и осмыслить исторически обнадеживающее в ренессансных началах, нужно преодолеть эстетски описательный подход, делающий неуместно восторженные акценты на таких штампах, как «открытие мира», «новая культура», «антропоцентризм», «свободное творчество самого себя и своего бытия», «гимн гению человека». Беда этих понятий в их нерабочем характере, а не только в том, что они почти неизбежно производят действие, противоположное желаниям увлеченных исследователей, и провоцируют в ответ столь же пустую «критику Ренессанса», например по линии «антропоцентризма», который в десятилетия ускоренного вымирания видов живых существ и общего обеднения природной среды естественно уже не кажется безусловным благом. Заветы Ренессанса не исчерпываются антропоцентризмом, «самообоснованием человеческого субъекта», да еще и якобы изолированного от окружающей среды, общества, истории, и «индивидуализмом». Ореол этих понятий вокруг Ренессанса остался от периода броских культурологических обобщений типа шпенглеровских и кассиреровских. Десятилетиями конкретных исследований подготовлена почва для более существенного цельного понимания той эпохи.
Нижеследующее никак не претендует на исполнение этой огромной задачи, стоящей перед философией истории. Написанное однако вызвано к жизни ощущением настоятельной необходимости и отдаленной возможности новых подходов к событиям, стоящим у истоков послесредневековой истории. В остальном настоящая работа недалеко уходит за пределы посильного собирания и осмысления того, что было продумано и сказано о Ренессансе европейскими мыслителями, подхватившими его идеи (среди них с впечатляющей ясностью о действии ренессансного импульса в Европе говорят Хуан Луис Вивес, Ян Амос Коменский, Гегель в своих суждениях о Данте); основоположником ренессансных исследований в XIX веке Ф. Боутервеком, чей многотомный труд «История поэзии и красноречия с конца XIII века» был известен у нас в подробном конспекте Карла Маркса[165]; создателем термина Ренессанс Жюлем Мишле; Якобом Буркхардтом, нарисовавшим цельный философско-художественный образ среднего и позднего итальянского Возрождения; современными западными (П. Кристеллер, Э. Гарен, А. Шастель, отчасти М. Фуко в его концепции «ренессансной эпистемы») и прежде всего отечественными исследователями культуры Ренессанса – А. Н. Веселовским, сочетавшим детальное знание с мастерством подведения широких итогов, А. Ф. Лосевым, автором одной из самых ярких концепций Ренессанса как культурного явления, Л. М. Баткиным, подчеркнувшим важный философский смысл ренессансного восприятия бытия, особенно на примере Леонардо да Винчи, М. А. Гуковским, В. И. Рутенбургом, РИ. Хлодовским – исследователями творчества Петрарки, Данте и Боккаччо, историком и философом науки Б.Г Кузнецовым, Э. Ю. Соловьевым в его исследованиях о Реформации и многими другими.
Ренессанс как историческая инициатива
Возрождение – необычная историческая эпоха. В академической историографии это понятие, возникшее полтора века назад, до сих пор стоит под вопросом. В принятой у профессиональных историков периодизации его обычно нет, от Средневековья они переходят в 1600 к Новому времени. Отчасти такое положение объясняется тем, что всемирно-историческая периодизация касается Европы или мира в целом, тогда как Ренессанс начался и всего ярче проявился в одной стране. Однако исследователи хроник и архивов итальянских городов тоже видят мало причин выделять Ренессанс в отдельную эпоху, списывая его со счета как событие в культуре меньшинства, не оставившее явственного следа в жизни народа.
В истории итальянских и вообще европейских городов прослеживается такая преемственность от их становления в недрах Средневековья до XVI века и далее, которая не позволяет приписывать периоду 1300–1600 годов каких-то исключительных черт. Феодализм не «умер», как хотел думать Буркхардт, к XV веку, а существовал, по крайней мере на юге Италии, до XVIII века, в Сицилии – юридически до 1812. Еще Алессандро Мандзони в начале XIX века противостоял в своем романе «Обрученные» пережиткам феодального аристократизма. Факты городской истории заставляют специалиста говорить, что XIV–XV столетия были в Европе временем эволюции феодализма, а не его кризиса[166]. В пример можно привести тот не всегда замечаемый искусствоведами факт, что обязательная приписка художников, скульпторов и архитекторов к старым гильдиям отменяется только в концу XVI века лишь в одном городе – Флоренции, и то отчасти.
С одной стороны, концепции Ренессанса придает историческую реальность, не позволяя считать ее лишь изобретением философии истории XIX века (Мишле Буркхардта), то, что сама эпоха понимала себя как возобновление, восстановление художеств, словесности, общественной жизни. Джорджо Вазари во вступлении к «Жизнеописаниям выдающихся художников, скульпторов и архитекторов» подытоживает три века со времен Чимабуэ до второй половины XVI века как «поступательный ход возрождения искусства»[167]. Колуччо Салутати в 1374 уверенно помещает Петрарку выше великих римских и греческих писателей (Письма III 15). Хронист Филиппо Виллани в конце XIV века говорит о «восстановлении угасшего, чуть было не исчезнувшего» художества. Петрарка и Боккаччо в середине того же века пишут о пробуждении поэзии и «возвращении на свет» живописи. Данте ставит трубадуров, сицилийских и тосканских поэтов XIII века рядом с античными авторами, себя – рядом с Вергилием.
Но, с другой стороны, историк знает, что в конце XII века Иоанн Солсберийский тоже писал о «возобновлении искусств, словно вернувшихся из ссылки» (Металогик I 5), императоры Священной Римской империи Оттоны в самом конце X века и Карл Великий в конце VIII века тоже покровительствовали восстановлению римской и отчасти греческой культуры, особенно словесности и права. О возрождении древности тем или иным выдающимся писателем часто говорят и в средневековой Византии. Одной самохарактеристики эпохи вроде бы мало для однозначных выводов. Говорят соответственно о каролингском, оттоновском, средневековом, византийском, мусульманском ренессансах.
Понятно желание культурологов нащупать какие-то осязаемые вехи великого события, каким, несмотря на всю его нерешенную проблематику, остается Ренессанс. Но к громким заявлениям некоторых схемосозидателей, будто средневековая иерархическая модель космоса и с нею средневековое мировосприятие распались к XV веку, историограф относится с подозрением, изучая например описания народных карнавалов с их аллегорикой и участившихся в начале XVI века в Италии триумфов – сложных театрализованных представлений, до предела полных и «вертикальной символикой», и всеми другими атрибутами пресловутой «средневековой картины мира», от олицетворений судьбоносных планет, четырех темпераментов и гениев до фигур, воплощающих ремесленные профессии. Любой устроитель массового триумфа в XVI веке мог смело руководствоваться описанием колесницы Природы из «Антиклавдиана» или «Плача Природы» Алана Лилльского, поэта конца XII века.
Внимательные историки техники тоже склонны считать «достижения Нового времени», о которых твердили писатели с XVI века и далее, – порох, компас, ветряную мельницу, стремя, метод дистилляции спирта, шелк, – подарком Средних веков. «Многочисленные изобретения средневекового периода представляются в более подлинном смысле новаторскими, более преображающими общество, чем половодье хитроумных, но зачастую непрактичных изобретений… XV и XVI веков». Даже навигацию, картографию и печать, а также химическую технологию и шахтное дело иногда рассматривают как продолжение средневековых разработок[168]. Такое, казалось бы, чисто ренессансное нововведение как книгопечатание в первый век своего существования обслуживало преимущественно нужды схоластического богословия. Причем именно в Италии, классической стране Ренессанса, печатный станок и ружье считались немецкими новинками и часто вызывали неприязнь.
Таким образом, то обстоятельство, что мировая историческая наука помещает период Ренессанса под рубрикой Средних веков, от которых переходит непосредственно к Новому времени, имеет свои основания.
И всё же здравый смысл не позволяет считать Ренессанс только событием в культуре узкого интеллектуального слоя. Он занимает ключевое место в мировой истории. Жюль Мишле и Якоб Буркхардт, открыватели, первые историки и теоретики Ренессанса, придали ему статус исторической эпохи не потому что их история была еще наполовину роман, а потому что они угадывали за фактами целое. Способность к восприятию целого сама по себе не обязательна в профессиональной деятельности историографа и требует от исследователя необычной открытости взгляда. «Если бы я держался в изложении только политической истории, – писал Мишле о соотношении профессионального и философского в своей работе, – если бы не учитывал различные элементы истории (религию, право, географию, литературу, искусство и т. д.), моя манера была бы совсем иной. Но мне важно было охватить великое жизненное движение»[169].
Именно потому, что Ренессанс был глубоким сдвигом, попытки продемонстрировать его на отдельных фактах не всегда удаются. Он несомненным, но трудно определимым образом затронул все стороны исторического бытия. Прежде всего он сказался в том, что только начиная с XIV–XVI веков история воспринимается нами, современными людьми, как непосредственно касающаяся нас. Раньше этого времени историческая реальность кажется или отчуждающе странной (сон, ночь Средневековья), или удивительной, как античность, или расплывается в мифологической дымке, как архаика, или непоправимо фрагментарна, как доисторические тысячелетия. Не случайно именно с веков Ренессанса люди начали писать на языках и диалектах, которые понятны современному населению Европы почти без перевода. То же относится к стилю словесных и изобразительных искусств. Только начиная с Данте, Петрарки и Боккаччо литературное произведение может быть прочитано нефилологом, как читается современная литература, тогда как, например, гомеровские поэмы вызывают непосредственный интерес только в переложениях, адаптациях и фрагментах и никогда не исполняются так, как исполнялись античными рапсодами. Когда театр или кино воссоздают драму Эсхила без адаптации, это становится музейным, а не литературно-театральным событием, в отличие от современных постановок шекспировской драмы. Античную скульптуру мы не можем представить такой, какой она по-видимому была, т. е. раскрашенной. Для понимания средневековой живописи и орнамента необходимы особая настроенность и знание соответствующей символики. Даже поэзия трубадуров стала достоянием историков литературы. Только примерно с XIII века существует нотная запись, которую музыковеды способны прочесть.
Многозначительный факт: преобладающая часть всего, что нам известно о предшествующих эпохах, дошла до нас в ренессансной передаче. Большинство наиболее ранних сохранившихся списков, по которым известна древняя литература, относится к XV веку. Книгопечатание пришло в XV веке как запечатывание прошлого, придавшее ему почти окончательный канонический облик. Как ни абсурдны попытки некоторых экстравагантных умов отрицать сам факт существования древней истории, объявляя ее вымыслом ренессансного гуманизма, за ними стоит своя правда, а именно безошибочное ощущение, что только послеренессансное время сцеплено для нас единой интригой. Современное членение жизни человечества на три периода (Древний мир, Средние века, Новое время) вместе с общей оценкой этих периодов тоже было введено историософией Ренессанса, который отталкивался от Средних веков и через их голову тянулся к античности. Эпатирующее предпочтение Ренессансу («возрожденцам-вырожденцам») Средневековья или других эпох у некоторых современных радикальных умов тоже стало возможным только на почве бессознательно впитанного ими ренессансного стадиального и оценочного подхода к истории. Даже, казалось бы, подчеркнуто современные программы очищения «аутентичной античности» от культурных наслоений разных эпох, в том числе Ренессанса, проекты «возвращения к досократикам», новейшие философии «неопарменидизма» и т. д., призванные будто бы возвратить заблудшее нигилистическое человечество к давно забытой древней истине, поневоле оказываются осколками ренессансной идеи возрождения высокой древности.
Понимание истории как собирательного движения, без чего немыслима современность, создано Возрождением. Античность еще не приписывала человеческой истории собственной инерции и привязывала совершающееся к воле непостижимого рока, богов или к действиям отдельных людей, слепых кузнецов своей судьбы. В Средние века личное добродетельное усилие было нравственно обязательным для спасения души, но никак не мешало и не помогало тому, чтобы времена неотвратимо катились к концу мира и к суду над всеми человеческими делами. Для средневекового хрониста после выхода истории на свою последнюю прямую, т. е. после возвещения евангельской истины, возможны добрые и злые времена, но не исторические достижения и провалы.
Амбивалентным средневековым сознанием, помимо этого образа исторической прямой и рядом с ним, едва ли не меньше чем античным правил образ круга. Всё возникшее, будь то государство, город или человек, неотвратимо поступает на колесо Дамы Фортуны и обязано пройти положенный всякой вещи путь восхождения, цветения и падения. Даже если бы Августин действительно «отверг циклизм древних», как иногда говорят любители широких обобщений, этого было бы еще мало для того чтобы вся пестрая средневековая мысль перестала вслед за античностью переносить круговороты природы на человеческую историю. Христианство в каком-то смысле даже укрепило представление о космических циклах[170]. Реальный Августин тоже легко признавал фатальную повторяемость событий в вещественном мире. Он настаивал только на том, что круговращения не отменяют важности решений, принимаемых человеческой душой, и окончательности однажды достигнутого ею добродетельного блаженства.
Ренессанс начался как стремление возвратить высокое прошлое, когда человек умел побеждать Фортуну. Возвращение есть своего рода круг и в этом смысле его идея вытекает из античного и средневекового циклического времени. Но когда признано, что высшее и тем самым уникальное по определению возможно вернуть сосредоточенным усилием человеческой воли, фатальная цикличность отменяет сама себя, становится такой же неактуальной как космические круговращения для августиновской добродетельной души: они, пожалуй, действительно происходят, но «мудрее не знать этого» (Град Божий XII 20). Возвращение высшего не ужасно, как ужасно вечное повторение одного и того же, а желанно. Если спираль, господствующий образ истории в XIX веке, механически соединяет повторяемость круга и однократность линии, предполагая совершенствование, но постепенное и по сути бесконечное, то замысел возрождения идеальной древности, делая возвращение уникальным и последним, а линию завершающейся, сращивает обе схемы истории, круг и линию, и не предполагает механического прохождения той или другой траектории. Опасение грозящего упадка и надежда на подъем ставятся в полную зависимость от предельного усилия. Ренессанс впервые в истории ставит задачу целенаправленного, подлежащего осуществлению трудом ныне живущего поколения, собирания всего лучшего, что есть в памяти и в возможностях человечества.
Как такое строительное отношение к истории Ренессанс не столько историческое событие, как переселение народов или война, сколько постоянно присутствующая возможность. В качестве задачи, «рычага истории» (Мишле) замысел возрождения в большей или меньшей мере давал о себе знать в разные эпохи. Новейшие постройки Перикла в Афинах воспринимались его современниками как ожившая древность. В идеологии Августов императорский Рим – возрождение древней Трои. Вергилий, полторы тысячи лет остававшийся главным поэтом-пророком Европы, возродил эпос внутри уже истонченной и казалось бы стареющей культуры. Можно брать в кавычки выражение «каролингский ренессанс», «ренессанс XII века», но трудно заменить их более точными.
В Италии XIV–XVI веков ренессансный порыв дал о себе знать с особенной силой, был подхвачен остальной Европой и стал действующим началом всего последующего развития. Некоторые историки называют единым непрерывным ренессансом вообще всю историю Европы последних веков вплоть до новейшей современности.
Участились рассуждения о конце ренессанса или о новом ренессансе применительно к настоящему моменту и ближайшему будущему этой части света. Такое расширение понятия, не признаваемое специалистами, по-видимому, неизбежно и неотменимо. С этой расплывчатостью словоупотребления невозможно справиться, декретивно назначая те или иные хронологические рамки, вне которых термин Ренессанс будто бы неприменим. Конкретизировать его можно только изучением фактических воплощений – а не просто выражений – замысла возрождения.
Что касается искусствоведческого понятия Ренессанса, то оно, по-видимому, ограничено контекстом истории искусства, предполагает профессиональную специализацию хотя бы потому, что по сути дела охватывает только художества, не включая, например, поэтического искусства[171]. И всё же наблюдение В. Пиндера и Г. Зедльмайра, что Ренессанс, маньеризм, барокко, стиль регентства, рококо, классицизм образуют от 1500 до 1800 единый, так называемый «олимпийский», стиль, уступающий затем место смешению стилей и сменяющийся к началу XX века не новым художественным каноном, а распадом человеческого образа в искусстве, явно призвано иметь значение и за пределами искусствознания[172].
Замысел человечества у Данте
В Италии XIII века готовилась и в начале XIV века произошла переориентация внимания от схоластически-мистической теологии и рассудочной философии к философской поэзии и родному слову. Немногие, но ведущие авторы избрали не аллегорический и схематический, а символический и образный стиль мысли и речи. Возникла новая духовная среда, которая постепенно сделалась всеобщей жизненной атмосферой[173]. Главной фигурой этого поворота стал Данте. По Буркхардту даже без «Божественной Комедии», только стихами и прозой «Новой жизни» Данте уже проложил бы границу между Средневековьем и Новым временем. В сравнении с Данте средневековые авторы кажутся не сумевшими угадать себя. «Ум и душа делают внезапно громадный шаг к познанию своей сокровеннейшей жизни»[174].
Как и его путеводитель Вергилий, Данте поэт и философ. Даже в его наиболее схоластическом по форме трактате «Монархия» главное не логическое прояснение начал общества и государства, а поэтическое и пророческое видение будущего человечества. В «Божественной Комедии» построена как бы поэтическая сумма всего знания эпохи, включающая богословие, аристотелизм, пифагорейство, схоластическую диалектику, платонизм, математику, астрономию (астрологию), историческую, политическую науку. По сути Данте впервые после Вергилия создает новый эпос, но уже не Римского государства, а всего известного ему человечества, воспевая мощь его ума, гибельность раздоров, безграничность возможностей.
Апории богословия утрачивают у Данте схоластическую остроту не потому что поэт был «провинциалом в философии», и не потому что он лишь излагал, естественно упрощая, Фому Аквинского, а потому что заботы и тревоги современности, сохраняя свое содержание, переходят из идеологически-аналитического в эпически-синтезирующий ключ. Как у Гомера и Вергилия главное действие сражение, так у Данте – процессия. Мир проходит перед ним шествием, где каждая личность и вещь показывает свой высветленный образ. В схоластике силлогизм часто играл роль ритуальной или мистической тавтологии, иносказательного знака внутренних озарений. У Данте силлогизм в еще меньшей мере служит развитию рассуждения, он почти всегда выдает в себе торжествующий жест, ознаменование завершенного смысла, располагающегося в найденной истине «как зверь в берлоге» (Рай 4, 127).
Еще в первой половине XII века Шартрская школа показала, на какую широту культурного синтеза способна поэтически-платоническая настроенность. В философской поэзии Данте библейское знание мирно сплетается с языческим, христианская догматика – с исканиями античной мысли. Так евангельские Мария Магдалина, Мария Иаковлева и Мария Саломия, первыми увидевшие сидящего ангела над опустевшим надгробием Иисуса, представляют у Данте школы эпикурейцев, стоиков и перипатетиков, ищущие нетленного среди мирского тлена, а увиденный всеми тремя Мариями ангел на камне в белых одеждах – это богоданное достоинство человека (Пир IV 22, 14–15). Не желающим понять, что благородство не в родовитости, а в чистоте первоначальной человеческой природы, Данте грозит авторитетом Цицерона так, словно цитирует слова божественного пророчества. Еще пример поэтической свободы Данте. Принимая в свой эпос вместе с другим добром эпохи и привычное деление учений на истинные и еретические, он последовательно размещает еретиков по соответствующим кругам ада, но там, где у него успело сложиться собственное мнение, он поступает со смелостью, какую редко позволяли себе даже будущие ренессансные вольнодумцы. Исследователи не могут понять, почему Сигер Брабантский и Иоахим Флорский, об осуждении которых средневековой католической церковью известно, а о реабилитации нет, не только помещены в рай, но и примирены со своими прижизненными обвинителями Фомой Аквинским и Бонавентурой.
Данте исповедует католическую религию, но не столько присоединяется к католицизму, сколько вводит его в свою поэтическую вселенную. Широта всепринятия однако дает царственному поэту и право от всего, что допущено им в мир, требовать соответствия идее. Поэтические синтезы универсального знания предпринимались в XII веке Бернаром Турским, Аланом Лилльским. Но тогда поэзия в конце концов следовала за идеологией. Теперь, наоборот, она подчинила себе всё. Тем самым тысячелетнему дискурсу пастырей и духовных наставников был незаметно положен конец, хотя, возможно, один Данте в свое время понимал, что он, поэт, заговорил громче других голосов своего века. Он знает себя единственным весомым, «отбрасывающим тень», воплощающимся созданием среди теней, которым отныне остается только тесниться вокруг него в поисках его внимания, словно заискивающим клиентам вокруг счастливого игрока в кости (Чистилище 6, конец).
Он недаром ценит свои видения выше любых других забот, в перечне которых странным образом стоят рядом правоведение, воровство, властвование и священнослужение (Рай 11, начало). Силой своего слова он жив среди неживых и знает, что живым останется. Предчувствие, что его именем назовется век, у Данте не менее ясное чем немногим позднее у Петрарки.
Слыша себя единственным говорящим среди косноязычного мира от этого мира и ко всем обращаясь, Данте перенимает тон площадного глашатая. Только Лютер и Толстой, возможно, впоследствии отчасти приближались к подобной стилистике. Данте одновременно художник, проповедник и пророк. В нарочитой прямоте его языка действует нераздвоенная сила. Он ведет свою речь так, словно ворочает кузнечными клещами, и к нему приложимы сказанные позднее по другому поводу слова о философствовании кувалдой. Есть символический смысл в легенде, по которой Данте однажды, услышав свои стихи в дурном исполнении уличного кузнеца, вошел в его мастерскую и стал выбрасывать из нее наружу кузнечный инструмент в отместку за неуважение к его поэтическому.
Данте обращается к народам и государям. Его цель – «перевести человечество из состояния убожества в состояние счастья». Его «сердитый ум» только по видимости ставит вопросы или сомневается, он декретирует под видом логических выкладок. Он не теоретик и не спорщик, а вечевой оратор, которому важно тут же на месте развеять заблуждения, выбить из людей, словно пыль из ковра, косность, глупость, робость, медлительность; это заводила, который по крайней мере силой своего голоса хочет заставить мир петь и кричать вместе с ним. «Нет, отцы, – обращается он к итальянским кардиналам, – не считайте меня одиноким фениксом в круге земель; ибо что я выговариваю, о том все шепчутся, или помалкивают, или подумывают, или бредят, а не признаются, что надумали… Неужто… будут вечно молчать и даже Создателю своему не принесут свидетельства? Жив Господь, ибо Тот, Кто подвигнул язык Валаамовой ослицы, Он же господин и современных животных» (Письма XI 17–18). Петрарка, наоборот, назовет себя единственным фениксом на земле, но в важном смысле будет иметь в виду то же самое что Данте (Старческие письма XIII 2).
Крутость дантовского стиля нередко доходит до жестокости. Доказывая, что не всякая умелость сродни мудрости, он говорит для примера, что не назовешь мудрым человека, наловчившегося концом ножа попадать в зрачок глаза (Пир IV 26,5). Нет даже намека на заботу об изяществе в таких лапидарных иллюстрациях ложного и правильно силлогизма: «Человек может слышать и видеть; следовательно, глаз может слышать и видеть… Человек не может летать; следовательно, и руки человека не могут летать» (Монархия III 6–7). Данте часто нетерпелив до раздражительности. Человека, намеренно переосмысливающего Писание, он без долгих слов именует тираном и верховным преступником (там же, 4). Он готов физически расправиться со спорщиком, не показывающим доброй воли к пониманию: «А если противник захочет сказать, что пусть во всех прочих вещах благородство понимается как добротность, людям же оно приписывается тогда, когда забыта память об их былом низком происхождении, то на такую животную тупость хотелось бы ответить не словами, а ножом» (Пир IV 14, 11).
Данте, пишет исследователь, «пророк-поэт, поэт-судья мира и человечества, равный в своей исторической и духовной миссии императорам и папам, являющийся как бы третьим солнцем»[175]. Вернее было бы сказать, Данте видел себя как поэт и философ единственным надежным хранителем истины мира. Ни император ни папа не авторитеты перед лицом разума, способного самостоятельно прислушиваться к природе вещей. Церковь и монархия нужны не сами по себе, они оправданы только в меру греховности человека как орудия его исправления. Церковь и монархия подлежат прежде всего реформе, они должны быть приведены сначала в соответствие со своим замыслом. Церковь, далее, ограничена во времени (она позже империи; Монархия III 13, 3) и в пространстве (ее не признают азиаты и африканцы; там же, 14, 7). Монарх обязан следовать во всем философской мудрости: императорский авторитет опасен в отрыве от философского. Со своей стороны, философский не то чтобы ослаблен, но недействен без императорского из-за «неупорядоченности людей» (Монархия 16, 17).
Если позднейшие гуманисты для доказательства подложности Константинова дара, якобы передавшего часть верховной власти церкви, углублялись в филологические тонкости, то Данте решает дело с характерной прямотой: такого дара в принципе не должно и потому не могло быть, ибо монарху не пристало делить ни с кем свою единую власть. Если монарх поступил против этой логики, тем хуже для него; значит Константинов дар, хотя бы и был, не имеет силы (Монархия III 10). Церковь должна нести в мир божественное откровение, а для этого обязана полностью отказаться от мирской власти и материальных богатств. Радикализм Данте ставит его в уникальное одиночество. Отчасти Петрарка, а после него только Макиавелли и Леонардо смели думать – но не всегда говорить – о власти церкви так же независимо.
Для правителей и иерархов, искажающих разумную идею монархии и церкви, у Данте нет ни извинения ни снисхождения. Курию Бонифация VIII он называет «местом, где ежедневно продается Христос» (Рай 17, 51). Необычно и удивительно то, что Данте совершенно лишен какого бы то ни было уважения к государству и церкви как укоренившимся традиционным реалиям; так же как и к наследственной аристократии. Наоборот, укорененность учреждения в его глазах только помеха реформе этого учреждения, т. е. приведению его в соответствие со своей идеей, а потому скорее недостаток, чем нечто почтенное. Лучше строить начиная от нуля, на пустом месте, чем на загроможденной строительной площадке.
Всё подлежит воссозданию по нормам разума, ни с чем не надо мириться просто потому что оно таким было от века. Были бы «исправление и возделывание», они помогут божественному семени приняться и там, где оно раньше никогда не росло. Тысячелетние накопления, «опыт отцов», родовитость для Данте странным образом ровно ничего не значат: доброе начало упрочивается или улетучивается в течение одной жизни; хорошее новое сразу становится «древним» и даже лучше древнего. Для зла и малодушия «не может быть никаких извинений» в сложившемся порядке вещей, «потому что если от своего природного корня человек не имеет доброго семени, он прекрасно может его получить путем прививки» (Пир IV 22, 12). Дворянин Данте выступает против мнения императора Фридриха II Гогенштауфена и с ним всего мира, доказывая, что знатность и благородство не имеют никакого отношения к наследственности. Благородство измеряется достоинством человека, приобретается или теряется в одном поколении, и родовитый негодяй хуже безродного (там же 7, 5–6).
Боккаччо пишет, что Данте был «неслыханно ревностным в ученых трудах и вообще во всем, за что он брался». Дело жизни строилось неотступным упрямым усилием. Когда Петрарка утверждает, что «человек рожден для усилия как птица для полета» (Книга о делах повседневных XXI 9, 11), он лишний раз показывает себя настоящим продолжателем Данте, при внешнем (намеренном) почти полном молчании о нем.
Данте следует заветам философов и внутреннему чувству. Всё говорит ему о достижимости для человека счастливой полноты бытия. Церковь права в том, что небесное счастье дается или не дается человеку свыше помимо его воли вместе с благодатными «теологическими добродетелями». Но и философия не ошибается в том, что земное счастье зависит от доблести человека и не может не прийти к тем, кто утверждается в добродетелях мужества, разумности, справедливости, непраздности.
В стихах и прозе, на латыни и по-итальянски Данте повторяет правило Аристотеля: «блаженство здешней жизни» состоит в «деятельном проявлении собственной добродетели» (Монархия III 16, 7; Пир, канцона III и др.). В предельном усилии – назначение, совершенство и счастье человека. Поэтому не надо бояться скрытых в человеке энергий, при их развертывании с расцветом человеческой природы достигается согласие человеческого существа. «Каждая вещь, – излагает Данте Аристотеля, – максимально совершенна, когда вплотную достигает присущей ей добродетели, и тогда она наилучше отвечает своей природе» (Пир IV 16, 7).
Счастливая полнота обеспечивается непрестанным упражнением высших способностей. «В подлиннейшем смысле нашими собственными приобретениями оказываются нравственные добродетели, потому что, с какой стороны ни посмотреть, они в нашей власти» (там же, 17, 2). Это «в нашей власти» не звучит здесь контрастом тому «всё во власти Всевышнего», на котором стоит церковь, и ее догмату о дарованной, не заслуженной природе христианского спасения. Для ума, прошедшего школу философско-теологических диспутов, здесь сами собой должны были напрашиваться проблемы. Для Данте они отступали во второй ряд, заслоненные единой насущной и не терпящей отлагательства практической задачей.
Возможность добродетельной жизни и с нею земного счастья в понимании Данте – не теоретическая, а опытная истина, не логически доказанная, а показанная примером «древних» и многих «новых» людей; а если такая возможность на деле дана, то прямой долг человечества осуществить ее, так сказать, без рассуждений. В практической науке о человеческой добродетели (в нравственной философии) соображения о том, каким способом действуют в мире непостижимые запредельные силы, оказываются неуместными.
Такая четкость границ между мистически непостижимыми сферами и областью человеческого разумения и действия показывает, что Данте был современник Дунса Скота не только хронологически. Отделение практической философской мудрости от мистики, а самоустраивающегося гражданского общества – от церковной власти проведено в этике и в политической теории Данте с решительностью, к которой ничего не могли бы прибавить даже антиклерикалы новейшего времени.
Разграничив природную и благодатную сферы, Данте развязывает руки гражданскому обществу и его идеальному вождю, философу-монарху. Здесь обеспечение согласия, призванного объединить все стихии мира. С одной стороны Данте безусловно требует, чтобы духовенство попросту говоря не вмешивалось в мирские дела человека и общества; они сами собой сложно благоустраиваются по законам своей природы, следуя своему врожденному порыву к счастью. Данте уверен, что именно таким и только таким путем имманентного самоосуществления мир готовит себя для принятия сверхприродной благодати и что без деятельного нравственного и философского просветления человеческое существо пока еще просто не готово для встречи с божеством, как бы невидимо для него. Данте вовсе не подвергает сомнению христианский догмат о том, что нет спасения без помощи свыше; он только ставит на вид, что для акта божественного спасения сперва всё-таки должен быть объект спасения – нашедшее себя или по крайней мере стремящееся к своему осуществлению человеческое существо. Успех встречи земного с небесным зависит от того, придет ли человек к своему создателю распавшимся и потерянным или соберет себя.
Таким образом, хотя порядок природы, гражданского общества, этической философии, философской мудрости, с одной стороны, и порядок благодати, вечного спасения, Церкви, веры, с другой, строго разграничены, однако именно этим полным отграничением подготовлено их взаимопроникновение. Земной и небесный миры призваны, не смешиваясь между собой, пронизать друг друга в свете вселенской любви.
«Пир» был написан едва лишь на треть. Принято считать, что Данте отложил его ради «Божественной Комедии», снова вернувшись от путей философии, увлекшей его было в срединные годы жизни, к прямым, молниеносным поэтико-мистическим озарениям. В терцинах дантовской поэмы действительно больше размаха чем в силлогизмах «Пира». Но эти два самых крупных сочинения Данте различаются между собой только мерой крылатости слова, а не мыслью и интенцией.
В поэме Данте избрал своим путеводителем по эмпирею – высшему небу рая – мистика Бернара из Клерво (1090–1153); первому вождю Данте, язычнику Вергилию, не было дано взойти на христианские небеса. В свое время аббат цистерцианского монастыря в Клерво был главным блюстителем чистоты веры, стремившимся уберечь ее в сверхразумной простоте от философских и гностических умствований. В «Божественной Комедии» Бернар забыт в этой своей роли обличителя абеляровского рационализма и преследователя альбигойцев, остался только Бернар, воспевавший беспричинность, безотчетность и бескорыстие божественной любви: «Любви достаточно самой себя, она мила самой себе и по причине самой себя, она сама себе подарок и награда… Любовь не ищет ни доводов, ни поводов вовне себя… Люблю потому что люблю; люблю чтобы любить» (83 гомилия на «Песнь песней»).
В простой стихии любви у Данте в конечном счете соединяется всё, что казалось разрозненным, потому что ни одна вещь не может не узнать в ней сама себя. Любовь имя первого и высшего начала, в котором соединяется, примиряясь, весь мир. Блуждания личной судьбы, лабиринты мира, искания философии, сложности догматики к концу третьей кантики «Божественной комедии», шаг за шагом просветляясь и преображаясь, растворяются в элементарном сиянии того, что «движет Солнце и другие светила».
Но ведь уже и в «Новой жизни» любовь была для Данте ключом к человеку и к миру. Прекрасную Даму «Пира», философию, он понимает в том же смысле «любящей мудрости». И в этике Аристотеля, который назван в «Пире» учителем вселенной, любовь-филия поднята над всеми добродетелями и соседствует со счастьем и блаженством.
Данте не отождествляет себя со священным авторитетом. Он не поэт католической церкви. Дело в том, что ему не нужна ничья санкция. Он ничему не подотчетен, и в этом смысле свободнее Вергилия, выполнявшего по крайней мере по видимости заказ империи. В XIII письме, которое служит авторским предисловием к «Божественной комедии», поэт отстаивает свое право говорить от собственного лица частного, пусть может быть даже и грешного человека: «Если же кто-то станет лаяться, возражая, будто подобная высота созерцаний невозможна ввиду греховности говорящего о них человека, то пусть прочтут Даниила, где найдут, что даже Навуходоносор видел от Бога посланные видения, обличавшие грешников, только предпочел забыть о них. Ибо “Кто повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных”… Тот и в большей, и в меньшей мере, как хочет, являет Свою славу сколько угодно дурно живущим».
Это довод на крайний случай. Тем более выстраивая дело жизни на опоре деятельной добродетели, неотступного труда, мудрости, поэтического вдохновения, любви, Данте понимает, что задуманное и осуществляемое им не может уступать высшим достижениям прошлого. Он расстается с Вергилием, венчающим его на прощание короной и митрой: «свободный, правый, здравый суд» нового поэта даст ему впредь обойтись без этого поводыря (Чистилище 27, конец). По свидетельству совести, по мере вкладываемого усилия Данте знает, что в нем возобновляется всё величие древности. Брунетто Латини узнает в нем единственное растение, «в котором оживает святое себя» римлян (Ад 15, 73–76). В 4–1 песни «Ада» Данте встает рядом с Вергилием, Гомером, Горацием, Овидием и Луканом. Все пятеро остаются в аду или в чистилище, один Данте поднимается к свету рая. Поэт знает за собой способность «преподать учение», которое согреет «новым светом, новым солнцем» людей, для которых «былое солнце не светит» (Пир I 2, 12–15). Он начинает новое поэтико-философское писание, которому суждено продолжить и восполнить священные книги прошлого.
«Божественная Комедия» приурочена к заметной точке времени, пасхальным дням 1300 года, и в каждой песне, в каждом эпизоде снабжена отметками времени, узнаваемого по движению Солнца, Луны, светил, по освещенности разных географических точек, по длине и направлению тени, долготе пеших переходов, продолжительности действий.
Так, чтоб ударить первыми лучами В тот город, где его творец угас, Меж тем как Эбро льется под Весами, А волны Ганга жжет полдневный час, Стояло солнце…Т.е. была та минута, когда в Индии полдень, в Иерусалиме восход солнца, а над Испанией еще стоит ночное созвездие Весы. Вложенные друг в друга круги и сферы ада, чистилища, рая кажутся частями громадного часового механизма, в мерное движение которого вовлечено страдающее, очищающееся или счастливое человечество. На каждом шагу внутри этих вселенских часов поэта торопят спутники или водители, напоминая о порядке движения, укоряя за малейшие задержки, отводя считанные минуты, а то и меньше, для бесед со встречными и просителями. В чистилище время, по-видимому, особенно дорого (Чистилище 24, 91–92).
Такого чуткого и нервного переживания времени не было раньше в мировой литературе. Если учесть значение Данте для последующих веков, можно говорить, что своей поэмой он взводит, поставив стрелку на 8 апреля 1300 года, часы европейской истории. Время вдруг заспешило вперед, и его теперь приходилось отсчитывать по часам и минутам, торопясь уложить в них неотложные поступки. Эта черта дантовского эпоса, конечно, перекликается с особенностью его времени: именно в конце XIII и начале XIV века на башнях итальянских городов появились первые механические часы. Лично Данте в немногих автобиографических свидетельствах еще почти не говорит о нехватке времени, о массе дел, которые не успевает закончить, и эта кажущаяся достаточность времени у него пока еще сближает его со Средневековьем. Зато начиная уже с Петрарки гонка со временем становится одной из главных и во всяком случае постоянных литературных тем вплоть до наших дней. Поворотной вехой между старым отрешенным и новым тревожным опытом времени остается поэма Данте, где, как ни в одном творении всех времен, время скрыто играет главную роль.
Только кажется парадоксальным то, что для проповеди добродетельного поступка поэтом выбрано как раз время, близкое, как он уверен, к концу мира. «Мы находимся уже в последнем возрасте мира и ожидаем поистине завершения небесного движения» (Пир II 14, 13). Возрождение добродетели предполагает преодоление Фортуны в любых ее видах, всё равно, хотя бы и в виде конца света. Данте выписывает из Аристотеля: «Чем больше человек подчиняется разуму, тем меньше он подчиняется фортуне» (там же, IV 12, 9). Недостоинство, неготовность или дряхлость мира огорчат деятеля, но не остановят его.
Перед лицом разума всё так или иначе подлежит немедленной реформе, начиная с церкви и властей. Требуя учреждения всемирной философской монархии и отказа церкви от светской власти, Данте не хотел учитывать укорененность сложившихся обстоятельств. Следуя ему, гуманисты позднее не хотели в упор замечать средневекового тысячелетия со всем его наследием. Дерзкое неуважение к сложившимся реалиям оправдано хранением верности замыслу латинского Запада. Волей провидения римскому началу суждено покончить с раздором человечества, освободив его от ига тысяч корыстных правителей и соединив весь мир в одно гражданское общество.
Дело всей мировой истории сосредоточено вокруг этой заветной цели. Ради нее слепо рвались к мировому владычеству ассирийцы, египтяне, персы Кира и Ксеркса, греки Александра Македонского. Звездный час человечества наступил, когда добродетели и государственной мудрости римлян при Августе удалось впервые объединить и примирить вселенную (Рай 6, 80–81). «Поскольку везде был всеобщий мир… корабль человеческого сообщества прямо бежал гладким путем к надежной пристани» (Пир IV 5, 8). Достаточно оказалось этого недолгого промежутка вселенского покоя, чтобы вся жизнь мира перешла в новое качество: Бог, удостоив воплотиться в человеке, осенил землю своим присутствием. То волшебное затишье мира в первые годы новой эры сменилось новыми раздорами. Но так или иначе без восстановления распавшегося всемирного согласия Данте не видит пути исполнения призвания человечества на земле.
Свою эпоху он понимает как второй и последний звездный час мира. В зрелом возрасте «человеку надлежит раскрыться, словно розе, которая оставаться закрытой больше не может, и разлить порожденный внутри аромат… Надлежит поэтому быть благоразумным, т. е. мудрым; а для этого требуется хорошая память о пережитых вещах, хорошее знание вещей существующих и хорошее предвидение будущих» (Пир IV 27, 4–5). В наступающие последние века Данте предвидит развертывание всей мощи ума человечества в познании божественного начала, мира и природы. Если всякая вещь в мире имеет свой смысл и особенное назначение, то уникальное назначение должно быть и у человечества в целом, у него только пока еще не было возможности осуществиться из-за раздора. «Собственное дело человеческого рода, взятого в целом, – постоянно приводить в действие всю мощь своего возможного ума» (Монархия I 4, 1). Человечество может – и безотлагательно должно, поскольку запасы времени у него иссякают, – воспрянув, вытряхнув зло и ложь из мира «как пыль из ковра», воспользоваться заложенной в его природе возможностью деятельного мирного счастья. Земля была задумана как уютное гнездо для человеческой природы (Чистилище 28, 142 и др.) и она снова станет садом, цветником, клумбой (Монархия III 16, 11) для успокоившегося человечества, славно и любовно обладающего ею.
Что это будет за жизнь и какая «деятельность» соединившегося в «монархии» (единовластии) человечества? Обращение с вещами не поглощает и не обогащает человека так, как узнавание себя в общении с другим. По Аристотелю, «узнать самого себя и самое трудное и самое радостное… Как при желании увидеть свое лицо мы смотримся в зеркало, так мы можем познать себя, глядя на друга» (Большая этика II 15, 1213 а). Данте буквально понимает это «глядеть на друга». В его поэзии от «Новой жизни» до «Божественной комедии» место главного действия занимает оптика взглядов, пересечение зрительных лучей. Высшим и самым наполненным событием неизменно оказываются встречи лицом к лицу. Жизнь, понимание, экстатическая радость загораются при встрече взоров. Взгляд, встречаясь с другим взглядом, открывает в онтологической оптике Данте новый мир посреди обыденности, и эта подлинная действительность, однажды приоткрывшись, способна наполнить бытием человека. «Жадность (cupiditas), пренебрегая самоценностью человека, тянется к прочим вещам; наоборот, любовь, пренебрегая всем прочим, тянется к Богу и человеку и, в порядке следствия, к человеческому благу» (Монархия I 11, 14). Слово perseitas, условно переводимое как самоценность, сложено из per se, «сам по себе». Среди лабиринта вещей, манящих и обманывающих, – и в каждом человеке тоже можно видеть только просто вещи, – внимательная оптика открывает «человека самого по себе» и с ним подлинный, бездонный мир, таящийся среди вещественного, ограниченного.
Между двумя крайностями – разными видами ухода от мира и прикованностью к его вещам – Данте занимает золотую тщательно взвешенную середину. Поэтическое и философское внимание к природе и человеку не исключает политической и художественно-хозяйственной практики, даже обязательно ведет к практике. «Понимающая потенция направлена не только на всеобщие формы, т. е. идеи, но также, посредством некоего распространения, и на конкретные частности… Созерцательный ум, распространяясь, становится практическим, имеющим целью действие и делание» (Монархия I 3, 9).
Для Средневековья, в эпоху Данте и долго еще после него было принято считать монашество самым достойным уделом зрелого и тем более старческого возраста. У Данте оно вовсе не идеал. Умудренность и жизненный опыт не обязательно должны вести к отречению от мира. «Бог ждет от нас только верующего сердца» (Пир IV 28, 9). Дело будущего человечества, о котором говорит Данте, не похоже на отбывание временной повинности на земле, как оно не похоже и на безостановочное манипулирование вещами. Поэта-философа захватывает тайна вселенского смысла и тайна «человека самого по себе», и здесь оно вроде бы ближе к идеалу «созерцательной жизни»; но он знает, что без философской политики и мудрого хозяйствования, делающих землю садом, не может быть созерцательного покоя. Прямая ответственность за природу и общество, лежащая на человеке, имеет категорический характер, и самой беспросветной доли в его аде удостаиваются не злодеи, а бездеятельные.
В этом равновесии между необходимым – но не более того – действием политика и хозяина, отвечающего за то чтобы земля была счастливым садом, и экстатическим, требующим всей развернутой мощи человеческого ума, любящим постижением тайны лица и смысла природы Данте видит призвание будущего соединенного человечества. Оно придет к согласию в «достойной деятельности» и «созерцании деяний Бога и природы» (Пир IV 22, 11). По существу весь последующий Ренессанс следует этой программе. Но она вскоре незаметно распадается на ряд отдельных научных и художественно-технических задач.
Античность и ее добродетель
Поворот философской поэзии от рационалистически-аналитического к художественно-пластическому освоению действительности произошел исподволь. Исследователи, останавливая внимание на «массе средневекового материала» у Данте, относят его к той эпохе и привязывают начало Возрождения к формированию воинствующей, отталкивающейся от Средневековья идеологической позиции ренессансного гуманизма. Однако за декларативным отталкиванием часто стояло много скрытого родства со старым. По существу в занятиях, предметах, темах, целях, воззрениях ренессансного гуманизма не обнаруживается в XIV XVI веках сенсационных сдвигов по сравнению с XII–XIII веками. Перевес «грамматики» (словесности) над «логикой» (философской схоластической диалектикой) констатировался в Европе и в конце XII века. Волна увлечения эллинством – античной литературой, философией и наукой – захватила с XIII века, и не в первый раз, интеллектуалов Византии. Итальянский гуманизм как предпочтение риторики, латинской поэзии, филологии, истории логико-философским и теологическим дисциплинам, «литературная элегантность, эклектизм, интерес не только к нравственным и педагогическим, но и к политическим и религиозным проблемам, отвращение к схоластике и безразличие к традиционным профессиональным университетским наукам»[176], всё это коренилось по существу уже в древнеримском гуманизме, имело ряд вспышек в Средние века и к XIV веку лишь количественно разрослось. Не гуманизм составил характерную особенность Ренессанса, а наоборот, Ренессанс придал гуманизму, непрерывно продолжавшемуся в Европе со времен Цицерона, особенную окраску.
В ренессансных исследованиях, как во всякой науке, не существует плавного перехода от изучения, издания, перевода, толкования, сопоставления текстов, произведений искусства к суждениям историософского характера. Бесконечный перебор материала или мифообразное обобщенное определение – эти две нерадостные крайности подстерегают каждого историка. П. О. Кристеллер, редкий знаток ренессансных текстов, ради приближения к конкретности предлагает расплести единую культуру эпохи на три параллельных движения: гуманизм, платонизм, аристотелизм. Но когда в результате этого Фичино и Джованни Пико попадают в разряд платоников, их работа по «соглашению» Платона с Аристотелем остается в тени; и если совпадение противоположностей, coincidentia oppositorum, в философии Николая Кузанского объявляется тоже чем-то «явственно платоническим»[177], то удобству классификации приносится в жертву зависимость Николая от Аристотеля, у которого, кстати, мысль о выходе первых и последних вещей из сферы рассудка и о постижении их только интуитивным умом высказана четче чем у Платона. При дроблении единого явления на составные каждая из нитей оказывается не менее сложной чем целое, которое зато становится от этого еще менее понятным.
Большинство историков, устав от абстракций, стремится конечно «уйти назад, к прочной почве документов и текстов»[178]. Масса привлекаемых вновь источников, публикация которых закончится очень не скоро, заставляет пока забыть о подведении итогов. Однако та же причина, которая заставляет снова и снова обращаться к Ренессансу, – какое-то его продолжающееся присутствие, – дает почувствовать за его разными чертами единую направленность.
Ренессанс как возрождение античности с необходимостью предполагает другую, более важную и коренную черту – нефаталистическое отношение к исторически сложившимся обстоятельствам. На языке Ренессанса это называлось «спором добродетели с Фортуной».
Античность была тут прежде всего спроецированным на прошлое предельным потолком того, что возможно достичь человеку. Многие современные историки культуры стараются отмежеваться от винкельмановско-шиллеровских идеализаций в поисках свежих гипотез о том, чем была подлинная античность. Но Ренессанс занял в отношении к античности будущую позицию Винкельмана и Шиллера. Античность была заведомо своей. Ей могли приписывать недостижимое величие, но никогда не опасались неверно ее понять. «Современные идеи аутентичности даже не появлялись на горизонте»[179]. Но ведь уже и Средневековье одомашнило древность, привыкло к присутствию в своем быту великих многосмысленных останков, как пастух в малолюдном Риме к Колизею. В испанском варианте «Поэмы об Александре» (XIII век) действуют «дон Александр», вызывающий противника на турнир и проходящий тривиум и квадривиум у своего седого наставника Аристотеля, и «граф Демосфен», строящий козни против Александра в непокорном городе Афинах. Античность жива для читателя в рамках привычного ему пространства. Ренессанс по сути наследовал это интимное отношение к древности – за одним важным исключением. Он с крайней, абсолютизирующей настойчивостью подчеркнул онтологическую разницу между древним и новым, уличил современность в вопиющем недостоинстве перед лицом античности и при этом, что гораздо важнее, отождествил себя с последней. Многие в разные века театрально отряхивали прах обыденного окружения от своих ног. Петрарка описывает гуманистов старого закала, с головой утонувших в давних веках (Книга о делах повседневных XXIV 2). У большинства из них антикварная страсть сопровождалась скорбной или в лучшем случае светлой меланхолией. Здесь проходит граница между гуманизмом и Ренессансом, сочетаемыми, но не тождественными величинами. Не для всякого гуманизма заражение античностью означало одновременно выход поступка на самую высокую и освещенную сцену своей собственной современности.
В важном письме к королю Роберту «О своих лаврах и против ревнителей старины, всегда презирающих современность» (Книга о делах повседневных IV 7 от 30 апреля 1341) Петрарка присоединяется к отчаянию тех, кто плачет об упадке современности, но делает отсюда неожиданный вывод: «От своего отчаяния они коснеют, нас наше отчаяние побуждает к действию, и что для них узда и оковы, то нас еще больше толкает и подстегивает трудиться, чтобы стать такими, какими в их (косных ревнителей старины) мнении могут быть только прославленные древние». Ничтожество современности одних погружало в грусть, других пробуждало к отчаянному усилию. Знаменем усилия служила античность. Возрождалась в конечном счете не она в своем факте, а человек как таковой.
Эта мобилизующая сила античности значила для Ренессанса намного больше чем сокровища ее культуры. Можно представить, какими вредными мечтателями должны были казаться любителям древностей молодые люди, решившие оживлять то, что безвозвратно умерло тысячу лет назад. Когда Петрарка в 1373 признает, что «подтолкнул многих к этим нашим занятиям, которые были заброшены в течение долгих веков» (Старческие письма XVII 2 к Боккаччо «О том, что не надо прерывать занятий из-за возраста»), то имеет в виду вовсе не собирание и изучение древней литературы, не филологию, риторику и стилистику, а донесенные в художественном и поэтическом слове уроки высшего осуществления человека. Он называет эти восстанавливаемые им «древние» черты: ненависть к праздности, трудолюбие, способность к духовным порывам, напряженный труд как пища души («человек рожден для усилия как птица для полета»), мужественное постоянство. Колуччо Салутати искал дружбы Петрарки, привлеченный не столько его славой, сколько «истинной добродетелью… ибо ты приобрел такую высоту добродетели, какой только возможно достичь человеческому роду» (Письма II 8). В годы Данте и Петрарки такое могло еще быть непосредственно понятно и «добродетель» стала двусмысленной (см. ниже) только когда гуманизм снова стал филологией.
В ренессансном настроении смиренно-благочестивая религиозная добродетель оказывалась проблематичной. Недоверие к ней было понятно. У всех перед глазами были святоши, которые показывали, как легко подделать достоинства души, невидимые по определению. Примеры церковно-монашеского лицемерия заставляли искать в античности надежного мерила человеческой ценности.
Первая новелла «Декамерона» – история сера (юриста) Чеппарелло, грязного мошенника, сластолюбца и убийцы, который в предсмертной исповеди заставляет счесть себя аскетом неслыханной святости и за то после смерти удостаивается народного поклонения под именем святого Чаппелетто. Пакости, безнаказанно творимые выжигой Чеппарелло в каждый день его жизни, явное могущество лжи, наивность легковерного монаха-исповедника делали бы новеллу уроком цинизма («всё обман»), если бы не два островка прочной суши среди болота лицемерия и глупости. Первый – божественная премудрость, которая делает так, что образ святого Чаппелетто всё равно возвышает души паломников. Второй, как это ни парадоксально, – стойкость самого Чеппарелло. Ведь чуда не было бы, не сумей он в предсмертных муках доломать до конца свою комедию. Не очень благочестивая мораль всей этой истории у Боккаччо та, что был бы размах, решимость на крайнее, способность прочертить до конца линию своей жизни, словом, был бы человек, а уж высшие силы сумеют найти ему применение.
Ренессанс был более расположен к античному чем к современному христианству именно потому что верил, что ранние христиане еще не разбазарили первозданной силы натуры. С XIII века у итальянцев распространяется уважение и к мусульманскому идеалу щедрого мужества и непоколебимого личного достоинства. Есть судьба злее ада, а именно – за свое земное существование не совершить ничего ни позорного, ни похвального. Бездеятельные «никогда не жили» и после смерти мечтают о смерти, но осуждены вечно брести сквозь мутный вихрь «без времени» по месиву из собственной крови, слез и поедающих всё это червей. Что таких не любит небо, понятно; характернее для ренессансного понимания добродетели то, что их не любят и враги неба. Ад их не впускает, иначе мучимые там преступники справедливо возгордились бы, сравнив себя, героев зла, с этими неосуществившимися людьми (Ад 3, 22–69).
Ренессансная добродетель это сила, нужная прежде всего чтобы быть, а не просто существовать; чтобы выйти на общественную и историческую сцену. Макиавелли, похоже, считает вполне естественным, что «многие, кому не довелось прославиться каким-либо достойным деянием, старались добиться известности делами бесчестными» (История Флоренции, Предисловие). Бьяджо Буонаккорси, друг Макиавелли, рассказывает в своем дневнике о некоем Вителоццо, который лежал в постели больной, когда его пришли взять посланцы власти. Сказав, что одевается, он дотянулся до оружия, внезапно поднялся и пробил себе дорогу к бегству[180]. Закон законом, но независимо от того, на чьей стороне мораль и право, добродетель Вителоццо говорит за себя, равно как «мелкость» (dapocaggine) арестовывавших его коммиссаров правительства. Лоренцо Валла в трактате «О наслаждении» кажется противником добродетели и эпикурейцем. Надо вчитаться в трактат чтобы понять, что он хоронит елейносвятошеский образ добродетели и отстаивает новый, добродетели как энергии-любви (fortezza-carità), увлеченного деятельного порыва. Человек причастен божеству своей «действенной силой», поэтому в ней для человеческого существа наслаждение, блаженство и конечная цель, ради которой всё остальное[181].
Всё это старые уроки Аристотеля, чья этика, изучавшаяся и в Средние века (в отличие от аристотелевской натурфилософии и метафизики она никогда не состояла под запретом), была принята как руководство к действию Ренессансом. По Аристотелю добродетель – настойчивая широкая деятельность сил души, прежде всего высших, придающая жизни смысл и осуществление. Аристотель верит или на опыте знает, что для человеческого существа есть такая мера развертывания жизненной и интеллектуальной энергии, когда кончается внутренний раздор и все силы, способности и порывы приходят в поющее (Поль Валери) согласие.
Человек всегда был естественно счастлив на подъеме колеса Фортуны. За краткую или долгую эйфорию он всегда потом естественно расплачивался болью или страхом падения. Образ Фортуны правит представлениями и Средневековья, и Ренессанса. В руках Фортуны судьбы всего живого на земле. Во все ренессансные, как и средневековые, века Фортуна присутствует в изображениях и описаниях как неумолимое своенравное божество. Добродетель выковывается на фоне этого подавляющего всевластия рока. Фортуна госпожа всего кроме добродетели. Добродетель наперекор горю или удаче хранит бодрую трезвость духа и тела.
Ренессансный человек, «сознавая пределы, поставленные ему Фортуной, не забрасывал, как в предшествующие века, мысль о возможности действия»[182]. Пусть неумолимая Фортуна заставила человека жить при закате мира, «в последнем возрасте века» по Данте (Пир II 14, 13), в годы, когда «по злой воле Фортуны самые бесчестные люди господствуют над достойными» (Петрарка, Инвектива против врача I), во времена, к которым небеса «исключительно враждебны» (Боккаччо, Декамерон VI 1), вдали от золотой древности, лишала его отечества, достатка, заслуженных наград, покоя, условий для труда. Рядом с признанием всемогущества Фортуны только крепло чувство самостоятельности добродетели.
Петрарка упрекает Боккаччо за минутное уныние: «Ты тревожен душой; думаю об этом с удивлением, возмущением и печалью… Почему дрогнул дух, стоящий на прочной опоре труда, искусства и благодатной природы?… Что ж такого, если внезапно вторгнется смерть, или мучение, или тюрьма, или изгнание, или нищета? Всё это обычные метательные снаряды Фортуны; какой из них сможет долететь до высочайшей и неприступной крепости духа, разве что ты сам вдруг сдашь крепостной вал врагам?» (Книга о делах повседневных XVIII 15, 1).
Близкий конец мира только подталкивал добродетель к действию. Жалуясь на упадок Италии и Европы, Петрарка утешался только тем, что ему не довелось родиться позже, когда состояние мира будет еще хуже. Николай Кузанский математически подсчитывал, что идет примерно последняя восьмушка последней четверти всего существования мира, которому перед огненным судом предстоит пройти через «развертку», расширенное повторение крестных мук Христа (Предположение о последних днях). Но тем почетнее было, когда всё склоняет к унынию, противопоставить близкой гибели стойкость, под античный рефрен: «Пусть целый свет, надтреснув, рухнет, – тело, не дух сокрушат руины».
Противоборства враждебной судьбе для добродетели было еще мало. На первом месте в самом крупном сочинении Петрарки – «Лекарства от превратностей судьбы» – стоит сохранение добродетельной твердости не среди бед, а среди удовольствий и удач: это труднее, а потому важнее чем мужество в горе. Лучше остаться в мире ни с чем, лишь бы не стать игрушкой будь то злой, будь то благоприятной Фортуны. Чтобы хранить не отшельническое, а деятельное постоянство, надо опереться на что-то неизменное в человеке. Добродетель отвечает этому требованию, потому что умеет поддержать сама себя. Она, как учит нравственная философия, постояннее и надежнее хода небесных светил. Писатели Ренессанса не случайно чаще чем средневековые повторяют, что никакая констелляция светил не в силах покорить свободную волю.
По Буркхардту, итальянцы ренессансной эпохи были ближе других народов того времени как к добру, так и к злу. Точнее было бы сказать, что ренессансная добродетель была не добротой в обыденном понимании этого слова и ее противоположностью было не такое же зло. Человеческий образ в ренессансной живописи, особенно ранней, плохо поддается оценке по признаку доброты и очень хорошо – по признаку добротности. На ассизских фресках Джотто Гонорий III явно захвачен проповедью стоящего перед ним Франциска, полон энергии и спокойной силы, и чего совершенно не найти в его облике, так это размягченной благостности.
Культура добродетели ясно дает о себе знать в литературном стиле эпохи. Философско-поэтическое движение, начавшееся на Юге Франции в конце XI века на почве дописьменной романской поэзии не без влияния испано-арабской культуры чувства и греко-сирийских форм литургической словесности, распространилось сначала на Севере Франции, в Германии, Сицилии, затем в Тоскане. У флорентийцев «нового стиля», у Данте, Петрарки оно ассимилировало культуру античной классики и дало образцы, в русле которых поэтическая мысль движется в основном до сих пор. Сосредоточенная сила умудренной решимости, добродетели, окрепшей в борьбе с фортуной, придавали этой поэзии рассчитанную формальную законченность. Пишущий подчеркивал, что ставит себе далекую цель, трезво рассчитав силы и возможности.
О воле к завершенности говорит и количество песен «Божественной Комедии», ровно 100, и одинаковая отработанность частей, и сцепляющая «бесконечная» отчетливая рифма, совершенно не допускающая размытости (vita – smarrita, oscura – dura – paura, forte – morte – scorte и так далее вплоть до percossa – possa – mossa и velle – stelle, без единого послабления), и укладывание каждой строки в одиннадцатисложник[183]. Чтобы у читателей не оставалось никакого сомнения, что мастер действительно завершил всё что хотел, каждая кантика кончается одним и тем же словом stelle.
Неуклонная поступь этой запланированной речи сама по себе завораживает. Единый замысел изначально и неотвратимо нацелен на то, чтобы во что бы то ни стало подчинить себе враждебные обстоятельства. Недаром главной чертой жизнеописаний Данте стало неукротимое упорство швыряемого житейскими бурями человека, который без надежд на постоянное пристанище, когда некоторые его товарищи по изгнанию впали в отчаяние и покончили с собой, довел задуманное дело до последней точки. «Тут не хватает слов для восхищения и похвал, потому что ни оскорбительное беззаконие сограждан, ни изгнание, ни бедность, ни уколы вражды, ни супружеская любовь, ни привязанность к детям не сбили его с однажды намеченного пути, хотя ведь как часто люди именно высокого ума бывают настолько ранимы, что из-за малейших сплетен изменяют самым сокровенным намерениям, и это свойственнее как раз тем из пишущих в поэтическом стиле, кто помимо смысла, помимо выражений заботится еще и о связи целого и потому больше других нуждается в покое и тишине» (Петрарка, Книга о делах повседневных XXI 15).
В поэтической поступи Данте есть что-то от завоевателя. Античность была тут больше знаменем подвига чем прямым примерам для подражания. Как раз «вождь Данте» Вергилий оставил в «Энеиде» много сырых или незавершенных мест. С другой стороны, «Божественную Комедию» сближает с «Энеидой», отличая обе от привычного эпоса, абсолютная невозможность для главного героя трагических ошибок, промахав, срывов, просчетов, – всего того, что составляет главную интригу древнегреческих эпоса и трагедии. У Данте и Вергилия действия героя строго выверены, старательны, осмотрительны, с запасом надежны. Так, войдя в двери Чистилища, поэт и его проводник получают указание не оглядываться, и в согласии с духом всей поэмы у них не возникнет даже слабого искушения сделать это.
Для большей надежности осуществления своего предприятия деятелю приходится рассчитывать только на себя, оберегая свою абсолютную самостоятельность и независимость. Данте стал «сам себе партией» и объявил своим отечеством «Италию духа».
Петрарка, выросший в семье эмигранта, смолоду переселился в «отечество словесности», в «крепость уединения». Сосредоточенная цельность замысла распространяется у него еще дальше чем у Данте, не только на все его произведения, но и на целую жизнь. Биографам Петрарки, начиная уже с современников, почти не приходилось самим собирать материал помимо тех сведений, какие предоставил им сам поэт. Свои главные работы Петрарка правил и редактировал до конца дней. При такой же, как у Данте, строгости размера и чистоте рифмы (ни одного ассонанса, ни одного случая сплошной глагольной рифмы) количество стихотворений в «Книге песен» равно числу дней високосного года, символизируя полноту круга жизни. Издавая «Книгу о делах повседневных», Петрарка датировал 350 ее писем только днем и месяцем, как если бы 40 лет жизни были одним годом. Жизнь человека оказывалась тут лишь поводом для философско-поэтического строительства. В долговечном слове оживал уже преображенный человек.
У Боккаччо в рамочном сюжете «Декамерона» неостановимое следование друг за другом ста новелл (возможно, Боккаччо вторит здесь числу песен «Божественной Комедии», подобно тому как Фьямметту из его одноименного романа можно считать, по Буркхардту, женским двойником лирического героя «Новой жизни») обеспечено не жизненными обстоятельствами рассказчиков, – смерть всех родственников от чумы малый повод для плетения пестрых историй, – и не открывшейся во Флоренции весной и летом 1348 нравственной свободой, – семь девушек и трое юношей «бригаты» вполне могли бы, как сказано в предисловии к Первому дню «Декамерона», дать полную волю другим, не литературным увлечениям («законные права на удовольствие… не то что для их возраста, но и для гораздо более зрелого были тогда самые широкие»). Если бы поступками рассказчиц и рассказчиков правило настроение, сложности их личных переживаний сделали бы сплошной сюжет невозможным. Их позиция – это всё то же упрямое противостояние счастливой и несчастливой фортуне, опирающееся на мудрость, знание и добродетель. Удивительное поведение компании молодых людей, верной интеллектуализму нового стиля, сцепляет действие воедино, служа универсальным организующим и упорядочивающим началом. «Безупречный стиль жизни бригаты составляет идеальный противовес плотскости новелл, придает им возвышающую оболочку, подобно тому как позднее совершенная перспектива ренессансной сценографии будет служить облагорожению и упорядочению буквально “недостойного” материала комедий»[184]. В этом смысле Боккаччо «конструктивнейший социолог». В момент вынужденной переплавки общества после кризиса 1348 принцип личного удовлетворения требовал именно такого преображения, на какое оказались способны десятеро юношей и девушек, искусством слова воссоздающих новый, оживленный мир над кладбищами чумного города.
В последние годы литературоведы обращают больше внимания на цельность «Декамерона». В нем обнаруживается плотная вязь внутренних соответствий, тематического параллелизма, симметрий и противопоставлений, делающих из главной книги Боккаччо «изощренную повествовательную машину»[185]. Архитектонический и «идеологический» центр повествования – застольная сцена как ритуализованное изображение идеального общества[186].
Если сама форма ренессансной литературы излучает жизнестроительную энергию, то еще действеннее организующий смысл ее содержания. Постоянные темы в ней – духовное пробуждение, добродетельное усилие, согласие между людьми, устроение жизни. Всем движет воля, не жесткая, без отчаяния и фанатизма, но абсолютно непреклонная. Полагаясь на разум, предвидение и расчет, она ставит себе предельно высокую, но реально достижимую цель и наперекор Фортуне приходит к ней во что бы то ни стало. Законченность формы нарушится позднее при переходе от философско-поэтического к архитектурно-художественному и изобретательскому Ренессансу, когда, наоборот, обычаем станет незавершенность произведений и неисполненность замыслов. Но тема добродетели как неотступного усилия, преодолевающего судьбу, останется вплоть до Макиавелли и Леонардо такой же ведущей, как у Данте и Петрарки.
Пока ренессансный гуманизм не сделался снова просто обозначением круга учебных дисциплин, он был неразделимым единством упорной работы (studium), изучения классики как жизненно-нравственного завета и свободного поступка. Искусство слова становилось ключом к образованию человеческого существа. Спонтанное развертывание душевного состояния в ренессансной «риторике» было работой раскрытия и осуществления человека силой высшей добродетели в смысле по-аристотелевски понятой «энергии» (введенности-в-действие) основных человеческих способностей, ума, воли, любви. Поиски и опубликование древних текстов были увлекательным, но не таким уж центральным делом в этом гуманизме. Его первой заботой была истина человека (Петрарка, Книга о делах повседневных I 9).
Классику читали, перечитывали, выучивали наизусть, чтобы укрепиться в добродетели, не сдаться Фортуне, выйти на сцену истории. Слава ценилась как тень добродетели, звонкое слово становилось средой обитания осуществившегося человека. Античность понималась как мера и залог достижимого величия. Была не логически дедуцирована, а испытана возможность простой деятельной полноты для человеческого существа. Эта счастливая простота, оправданная философско-поэтическим знанием, обеспеченная «героическим порывом гигантской воли»[187], явленная миру в слове, стала открытием, дала «впервые вполне узнать человека и человечество в его глубочайшей сути». «Логическое понятие человека существовало издавна, но эти люди знали самую вещь»[188]. Гуманизм выродился позднее в школьные филологические упражнения. Но в XIII веке тревожное предчувствие такого поворота слышится лишь в последних «Старческих письмах» Петрарки.
Античность высилась и позади, в прошлом, и впереди, в настающем. Этим словом обозначалось всё возвышенное и подлежащее осуществлению. Петрарка в сонете 137 «Алчный Вавилон» предвидит времена благой священной империи: «Прекрасных душ и доблестных (di virtute amiche) владеньем / Мир станет; весь златым его увидим / и древними деяниями (l’opre antiche) полным». Признаком древности служит не далекость во времени, а прекрасная высота. Нехронологический смысл такого понимания древности проясняется в свете одной параллели. Плутарх писал об афинской архитектуре середины V века до н. э.: «Творения Перикла… созданы в короткое время, но для долговременного существования; по красоте своей они с самого начала были старинными», при том что «всегда блещут каким-то светом новизны» (Перикл 13). Так же ренессансный архитектор, скульптор и живописец Антонио Филарете (ок. 1400–1465) писал о Флоренции середины XV века: «Они строят в согласии с античным, древним стилем» (Об архитектуре IX). Болонский архитектор Себастьяно Серлио (1475–1554) в числе «античных» строений Рима называет Пантеон, храм Вакха, базилику Константина (Храм мира) и в том же ряду – заложенный в 1506 (оставшийся незавершенным) новый собор св. Петра архитектора Донато Браманте[189]. Круглая часовня Браманте при соборе св. Петра в Монторио (1502) имела для XVI века статус образцового античного строения[190]. У Макиавелли новое государство, основанное мудрым и добродетельным (virtuoso) государем, сразу оказывается не только древним (antico), но и более надежным и прочным, чем могли бы обеспечить традиционные устои любой давности (Государь 24).
Но прямого копирования древности в Италии XIII–XIV веков было, по-видимому, едва ли больше чем в Аттике V–IV веков до н. э. Современность говорила с древностью на равных, как мастер с мастером. Первым импульсом было восхищение и подражание, конечным итогом небывалый синтез. «В своих отношениях с античностью Ренессанс может считаться гигантским предприятием культурной псевдоморфозы. Это, возможно, его лучшее определение. В стремлении открыть античность он создает что-то совершенно новое»[191]. Альберти по видимости излагает античного архитектора Витрувия, но фактически свободно перетолковывает его. Реконструкция античного стиля у известнейшего архитектора XVI века Палладио была по сути его заменой. «Спящая Венера» Джорджоне и Тициана кажется античной по теме и исполнению, но на деле не имеет прообраза в древности, являясь полностью созданием итальянского XVI века. Техника сфумато (дымчатой светотени) в живописи Леонардо своему создателю представлялась, по-видимому, осуществлением одного краткого замечания Плиния об Апеллесе, но по существу была типичным ренессансным новоизобретением. Желая поднять статус живописи, которая формально числилась среди ремесленных умений, ренессансные гуманисты утверждали, что она принадлежала в Греции к благородным искусствам, но опирались при этом больше на твердую веру в благоразумие древних чем на литературные источники[192]. И еще один пример. Увлекшись египетскими иероглифами, ренессансные гуманисты не смогли правильно прочесть их потому, что сразу «поняли», расшифровали по-своему и применяли как многозначительную философскую символику.
Ренессанс и Средние века
Непредвзятая дружелюбная открытость в природе ренессансного типа, и многие исследователи видят только эту сторону. Была и другая. По существу только Данте и уже в меньшей мере Боккаччо оказались способны к всеобъемлющему синтезу всех доступных их кругозору духовных и культурных начал.
Культ добродетели-доблести, исторического подвига сделал с XIV века популярным жанр сочинений «О знаменитых мужах», «О знаменитых женщинах». Но всё средневековое тысячелетие с основанием больших государств, строительством городов, отстаиванием Европы от арабов, Роландом, крестовыми походами, завоеванием Ближнего Востока и Византии, подвигами аскетов словно ушли для ренессансных гуманистов после Данте под землю, и вереница героев в энциклопедиях знаменитостей у Петрарки и Боккаччо обрывается, за немногими исключениями, вместе с античностью, возобновляясь лишь в близкие к авторам годы. Рыцари Артура, Роланд и крестовые походы стали снова поэтической темой только с XVI века, когда размежевание со Средневековьем утратило злободневность.
Готике нельзя отказать в величии. Именно с нее в Европе возобновляется полнокровное нестилизованное изображение человеческого тела. Внутренность готических храмов стала просторной, поднялись нефы многометровой высоты, витражами расцветились огромные воздушные объемы, а колесо Фортуны над порталом было переосмыслено как символ солнца. Но ренессансное искусство после Джотто не включало готику в свой синтез.
Средневековая школа философского перевода имела многовековой опыт, умела пользоваться параллельными арабскими и еврейскими переложениями античных источников и вдохновлялась блестящей прозрачностью византийских комментаторов X–XI веков. Ренессансные гуманисты, часто не имея равного навыка и кругозора, взялись переводить всё заново, словно все эти translationes vetustae, «старые переводы», лежавшие в их библиотеках, были пустым местом. Интересно сравнить начало «Большой этики» Аристотеля в переводах Бартоломео да Мессина, работавшего при дворе сицилийского короля Манфреда по его заказу в середине XIII века, и Джорджо Валла (ок. 1430–1499):
Бартоломео: Quoniam eligimus dicere de moralibus, primum utique erit considerandum, mores cuius sunt pars. Ut breviter quidem igitur dicere, videbuntur non alterius quam politice esse pars.
Джорджо Валла: Quoniam de moribus agere propositum nobis est, primum illud videndum, cuiusnam scientiae vel artis pars sin mores sive moralis haec disciplina. Ut igitur paucis absolvam, non aliud videtur pars esse quam civilis.
Дословность Бартоломео ближе к смыслу и стилю Аристотеля чем предупредительная словоохотливость Валлы, подражающего цицероновскому непринужденному блеску. Politica как название ведущей дисциплины звучит у Бартоломео точнее и даже сейчас современнее чем civilis scientia у Валлы. Но сухая схематичность средневекового слога коробила слух гуманистов, которым как воздух была нужна округлая полнозвучность слова, почти осязаемо переходящая в изящный телесный жест.
Якоб Буркхардт не без причин предпочитает хронистов старого стиля, к которым примыкают и Виллани с их «величественными, красочными, полными жизни» картинами, риторико-филологическим упражнениям гуманистов Леонардо Аретино, Поджо, Фацио, Сабеллико, Фольетты, Сенареги, Платины и других итальянских историков XV века. Пелена искусственного антикизирования спадает с историографии только в XVI веке у Макиавелли и Гвиччардини, переходящих на итальянский язык, в поэзии – у Ариосто.
Нынешнему исследователю уже не так легко понять, чем гуманистов так очаровала цицероновская латынь. В XV веке она была знаменем культурного движения. В разгар Северного ренессанса Эразм Роттердамский как допотопную нелепость сердито высмеивает схоластические рассуждения de instantibus, de formalitate, de quidditate. Но современный историк науки считает теории первого и последнего момента, интенции и ремиссии форм крупными достижениями натурфилософии и логики позднего Средневековья, сожалея, что «некоторые важные аспекты средневековой философии и науки были сознательно и яростно… отвергнуты Ренессансом»[193].
Тысячелетний стиль мысли и речи был не преодолен, а внезапно отброшен. Энергичность размежевания со Средними веками говорила, разумеется, об их тайной актуальности. Все средства шли в дело, чтобы подчеркнуть разрыв со старым и обращение через его голову к древности. Презрение к современности доходит до того, что гуманисты переименовывают в древнеримском или древнегреческом стиле себя, географические названия, политические реалии. В письмах Петрарки только чувства, заботы и адресаты (но не их переиначенные на латинский лад имена) современны. Исторические и литературные примеры, цитаты, мифологические образы все античные. Под поэзией, прозой понимаются только древние латинские, для современных итальянских есть особое название, rythmi, vulgare eloquium. Для расхожей средневековой латыни не оставлено места среди стилей речи: она «не стоит ни на какой ступени подлинного искусства слова, будучи просто плебейским, грубым и рабским словоизвержением, которое хотя бы за тысячу лет въевшейся привычки к нему и стало уже стариной, всё равно достоинства, не присущего ему от природы, от времени не приобретет» (Петрарка, Книга о делах повседневных XIII 5). Античное христианство безусловно принимается. Но вот, например, в политических сочинениях Франческа Петрици отсутствует вместе с современностью и христианство, вместо него он описывает некую обобщенную религиозность, какая могла относиться и к древности. Он вполне очертил себя образами и именами классической античности так, словно проспал и позднюю античность и Средние века и снова проснулся всё в том же в республиканском Риме.
С заявленной ренессансным гуманизмом высоты историей признавалось не всё то, что произошло. Многое случилось за долгие века, что на суд разума не должно было случиться, а потому и не признавалось полноценным событием, каким была золотая древность.
Спор ренессансного гуманизма со схоластикой шел явственно о стиле, но его предметом был человек. О том, как понимал себя средневековый человек, косвенно говорила тысячелетняя тяжба об универсалиях. Снова и снова обсуждалось, в чем больше бытия – в индивиде или в роде, которому индивид принадлежит. Но решался ли этот вопрос так, что роды суть отвлеченные рассудочные понятия, которым ничто в бытии не соответствует, или так, что индивиды лишь преходящие частичные овеществления идеи рода, пребывающей в божественном действительном уме, или так, что, меняя направленность взгляда, в любой вещи можно увидеть и индивид, и вид, и род, и всеобщность, – при любом ответе сохранялась неустранимая составность индивида. Индивидуальный человек не был неделимой целостью в собственном смысле, он состоял из аспектов и функций и в одних своих функциях принадлежал по-видимому себе, в других – роду, виду, всеобщности. Как бы ни перераспределялись его функции, он оставался пассивным субъектом при активном начале, каким выступал вселенский порядок, предопределявший для каждой функции место, значимость, форму, цель. Личность принадлежала силам – от божественной воли и священного авторитета до влияния планет, гуморов, благословений, проклятий и заговоров, – непроницаемым для ее разума и заявлявшим разнообразные права на нее. Ей ничего не оставалось, как отдавать должное разнообразным инстанциям, в иерархию которых входили составлявшие ее части. Поэтому, например, средневековая аскетическая мораль без труда уживалась, как с оборотной стороной монеты, с карнавальным и весенним разгулом страстей. Юные богословы в Сорбонне на масленице отводили душу в пригородах Парижа за играми и вином. В сборнике «Бойренских песен» голоса строжайшего, почти надрывного благочестия чередуются с восторгами сластолюбца, который словно не слыхал, что в мир пришло христианство. Совсем другой уровень человеческой собранности предлагает в сравнении с этим итальянская поэзия Прекрасной Дамы, словно и знать ничего не желающая о чувственной любви.
Схоластическая логика неопровержимо доказывала, что один Бог прост. Только божественная сущность есть одновременно бытие и действительность, всё остальное обязательно составлено из субстанции и акциденции, из существования и существующего предмета, из родовой сущности и ее индивидуальной конкретизации. Казалось бы, логика установила это раз и навсегда, но то же самое доказывала еще тысячекратно. С неотвратимостью навязчивого кошмара на языке схоластической философии снова и снова выносился запечатанный стройными рассуждениями приговор, что индивиду, какой он есть, не дано простого единства. Оборотная сторона схоластического рационализма, мистика говорила наоборот о несказанном слиянии души и ума со счастливой божественной простотой – но лишь для человека, вышедшего из мира, т. е. опять же ставшего другим чем он есть. Двигаясь по накатанной колее силлогизмов, разум повторял смиряющий вывод о неизбежной составности индивида так, словно сам убеждал себя в правильности своего рассуждения или смутно догадывался о какой-то ошибке в нем.
Новая эпоха совсем отвернулась от логических построек, доверившись поэтическим интуициям. Единящее начало было найдено не в упорядоченном целом разумной системы, призванной указать место для всего, а в уникальности момента. Человек перестал определять свою жизненную задачу через свое место в космосе и с собранной силой знания, умения и воли захотел воплотить свою неповторимость здесь и теперь. Предыдущая история еще не знала такой готовности привязать мысль, слово и действие к опыту настоящего.
«Божественная Комедия» приурочена к юбилейному 1300 году, году флорентийской смуты, приората Данте и его тридцатипятилетия – середины жизненного пути, – и с этой датой сплетена вся ее ткань. Поэзия и судьба Петрарки развертываются от утра страстного понедельника 6 апреля 1327 года, когда он увидел в авиньонской церкви Лауру, и достигают вершины к утру пасхального воскресенья 8 апреля 1341 года, когда его венчали как первого поэта на римском Капитолии. «Декамерон» Боккаччо немыслим вне десяти дней страстной и светлой седмицы 1348 года в пораженной чумой Флоренции.
Историческая конкретность, вообще присущая лирическому слову, у поэтов-философов раннего Ренессанса намеренно доведена до последней определенности. В сравнении с их речью, которая полна личной и всечеловеческой историей, средневековый дискурс оказался как бы состоящим из условных знаков, которые ввиду их неизбежной многозначности всегда можно повернуть в разных смыслах. Слово, звучащее аллегорически, так же распределяется по своим разнообразным значениям в космосе смыслов, как средневековый составный индивид – по своим функциям во вселенском порядке, и так же никогда не достигает простой целости. Конечно, Ансельм, архиепископ Кентерберийский, в предисловии к своему «Монологиуму»[194], Абеляр в «Истории моих бедствий» тоже говорят о себе с прямой однозначностью, а сонеты Петрарки иногда тонут в традиционной символике. И всё же житейская ясность первых не делает описываемое ими исторически уникальным, оставляя у нас впечатление нарицательности и типичности, тогда как даже аллегории ренессансного поэта звучат как необходимые сообщения. Дело, возможно, в ауре средневекового слова. В контексте эпохи оно воспринимается как заведомо неравное сути, которая выше и вне его. За ним всегда ожидается толкование. И чем трезвее и доходчивее смысл, тем скорее он заставляет искать в нем иносказаний. Любая сколь угодно непосредственная прямота в средневековой литературе оставляет возможность догадываться, что мы всё-таки имеем дело с аллегорией. Здесь открывается задача для анализа, который мы оставляем на потом.
Средневековая речь – протокол события, ренессансная – его живой голос. От средневекового дискурса веет сакральной формулой, он близок к ритуальному тексту, законодательному акту или – если взять для сравнения один из современных стилей – к языку изобретательского патента, в котором все формулировки тщательно выверены так, чтобы подчеркнуть беспрецедентную особенность описываемого устройства и вместе с тем его универсальную применимость. В такой ритуализованной речи слово служит для установления внеположных ему структур.
Пафос схоластической логики заключается в том, чтобы поставить разум на место, столкнув его с неразрешимыми трудностями и тем выявив его имманентное бессилие, а потом упорядочить рассуждение, приведя его в соответствие с вселенским строем. Надрыв схоластики в конце XIII века был спровоцирован непомерностью этой взятой ею на себя сверхзадачи – поставить всякую индивидуальную данность в правильную связь с космическим бытием. Номинализм Дунса Скота и Оккама, напомнивших, что слово это пока еще лишь только проект, надломил схоластику изнутри, выветрив надежду на успех ее предприятия. Ушла из-под ног почва ритуализованного, сакрализованного рассуждения – уверенность или надежда, что выстроение речи равнозначно воздвижению мирового строя.
Старый исследователь схоластики Б. Орео писал об отсутствии классической простоты в ее переусложненных конструкциях: «Если перипатетизм Аверроэса отличается от античного учения Ликея не меньше чем Альгамбра от Парфенона, то подобным же образом и перипатетизм Альберта Великого, святого Фомы, Дунса Скота есть монумент, построенный в гордом и причудливом вкусе XIII века, готический монумент. Как храм, он возвышается ярус за ярусом в пространстве, насколько в силах подняться самый отважный мысленный взор; но эта грандиозная масса не будет иметь того простого внушительного величия, которое сообщал всем своим творениям строгий гений Древней Греции»[195].
Единство человека как исторического существа и полновесность звучания слитного с ним слова были достигнуты в поэзии Данте, Петрарки, Боккаччо. Они исподволь изменили весь стиль европейской культуры. Как во все века и во всех культурах, поэт, в отличие от комментатора, компилятора, хрониста, создавал историю на равных правах с вождями и проповедниками.
Происшедшая перемена могла оставаться вначале незаметной. Явственная борьба ренессансного гуманизма против схоластики разгорелась в основном позже, и она велась по сути дела опять уже комментаторами и толкователями, учениками и продолжателями великих поэтов, когда звучание слова изменилось еще раз.
Итальянский город XIII–XVI веков
В обществе должна была быть почва для того, чтобы такие начинатели как Данте могли полагаться на себя, ставя далекие цели с надеждой на отклик и успех. Традиционные инстанции – папа и император – сохраняли огромный авторитет, но более реальной силой уже с XII века в Италии становится город-государство, ближайшая политическая реалия, внутри которой складывалась ренессансная мысль.
По Мишле, на юге Франции свободные городские коммуны возникли с XI века как братские союзы и достигли расцвета к XII веку, «веку силы, величия и активности… Личное достоинство и гордость, могучий дух сопротивления, вера в себя – вот вещи, которые делали коммуну XII века сильнее Фридриха Барбароссы». Но культура юга Франции была разгромлена в крестовом походе против альбигойцев, и к XIII веку здесь происходит надрыв, крушение личности, человек становится неузнаваем. «Свободный город родился в XI веке, но уже в XIII веке он отдался в руки господина-короля»[196].
Итальянские города к середине XIII века, наоборот, достигли вольности и силы. Почти во всей ренессансной исторической мысли от Данте до Макиавелли и Гвиччардини середина XIII века или еще конкретнее – 1260-е годы предстают временем процветания городов, достоинства и нравственной красоты граждан (valore и cortesia, Божественная комедия II 16, 121–122), здравого политического устройства, нерастраченных возможностей. Они золотая старина и начало современной для этих авторов истории, излагаемой обычно по схеме нарастающего распада.
Поскольку Ренессанс как таковой был провозглашен узким культурным слоем, современные профессиональные историки часто не замечают его при изучении развития городов. Главная причина незаметности Ренессанса на уровне массового населения в том, что ему здесь соответствовало просто общее повышение энергии жизни, без определившейся сознательной направленности.
Необычайно росло население. Джованни и Маттео Виллани сообщают, что во флорентийском баптистерии ежегодно крестили по 5800–6000 младенцев. На каждого мальчика священник откладывал по черной фасолине, на девочку – по белой; в конце года черных оказывалось всегда на 300–500 больше. С неожиданной стороны об этом демографическом взрыве упоминает Петрарка. Около 1350 он отговаривает своего друга Дзаноби да Страда от карьеры наставника грамматических наук во Флоренции: «Ты увяз в настолько же бесконечном, насколько нудном занятии; ведь когда обучишь одних учеников, появятся другие, и конца тому не будет, особенно в нашем городе, невероятно плодящем детей всякого рода и состояния, причем больше мальчишек, словно они рождаются из камней, пней или ветра или словно это не итальянцы, а мирмидонцы» (Книга о делах повседневных XII 3). Население Флоренции между 1200 и 1330 годами увеличилось примерно с 10 до 90 тысяч.
Такой рост населения не мог не быть связан с надеждами граждан на будущее и на участие в его строительстве. Городские свободы позволяли стремиться и к самостоятельности, и к сотрудничеству. При изобретательности и динамизме населения постоянное политическое изменение делалось нормой. Флоренция, по выражению Данте, ворочалась как больной в постели, примеряя на себя новые конституции иногда по нескольку раз в год. Во всяком случае, податливость строя на целенаправленные усилия казалась очевидной; ясно ощущалась возможность повлиять на город словом, примером и делом. Так, в 1357 монах Якопо Буссолари проповедью настроил граждан Павии против ее синьоров Беккариа, и те бежали. Еще в конце XV века, на излете свободных городов, Джироламо Савонарола только силой слова учредил и более трех лет поддерживал во Флоренции уникальный государственный строй, при котором общество в узаконенном порядке стремилось руководствоваться религиозным чувством, голосом совести и нравственным долгом.
Слабость сословных перегородок и сила свободного горожанина взаимно обусловливали друг друга. Буркхардт говорит, в частности о «демократизации войны» у итальянцев тех веков; инженер, литеец, артиллерист, оплачиваемый солдат составляли промышленное предприятие своего рода, где было не до выяснения степени родовитости. Если во Флоренции XIV века, как жалуется виднейший писатель того времени Франко Саккетти, все поголовно стремились получить рыцарское достоинство, то это говорит не о важности сословных перегородок, а наоборот о размытости аристократического института. На праздниках тогдашние итальянские аристократы бегали взапуски на приз наравне с крестьянами, что трудно представить в остальной Европе той же эпохи. Благороднейшее завещание Ренессанса Буркхардт видит в том, что «здесь впервые узнали всего человека и человечество в их глубочайшей сути», и сословные разделения людей померкли. В женщине тоже видели свободное лицо, и если новоклассическая культура ценилась как высшее богатство, то ее давали и девушке. В общении между полами царило «не внешнее женопочитание, т. е. респект перед определенными условностями, интуициями, тайнами, но сознание власти красоты и опасности ее судьбоносного присутствия[197].
Подвижность общества сочеталась со свободой образов жизни. Было возможно появление таких антиков как Никколо Никколи. Один из создателей ренессансно-гуманистического рукописного почерка, он сам себя сделал иконой античности, до смертного часа соблюдая классическую позу в образе жизни, манерах, застольном обычае. Или как Помпонио Лето, который ходил в удивительном костюме и возделывал посреди Рима огород по правилам Катона, Варрона и Колумеллы. Каждый горожанин в одежде, манере смел быть не как все. Не один Петрарка придумал себе «костюм… исключительный в своем роде», которым ему «было приятно в свое время выделяться среди равных, без ущерба для приличия и с сохранением благопристойности» (Книга о делах повседневных XIII 8). Во Флоренции XIV века не было единой моды на одежду и по мнению Буркхардта изяществом и удобством итальянская одежда превосходила тогда всё, что было известно в остальной Европе.
Крестьянин, впервые попав во Флоренцию, немел от вида города и горожан. Итальянские города-государства жили напоказ, гласно, красуясь своими церквями, дворцами, гордясь своими рынками и своими оригиналами. Когда Данте нужно обличить глупость думающих, будто знатность идет от известности, он обращает внимание на общеизвестное: в таком случае «шпиль Святого Петра был бы самым благородным камнем в мире; и Асденте, пармский сапожник, был бы благороднее чем любой тамошний горожанин; и Альбуино делла Скала был бы благородней чем Гвидо да Кастелло из Реджо» (Пир IV 16, 6). Эти люди, как между прочим и сам Данте, на которого показывали на улице пальцем, при жизни стали мифом.
Данте просто не мог бы ввести столько современников в свою поэму, если бы их имена не стали нарицательными, если бы они не открыли свои лица на виду у всех как в добре, так и в зле. Наблюдение распахнутой человеческой натуры давало уникальный материал художнику, а общее внимание к мастеру в свою очередь поощряло его к усилиям. Целый город сбежался, сообщает хронист Дж. Вазари, чтобы посмотреть новую доску Чимабуэ, и район, где она была выставлена, назвали Веселым предместьем. Поэт Данте заседал в правительстве и, по Боккаччо, вся Флоренция ждала его советов.
Пока для каждого города сохранялась реальная возможность смены строя, синьории были вынуждены терпеть конкуренцию республиканских коммун. Всем волей-неволей приходилось заботиться о соблюдении гласности, права, конституции. С конца XIII века республиканское возмущение деспотией стало большой силой. «Во владении тирана жить заставишь лишь барана», рифмовал Франческа да Барберино в 1314 году (Documenti d’amore II 219). Петрарку его почитатели забросали упреками, когда он поселился у миланских деспотов Висконти. Мистическое благоговение перед поэтом не помешало тридцативосьмилетнему Колуччо Салутати отчитать старика за визит к Галеаццо Висконти, блеснув республиканской риторикой: «И хотя в палатах твоего Галеация… ты видел пышность и великолепие и, наверное, в безмятежных раздумьях наблюдал громадность дворца, красоту укромных уголков, роскошь лож, блеск покоев, царственный облик всего здания, изысканность яств и изящество одежд, но если бы ты вспомнил, что это богатство скоплено на грабеже народов, отнято у несчастных, ты проклял бы всё в безмолвном ужасе» (Письма II 16).
Чтобы продержаться при таком общественном мнении, синьория должна была показать реальное преимущества перед коммуной. Коммуна оставалась политическим вулканом. Партийные раздоры, смены правления, перераспределение должностей, отчеты выборных органов, высылки ежедневно тревожили умы. Демократические города кипели, все силы поглощала злоба дня, мастерам, художникам не хватало мирного досуга. Слишком тревожной становилась жизнь среди неугасающих политических страстей, когда то и дело надо было перед кем-то отчитываться или выступать в чью-то защиту. Петрарка писал в 1366 во Флоренцию к Боккаччо, страдавшему от необеспеченности своего положения: «Телом и в других внешних вещах приходится подчиняться более сильным, будь то одному, как делаю я, будь то многим, как делаешь ты, – и не знаю, какой род ига назвать более тяжким и мучительным; думаю, легче терпеть одного человека тираном чем целый народ» (Старческие письма IV 2).
Не только монархисты Данте и Петрарка, но многие принципиальные республиканцы не выдерживали политической лихорадки. Даже Боккаччо тосковал во Флоренции по Неаполю короля Роберта. Ренессанс ассоциируется с городским республиканством, но фактически его главные творения создавались в тиши светских или духовных дворов. Не случайно наследственная власть иногда называлась «постоянным правлением». Коммуны могли только мечтать о таком постоянстве. В Общественном дворце Сиены ок. 1340 года Амброджо Лоренцетти и Таддео ди Бартола написали по заказу коммуны фрески, изображавшие избрание гражданами Общего Блага в качестве своего синьора. Это не помешало городу в мятежный 1368 год четыре раза поменять конституцию. Политические бури продолжались тут два века. Между 1525 и 1552 годами Сиена 10 раз изменила структуру правления.
Города с единоличным правлением не меньше коммун покровительствовали искусствам. Подхватывали стихотворную строку, ценили художников, ловили культурные новости одинаково в республиканской Флоренции, оплатившей первые кафедры греческой словесности и толкования Данте, в деспотическом Милане, приютившем при Висконти Петрарку, а при Сфорца – Леонардо да Винчи, и в экономной Венеции, заплатившей поэту Якопо Саннадзаро 600 дукатов гонорара за прославлявшую ее эпиграмму из трех дистихов. Условия для творческого подъема создавала не только свобода как таковая и даже не столько она, сколько ощущение ковкости политического организма, его отзывчивости на слово и на художественный образ и сознание его почти неограниченных возможностей при условии всеобщего согласия, а эти черты были в большей или меньшей мере присущи разным частям тогдашней Италии.
Само собой напрашивается сравнение городов Италии XIII–XVI веков с античными полисами VIII–IV веков до н. э., т. е. за два тысячелетия до того. Мнение о якобы малочисленности, семейственности как отличительной черте древнего полиса навеяно больше мечтательными проектами античных философов или политиков; реально население Афин в V–IV веках было примерно такое же, как во Флоренции или Новгороде XIV–XV веков. Полис так же раздирался внутренней динамикой. Параллели между античными и ренессансными городами охватывают характер развития политики, экономики, культуры и доходят до деталей становления, расцвета и упадочного смешения художественных стилей.
В античном полисе важной частью политического воспитания народа была апелляция к древности, добродетельным нравам предков, «гражданствованию отцов». Политическое строительство в европейских городах тоже шло под знаком древнего Рима. Уже ок. 1130 в исторической поэме, прославляющей Балеарскую кампанию Пизы (Liber Maiorichinus), итальянские победы сравнивались с римскими. В одной французской популярной истории XIII века поздняя Римская республика названа коммуной (coumun)[198]. Если даже французские города примерялись к модели Рима, то итальянские тем более считали себя его прямыми продолжателями, особенно Флоренция, малый Рим (piccola Roma) или, как ее называл Данте, «прекраснейшая и славнейшая дочь Рима» (Пир 13, 4), отчасти Милан (древний Медиоланум).
Флорентийская «Хроника основания государства» пишет об основании города Римом. Джованни Виллани в продолжении к ней пишет, что после нашествий варваров «новые римляне» (Карл Великий) обновили Флоренцию, даровав ей свободы и республиканскую конституцию; император постановил «городу гражданствовать и управляться по образцу Рима, то есть двумя консулами и советом из ста сенаторов» (Chronica de origine civitatis III 3; VIII 36). По Маттео Виллани, Флоренция, Перуджа и Сиена «соблюли вольность и свободу, доставшуюся им от древнего римского народа» (Хроника III 1). По Георгию Трапезундскому, переводчику платоновских Законов, «первые основатели венецианской свободы… переняли от Платона начатки построения государства»[199]. В «Похвальном слове городу Флоренции» Леонардо Бруни, уже по-ученому дифференцируя историю Рима, утверждает, что Флоренция ответвилась (deducta est) во время максимального процветания римского народа, когда «была в силе чистая и ненадломленная вольность» и по этой причине флорентийцы «более всех наслаждаются свободой и чрезвычайно враждебны к тиранам». Но гораздо чаще республиканский и императорский Рим сливались в единый образ славы и величия, как например в риторике «Освободителя Города» Кола ди Риенцо, Николая Лаврентия (ок. 1313–1354), который видел Рим в ореоле вергилиевского эпоса и пророчеств Иоахима Флорского и звал «римский народ» воспрянуть после «темных веков» унижения.
Перекличка в политических сочинениях Ренессанса примеров государственной жизни античности, минуя Средние века, с примерами из современности, которая для Макиавелли и многих других ренессансных историков начинается в XIII веке, создает стойкое впечатление, что история итальянских городов-государств также и в их собственном самоощущении была продолжением истории древних полисов с промежутком в полтора тысячелетия. Хотя все подобные свидетельства той эпохи можно понимать и просто в смысле обретения идеального родства, намеренного насаждения политических и юридических традиций античности, существует мнение об итальянском Ренессансе как прямом продукте той же самой национальной почвы, которая произвела на свет классическую древность. По Буркхардту, итальянцы всегда оставались «полуантичным народом», обладателями «античного чувства жизни», так что Ренессанс был не только возрождением, но и возобновлением античности, и недаром в его поэзии «удивительным образом всё еще слышится звон бесконечно древних струн»[200]. «Итальянская культура золотой поры (13-14 веков) была отчасти органическим продолжением римской, народным развитием ее начал»[201].
Однако в том что касается расцвета городов Ренессанс был скорее оживлением не специфически национальной, а общечеловеческой расположенности к свободному гражданствованию. Вольные города существовали не только в Италии. Да и в Италии республиканский конституционализм с его идеей справедливого согласного устроения показал огромную живучесть сам по себе, независимо от конъюнктуры эпохи. Медичи, покровители искусств и наук, казалось бы, умело и мягко приучили Флоренцию к олигархическому правлению, но коллективные обсуждения городских дел – дебаты в совещательных комиссиях (pratiche), замененные было олигархическим Советом семидесяти, в 1495–1512, после изгнания Медичи, снова определяли флорентийскую политику. Для выкорчевывания духа вольного города потребовался физический разгром Флоренции, подобно тому как для происходившего примерно в те же десятилетия смирения Господина Великого Новгорода и Пскова понадобилось уничтожение и переселение десятков тысяч людей.
В XIII веке с переводом и комментированием аристотелевской «Политики» в Европе возродилась политическая философия. В XII веке для Иоанна Солсберийского общество – это пока еще прежде всего сословия: земледельцы, ремесленники, торговцы, придворные, ученые. Историк и философ истории Оттон Фрейзингенский (ок. 1114–1158) с недоуменным сожалением упоминает о существовании немногих городов, не подчиняющихся своим законным наследным господам. Но Фома Аквинский во второй половине XIII века уже находит возможным рассмотреть в свете комментируемого им Аристотеля также и современность: «…если мы пристально рассмотрим события прошлого, а также то, что происходит теперь…» (De regimine principum I 5). Толомео да Лукка, написавший продолжение (книги III и IV, ок. 1305) к процитированному трактату Фомы «О правлении государей», еще определеннее говорит, что если в аристотелевские времена гражданское правление (regimen politicum, полития) существовало в Афинах, то теперь оно существует «особенно в Италии» (IV 1, 8). Толомео объяснял это по-аристотелевски характером народа: итальянцы «мужественны духом, дерзновенны сердцем и полагаются на собственный разум, так что единовластие здесь можно было бы установить только тираническим путем». По Виллани и Макиавелли, добродетелью граждан в аристотелевском смысле разумной и волевой энергии объяснялись не только политические свободы, но даже и художественное первенство Флоренции; причина в силе натуры, а не в какой-то особенной талантливости флорентийцев.
Свежесть политической мысли Фомы Аквинского производит на некоторых исследователей такое впечатление, что они называют новообретенный интерес к человеку как гражданину политическим гуманизмом и проторенессансом: «после столетий спячки неподдельный, естественный человек обрел наконец должное место в космологическом порядке»[202]. Но еще гораздо раньше Фомы, с XI, если не с IX века римское право, как, впрочем, и филология, «гуманизм», культивировались при дворе «царя римлян», императора Священной империи; а в составе канонического права они еще раньше существовали при римской курии. Другое дело, что все земное гражданствование человека было разграфлено по надлежащим статьям мирового порядка вещей и встроено в сакральную картину мира. Оттон Фрейзингенский в XII веке признает автономность человека, но лишь в его внутримировом статусе как мирской личности, persona mundialis, со своей индивидуальной субстанцией, individua substantia, которая, как это неизбежно в Средние века, не вполне неделима, но состоит из человечности, humanitas, и из причастной к ней животности, animalitas, при том что, конечно, тот же человек существует как верующая душа также еще и вне мира, где осуществляет свое духовное гражданствование.
В политической науке Фомы Аквинского аристотелизм тоже еще не вышел из средневекового русла распределения человеческого существа по его разнообразным функциям. Фома допускал и предписывал, чтобы естественный человек, homo naturalis, отправлял свои функции разумного общественного животного в качестве гражданина, хотя предпочтительнее – в качестве подданного монархии, ибо utilius multitudinem hominum simul viventium regi per unumquam per plures, на том основании, что omne naturale regimen ab uno est, откуда с необходимостью следует, что in humana multitudinem optimum sit, quod per unum regatur[203]. Все тезисы, вплоть до монархии (единодержавия) как лучшего строя, аутентично аристотелевские, но деятельным началом в этой философии политики остается не гражданин и не город, а божественный вселенский порядок. Фома лишь зафиксировал право естественного человека существовать в качестве гражданина внутри этого универсального порядка бок о бок с благодатным возрожденным человеком и с жителем небесного града. Отсюда еще далеко до ощущения свободной ответственности строителя истории.
По-настоящему аристотелевская мысль победила позднее и иначе. Политика у Аристотеля основана на этике, наука этика бессмысленна без практики (поступка), нравственная практика есть добродетель, высшая добродетель (софия) собирает все силы и способности человека в согласное целое. Их развертывание из этого целого есть достижимая человеческим усилием эвдемония (счастье), достижение хотя бы одним человеком счастливого деятельного единства – первый шаг к прекрасной и высшей цели, такому же счастью народа и полиса (Никомахова этика, начало и др.). Поэтому враг схоластического аристотелизма Петрарка ближе к подлинному Аристотелю, когда как от глупого ребячества отмахивается от диалектических ухищрений логиков и называет практическую этику главной частью философии: «Ведь если сперва не придут в согласие наши порывы, чего никому никогда не достичь без приобщения к мудрости, из-за разлада стремлений с необходимостью окажутся в разладе и нравы, и слова» (Книга о делах повседневных I 7; 9). К чему разговоры о государстве, когда сначала нет просто самого человека.
Порыв к самоосуществлению не мог идти в колее чужих формулировок. Брунетто Латини – учитель Данте, «отесавший флорентийцев… научивший их красно говорить и управлять республикой согласно законам политики» (Джованни Виллани, Хроника VIII 10), – излагая по вто ричным источникам этику и политику Аристотеля, подправляет его: «Третий строй – коммуна, и он лучше всех остальных»[204]. Номинально отступая от Аристотеля, Латини со своей «коммуной» следует ему вернее Фомы Аквинского, потому что желанная Аристотелю монархия (единая власть) на деле осуществляется только через политию, невозможна иначе как решением политии, стоящей на согласии вольных граждан. Когда дело доходило до дела, люди смотрели всё-таки не на текст, а на порядок вещей, и, отходя от буквы Аристотеля, угадывали его мысль вернее самых корректных толкователей.
Уважая общепринятое словоупотребление, Аристотель лишь в принципиально важных для него контекстах осторожно перетолковывает аристократию в смысле власти лучшей части души над человеком и власти наиболее добродетельных людей над городом. Для ренессансных итальянцев это пробивающее себе путь понимание благородства как добродетели, а не как родовитости, становится уже аксиомой. «Не надо верить, будто достоинство можно наследовать, если добродетель не придаст сердцу благородства». Почти буквально повторяя эти слова Гвиницелли, Данте заключает: «Не род делает отдельных личностей благородными, а отдельные личности делают благородным род» (Пир IV 20, 5). По Боккаччо, который обычно доводит тезисы своих учителей Данте и Петрарки до популярной ясности, «у каждого из нас плоть – от единой массы плоти, и один и тот же создатель, сотворив души, дал им одинаковую силу, одинаковые способности, одинаковые достоинства. Все мы родились и по сей день рождаемся равными, и первое различие между нами провела добродетель; кто ее имел и проявлял больше других, тех назвали благородными, а прочие остались неблагородными. И хотя этот закон потом затмился от противоположного обычая, однако природа и добрые нравы его не изменили и не нарушили, а потому человек, поступающий добродетельно, ясно показывает этим, что благороден, и если кто обзовет его иначе, не обозванный, а обозвавший совершает проступок» (Декамерон IV 1). Никколо Никколи в диалоге Поджо Браччолини «О благородстве» (1440) объясняет Лоренцо Медичи, брату Козимо Медичи, что, говоря о наследственной аристократии, Аристотель платит дань представлениям толпы, по-настоящему же считает благородством деятельное стремление к истинному благу. Медичи возражает, что сам корень употребляемого Аристотелем слова εὐγέωεια говорит о происхождении из хорошего рода. Что ж, заключает Никколи, в таком случае точнее латинское слово nobilitas, ставящее благородство в зависимость от славных дел. Никколи, возможно, следовал в понимании этого слова за Данте, производившим его от non vile, «не низменный» (Пир IV 16, 6).
Античный полис врастал корнями в жизнь рода, в обычай. Ренессансный город не только политическую, но даже домашнюю и семейную жизнь в большей мере стремился «сознательно построить… как произведение искусства»[205]. Он поэтому в еще большей мере чем античный стал почвой для идей, далеко выходящих за стены этих городов и интересов их самосохранения. Два города, больше других сосредоточенные на себе, занятая внутренней борьбой Генуя и изоляционистская Венеция, как раз меньше других участвовали в Ренессансе, по крайней мере до XVI века. Первенство Флоренции обеспечивают главным образом литераторы и художники, историки, гласность ее политики; ее экономика и особенно флот в первой половине XV века слабее венецианских. Мыслители, писатели, художники, ученые при всей любви к отечеству служат человечеству. Для многих Флоренция имеет живое влекущее лицо. Но именно поэтому не самосохранение оказывается единственной целью.
Флоренция стала, по выражению Буркхардта, мастерской, где отыскивались новые способы человеческого бытия. Здесь в XV веке возникает впервые статистика населения, строительства, промышленности, ремесел, торговли, банковского дела и даже искусств. Еще в первой половине XIV века торговец зерном Доменика Ленци (ок. 1305–1348), самоучка, читавший Данте, вел дневник флорентийского рынка Орсанмикеле, рядом с экономическими, нравственными, политическими наблюдениями, стихами и вставными миниатюрами приводя статистику цен на разные виды зерновых с июня 1320 по ноябрь 1335. Средневековой городской коммуне такая статистика была не нужна, поскольку имелись более непосредственные, безотчетные способы чувствовать пульс общества и инстинктивно реагировать на его изменения. Статистика во Флоренции развивается как прием упорядоченного расположения фактов вещественной стороны жизни в едином «математизированном» пространстве. Для этого требовался свободный и ищущий взгляд на себя со стороны.
В предисловии к «Истории Флоренции» Макиавелли обещает в отличие от прежних историков описывать «примечательные раздоры», которых Флоренция «породила множество». Как напоказ, она перепробовала все формы правления: аристократию гибеллинов в середине XIII века, тиранию герцога Готье де Бриенна в 1326–1327, полную, частичную и мнимую демократию, олигархию дома Медичи, теократию в 1494–1498, наконец наследственное герцогство с 1537. Город стремился к чему-то за пределами своего частного устроения. Он не берег себя. История самостоятельного флорентийского государства была одним ярким пожаром.
Последние годы флорентийской свободы подробно описаны выдающимися историками начала XVI века. Гвиччардини в «Истории Италии» называет дураками флорентийских республиканцев, спровоцировавших осаду города в 1529–1530, когда погибли и разорились тысячи граждан, были разрушены знаменитые пригороды с их дворцами и садами. Но в таком самоубийственном поведении была другая логика за пределами самосохранения. Город доигрывал до конца драму своей истории, живя идеей и легендой, а не соблюдением частного интереса. Тот же Гвиччардини, который круто расправился с республиканцами, когда папа Клемент VII поручил ему провести реформы в покоренной Флоренции, в «Памятках» (1) с невольным уважением пишет о знаменитой осаде: «То, о чем говорят духовные лица, что имеющий веру совершает великие дела и, как говорит Евангелие, имеющий веру может повелеть горе и т. д., происходит от присущего вере упорства… В наши дни величайшим примерам тому служит упорство флорентийцев, которые, вопреки всякому мирскому благоразумию, навлекши на себя войну папы и императора, без надежды на чью-либо чужую помощь, имея внутренние разногласия и тысячу всевозможных трудностей, вот уже в течение семи месяцев сдерживают у самых своих стен войска, при том что никто не поверил бы раньше в их способность сдержать такую армию хотя бы в течение семи дней, и довели дело до того, что если они победят, никто уже этому не удивится, хотя раньше все считали их погибшими; и это упорство вызвано в большой части верой в то, что Флоренция, согласно предсказанию фра Иеронимо из Феррары, не может погибнуть»[206].
В важном смысле Флоренция и не погибла. К концу XVI века в Европе стало доминировать национальное монархическое государство новоевропейского типа, чрезвычайно стабильное, структурно и идеологически ориентированное на собственное упрочение. Италия оказалась неспособна или не расположена создать свою абсолютистскую монархию с мощным военным, полицейским, административным и бюрократическим аппаратом. Но итальянские ренессансные города до сих пор мстят своим покорителям Фердинанду Католику, Карлу V и Филиппу II тем, что история этих городов и профессионально, и по-человечески привлекает несравнимо большее число исследователей, чем архивы великих завоевателей.
Раскрытие человека, природы и мира
Мощь испанских конкистадоров питалась идеологией защиты религиозной чистоты от всяческих веяний крамолы. Ренессансное настроение от самых его истоков, наоборот, словно органически лишено подозрительной настороженности к вредоносным духовным началам. Мир, природа, общество для него естественны и не демоничны, часто несовершенны, но не отравлены. По П. А. Флоренскому, ненавистнику Ренессанса, тлетворным запахом «возрождения-вырождения» – дружелюбной открытости ко всему – впервые повеяло от «Цветочков», собрания легенд о Франциске Ассизском. Приветствие Франциска всем вещам мира, от «брата Солнца» до «сестры Смерти», имело прямое продолжение у итальянских поэтов XIII XIV веков с их доверием к природе.
Согласно раннехристианскому писателю Квинту Тертуллиану, во времена Моисеева закона и пророков человечество переживало свое детство, время возвещения Евангелия было его юностью, а грядущее время полноты действия Святого Духа станет его зрелым возрастом. Старший современник Франциска Иоахим Флорский (1132-1202) делил историю человечества на три аналогичных эры с той знаменательной разницей, что плодом зрелости в ожидаемый примерно к 1260 году век «откровения Духа» должно было стать, по учению Иоахима, снова просветленное детство: мудрая простота поселит в мире дух кроткой любви всех ко всем и ко всему, жесткая власть Рима уступит место ненасильственному авторитету бескорыстных христианских аскетов. Грозному земному граду с его неискоренимым нечестием, жуткими ересями, требовавшими, по средневековым представлениям, неусыпной бдительности, предренессансные мистико-поэтические прозрения противопоставили только любящую мудрость. В легендах о Франциске рассказывалось, что он был до легкомыслия бесстрашен перед дикими зверьми. С таким же безмятежным доверием к людям он безоружный ехал на Восток обращать мусульман. Интересным более поздним проявлением этой обнадеженной ренессансной открытости к иноверцам и еретикам можно считать написанный сразу после турецкого разгрома Константинополя в 1453 трактат Николая Кузанского «О мире веры». Здесь с научным идеологически-социологическим исследованием мировых религий соседствует всё та же простодушная надежда на примирение всех людей.
Зарождавшаяся ренессансная культура с самого начала доверчиво склонилась к природе и миру. Новое отношение к миру отозвалось в переходе ученой философской поэзии на народный язык. «Материнский язык» поэзии, сам поэт, даже его Дама не обязательно должны были быть аристократического происхождения. В любом случае любовь как солнце выжигала в охваченном ею и уже по одной этой причине благородном сердце грязь и сырость, придавая ему добротность драгоценного камня. Гвидо Гвиницелли, основатель dolce stil nuovo флорентийской поэзии, одним из первых вводит «великое понятие vertude, добродетели, – особого рода богини, которой суждено приобрести величайшее значение в XIV и XV веках»[207]. Пока в сердце «как свеча на возвышении подсвечника» горит любовь, завороженный ею человек видит в мире одну лишь дружественную красоту. «Солнечная добродетель» Прекрасной Дамы имеет и более великое «достоинство»: просвеченный ее лучами человек может не опасаться даже сам себя и того зла, которое гнездится в человеческом сердце. «Приблизиться не может недостойный. Но есть в ней всё ж и выше добродетель: прочь гонит вид ее дурные мысли» (сонет Гвидо Гвиницелли l’vo del ver la mia donna laudare).
Красота Прекрасной Дамы имеет власть «обновлять естество в том, кто на нее взирает», пишет Данте (Пир III 8, 20). «Хочу пояснить, что совершало со мной добродетельное (vertuosamente) действие ее привета. А именно, когда она появлялась откуда-либо, через надежду на ее дивное приветствие ни одного врага у меня не оставалось, но меня захватывало пламя любви, заставлявшее прощать всякого, кто меня задел; и если бы кто меня тогда спросил о чем бы то ни было, я с облеченным в смирение взором ответил бы только: Любовь…» (Новая жизнь XI 1).
По Франческа Де Санктису, dolce stil nuovo не в большей мере поэзия чем искусство жизни и философская наука. Природа открывает этой поэтической науке или научной поэзии черты живого создания. В Прекрасной Даме просвечивают космические дали, таится весь мир и во всяком случае душа мира. И наоборот, мир понимается как зеркало человеческой души или ее история. «Сколько ни гляжу я На пестрый мир упорным, долгим взглядом, Лишь Донну вижу, светлый лик ее» (Петрарка, Книга песен 127, 12–14). Леон Баттиста Альберти, один из тех талантов Возрождения, чьей разносторонности ставила предел только ограниченность человеческой жизни, экстатически переживал слияние с природой, плакал от умиления и укоров совести при виде пышных деревьев и колосящихся нив, в болезни выздоравливал, если ему удавалось оказаться среди прекрасного пейзажа.
Навык энтузиазма и опрощения, сведения всей жизни духа к одному простому порыву, делали человека легким на подъем. Достаточно было желания или намека Дамы, чтобы поэт сменил весь образ своей жизни. Инерции быта словно не существовало. Как и в поэзии Гвиницелли, «в мире Петрарки правит добродетель… призванная вывести человека из любой тесноты силой подвижности духа или какой-то безотчетной, льнущей ко всему миру способности бесконечного приспособления»[208]. В жизни Петрарки было, возможно, больше тягостной внутренней борьбы чем он сам пожелал нам сообщить, но важно то, что для себя он считал нормой безусловную готовность следовать добродетели. «Отлагательство… прекрасного дела позорно, равно как долгое обдумывание благородного поступка неблагородно: лови случай и немедленно делай то, что не бывает преждевременным» (Книга о делах повседневных I 2). В компании рассказчиц и рассказчиков «Декамерона» каждый наделен у Боккаччо своими чертами, наклонностями, поведением, стилем, но все с грациозной легкостью подчиняются уставу общины и велениям ежедневно избираемых короля или королевы.
Популяризатор Данте и Петрарки, Боккаччо изложил в мифе-архетипе ренессансную философию разбуженного любовью человека. Рослый и красивый, но слабоумный юноша Чимоне, вопреки всем поощрениям или побоям учителей и отца, не усвоил ни грамоты, ни правил поведения, и грубый, дикий бродил с дубиной в руке по лесам и полям. Как-то цветущим маем на лесной поляне у студеного ключа он увидел спящую на траве в полуденный час девушку редкой красоты, едва прикрытую легкой одеждой. Чимоне уставился на нее, и в грубой голове, неприступной для наук, проснулась мысль, что перед ним, пожалуй, самая красивая вещь, какую можно видеть на свете, или божество из тех, кого, он слышал, надо чтить. Чимоне не мог оторвать глаз от девушки всё время, пока она спала, потом увязался идти за ней, а когда догадался, что в общении с ней ему мешает собственная неотесанность, то весь сразу переменился. Ему захотелось жить в городе, учиться, он узнал, как прилично вести себя достойному человеку, особенно влюбленному, и в короткое время научился не только грамоте, но и философскому рассуждению, пению, игре на инструментах, верховой езде, воинским упражнениям. Через четыре года это был человек, который к своей прежней дикой природной силе, ничуть не угасшей, присоединил добрый нрав, изящное поведение, знания, умения, привычку к неутомимой изобретательной деятельности. Что же произошло, спрашивает Боккаччо. «Высокие добродетели, вдунутые небом в достойную душу при ее создании, завистливой Фортуной были крепчайшими узами скованы и заточены в малой частице его сердца, и расковала и выпустила их Любовь, которая гораздо могущественнее Фортуны; пробудительница спящих умов, она своей властью извлекла омраченные жестокой тьмой способности на явный свет, открыто показав, из каких бездн она спасает покорившиеся ей души и куда их ведет своими лучами» (Декамерон V 1). И наоборот: согласно тому же основному ренессансному мифу, изложенному у Боккаччо с наглядностью и доходчивостью по-разному в разных местах «Декамерона», без любви или, точнее, влюбленности «ни один смертный не может иметь в себе никакой добродетели или блага» (IV 4).
Человеческое существо свелось в философско-поэтической антропологии к немногим простым чертам: самозабвенная любовь, неустанная деятельность прежде всего высших способностей души, мудрая внимательность к миру («стремленье пылкое мир опытом познать» Данте). Главным инструментом познания оставалась симпатия – сочувствие, способное спаять всё со всем и в конечном итоге, по формуле Мишеля Фуко, «свести весь мир к единственной точке, к однородной слитности, к образу нераздельного Тожества»[209].
Опрощение человека, сведенного к тем же главным стихиям, которые поэтическая наука видела в основе вселенной («любовь, что движет Солнце и светила», сила, терпение), открывало перед ним природу и мир как сродное ему. Этим открывался и путь к его собственному осуществлению и счастью. Когда Данте сообщает меценату Кангранде делла Скала, что назначение его большой поэмы не меньше чем «вывести живущих в этой жизни из состояния убожества и привести к состоянию счастья» (Письма XIII 15, 39), то это не самореклама, не утопия забывшегося мечтателя, а речи трезвого аристотелика, который знает от своего учителя, что «блаженство деятельной жизни» возможно для смертного; что оно создается согласным и совершенным (добродетельным) действованием (энергией) высших, а за ними всех человеческих сил; что, затеплившись в одном человеке, такое горение способно зажечь других; что всего шире заражение добродетелью действует через слово (Пир II 4, 10; III 15, 12). И независимо от Аристотеля ренессансная мысль здесь едина, так что в продолжение и пояснение к Данте можно читать Петрарку, который писал около 1340: «Сколько людей… в наш век, словно проснувшись, от позорнейшего образа жизни внезапно обратились к высшему благоразумию единственно благодаря силе чужого слова!» (Книга о делах повседневных I 9, 6).
Счастье деятельного осуществления, понятое не как мечта и даже не как реальная возможность, а как высокий долг, ставило человека с самого начала в проясненное отношение к миру. Далеко еще не познанный, даже еще больше тонущий в тайне, он однако заранее имел для философской поэзии светлый облик с прекрасными женственными очертаниями. Человек со щедростью, какую дает счастье, допускал мир, давал ему быть как он есть. Эта исходная законченность мироотношения не противоречила, а наоборот способствовала растущему вдумыванию и вчувствованию во всё. По Аристотелю, у которого и непосредственно, и через схоластику училась эта поэзия, высшие духовные энергии человека всего надежнее обеспечивают ему эвдемонию потому, что в отличие от практики любого другого рода способны наполнить собой всю жизнь. И эта энергия высших умных и волевых способностей, захватывающая всю жизнь, согласна с тем, что мир с самого начала в момент счастливой полноты уже освоен в целом и человек как бы заранее посвящен в его смысл и в свое назначение.
Таким чувством заведомой раскрытости бесконечного мира рожден в «Монархии» Данте проект будущего человечества, сокращающего свое вмешательство в вещественное устройство мира и развертывающего возможности сердца и ума.
Схоластическая мысль тоже по-своему охватывала мир в целом. Как бы ни строилась система теолога, в представлениях средневековья ей должно было предшествовать мгновенное мистическое озарение, вдруг освещающее тайны мира и лишь позднее раскрывающееся в упорядоченной речи. Жюль Мишле за «торжественным и жутким» лицом Средневековья угадывал вспышки «благодатной любви», стирающей любые условные разграничения. Эту стихийную радость, почву средневековой мистики, связывают с древним дионисийством кельтов и иберов[210]. Однако чем невыразимее было первое прозрение, тем рассудочнее и суше оказывались силлогизмы средневековой доктрины. Чем непосредственнее в мистический миг угадывалась несказанная суть вещей, тем неподобнее ей, до нарочитого юродства, подбирались говорящие о ней слова. Со времен неоплатоников и Дионисия Ареопагита считалось, что истина всё равно невыразима и вызывающая иносказательность лучше наведет на ее след чем прямое именование. Гуго Сен-Викторский комментирует «Небесную иерархию» Дионисия Ареопагита: «Когда Бог восславляется через прекрасные формы, он восславляется по образу мира сего… Когда же он восславляется через неподобные и чуждые ему формы (formationes), то он восславляется превыше мира сего, ибо тогда подразумевается, что он и не равен, и не соразмерен, а запределен всему тому, посредством чего его восхваляют… Следовательно, всякая фигура являет истину тем очевиднее, чем открытее свидетельствует о себе через неподобность уподобления, что она фигура, а не истина. И неподобные уподобления успешнее возводят наш дух к истине, ибо не дают ему остаться при простом подобии… Неподобное уподобление не дает… телесному чувству, льнущему ко всему вещественному, успокоиться… на низменных образах… думая лишь о них и принимая их как бы за всю полноту истины, не разрешает остановиться на них и самою низменностью образов вынуждает выйти за их пределы в поисках иной, прекрасной истины»[211].
Аллегорическое прикосновение к истине оставляло ее нетронутым сокровищем. Речь лишь схематически очерчивала контуры вселенского порядка. Он представлялся непоколебимым и не нуждающимся в помощи и заботе человека. Ренессансное слово, наоборот, хочет уподобиться истине, которая без воплощения ощущается неполной. Поэтому ведущим стилем ренессансной мысли стала поэзия, а потом художества. Поэтическое слово чревато последствиями. Данте назвал слово «как бы семенем действия» (Пир IV 2, 2). С поэтического вчувствования началось необратимое взаимодействие между человеком и открытым миром.
В средневековой литературе при изобилии описаний техники (вещественной, например оружия, и умственной, молитвенной и интеллектуальной) очень мало картин природы. Человек настолько поглощен интеллектуальной дисциплиной, обороняя духовную крепость и приводя ее в согласие с идеальным космическим порядком, что доволен молчаливым согласием природы, замечает ее только когда она его тревожит (трус, глад, мор) и во всяком случае видит в ней лишь временный покров единственно значимых невидимых вещей. Наоборот, увиденные в лице Прекрасной Дамы, природа и мир привязывают к себе любящую мудрость не только своей красотой, но еще больше своей хрупкой беззащитностью. Им не меньше чем возлюбленной грозят болезни и смерть. Данте, метавшийся в бреду после смерти Беатриче, видел, что «солнце потемнело, так что проступили звезды, цвет которых заставлял меня думать, что они плачут; и казалось мне, что птицы, пролетая по воздуху, падают замертво и что происходят величайшие землетрясения». Он написал тогда государям земли не дошедшее до нас латинское послание о том, что город Флоренция с уходом Беатриче из мира остался нищей вдовой (Новая жизнь 23, 5; 30, 1).
Ввиду внутреннего единства поэтико-философской мысли толкователем обоих этих мест «Новой жизни» снова можно взять Петрарку. Он связывает явление донны Лауры, т. е. 1327–1348 годы, с таинственной историей мира, в котором именно в эти годы совершилось внятное лишь поэту откровение красоты, неведомой древним и неповторимой. Позднее в письме 1367 или 1368 года к Гвидо Сетте «Об изменении времен» (Старч. Х 2) Петрарка из своего жизненного опыта выводит, что «совершенно очевидное» ухудшение климата, природных условий, благосостояния народов не иллюзия стареющего наблюдателя. «Конечно, наши чувства и порывы изменились… но это изменение не имеет отношения к другому, и громадное колесо, запущенное сильным толчком, не замедлит своего вращения оттого, что по нему ползет меж тем ленивый муравей». Возможно, порча идет не от природы и мира самих по себе, а от людей, но это не меняет дела. «Конечно, многие причины изменений подобного рода заключены в самих людях, а копнуть поглубже, так даже и все, разве что одни явны, другие скрыты. Поистине только в людях вся причина зла, если любовь, истина, доверие, мир уходят из мира; если правят бессердечие, ложь, измена, раздор, война и буйствует весь круг земель». Мир – ломкая драгоценность, чьи душа и судьба сплетены с душой и судьбой человека.
Но если он пошатнулся, утратив равновесие, и природа страдает, то отойти в сторону неблагородно, оставаться равнодушным безнравственно. Уход от мира, казавшийся таким прекрасным поступком в ранние века христианства, для ренессансной философской поэзии потерял смысл. Интимность нового внимания ко всему предполагала заботу обо всём, от любящего принятия и жалости до тревоги и заступничества. Леонардо да Винчи, перенесший это мироощущение ранних философских поэтов в художественно-изобретательскую мысль, хотел направить мощь задуманной им техники на защиту Земли как одушевленной драгоценности, задетой недостойным ее человечеством.
Философия, в которой эти поэты ценили не погоню за знанием, а любящее применение мудрости (amoroso uso di sapienza), несла в себе, по парадоксальной формулировке Данте, ту несоразмерность (dismisuranza), что хотя обладание ею никогда не полно, она всегда в определенном смысле окончательна: «Достигшая или не достигшая совершенства, она имени совершенства не утрачивает» (Пир III 13,10; IV 13, 9). Благодаря ей никогда не прекращающий своих исканий разум с самого начала в какой-то мере прикасается к покою и счастью последнего достижения. Приводя эту мысль Данте, как она высказана в «Божественной Комедии», Гегель называет ее пока еще неопределенной, но внутренне полной уверенностью духа, «что он найдет себя в мире, что этот мир должен быть ему дружествен, что как Адам видит в Еве плоть от плоти своей, так он должен искать в мире разум от своего собственного разума»[212].
Сила мысли, заранее охватившей мир как дружественное целое, была в желании и умении с самого начала ощутить крайние пределы всякой области, на которой сосредоточивалось ее внимание, будь то история, земное пространство, государство, науки, искусства. Как мир в целом, так и его области заранее брались в их последней полноте.
Сама идея Возрождения не возникла бы без готовности помыслить человеческую историю как обозримое целое, умещающееся в своих существенных чертах между идеальными крайностями, ослепительным величием древности и мрачным упадком современности, в ярком окончательном свете близящегося конца мира. Эти пределы истории сознавались абсолютными и вместе с тем они были конкретны до осязаемости: древность – это высшее доступное человеку, в том числе современному, усилие добродетели; современность – такое же всегда доступное и страшное, едва избегаемое, полное падение.
Средневековье не располагало такими отчетливыми и всеобъемлющими рамками для земной истории. Младенчество человечества, время первого Адама, тонуло в мифической дымке. Философско-богословский тезис, по которому «Бог никогда не был без Своего мира», т. е. никогда не было такого времени, когда не было мира, хотя официально не утверждался, однако и не отвергался, делая начало мира еще более загадочным. Средневековое сознание раздваивалось между догматом о сравнительно недавнем сотворении мира и философемой его немыслимой древности, может быть, вечности. Ренессанс утратил интерес к этой неопределенности, собрав и библейское и всякое другое мыслимое прошлое в едином образе непревзойденной и подлежащей восстановлению добродетельной древности.
Подобно истории, под знаком предела было охвачено как целое и пространство. Цель Колумба была не открыть еще один материк, а именно охватить всю Землю кругом, двигаясь на запад к Китаю, который давно уже был достигнут итальянцами в движении на восток. Колумб сказал, что мир мал (il mondo росо!), думая, что он уже добрался до Индии, но за этой ошибкой стояла другая, доопытная и более весомая правда, ощущение мирового пространства как принципиально обозримого целого.
От описания отдельных местностей к проецированию единой картины мира космография (география) перешла раньше, еще в середине XV века. Друг гуманиста Энея Пикколомини, ставшего папой Пием II, его кардинал Николай Кузанский, сам, похоже, составивший карту Европы, писал в сжатом изложении философии: «Основатель мира – художник, и причина всего и, рассуждает космограф, относится изначально ко всему миру так же, как сам он, космограф, относится к карте. А из отношения карты к истинному миру, рассматривая умом истину в изображении, обозначенное в знаке, он созерцает в себе самом как космографе творца мира» (Компендий 7, 23). Мысль отталкивается от мирового целого и в нем находит себе центральную опору. Задолго до путешествий вокруг света ренессансные филологи и энциклопедисты создали своим глобализмом, по выражению Буркхардта, «литературную готовность» к великим географическим открытиям. Наоборот, в Средние века, когда география плавно переходила в мифологию, мировое пространство вовсе не из-за технической неоснащенности путешественников и исследователей, а в принципе и по определению оставалось необъятным.
Подобным же образом человеческое общество таило в себе для средневекового ума запредельные глубины, олицетворявшиеся в космических и священных образах императора, папы или в апокалиптических образах еретика, неверного. Наоборот, ренессансные теоретики и практики, задумавшие и пытавшиеся осуществить вселенские планы государственных и религиозных реформ, заранее воспринимали человеческое общество в целом как обозримый и послушный разуму организм.
Первое мысленное, почти мечтательное, но тем более счастливое вступление в обладание миром, понятым как почти домашнее, податливое целое, совершалось с легкостью, которая может показаться легкомыслием. Леон Баттиста Альберти перескакивал в своих занятиях от философии к математике, праву, политике, лирике, эротической поэзии, комедиографии, социологии (трактат «О семье»), нравственной философии, ваянию, живописи, теории искусства, археологии, архитектуре, ее теории, от нее опять к математике (трактат «Математические игры»), историографии, литературной пародии («Житие св. Петита»), снова к философии, к политической теории. Попутно он добивался и, по мнению современников, добился от себя совершенства в искусстве ходьбы, бега, верховой езды, в других телесных умениях. Человек торопился как можно полнее очертить и хотя бы вчерне разметить круг новых художественно-проникновенных взаимоотношений с миром. Их сложность и множество не оставляли пока места для тщательных разработок.
Реальное нелегкое овладение пространством и природой началось позже. В крылатой разносторонности ренессансных увлечений был далеко идущий и серьезный смысл. Подробное вхождение в конкретные проекты помешало бы полноте охвата мира. В трактате «Предположения» (1441–1444) Николая Кузанского почти игровая арифметическая символика, позволяющая набросать общую схему мироустройства, похожа на первые беглые наметки планировщика перед началом огромного предприятия. В трактате-диалоге «Об опытах с весами», написанном 13 и 14 сентября 1450, Николай строит совершенно фантастический для своего времени проект сплошного описания весовой и временной характеристики (изменение веса в ходе естественных и искусственных процессов) всех без исключения вещей и процессов в мире. Он понимает, что получившиеся в результате таких замеров таблицы «едва ли удалось бы записать и в огромной книге» и что «опытная наука требует пространности трудов», но ведет себя так, словно средства для решения неимоверных технических трудностей уже на подходе.
Мысль спешит освоить всё сущее, пусть пока в проекте. Она так увлечена свободой широкого полета, что довольствуется пока условным преодолением преград. Здесь, возможно, главная причина распространения магии в ренессансные века. Ее иногда считают пережитком средневековья, признаком восточных влияний, «темным ликом» Возрождения. Но главным образом к магии склоняло оправданное нежелание дожидаться, когда к передовой линии овладения миром, заведомо уже обеспеченного, подтянутся обозы материального обеспечения. Магия была по сути единственным способом сохранить темп движения мысли. За обращением к магии стояла уверенность, что победа упорному разумному усилию так или иначе уже обеспечена.
В облике итальянского Ренессанса вплоть до его конца тон задавал холерический темп комедии, а не важный ритм драмы. Не случайно при развитости ренессансной комедии более или менее самостоятельная трагедия в Италии появилась только в конце XVI века. По Буркхардту, воспевание в стихах любой распри или церемонии, шахматной игры, астрологии, лекарства от сифилиса показывает, насколько общественное настроение было далеко от тяжеловесной серьезности, которая стала привычной лишь намного позднее, к XIX веку. Местом подлинной трагедии было только интимное отношение к Прекрасной Даме. Здесь Амор и Виртус, Любовь и Добродетель, насмерть стояли против Фортуны и покорности ей. Но, однажды победив в этой первой схватке, разумная воля ощущала себя потом уже вправе ставить перед собой любые цели. Она знала, что после той первой победы уже не сможет не достичь их, полагаясь на напряженное постоянство и трезвый расчет. Ощутив и приняв на себя весь мир как подзащитное целое, она внутри мира в принципе не могла уже столкнуться с трагическими неожиданностями. Данте называет свою поэму Комедией, потому что у нее «трудное и трагическое» начало, но «счастливый конец» (Письма XIII 10, 29).
Трагедия Сократа, преданного своим обществом, но не хотящего уйти от него, в ренессансной Италии была бы немыслима. Человек здесь с самого начала слишком близко принял к сердцу мир и общество. Он не порывает с ним потому, что всё равно принадлежит не ему, а его совершенному замыслу. Он обитает в обществе, какое оно есть в своей предельной полноте. Случайные обстоятельства не могут его поэтому слишком больно задеть.
Трагедия Абеляра тоже была бы невозможна в ренессансную эпоху. Новое тут вовсе не хотело вести борьбу на вытеснение со старым, описанную, например, Иоанном Солсберийским в XII веке, а невозмутимо утверждало себя и от чувства внутренней победы мало заботилось о постепенном завоевании социальных позиций. Так, гуманисты почти не старались вытеснить схоластов с университетских кафедр, пока к XVI веку сами не были туда приглашены.
Ренессансное отношение к трудностям всего лучше обозначить словами Валери о Леонардо да Винчи. Для ученого-художника внутри мира «не существовало откровений; не было и пропастей по сторонам. Пропасть заставила бы его лишь подумать о мосте. Пропасть послужила бы лишь толчком для опытов с какой-нибудь громадной механической птицей»[213]. Со сходным чувством заранее празднуемого торжества двумя веками ранее Боккаччо, надеясь на Бога и на «благородных дам», т. е. муз, с легкой душой отдает свои поэтические вымыслы на потоптание миру; пусть они станут дорожной пылью. Малый ветер ее не тронет с места, а буря, подняв, «опустит на головы людей, на короны королей и императоров, на величественные дворцы, на высокие башни» (Декамерон IV, Вступление). Неясно, чего в такой характеристике своего выпускаемого в свет труда больше, смирения или спокойного сознания силы.
Ощущением безграничных возможностей определялось всё отношение к природе, от ее воспевания до опасений за нее. Поэтому не было задачи борьбы с природой. Из-за отсутствия борьбы с природой для ренессансной магии не характерна тяжеловесная основательность, с какой велись алхимические изыскания на Севере Европы, где первенствовала практическая цель превращения природных веществ. Пифагорейская магия чисел у Николая Кузанского или та мистико-астрологическая математика, к которой приобщился молодой Галилей в Пизе, выполняла задачи научной эвристики. Ценя поисковую, игровую роль магии, математики и астрономы обычно прекрасно умели при надобности отделить научное в своих исследованиях от мистического.
Самой могущественной магией в работе символического освоения мира оставалось слово. В поэзии, гуманистическом диалоге, платоническом трактате оно тяготело к самодовлеющей полновесности, хотело само в себе стать вселенной, ключом к действительности. «Слова, буквы, слоги притягивались друг к другу теми же силами, что и вещи», разветвлялись по своим внутренним законам как природа[214].
В художестве, изобретательстве, науке Ренессанса царит хаотическая бессистемность. «Ни в один момент здесь не ощущается заранее продуманной организации»[215]. Выдвигаются, осуществляются или откладываются бесчисленные мало связанные между собой проекты. Нет ничего похожего на координированную завоевательную стратегию. Для подобного настроения идея крестового похода чужда. Ренессансная мысль ставит, с одной стороны, гораздо более далекие задачи чем покорение неверных, а с другой стороны она слишком чутка к реальности мира, чтобы грубо навязывать ей что бы то ни было. Автор проекта всемирного объединения вероисповеданий кардинал Николай Кузанский стал в папской курии самым упрямым противником крестового похода, планировавшегося на 1464 год.
Зато в исходном ренессансном отношении к миру было заранее покорено даже то, о чем еще никто не знал. «Даже отсутствие еще не созданной науки отныне присутствует в форме открытости мира для исследования»[216]. Частные достижения должны были позднее сами упасть в руки побочным следствием более высокой победы. В торжестве Амора и Добродетели над Фортуной было заранее заложено решение исследовательским и изобретательским упорством любых, без преувеличения, технических задач.
Ренессанс и официальная идеология
Методологически удобно представлять средневековое христианство монолитной идеологией, которая давала самые связные ответы на все вопросы жизни и сплачивала общество в согласное целое. Приняв воображаемую идеологическую устойчивость и компактность Средних веков за точку отсчета, историки культуры описывают по контрасту с ними Ренессанс как эпоху распада былого духовного единства <и замены его> светским индивидуализмом. За таким подходом, закрывающим глаза на пестроту и шатания средневековой Церкви, стоит только та правда, что с Возрождения культурная инициатива выходит из-под сводов собора и монастыря.
Заряженная переменами недоустроенность средневекового христианства, не сумевшего переварить ни остатков народного язычества, ни античной классики, толкала к исканиям всех думающих людей, не в последнюю очередь церковных иерархов. Как правило, папская курия в целом скорее поощряла ренессансных поэтов и художников чем преследовала их. Венецианец папа Павел II (1464–1471), называвший гуманистов еретиками, был исключением. Кроме того, к его времени латиноязычный гуманизм внутренне переродился, и ренессансное движение прокладывало себе другие пути поодаль от риторики и филологии.
Не случайность, что Боккаччо был обласкан флорентийским епископом как человек «безупречной чистоты веры и нравов», тогда как Савонаролу, который разрешил бросить в костер «Декамерон», приговорила к сожжению папская комиссия. Многие считали Данте мечтателем, но практически никто ни при жизни, ни впоследствии не заподозрил его в еретичестве. Только трактат «Монархия», категорически отвергавший какую-либо власть папы над гражданским обществом, был в 1329 приговорен папой Иоанном XXII к сожжению, а в 1554 включен в Индекс запрещенных книг. В XIX веке он был исключен оттуда. Бенедикт XV в энциклике In summorum preclaram от 9.5.1921 и Павел VI в заявлении Altissimi cantus (motu proprio) от 7.12.1965 еще раз официально подтвердили, что Данте был верующим католиком, уважавшим авторитет Церкви, хотя он не может считаться церковным поэтом ввиду содержащихся у него элементов неоплатонизма и аверроизма; да, он критиковал пороки высокопоставленных лиц в Церкви, но не разрушал ее[217].
В 1352 Кола ди Риенцо, состоявший в Авиньоне под следствием, избежал обвинения в ереси и жестокого наказания отчасти потому, что прослыл поэтом. В те месяцы отношения бывшего единомышленника Риенцо Петрарки с курией обострились до разрыва, но пущенная о Петрарке легенда, что он подобно Вергилию нигромант, трогала его не больше чем обвинение в темноте стиля (Повседн. XIII 6, 28–29) и преследование ему как автору всем известной книги любовных песен не грозило. Обычно благочестие поэтов и риторов, которые часто были к тому же духовными лицами, не подвергалось сомнению. Наоборот, высокие церковные чины с удовлетворением отмечали, что среди их итальянской паствы много ученых людей, от которых не приходится опасаться богословских трактатов. Логическим доказательством шокирующих тезисов Церкви нередко досаждали парижские, английские или датские диалектики. Ригористические противники художественной игры, которых было мало, не могли мобилизовать на борьбу за монашескую суровость культуры почти никого из князей Церкви, простодушно наслаждавшихся искусством.
Аскеты от культуры не имели формального повода предъявить иск новой философской поэзии. Чтение и заучивание Вергилия, Горация, Цицерона, стихотворные и риторические подражания классике тысячу лет считались обязательным школьным предметом или во всяком случае законной забавой. «Рифмы» на «народном языке» (vulgare) шли за «пустяки», «безделку» (nugae). Если гений Данте решил посвятить безделкам труд жизни, то, строго говоря, не было законных причин осуждать эту частную причуду. Кто не признавал за художественным словом высокого значения, не имел права его опасаться; кто не хотел возвышения статуса поэзии, тот не обязан был относиться к словесности серьезнее, чем к продолжению школьных упражнений.
Еще более очевидной людям аскетической культуры казалась несерьезность живописного искусства как такового. Художники оставались цеховыми ремесленниками; тему, композицию, символику, даже манеру им, формально говоря, предписывал заказчик[218]. Конечно, в том, что поэты и художники делали, иногда не оказывалось требуемого богословского содержания; но и тогда кто-нибудь кстати вспоминал, что даже духовное, тем более светское культурное общество имеет право на невинные развлечения. Если поэта уличали в том, что он говорит не по чину громко, он мог ответить, как это сделал Данте, что грешник тоже может не хуже Валаамовой ослицы получить дар пророчества.
Редкие церковные идеологи умели предвидеть, к какой независимости, при полном признании католического вероучения, склоняется культура полновесного поэтико-философского слова и самоценного художественного образа. Тем более разглядеть в этой культуре начало новой цивилизации, которая со временем отодвинет церковь на второй план, не мог извне никто. Поэты лучше всех сознавали размах того, что делали. Петрарка не сомневался, что его слово – на века и он «проложит путь имеющим волю идти вперед» (Повседн. XXI 1). Он поэтому не возражал, когда кардинал Филипп де Кабассоль назвал его перед папой Урбаном V «поистине единственным фениксом на земле» в свой век (Старч. XIII 2). Данте во всяком случае не менее ясно ощущал свое место в истории.
Петрарка ждал от будущего восстановления священной империи – мечта, вполне приемлемая для официальных идеологов. Замысел всемирного светского государства в «Монархии» Данте шел дальше и вразрез с политикой Церкви, но и он вмещался как одна из крайних позиций в рамки движения за «реформу», которая оставалась одной из официально признанных забот Церкви вплоть до Реформации XVI века.
Есть важная сторона дела, на которую мало обращают внимание. Возрождая древность, поэтико-философская мысль через голову средневекового возвращалась к раннему, античному христианству. Она поэтому нередко оказывалась ближе к подлинной христианской традиции чем церковные идеологи и уверенно искала спора с этой последней, чувствуя, что превосходит ее в верности ее авторитетам. Петрарка, возможно, намеренно представил своего брата-монаха ужасающимся от посылаемых ему в монастырь стихов, «не противны ли они твоим обетам и не противоположны ли твоей жизненной цели», чтобы получить повод для письма-диссертации о том, что «поэзия ничуть не противоположна богословию», «богословствование есть поэзия о Боге», поэтическая чуткость лежит в корне всякого благочестия, Библия написана поэтами и лишь в переводе утратила звонкое звучание слова (Повседн. Х 4). Боккаччо, подражая Петрарке, давал слово целой армии «смертельных врагов поэзии», богословов и церковных проповедников, чтобы в опоре на всеми признанных авторов показать, что поэзией полны Евангелия и отцы Церкви (Генеалогия языческих богов XIV).
Действительно ли противодействие философской поэзии было таким мощным. Примером резкой реакции церковных идеологов на увлечение античностью считается трактат «Светильник в ночи» (Lucula noctis) ученого богослова Джованни Доминичи, позднее кардинала и борца против гуситской ереси. Доминичи призывал не давать народу языческие книги, а то и сжигать их. Но речь шла именно о пропаганде язычества, а не о гуманистической культуре, перед которой Доминичи благоговеет. «Любому из этих язычников я предпочту христианина, увенчанного лаврами флорентийца Петрарку, ибо он обладает знанием неведомой им истинной цели; он научился от божественных писаний, никого не обманывающих; язычники – обладатели ложной, он – святой философии». Рядом с Петраркой Доминичи хвалит «высокочтимого Чертальдинца» – Боккаччо. А сочинения Колуччо Салутати, против чьих усилий по внедрению во Флоренции античной литературы направлена Lucula noctis, Доминичи называет «полными благочестия, вспоенными добродетелью, укрепленными верой, возводящими душу к Богу»[219]. Lucula noctis не памятник войны средневековой Церкви против ренессансного гуманизма, а начало происшедшего позднее в десятилетия Реформы и Контрреформы подавления внутри этого гуманизма всей той линии, которая не приняла христианство и, восстанавливая «подлинную античность», реставрировала язычество. Незаметность таких сочинений, как «Светильник» Доминичи, отвечает незначительности места, которое занимали прямые реставраторы античности. Они, между прочим, едва ли не громче давали о себе знать в Средние века. Спецификой Ренессанса было не восстановление античной культуры в ее музейном виде, а ее новое сращение с христианством.
Это сращение было возрождением синтеза, наметившегося очень давно. Называясь хранителями истины, официальные идеологи христианства не всегда хорошо знали, что берегли. Ренессансная мысль чувствовала за собой едва ли не больше прав на то, что они считали своим наследным владением. Поняв сращенность античного христианства с классической школой, ренессансные гуманисты узнают в отцах Церкви своих прямых учителей рядом с «языческими» авторами[220]. Исключительное место в этом свете занял Августин.
«Отец схоластики» Ансельм Кентерберийский (ок. 1033–1109) писал в предисловии к «Монологиуму»: «Среди сказанного мною я не в состоянии обнаружить ничего, что не согласовалось бы с писаниями вселенских отцов и главное – блаженного Августина. Поэтому если кому покажется, будто я в своей книжке предложил что-то или слишком новое, или расходящееся с истиной, прошу не оглашать меня сразу ни дерзким обновителем, ни проводником лжи, но сперва тщательно просмотреть книги вышеназванного доктора Августина»[221]. Также думал и говорил Петрарка. Также позднее – доктор Лютер. Начинатель позднесредневековой схоластики, начинатель ренессансной «науки о человеке», начинатель Реформации – все трое, и они ли только, считали себя не больше чем продолжателями Августина. Не было ли в мысли этого античного христианина заложено такое начало внутреннего движения, что оно стало программой преобразователей, сломивших тысячелетнюю инерцию будто бы стабильного средневекового христианского порядка.
Августина называют основоположником средневековой идеологии. Эту последнюю связывают прежде всего с иерархическим пониманием и устроением бытия, олицетворенного в прочном порядке космоса. Августин теоретик порядка, он не мыслит ничего вне порядка. Даже зло встроено Богом в Его порядок и например палачи и распутницы служат на своем месте гармонии целого. Но порядок для Августина не спущенная сверху данность и не имеет ничего общего с абсолютным законом, которому осталось только подчиниться. Августин учит, что всякий порядок вещей, в том числе мировой, создается божественным или другим, любым разумом для удобства своего же действия. Человек приобщается к порядку в той мере, в какой сам упорядочивает в своих целях жизнь, познание и поступки. Пока нет созидательной осмысленной воли, нет и порядка, который вещь служебная, подчиненная умному намерению. Излагая «изобретенный разумом» порядок свободных искусств, которого тысячу лет будет, за единственным исключением, держаться Средневековье в так называемом тривии и квадривии, Августин «советует и надеется», что занятия учеников будут идти в этом порядке, но тут же предусматривает, открывая двери для любых реформ: «…или, пожалуй, в другом, более кратком и удобном» (О порядке 117, 19). Порядок не самоценность, а функция творчества. Так или иначе человек судит обо всём, что подлежит его суду, а о нем самом никто судить не может (Исповедь XIII 22, 32).
Так же обстоит дело у главного учителя всего западного христианства с другой опорой Средневековья, священным авторитетом. Такой авторитет ставится Августином казалось бы впереди разума. Не сразу становится понятно, что авторитет у него первенствует лишь «по времени», т. е. в случайно складывающейся последовательности обстоятельств: всегда получится так, что человек в искании истины столкнется прежде всего с авторитетом, например в лице своего школьного учителя или внутреннего голоса. По «существу дела» первенствует разум, в котором человеку надлежит окрепнуть, выйдя из колыбели авторитета (Исповедь, там же и XIII 34, 49). Больше того, авторитет обман, если не питает человека любовью и мудростью.
Речь идет не только об ученом авторитете, но и о всяком, который определяет человеческие образы жизни. Августин говорит против пустой обрядности слова, по резкости не уступающие ничему из того, что могли сказать в защиту разума любые просветители. Кто, держась голого авторитета, «постоянно заботится лишь о добрых нравах и благочестивых обетах», пренебрегая свободными и возвышенными науками или даже просто не имея сил им учиться, тот, заявляет со своей вероучительной высоты Августин, подобен нищему, который кутается от холода в грязные заразные лохмотья. Он питается словно милостыней «одним названием Бога». Только философ, упрямо ищущий истину, счастлив, причем уже здесь в телесной жизни (О порядке I 8; II 9).
Данте по общему мнению следует в своей этике земного счастья за Аристотелем и Фомой. Но его призыв ко всем нищим и голодным прийти на философский пир по мысли и жесту вполне августиновский. Петрарка дает отповедь «старцам святой жизни», советовавшим ему и Боккаччо оставить литературные занятия ради одной заботы о будущей жизни и о спасении души: «Спрашивается… Христос ли источник (этих советов) или кто другой прикрылся именем Христовым… чтобы поверили в его вымысел… Возможно, и ровен, но низменен путь через невежество к благочестию» (Старч. I 5). Высказываясь так резко, поэт может, благодаря наизусть знакомому ему Августину, не бояться цензуры официальной Церкви.
Загробную жизнь, как ее представляет Августин, можно было бы сравнить с проявлением пленки, заснятой на земле. Ничего нового к тому, что взято на земле трудом, не прибавится. Старые достоинства воссияют в славе, старые пороки явственно изобличатся (О граде Божием XXI 24).
Сама идея возрождения высокой древности тоже имеется у Августина. Его историософия строится вокруг возрождений так, словно ничто другое ему не очень интересно (XV 16; 17; ХХ 6). Хвала природе в известном гимне Франциска Ассизского при всей ее кажущейся небывалой новизне повторяет воспевание тварного мира на заключительных страницах «Града Божия»: «красота… в солнце, луне и звездах, в тенистости лесов… как благодатна череда дня и ночи…» (XXII 24). Эстетика Прекрасной Дамы опиралась на слова Августина о воскресении женщин в «новой красоте членов», «которою бы не похоть возбуждалась… а восхвалялась премудрость и любовь Бога» (XXII 17).
Этика добродетели и участия в жизни мира находила защиту у Августина, учившего, что плоть сама по себе не зло, земной град имеет свою историю совершенствования и христианин должен «сохранить и соблюсти» его ценности, не впадать в косность, энергично действовать, не отказываясь ни от мирской славы, ни от мирской власти, лишь бы то и другое служило любви и истине. Философское, поэтическое искание и научно-художественное изобретательство санкционированы у Августина библейской заповедью. Примерно в том же смысле, в каком мы сейчас говорим о поколениях машин или о «популяции понятий в науке», Августин сравнивал с человеческими поколениями «вещи, изобретенные разумом», и считал, что именно к ним относится божественное повеление «плодитесь и размножайтесь» (Исповедь XIII 24, 37).
Начав в отличие от Средневековья ценить минуту и спешить, Ренессанс и в этом отношении вернулся к Августину, который дорожит «каплей времени» и для которого смысл будущего сводится к тому, что будущее как одному человеку, так и всему человечеству дает возможность задумать цельное осмысленное действие («спеть песню»), смысл настоящего заключается в предоставляемой возможности осуществить это действие, смысл прошедшего – в праве хранить память о совершенных деяниях (Исповедь XI 28, 38).
Сделав своим главным языком поэзию, Ренессанс и здесь вернулся к Августину, чья система наук имеет то единственное отличие от средневековой, что выделяет в отдельную дисциплину хоть и «происшедшее от грамматики», но особенное искусство поэзии, в опоре на которое разум «устремляется к блаженнейшему созерцанию самих божественных вещей», за что поэты имеют «великий почет» и «власть всяких, какие пожелают, разумных вымыслов» (О порядке II 14).
Мы имеем право сказать больше. Реформатор Мартин Лютер в самых смелых планах своих преобразований не мог пойти дальше Августина, говорящего не только о настоятельной необходимости реформы, о ненужности человеческого посредника между обновленным умом и божественной истиной, о неправде деления людей на духовных и телесных, о необязательности чудодеяний и таинств, но и о чистой символичности первенства мужчин над женщинами (Августин тут по сути оправдывает священство женщин, допущенное лишь современной протестантской и в очень редких местах католической Церквями) и о временности Священного писания (Исповедь XIII 15–23).
Ученые поэты, философы, художники итальянского Ренессанса не мягче Лютера обличали грехи церкви, часто смелее его мечтали об обновлении христианства, однако в отличие от протестантов почти никогда не вступали в прямой конфликт с церковной организацией. Надеялись не на свержение старого порядка, а на всеобщее духовное пробуждение. Казалось, одного любящего всепонимания достаточно, чтобы расплавить порок. Савонарола, итальянский Лютер, до последнего дня надеялся на всецерковный Собор, который почувствует и восстановит истину.
Но мечтой о чистоте христианства ренессансное движение подтолкнуло Запад к реформе[222]. Не раз в предреформенные века дело доходило до реальной возможности того, что ренессансная культура и политика захлестнут римскую церковь. Со своей стороны, западная Церковь за все два тысячелетия своего существования едва ли была так чревата всеобъемлющей перестройкой, как с начала XIV по начало XVI века. Реформация и контрреформация оказались в этом смысле срывом, перечеркнувшим назревавшие в недрах христианства возможности. Римское католичество было стабилизировано Реформацией за счет утраты им культурной и исторической энергии. Эстафета Откровения перешла к создателям светской культуры, всегда принимающим христианство, часто воцерковленным, но как правило действующим уже вне церковных стен.
Ренессансный синтез античной классики и христианства, наметивший путь для новоевропейской светской культуры, возник не в виде сложения двух противоположных или разных начал. Данте не пришлось ни выбирать между философией и теологией, ни «гармонизировать» их. Поэтическая любовь-мудрость была для него «прекрасной дочерью», «сестрой» или «возлюбленной супругой» Императора вселенной Христа, и он чувствовал полноту открывшейся ему «новой жизни», способной в простом единстве вместить всё (Пир II 5, 2; II конец; III 12, 13–14; Канцона II 50). Восторг перед красотой природы и духа, верит поэзия Прекрасной Дамы, сам по себе способен «прямым путем вести к небу» (Петрарка, Книга песен 13, 12–13). Евангельские истины не всех убеждают, например они не заставят уверовать ожесточившегося упрямца; но та истина, которая зримо является в красоте мира и «удивительнейшего создания божественной премудрости», человека, его лица, взора, слова, способна всех согреть и осветить (Данте, Пир III 7, 16–17).
Августин хотел, чтобы служение Господу на земле совершалось впредь не «через чудодейства и таинства и мистические голоса», – они вынужденно требовались лишь в первое время распространения евангельской истины по вселенной, – а через зримый образ, близкий людям и зовущий к подражанию (Исповедь XIII 21, 30). Данте продолжает эту мысль, когда говорит, что пора зримого явления предвечной красоты наступила в его, Данте, эпоху, in questo tempo (Пир III 7,17). Если человек человеку действительно «по природе друг», то время позаботиться о «нищенствующих», не знающих «ангельского хлеба» мудрости-любви, «время подать пищу». «Это будет тот ячменный хлеб, которым насытятся тысячи, и мне сверх того останутся полные корзины. Это будет новый свет, новое солнце, которое взойдет там, где старое солнце закатится, и даст свет сидящим во мраке и темноте, потому что старое солнце им не светит» (Пир I, конец). Это громкие слова, которые легче счесть фигурой речи, библеизмом. Но они точно именуют совершавшийся тогда поворот в звучании слова.
Обыденное сознание, видевшее в евангельской позе вселенского учителя у Данте аллегорию или поэтическую вольность, и знание поэта, что через него в мир входит новая жизнь, сосуществовали почти не замечая друг друга. Ренессансная культура, чье знание строилось на единстве любви и понимания, этика – на достоинстве цельного человеческого существа, чья сила была в музыке поэтического настроения, выросла в вечевом городе-государстве как независимая республика слова. Она легко ассимилировала сродное ей и, редко вступая в борьбу, обделяла своим вниманием то, что называло себя духовным, но на взгляд новой светской духовности было слишком земным. Данте походя отлучает от истины почти всю богословскую профессию: «Не должен именоваться истинным философом и тот, кто стал другом мудрости ради пользы, каковы правоведы, врачи и почти все религиозные, потому что они учатся не ради знания, а ради приобретения богатств или уважения к себе» (Пир III 11, 10).
Данте счастлив, что может вместе с Беатриче видеть в своей поэме вращение райских сфер, и жалеет людей, которых «дефектные силлогизмы» приковали к земле, правоведа, сочинителя афоризмов, правителя, вора, служащего и в том же ряду священника (Рай 11, начало). Данте дорога Христова церковь, но церковь подвержена превратностям и одичанию. Поэту вверено то, чего она сама по-видимому не может, читать по таинственным знамениям судьбы, предупреждать о ее падении и заботиться о ее возрождении (Чистилище 32; 33). В мечтах о вселенском мире поэт полагается в конечном счете не на нее. Правду мира и в том числе самой церкви отныне хранит философская поэзия, в которой продолжается живое Писание. Даже намного позднее никто не дал понять яснее, чем это сделал Данте в двух последних песнях «Чистилища», что с 1300 года, в который происходит действие «Божественной Комедии», поэт и философ, вместо священнослужителя и богослова, стал пророком Запада.
Во всех сочинениях Петрарки едва ли упомянут по имени хотя бы один позднесредневековый или современный ему теолог. В ясном сознании, что голос старой богословской культуры отзвучал и что только его, поэта, слово переживет не тускнея века, Петрарка оставляет для потомства безымянным и жертву своих «Инвектив против врача», где он целит в высокопоставленных врачевателей душ. Что настоящий адресат «Инвектив против врача» – манипуляторы из папской курии, мало сознается исследователями, не всегда помнящими, что Петрарка редко брался за перо без исторической задачи, при том что всё написанное им привязано к лицам, срокам, местам, обстоятельствам, как у Данте. Вести дотошную полемику, отстаивая личный престиж, могли Франческо Филельфо в XV или Франческо Робортелло в XVI веке. К сожалению, пропасть, отделяющая поэтов XIV века от позднейших филологов, часто остается неосмысленной, и это одна из самых скандальных проблем современной науки о Ренессансе.
Защита поэзии в «Инвективах против врача» далеко превышает потребности апологии и по сути требует безоговорочной капитуляции противника. Высокая поэзия родством своего слова с правдой, своей школой труда, добродетели и человеческого достоинства придает себе ценность, не видеть которую значит расписаться в собственном уродстве. Об этом со спокойной гордостью Петрарка говорит врачу. «Проснись, если сумеешь, и открой гноящиеся глаза. Увидишь, что поэтов мало, потому что природа вещей устроила так, что всё драгоценное и блестящее редко; увидишь, что они сияют бессмертной славой, которую доставляют не только себе, но и другим, ибо дольше всех способны хранить великие имена и даже добродетель нуждается в их помощи, – не сама по себе, но в своей борьбе против времени и забвения; себя же и своих товарищей увидишь голыми, лишенными истинной славы, погрязшими в тщете, погребенными под грудой лжи» (Инвектива I).
Признавая запредельность веры, которая обещает сокровища благодати выше знания и творчества, поэты повторяли вслед за Августином, что для достойного принятия сверхъестественных даров надо сначала чтобы человек не был нравственным и умственным калекой. Исправить мысль, слово, дела, поступки в силах и в обязанности каждого, это вопрос учения и труда. Если сверх всего, чего может добиться он сам, человеку суждено удостоиться святости и божественного оправдания, то к ним лучше идти отсюда, от осмысленной и деятельной полноты бытия. «Если дозволено говорить от своего имени, то думаю так: возможно, и ровен, но низменен путь через невежество к добродетели… Странничество всех и каждого свято, но заведомо славней то, что светлее, что выше, а потому с просвещенным благочестием не сравнится никакая деревенская простота. И какой бы святости человека ты ни назвал мне из числа необразованных, из противоположного множества я представлю тебе еще более святого» (Старч. I 5).
За противниками философской поэзии стояла вековая привычка церкви к тому, что основная масса ее подопечных остается духовно ущербной. Средневековая церковь не только мирилась с косностью массы, но и находила в неразвитом состоянии человека определенное удобство. Ренессанс возвращал к ранним учителям церкви и прежде всего к Августину, по которому христианство всех людей без изъятия пригласило быть философами (Град Божий XIII 16). Данте словно блудных сынов зовет к себе духовно изголодавшихся, питающихся «заодно со скотом». Его volgare, итальянский язык служит этому обращению лицом к множествам, спиной к официальной идеологии, скупившейся от страха ересей дать народу не то что переводную, но даже латинскую Библию.
Философская поэзия не делала теологической ошибки смешения природного разума и таланта с божественным откровением и благодатью. Параллельно с номинализмом Дунса Скота и Оккама она пришла к такому же ощущению принципиальной неприступности благодати и спасения. Любовь, знание, энергия, мудрость, счастье нужны для осуществления человека, который без них не состоялся. Они возвращают человека ему самому, его природе и его миру. Благодать, спасение, оправдание работают вне мира своими неисповедимыми способами. Нравственная философия итальянских поэтов, как и британской номинализм, не видит большой необходимости в умствованиях о запредельном. Обоим важнее не забывать о выполнимом.
По Буркхардту, загробное христианство мало интересует ренессансных людей[223]. «Духовно мощные», «вечно юные натуры», они умеют различать между добром и злом, но не между грехом и святостью. Непохоже, что они способны к раскаянию, и во всяком случае они всегда стремятся восстановить пошатнувшуюся внутреннюю гармонию. Постоянное горение в захваченности ситуацией казалось бы не оставляет места для медитаций о запредельном. «При более пристальном анализе мы начинаем понимать, что под оболочкой этого состояния оставался живым сильный порыв подлинной религиозности»[224].
Начинатели Ренессанса услышали в Священном писании забытую поэтическую речь. Больше того, когда религия говорила о «Слове, которое было в начале», философская поэзия угадывала здесь что-то интимно свое. Всякое звучащее слово, такое летучее, но так весомо присутствующее в мире, таинственно связано с творящим Словом. «Всё, что может быть сказано, есть лишь то первое Слово», в эту формулу Николая Кузанского (Компендий 7, 20) вложено ренессансное понимание языка. Прежде всего поэтического. Петрарка доказывает, что поэзия как таковая сродни христианской правде, недаром бессмертные труды Амвросия, Августина, Иеронима, Лактанция «скреплены поэтической известью, тогда как наоборот почти никто из еретиков не допустил ничего поэтического в свои сочинения» (Инвектива III). В ответ на призыв учеников старца святой жизни Петра Сиенского оставить поэзию ради молитвы и покаяния Петрарка спокойно отвечал: «Многое, что делается из тупости и малодушия, приписывают основательности и благоразумию; люди часто начинают считать ничтожными вещи, в которых отчаялись сами; невежеству свойственно презирать всё, чему оно не сумело научиться» (Старч. I 5).
Горение (fervor) души, как определял поэзию Боккаччо, было своего рода новым благочестием, в котором философское смирение сочеталось с чувством первородства, не признающего над собой другого человеческого авторитета. У Шекспира созерцательный и, казалось бы, вечно философствующий Гамлет говорит, стоя в могиле Офелии, схватившему его за горло Лаэрту: «Ты дурно молишься. Прошу, от горла пальцы убери: хотя не желчен я и не гневлив, но что-то есть опасное во мне… Скажи, на что готов ты для нее? Рыдать? поститься? биться? разодрать себя? в могилу прыгнув, горе показать? С ней в землю ляг – и лягу я с тобой» (Гамлет V 1). Этот монолог многозначительно звучит в виду параллели, едва ли случайной рядом с другими скрытыми перекличками между мыслью Шекспира и современной ему борьбой в Европе. С тем же достоинством интеллектуала, в котором работа отвлеченной мысли не ослабила природную силу страсти, Лютер отвечает папским богословам на обвинение в неблагочестии: «Вы доктора? Я тоже. Вы ученые? Я тоже. Вы проповедники? Я тоже… Похвалюсь и большим… Я умею читать Священное писание. Вы этого не умеете. Я умею молиться. Вы этого не умеете… И если среди вас найдется хоть один, кто правильно поймет одно вступление или одну главу из Аристотеля, то я дам себя высечь. Я не прихватываю тут лишку, потому что во всём вашем искусстве я воспитан и научен от юности, знаю очень хорошо, каково оно вглубь и вширь» (Sendbrief vom Dolmetschen). В свою очередь у Лютера здесь слышен гнев Павла Тарсийского, не желающего никому уступить в несении Откровения: «Если кто смеет хвалиться чем-либо, то смею и я. Они евреи? И я. Израильтяне? И я. Семя Авраамово? И я. Христовы служители? В безумии говорю: я больше… Знаю человека во Христе, который… был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать» (2 Кор 11; 12).
Любой из этих текстов пригоден для описания пафоса ренессансного интеллектуализма. Если не считать условностей и формул учтивости в обращениях гуманистов к церковным иерархам, ренессансная мысль никогда не признавала человеческого посредничества между собой и высшей истиной. Здесь суть того якобы сепаратизма, с каким Данте провозглашает автономию философии. Она согласуется с теологией, когда подобно этой последней по-своему прямо прислушивается к Слову.
Петрарка и многие гуманисты, фра Амброджо Камальдолезе, Никколо Никколи, Джаноццо Манетти, Донато Аччаюоли, папа (1446–1455) Николай V, папа (1458–1464) Пий 11 (Эней Сильвий Пикколомини), кардинал Николай Кузанский, соблюдали правила строгого, до аскезы, благочестия. Надо спросить, почему. От конформизма они были далеки так, как это только возможно.
Новая религия?
Как переход от раннего поэтико-философского к филологическому гуманизму был исподволь подготовлен уже полувековой литературной работой Петрарки, так сдвиг в отношении ренессансной мысли к Церкви тоже произошел у него. В 1352 году с избранием на престол св. Петра папы Иннокентия VI, из тех, кто «не овца а волк, не рыбак а пират, не пастух а вор», Петрарка навсегда расстается с надеждами на обновление Церкви и восстановление справедливой христианской державы вокруг реального папства в Риме. «Письма без адресата» и «Инвективы против врача», которыми отмечен окончательный разрыв с Авиньоном, горькие и возмущенные. В 1370 году папа Урбан V, намерившись покончить с авиньонским пленением, вспомнил о старом певце Рима и вызвал его в вечный город, чтобы присутствие славного поэта сделало более торжественным возвращение туда апостольского престола. Петрарка повиновался зову первосвященника, но отправился в Рим без веры в успех, словно на смерть, написав перед отъездом завещание. Можно представить, с каким сердцем он ехал, если по дороге на 30 часов впал в коматозное состояние («это была не болезнь, но по-настоящему смерть»), так что вынужден был вернуться с полпути обратно в Падую. Переселение курии в Рим в том году действительно сорвалось, Урбан V вскоре умер. В 1378 Великая западная схизма началась словно возмездие за грехи, обличавшиеся поэтами.
Горечь нападок Данте и раннего Петрарки на «вавилонскую блудницу» можно сравнить только с силой их мечты о преображенной Церкви. Но поздний Петрарка относится к церковной политике уже лишь с холодным вниманием. Он радуется возвышению достойных иерархов, саркастически комментирует восхождение дурных, не более того. Разочарованное отношение к церковной организации и папскому государству сделалось характерным для итальянских гуманистов XV века и стало почвой для причудливых рассудочных проектов реформы. С замыслами Иоахима Флорского и Данте о чисто духовной Церкви подвижников и бессребреников, раннего Петрарки – о монархической теократии эти головные проекты имели только одно общее свойство радикальности.
Умы XV века задумались не менее как о перемене религии. В окружении Лоренцо Великолепного считалось, что без Платона нельзя быть хорошим христианином и гражданином, и Флорентийская академия, ставившая целью синтез христианства с античной классикой, вырабатывала соответствующие формы благочестия и отчасти культа. Была не только уловлена, но подчеркнута древняя дохристианская связь антично-философской и библейской мысли (Платон – грекоязычный Моисей). Христианство переосмысливалось как совершенный синтез обеих традиций и как вершина откровений, собранных всеми прежними религиями. В свете таких прозрений и проектов реальная церковь представлялась естественно временной, малой, мелкой.
Несмотря на свои занятия магией и астрологией, вождь флорентийских академиков Марсилио Фичино был всё-таки с 1473 года священником и умел развеять подозрения Рима, особенно усилившиеся в 1490-е годы. Слава, не совсем несправедливая, всего дальше идущих церковно-реформаторских замыслов принадлежала всё-таки Римской академии. В феврале 1468 она якобы пыталась свергнуть папу Павла II, как считали, в пользу кардинала Виссариона (1403?–1472), гуманиста-платоника, византийца родом. Несмотря на последовавшие за этим временные гонения, Римская академия сохранила свое влияние. На похоронах ее основателя, гуманиста Помпония Лето (1425–1493), в самой своей личности тоже стремившегося воплотить образ жизни классической древности, присутствовало 40 епископов. Партия последователей Лето сыграла роль в избрании знаменитого Льва Х (1513–1521), при котором Римская академия расцвела.
Один из академиков, Платина (1421–1481), главный обвиняемый в заговоре 1468 года, учился у греческого платоника Яноса Аргиропулоса (1415–1487), который считался учеником известного Георгия Гемиста Плифона (1355–1452), языческого философа из Мистры (Пелопоннес). Плифон был в свою очередь дружен с Виссарионом. Говорят и об участии Плифона в становлении флорентийской Платоновской академии. Об этом «человеке с Пелопоннеса, Платоновом выученике и красноречием и познаниями, который в простоте зовется Гемистом, а сам себя именует Плифоном» (т. е. стилизует под античность свое имя), Георгий Трапезундский писал в 1439: «Я лично слышал во Флоренции (ибо он приехал туда на собор вместе с греками), как он утверждал, что через небольшое число лет вся земля примет одну и ту же религию, единую по духу, единую по смыслу, единую по проповеди. Когда я спросил: Христову или магометанскую? он ответил: Ни ту, ни другую, но не отличную от язычества»[225]. Надо учитывать, что этот рассказ, или донос, принадлежит противнику Плифона. Важно однако, что в XV веке ренессансный гуманизм дал повод обвинить себя в антицерковности, язычестве или безбожии. В отношении поэтов и литераторов «народного Ренессанса» XIV века (Веселовский) это было бы немыслимо.
Значение Плифона для флорентийских платоников показывает Марсилио Фичино, который пишет о Козимо Медичи, посвящая свой перевод (1492) «Эннеад» Плотина Лоренцо Медичи (Великолепному): «Великий Козимо, постановлением сената объявленный Отцом отечества. во время Собора, состоявшегося между греками и латинянами при папе Евгении IV (1431–1447) часто слушал рассуждения греческого философа, по имени Гемиста, по прозванию Плетона (Плифона), как бы второго Платона, о платонических таинствах. От пылкой его речи он сразу же так загорелся, так воодушевился, что впоследствии замыслил высоким умом некую Академию, готовый основать ее при первом удобном случае»[226].
Ученик Плифона член Мистрийской фратрии Аргиропулос, переселившись на Запад после падения Константинополя, преподавал более 30 лет в Падуе, Флоренции, Риме. Синьор Римини Джизмондо Малатеста, покровитель наук и искусств, будучи кондотьером Венеции в первой кампании против турок (1464–1466), перенес прах Гемиста Плифона из Мистры в Римини. Малатеста был на плохом счету у церкви. За «разврат, безбожие», строительство полуязыческого храма в свою честь он был отлучен Пием II и в порядке уникального исключения в апреле 1462 прижизненно канонизирован как грешник, заведомо обреченный на ад. Но это мало изменило его стиль жизни.
Звездный час инквизиции еще не пришел. Еще в 1497, когда в Болонье разбиралось дело ученого врача Габриэле да Сало, который называл Христа рядовым преступником, погубившим мир, и предсказывал скорый конец христианства, инквизиция удовлетворилась покаянным заявлением. У врача нашлись влиятельные друзья.
Это единичные случаи. Но насколько идея новой религии носилась в воздухе, показывает проект объединения вероисповеданий, составленный в 1453 г. под впечатлением падения Константинополя кардиналом Николаем Кузанским. Им был предложен универсальный «мир веры» на базе католичества. догматика и обрядность которого упрощались до минимума, разумно приемлемого для мусульман, иудеев, татар, персов, чехов (гуситов). Со смелостью, которая была возможна только в те десятилетия широких исканий до реформационного и контрреформационного срыва, Николай писал, что даже таинство евхаристии, «как оно существует в чувственных знаках, не необходимо настолько, что без него нет спасения; была бы вера, ибо для спасения довольно верить и тем вкушать хлеб жизни» (О мире веры XVIII 66). Вообще, продолжал он, «там, где нельзя прийти к единообразию в образе действий, народам надо позволить – при сохранении веры и мира – иметь свои обряды и обычаи. Возможно, богопочитание возрастет от некоторого разнообразия, если каждый народ попытается со старанием и усердием сделать свой обычай более великолепным» (XIX 67). Николай оставляет неприкосновенными основные догматы христианства потому, что они «свернутым образом» содержат в себе истину любых религий. Собственная Церковь как институт приравнивается к другим Церквям в качестве объекта научного анализа и рациональной перестройки.
Италия конца XV века была по существу готова, возможно, к еще более полной реформе Церкви чем та, которая была немногим позднее проведена Мартином Лютером. Именно ясное сознание безотлагательности крупных перемен толкнуло Николая Кузанского довести свою борьбу за реформирование южнонемецких монастырей до вооруженных схваток между своим войском и местными правителями, покровительствовавшими распущенному католическому духовенству. Ранним предупреждением о неизбежности перемен стало конечно почти четырехлетнее правление Джироламо Савонаролы во Флоренции.
В проповеди Савонаролы, как во всём реформационном движении ренессансной Италии, преобладала мечта о всеобщем согласии. Ожидание гармонического синтеза далеко перевешивало трезвый социально-политический расчет.
Позиция большинства ренессансных итальянцев времен начала Реформации, возможно, всего энергичнее выражена в знаменитом афоризме Франческа Гвиччардини, который был губернатором папы в Романье с 1523, ближайшим советником Клемента VII. Он писал, что ненавидит высокомерие, жадность и распущенность духовенства, желает могущества папам только потому что служит при них, а иначе любил бы Лютера как самого себя – не для того чтобы отказаться от предписанных христианством законов… а для того чтобы видеть эту свору негодяев (questa caterva di scellerati, о коррумпированном католическом духовенстве) приведенной в подобающее ей состояние, т. е. лишенной либо своих грехов, либо своей власти. Состоя на службе у пап, Гвиччардини не имел священного звания, потому что его отец, именитый флорентийский гражданин, гуманист и друг Марсилио Фичино, приложил специальные усилия к тому, чтобы ни один из его пятерых сыновей не пошел по церковной линии. Пуризм Гвиччардини вполне протестантский по настроению, и его брезгливый ужас перед пороками семейства Борджиа в «Истории Италии» (I 1) трудно отличим от нравственного пафоса лютеранских антипапистских инвектив.
Реально римскому католичеству как тысячелетнему социальному институту больше грозили не проекты гуманистов, а политические замыслы самого церковного руководства, особенно деятельность семейства Борджиа в конце XV – начале XVI веков. Макиавелли симпатизировал Чезаре Борджиа, возможно, именно потому, что надеялся от него на секуляризацию папского государства, введение престолонаследия и тем самым отмену папства как такового. Типичным для ренессансной гибкости образом это не мешало Макиавелли после возвращения Медичи во Флоренцию и своей отставки искать места при Римской курии. Буркхардт считал, что динамика Ренессанса, в целом не враждебного церкви, рано или поздно развалила бы римское католичество изнутри, и оно было спасено своим злейшим врагом протестантизмом. Близко к этому мнение современного критика Буркхардта Б. Хаммердингера, полагающего, что Реформация, принудившая к (контр)реформе и Римскую церковь, была «реакцией низов на платонизм и язычество Рима» при Льве Х[227].
Так называемый итальянский евангелизм, умевший исповедовать лютеранство, оставаясь внутри католичества, был последней попыткой Ренессанса с его уникальной широтой в объединении крайностей если не повести за собой римскую Церковь, то остаться в согласии с ней. Но к середине XVI века ею овладело новое руководство, совсем чуждое духу синтеза. На Тридентском соборе (1545–1563) римское католичество перестроилось, сосредоточившись на ревнивой религиозно-нравственной опеке над преданной ей частью населения, а по отношению к духовным исканиям новоевропейской культуры заняло критически выжидательную, безысходно пассивную позицию. С 1540-х годов резко усиливается работа инквизиции и распространяются индексы запрещенных книг.
Определив таким образом свое лицо, Церковь лишила последних оснований ренессансные утопии и иллюзии на свой счет. Со своей стороны, Ренессанс, особенно на Севере Европы, к этому времени окончательно эмансипировался от Церкви, показав, что в принципе способен обходиться и без ее материальной помощи, и без ее санкции, и без борьбы с ней. Правда, уже и с самого начала через все ступени отношений между ренессансной культурой и церковью неизменной проходит уверенность поэта, художника, ученого, что вдохновение, самопознание, духовное усилие лучше отвечают смыслу христианства чем обряд, ритуал, культ, т. е. уверенность, что христианство в своей сути не религия.
Такое понимание христианства впредь объединяло создателей культуры, отошедших от исповедания догматов веры, с теми, кто продолжал признавать действительность церковных таинств.
Возродить древность или превзойти ее?
В XV веке в Италии начинают говорить уже не о возрождении, а о превосхождении античности. Может быть, одним из первых Колуччо Салутати еще в 1374 году сразу после смерти Петрарки объявил, что «вся античность вместе взятая не может сравниться» с одним этим поэтом, благодаря которому весь озаренный его славою век достиг бессмертия (Письма III 15).
Чтобы вообще в принципе мог появиться такой оборот речи, превзойти античность, должно было исподволь сдвинуться раннее ренессансное понимание древности как безусловной меры человеческой добродетели и в конечном счете человеческого бытия. Нельзя превзойти человека как такового. Поэтому Петрарка видит в желанном будущем возвращение «древних деяний», не больше того. Он говорил с античностью на равных, но именно поэтому о прогрессе относительно нее у него не могло быть и мысли. Если начиная с XV века говорят о возможности пойти в чем-то дальше древности, значит изменился предмет соревнования с ней. Virtus, добродетель, собранная энергия человека, нашедшего себя как простую цельность, перетолковывается в смысле vis, силы, умения, технической способности. Конечно, virtus всегда подразумевает также и vis, но ведь не наоборот. Петрарка напоминал, что единственно нужна не та virtus, которая достигается «многократным повторением» (Старч. 117), т. е. упражнением, а та, что, подобно славе, посылается от Бога. Virtus достигается как счастливая полнота человеческого бытия; vis можно частично развить техничностью и специализацией. Коренное различие между этими однокоренными понятиями быстро стиралось в пользу второго. Сила становилась всё заманчивее, добродетель всё бледнее.
Одновременно с этим сдвигом в осмыслении добродетели античность начали понимать не столько как абсолютный идеал человеческого достоинства и подвига, сколько как собирание памятников истории, литературы и искусства. Такая ценимая уже не за добродетель, сколько за знания, искусства, изобретения античность поддавалась фронтальному освоению. Отыскивание старины, подражание ей, буквальное воспроизведение, вплетение художниками античных мотивов в христианские и библейские темы сделалось занятием, увлечением, частью художественной индустрии. Возрождение древности, в понимании Петрарки еще равносильное победе мужественного постоянства над безразличием и отчаянием, в XV веке стало всё чаще отождествляться с удачной находкой. Так 18 апреля 1485 в Риме было найдено в гробнице, как находят явленные иконы, поразительно сохранившееся, словно живое тело девушки дивной красоты, якобы Юлии, дочери императора Клавдия. Новость сразу облетела весь город. Рассказывали, что лицо девушки дышало свежестью; казалось, сама древность сейчас оживет вместе с ней. Чтобы подобные сенсации стали возможны, требовалось постоянное нетерпеливое ожидание новых находок, «антикварная интоксикация»[228].
О превосхождении античной архитектуры тем строительством, которое вел в Риме Лев Х, писали в 1519 Рафаэль и Кастильоне. Живопись чинквеченто неприметно, но решительно перешла от ориентации на разыскиваемые или угадываемые древние образцы к преклонению перед божественными (divini) современными гениями Леонардо, Браманте, Микеланджело, Рафаэлем, Джорджоне, а потом их продолжателями Корреджо, Пармиджанино, Тицианом.
Вместе с тем в искусстве превосхождение древности всегда оставалось более или менее сознательной риторической фигурой. В прямом смысле небывалыми, «античности неведомыми» достижениями были признаны в XV веке книгопечатание, открытие Америки и обнаружение места земли в космическом пространстве.
Коперниканство широко распространилось лишь к концу XVI века. Но еще в 1441, определенно говоря о движении Земли и нецентральности ее положения во Вселенной, Николай Кузанский называл мысль о всеобщем относительном круговращении небесных тел, «мир… оказывается как бы колесом в колесе и сферой в сфере, нигде не имея ни центра ни окружности», достижением своей эпохи, до которого древние не дошли (Наука незнания II 12, 162). Главное здесь не чисто созерцательным путем достигнутое открытие, по своей физической интерпретации очень проблемное, а ощущение собственной исторической исключительности и решимость впредь опираться на силы разума без сковывающей оглядки на авторитеты.
В этой новой самоуверенности исследующего разума уже ничего не менял тот факт, что античность на деле знала о движении Земли. О нем знало и средневековье. В XIV веке Николай Оремский во французском комментарии к аристотелевской книге «О небе» обстоятельно доказал, что не небо, а Земля ежедневно обращается вокруг оси. Около 1320 Франсуа из Мейронна (Прованс) упоминал в «Комментарии к Сентенциям» о «некоем докторе», говорившем, что «если бы Земля двигалась, а небо покоилось, это было бы наилучшим расположением»[229]. В этом ряду Коперника по справедливости считают продолжателем средневековой науки. Ренессансу принадлежит не столько открытие движения Земли как научный тезис, сколько его историко-культурное включение в круг небывалого, революционизирующего знания. Николай Кузанский, отказывающий древним в таком знании, ближе к настроению первооткрывательства и «превзойденной античности» чем живший веком позже Коперник, который в предисловии к «De revolutionibus» оставляет свободу считать, что речь в этой книге идет просто о реконструкции старой теории Пифагора.
Эти три шага, печать, освоение Нового Света и переворот в ощущении земли под ногами, подкрепили убеждение, что античность оставлена как-то позади, и расширили новое направление работы, на охват новой культурой небывало большого слоя населения и на захват не просто новых областей Земли, что делала и античность, но именно всего земного шара как целого, да и того не в качестве предопределенного человеку его судьбой предела усилий и стремлений, а в качестве частицы нового всеобъемлющего, Вселенной.
По Буркхардту, сугубо новоевропейская способность ренессансного человека вмещать в себе противоположные чувства и порывы делала его микрокосмом, каким он якобы не был и не мог быть в средневековье[230]. Теория человека-микрокосма в Средние века, особенно в шартрском гуманизме, была однако едва ли не более принята чем в XV веке. Сам по себе микрокосмизм никогда не ограждал человека от рассыпания на отдельные космические функции. С лавинообразным разветвлением области практики желание быть микрокосмом особенно грозило таким распылением.
Лицо человека теряло прозрачную простоту, какой оно достигло в научно-философской поэзии раннего Ренессанса XIV века. Тогда человек сумел раствориться в немногих взаимообратимых стихиях любви, софии, добродетели. Во второй половине XV века у Марсилио Фичино «богоподобное достоинство человека» создается уже не менее чем двенадцатью «благодатными чертами», среди которых стремление всё устроить, всё справедливо упорядочить, мужественно сохранять свое бытие, действовать разумно и гармонично, жить богато и радостно. Подобный набор можно и переиначить и расширить. Складывается впечатление, что речь тут идет уже о собирательном отвлеченном человеке. Он должен был слишком много сделать, в том числе с самим собой. Начинается ренессансная схоластика, еще менее приятная, чем средневековая.
Навстречу этой опасности выступила в XV веке титаническая универсально разносторонняя личность, неведомая XIV веку. Благодаря мобилизации всех сил, неустанной энергии Леон Батиста Альберти, Джованни Пико умели соединить в себе самые разные искусства и науки. Всё связывалось вместе только тождеством личности, потому что в самом по себе разнообразии занятий, стилей, тем, воззрений стало уже почти невозможно уловить центральную мысль или ясную линию развития[231]. Не исключено, что вся эта разносторонность, как считают критики Ренессанса, «принципиально несводима к целому»[232]. Действительно, еще можно понять поголовные занятия ренессансных гуманистов в XV–XVI веках математикой, особенно ввиду ее связи с астрологией и магией, но уже менее ясно, почему всеобщим увлечением в XV веке стала также ботаника[233].
Науку итальянского Ренессанса от Леонардо до Галилея делали большей частью люди универсальных дарований. Но закономерным образом именно в этот период возникает первая научная профессиональная специализация. Каждая отдельная сила и способность завязывает свои особые отношения с обращенным к ней миром. Внутренняя логика частной науки диктует свои нормы, и для нее как таковой почти безразлично, занят ли преданный ей ум чем-то попутно и есть ли у него вообще какие-либо качества помимо профессиональной компетентности. Специализация была по существу уже подготовлена, когда под virtus поняли прежде всего vis.
Но хотя добродетель стала теперь отождествляться уже не с мудростью-любовью-мужеством, а с силой-умением-мастерством, осуществление человека всё равно продолжали видеть только в ней. Соответственно высшей ценностью, обусловливающей достоинство личности, стало искусство или искусность. Универсальная личность утверждала себя в той мере, в какой развивала сумму своих способностей. Склонившийся к природе и миру Амор ранней поэтической философии сменился «желанием» (Леонардо), противостояние Фортуне – упорством исследователя. Отождествляя себя со своим увлечением и посвящая все душевные силы делу, которое становилось целым миром, человек постепенно достигал в нем успехов, не доступных ни древней науке, ни сколь угодно искусному ремесленничеству традиционных обществ. Подобно искусству, наука в XV веке переходит от ориентации на античные авторитеты к самостоятельному собиранию всего мирового знания. Джованни Пико искал единый источник божественной мудрости, питающий все известные традиции от греческого мифа и библейского пророчества до Каббалы и арабской философии. За четверть века до него Николай Кузанский в своем последнем трактате завещал такое же всепонимающее отношение к любым, даже противоположным учениям (Вершина созерцания 14).
Это означало беспредельное расширение кругозора культуры. В таком переливающемся через край всеприятии стало не хватать исторической конкретности. С подобной же внеисторической обобщенностью Иоанн Солсберийский в XII веке писал, что «мудрость есть некий источник, откуда текут реки, орошающие всю землю и полнящие не только райский сад Божественного писания, но доходящие и до язычников, так что даже эфиопы не совершенно их лишены» (Поликратик VII 10). Гораздо больше избирательности было у ранних ученых поэтов. Для Петрарки единственная и в принципе непревосходимая, а потому вечная древность воплощена в конкретных живых героях римской античности, Сципионе Африканском, Цицероне, Вергилии. Рядом с ними даже греки уже подозрительны, потому что допустили или не предотвратили раскол между мудростью и добродетелью. «Не выучил я греческих наук, – цитирует Петрарка римского полководца Мария, а мог бы говорить от себя, – не очень мне хотелось учиться вещам, ничуть не укрепившим добродетель учителей» (Инвектива против врача III). Такая избирательная привязанность к конкретным лицам истории расшаталась у искателей XV века в их порыве к универсальному знанию.
В ходе универсализации и специализации человек снова уступал свой суверенитет невидимым надличным инстанциям. В итальянском городе XV, тем более XVI века личный поступок значил всё меньше на фоне неуправляемых политических процессов. «Мы видим сегодня, – писал Макиавелли в 1513, – как тот или иной государь торжествует, а назавтра гибнет без того чтобы заметить в нем изменение натуры или какого-либо качества» (Государь 25; ср. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия II 30). Гвиччардини около 1508 говорит о внезапной буре, разметавшей итальянский мир после французского вторжения 1494 года, когда судьбы городов-государств стали зависеть не от политического искусства, расчета и умения правительств и граждан, а от во многом случайной военной удачи.
Отчаянной попыткой восстановить «святую добродетель» и с ней простую целость человеческого существа была проповедь Савонаролы, нашедшая отклик не только во Флоренции. Однако для проведения своих реформ ему пришлось уже резать по живому телу культуры, допуская например для сожжения в карнавальных пирамидах 1497 и 1498 годов «Морганте» Пульчи, «Декамерон» Боккаччо, «Книгу песен» Петрарки, драгоценные пергаментные печатные книги, рукописи с миниатюрами, портреты знаменитых красавиц. Нравы, которым могли быть опасны подобные соблазны, вряд ли уже заслуживали охранения. Идеалы Савонаролы были повтором ранней и главной темы Ренессанса, добродетель как бодрая энергия в противостоянии фортуне, мудрость как любящее познание, простота, чистая любовь, только не в светлом, а в надрывном ключе. Настроением, шатающим массы, была теперь не надежда, а грозное и покаянное предчувствие, созвучное апокалиптическим пророчествам. На переходе от XV к XVI веку общество волновалось мрачными предсказаниями, касавшимися в основном судьбы города-государства и гражданского общества. Они и помимо Савонаролы наводняли тогдашнюю Европу. Для сравнения можно вспомнить о пророчествах Михаила Клопского и Зосимы Соловецкого, предвещавших в середине XV века падение Новгорода.
Вместо дружных усилий свободных граждан благочестивое рвение не по разуму разлилось по северной Италии конца XV века. После буллы 1484 года папы Иннокентия VIII только в городе Комо и окрестностях доминиканские монахи, выполнявшие функцию духовной полиции, опознали и сожгли десятки ведьм. Герцог Феррары Эрколе I пасхальным эдиктом 3 апреля 1496 ввел в своих владениях строгую нравственность вплоть до запрета на карточные игры и до распоряжения евреям-иноверцам не выходить на улицу без желтого знака О на груди. В Милане в 1500 был издан подобный закон.
В атмосфере таких настроений Савонарола не столько распалил религиозное рвение во Флоренции, сколько наоборот попытался направить его в созидательное русло, когда основал на нем свой замысел флорентийской теократии. Это ему на очень короткое время удалось. Карнавальный хоровод на площади св. Марка, где тремя концентрическими кругами ходили монахи-доминиканцы, священники и светские граждане, воплощал духовную собранность целого народа. Люди здравого смысла, и Макиавелли в том числе, смеялись над Савонаролой. Но многих он заставил навсегда задуматься. Он заразил таких утонченных художников и мыслителей как Сандро Боттичелли и Джованни Пико чувством единственности и строгости пути, по которому должна идти культура, если она хочет хранить человека и мир.
Реставрация добродетелей, предпринятая Савонаролой, была с самого начала обречена. Хотя вольные художественные и ученые искания действительно размывали единство лица, снова распределяя человеческое существо по множащимся познавательным, творческим и социальным функциям, в них однако была динамика и захватывающая новизна, чего не хватало проповеди Савонаролы. Главной силой эпохи оставалось сознание небывалых возможностей. Развернуть их обещала всё та же виртуозность, сосредоточенная энергия, но теперь уже обезличенная.
Единоличная власть давала больше возможностей для концентрации сил и сама имела аналогичную цель. Художественные творения Высокого Ренессанса создавались в основном при дворах, светских и духовных, вдали от взбудораженности коммун. Соответственно ренессансная политическая теория уже к концу XIV века сменила тон с бескомпромиссного республиканства на культивирование просвещенного государя. Петрарка в 1347 еще воспевал Римскую республику Кола ди Риенцо. Около 1353 его привязанности меняются. В конце жизни он посвящает описание идеального государя (Старч. XIV 1) синьору Падуи Франческо да Каррара, не смущаясь тем, что тот в 1362 урезал гражданские свободы в своем государстве.
Нравственно-философские правила, составляемые для государей гуманистами XV века, отличаются от средневековых только темой славы как награды за добродетель, широким обращением к античным «авторам» за поддержкой по вопросам этики и причесанностью латыни[234]. За специальной добродетелью государя признаётся своя логика независимо от того, культивирует он в себе другие добродетели или нет. В XIII–XIV веках политическая наука действовала в основном методом беспристрастного анализа и опиралась на Аристотеля. В XV веке она увлеклась описанием идеальных образцов и опиралась чаще на Платона. Что бы ни было причиной этого перехода, правителям льстил платоновский идеал философа-царя, удобно ставивший их на особое положение, коль скоро пути мудреца неисповедимы.
Высказывалось предположение, что Фичино, хваливший Лоренцо Медичи за союз философии с высшей властью, играл на руку итальянским тиранам[235]. Дело было, возможно, не в предательстве республики. Поворот культуры к предельному развитию обособляющихся способностей не оставлял другого выбора для мыслителя, желавшего участвовать в истории, кроме признания совершившегося разделения труда. Автократия Медичи, воспрещая политическую вовлеченность, поощряла сосредоточенные художественно-научные занятия. Сильная власть любит иметь рядом с собой мастеров.
По Мишле, Ренессанс захлебнулся, когда охватил сразу слишком многое, целую бесконечность во времени и пространстве[236]. Начавшись в философской поэзии, участливое отношение к природе и миру, воспринятым как целое, собственной внутренней логикой тронуло с места лавину познавательных и практических задач, на которые со временем перестало хватать сил у самого разностороннего и деятельного индивида.
Однако открытость бесконечных горизонтов, необъятных для одиночки, следствие восстания человеческой свободы против судьбы и существует только до тех пор, пока далекой целью всей разносторонней деятельности людей остается образ завершенной простоты, будь то человека или его мира.
От поэтической философии к художественной науке
После того, как в 1374 не стало Петрарки, а в 1375 – Боккаччо, в Италии началось «столетие без поэзии» (Бенедетто Кроче). Создается масса преимущественно латиноязычной поэтической продукции, но на суровый суд современного историка культуры между Боккаччо и Полициано (1454-1494) нет ни одного большого поэта[237].
От середины XIII до середины XIV века и несколько позже поэзия до такой степени определяла собою итальянскую словесность, что подчиняла своему стилю и настроению всё, что было способно ей подчиниться. Так, проза Боккаччо, которого можно сравнить в этом отношении с Н. В. Гоголем, назвавшим свое главное сочинение поэмой, выросла из поэтической стихии и в автоэпитафии он назвал делом своей жизни «милую поэзию», studium fuit alma poesis. Колуччо Салутати называет стареющего Петрарку в письмах к нему всё еще «славным лауреатом», т. е. ценит в нем прежде всего поэта. Боккаччо для него тоже по преимуществу поэт, «неподражаемый служитель Пиерид», «муж, близкий к Геликону» (Письма II 8; 12; III 9).
В XV веке ведущим способом осмысления мира становится художество. Словесность откатывается на позиции филологии, комментария или теории искусства. Конечно, выдающуюся живопись имел и XIV век. По Энею Пикколомини, живопись и словесность развивались тогда почти параллельно: «После Петрарки поднялась словесность, после Джотто возродилось мастерство художников»[238]. И всё же в XV веке именно художник стал тем, чем раньше был по преимуществу поэт: философом, идеологом, ученым, а сверх того еще и изобретателем. Ренессансный историк искусства Джорджо Вазари, ссылаясь для порядка на авторитет античности, устанавливает как якобы общее правило то, что во всяком случае справедливо в отношении ренессансной живописи XV–XVI веков: «Почти все выдающиеся живописцы и скульпторы… получали в дар от неба… поэзию и философию».
Два примера. Анализ недавно отреставрированной «Весны» Боттичелли, которого Вазари называет умудренной личностью, persona sophisticata, показывает, что помимо философского и мифологического смысла в ней нашли себе место ботанические, астрологические, алхимические познания эпохи[239]. Связь Боттичелли с Платоновской академией не обязательно означает его ученическую зависимость от нее. С неменьшим основанием можно было бы говорить, что флорентийские платоники строили свою теорию любви и красоты, разгадывая живопись этого и других художников. Современник Леонардо, Сандро Боттичелли видит мир глазами Данте. Природа возвращает себе у него ранний ренессансный облик прекрасной, хрупкой и страдающей женственности. Намеренно возвращаясь в прошлое, Боттичелли отказывается от перспективы.
Как для Боттичелли живопись была философией, так для Леонардо она стала универсальной наукой. Его анатомические рисунки и обнаженная натура, требовавшие остроты научного наблюдения и в свою очередь развивавшие ее, служили познанию человека как живого существа. Эрвин Панофски называет Леонардо основоположником научной анатомии. Практика анатомического рисунка со своей стороны упрочивала навыки архитектурного проектирования, это важно. Живописное изображение у Леонардо, и не только у него, соревновалось со скульптурой, переходило в изобретательство, военную и гражданскую инженерию, наконец в астрономию, «матерью» которой считалось искусство перспективы – для Леонардо «кормилицы и узды живописи».
Надо прибавить сюда пропагандную, идеологическую, социальную службу живописи, в то время очень заметную, «возможно, даже слишком большую»[240]. Не было поэтому преувеличения и пристрастия в том, что живопись представлялась Леонардо не только «истинной философией», но и чем-то возвышающимся над словесностью, поскольку лишь живописец «самостоятельно обнимает первую истину»[241]. Как Данте называл философию «дочерью Императора вселенной», так Леонардо именует живопись «внучкой природы и родственницей Бога», nipote di natura е parente di Dio[242].
Перевод заветов философской поэзии на язык изобразительного искусства исподволь менял их значение. В поэтическом слове находил себя весь человек. В живописном образе обычно встречает себе отклик только молчаливая часть человеческого существа, пусть даже в красках воплощено целое мировоззрение. С другой стороны живопись, понятая как философия и наука, завязывает более осязаемые отношения с вещественным миром чем поэтически-философское слово. Она издалека прокладывает путь научно-техническому изобретательству.
Живопись в роли мировоззрения, художник в роли философа были наверное не так типичны для античности, как казалось ренессансным теоретикам. В Средние века живопись занимала тоже неглавное место в большом синтезе искусств, сосредоточенных вокруг собора. Строительство храма знаменовало собой воздвижение мирового порядка. Вода, в которой замешивали глину, напоминала о предвечных водах, цемент в основании алтаря изображал Землю, боковые стены создавали воздушное пространство, каждый этап постройки алтаря символизировал выпуск в свет очередной космической сферы[243]. Готовый храм давал работу живописцам, школа при храме – каллиграфам и миниатюристам. К XV веку этот тысячелетний порядок утратил свою образцовость и живопись в принципе обособилась от архитектуры. По Гансу Зедльмайру, на смену большому храмовому синтезу пришел малый синтез живописного изображения. Картина вместила и священную (т. е., для той эпохи, общезначимую) тематику, и философскую и богословскую символику, и трехмерное (перспектива) пространство, и архитектуру (итальянская живопись до второй половины XVI века переполнена архитектурой, почти градостроительными проектами), и свой текст (за счет обязательного аллегорического и иероглифического прочтения фигур и предметов), почти всегда также и временное протяжение, нередко явно, как например в иллюстрациях Боттичелли к истории Настаджо из «Декамерона» V 8, гораздо чаще прикровенным и до сих пор мало разгаданным образом.
Хотя само по себе перенесение универсума искусств из архитектурного объема на особую плоскость живописи было огромным поворотом, в свою очередь это было лишь фазой более многозначительного сдвига: художественно-изобретательская мысль оторвалась от той почвы, какою являются подспудные, не сознаваемые, но оттого не менее непреложные обстоятельства работы художника.
Посмотрим на то, как с Ренессансом пейзаж становится темой для осмысления. Это ведь вовсе не значит, что пока пейзаж не был предметом обсуждения и специального изображения, он не участвовал в произведении искусства. Прямо наоборот, он был такой неотъемлемой частью создания, что мысль, не только художественная, не могла отмыслить его от себя, потому и не могла разглядеть как что-то вне ее находящееся. До того как пейзаж стал темой для мысли, он оставался незаметно пейзажем самой мысли, исподволь формировал ее. И художественная мысль, в которую непосредственно вписывался пейзаж, в принципе не могла замыслить бескачественного пространства.
Как природный пейзаж, так же и человеческое окружение. Общественные, биографические, психологические обстоятельства творчества, пока они не стали предметом наблюдения и анализа, оставались обстоятельствами самой творческой мысли, Т. е. в принципе не могло быть ума, в котором эти обстоятельства заранее уже не присутствовали бы в ряду первых данностей. Способность отмыслить их от философского и художественного труда, пожалуй, и имелась, но почти не использовалась.
Например франкмасоны, строители готических храмов, были женатыми служителями церкви, они жили под ее покровительством отдельными колониями и передавали свои секреты только таким же посвященным. Этот их уклад жизни, по-видимому, не подлежал обсуждению и тем самым неизбежно входил определяющим фактором в их работу. При всей своей смелости художественная мысль в готической архитектуре поэтому неотделима от среднеевропейского пейзажа, от уклада жизни финансировавших ее городов, от опыта общины масонов, от ее отношений с обществом в более широком плане. Мы говорим об этом в порядке предположения, хотя и необходимого, потому что записи всех этих обстоятельств не велось, они не становились темой.
Наоборот, у ренессансного архитектора Филиппа Брунеллески, например, детально известны, потому что всячески выносились на обсуждение, его сложные отношения с заказчиками – флорентийскими гражданами. Известна его творческая самооценка. Рассматривая себя как личность и как художника, он тем самым отвлекался от самого себя. Социальный и психологический пейзаж, став здесь предметом размышлений, прекратил быть неотъемлемой данностью художественной мысли. Она сумела обособиться от всего, что не было ею самой.
Отсюда повышение статуса математики, которая признается характернейшей чертой архитектурного метода Брунеллески. Математика в архитектуре, живописи Ренессанса не столько получила небывало широкое применение, – сохранились исторические свидетельства о том, что по крайней мере при возведении стрелы Страсбургского собора франкмасоны пользовались математическими расчетами, хотя есть символическая правда в привычке изображать их мастерами, полагавшимися только на опыт и интуицию, – сколько приобрела помимо прикладного идеологическое значение как символ чистоты творчества, его независимости от природных, социальных, психологических обстоятельств. С ренессансным открытием пейзажа, с «началом новоевропейского мирочувствия» иногда связывают восхождение Петрарки 26 апреля 1336 на гору Ванту в Провансе. Исследователи почему-то проходят мимо парадоксального поведения Петрарки перед открывшимся ему с вершины горы широким и живописным пейзажем. «Прежде всего, взволнованный неким непривычным веянием воздуха и открывшимся видом, я застыл в каком-то ошеломлении. Озираюсь: облака остались под ногами… Направляю лучи глаз к италийским краям, куда больше всего тянусь душой; вздыбленные снежные Альпы… кажутся совсем рядом». Но после первых кратких минут восторга простором, высотой, бескрайней перспективой поэт рассердился на себя за любование земными вещами, «когда давно даже от языческих философов должен был бы знать, что нет ничего дивного кроме души, рядом с величием которой ничто не велико». «Поистине удовлетворившись зрелищем горы», он «обратился внутренним зрением к себе», и гора, на которую он уже не пожелал даже оглянуться при спуске вниз, показалась ему «едва одного локтя высотой рядом с высотой человеческого созерцания, когда человек не погружает его в грязь земной мерзости» (Повседн. IV 1).
Открытие пейзажа стало тут же освобождением от него. В своих письмах Петрарка как никто до него за всё тысячелетие, прошедшее со времен Августина, отмечает детальнейшим образом подобно Августину, но только систематичнее, состояние окружающей природы, сезон, час дня, погоду, собственное душевное состояние, свое пространственное и психологическое положение в окружающем мире; и ничто не дает понять яснее, что все эти вещи уже никогда не пройдут мимо его рефлексии. Ясно также, что какова бы ни была его любовь к природе, Петрарка уже никогда не даст пейзажу остаться неосмысленной частью своего сознания.
Следствием того, что художественная мысль отслоилась от пейзажа, природного и социального, даже эмансипировалась от настроений самого художника, начав отражать их, явилось истончение слоя вещей, которые она должна была пронизать, чтобы осуществиться. Пока она имела своей неотъемлемой составляющей переживание природы, непосредственно ощущаемый напор социума и меняющееся самоощущение, она не могла прийти к завершению не приведя в движение все эти сферы, т. е. не вписавшись реально в архитектурное сооружение, в конкретный пейзаж, в социальную ситуацию. Иначе как в камне, в дереве, в пространстве, во времени додумать такую мысль было просто невозможно. Но после того как пейзаж, социум, собственная личность стали темой для размышлений, наблюдений и потенциальной перестройки, т. е. после того как мысль перестала обязательно включать их в себя как продолжение самой себя и как свое особое тело, она смогла достигать законченности и без обязательного вторжения в эти реалии.
Готический стиль имел о себе в свою эпоху гораздо меньше литературы чем архитектура итальянского Ренессанса. Готика собой выражала себя, да и во всяком случае она могла сказать то, что хотела сказать, только в конкретном веществе и в формировании окружающего пространства. В ренессансной архитектуре главным стало уже не врастание в жизнь города и поля, а порождение и максимально широкое рассеяние художественно-математических идей, изобретательская деятельность, которая ощущала себя просторнее на доске, потом на холсте, потом просто на бумаге, чем воплощенной в камне. Ренессансных архитекторов больше захватывало изобретательское искание чем органическое врастание в непосредственную природную и социальную среду. Подобно новой живописи, она имела своей задачей философское осмысление всего мира. Многие архитектурные проекты Ренессанса остались невоплощенными, но циркулировали в чертежах по мастерским страны, изучались, оценивались, делали свое дело наравне с осуществлявшимися. Математический расчет, художественный замысел и без внедрения в вещество получали самостоятельный статус. Больше того, им, судя по количеству незавершенного в трудах ренессансных художников-изобретателей, даже оказывалось своеобразное предпочтение. Идея светилась в них чище, чем в воплощенных работах.
Письмо масляными красками на свертываемом холсте сделало более подручным материал художнической мысли. Чертеж, рисунок, набросок, гравюра позволяли художнику еще смелее давать волю своему воображению, когда он оставался наедине с чистым листом бумаги. Тут на листе бумаги художник и строил свой мир, диктуя собственные условия природе, обществу, самому себе. Хотя отношения с этими сферами и возможность воздействия на них становились менее прямыми (не обязательно менее интенсивными), результат воздействия не отменялся, а приобретал только гипотетический, менее предсказуемый характер.
Вещественное окружение, дух пейзажа и общины, личное место в структуре общества уже не водили непосредственно рукой художника, не пользовались им как послушным бессознательным медиумом. Новаторству не требовалось теперь длительно и трудно врастать в тысячелетнее окружение, приспосабливаясь к жизни среды, дожидаясь постройки храма, чтобы развернуть в нем скульптуру, живопись, книжное дело. На переносном холсте и на летучем листке развертываются замыслы, не слишком сковывающие себя заботами о конкретном осуществлении. Появляются заведомо утопические проекты, как звездообразный город Сфорцинда архитектора Филарете, с самого начала предназначенный существовать только на бумаге, но и в этом виде послуживший градостроительной моделью.
Разные картины мира спорят о том, какая должна наложить свой облик на среду. Размножение таких картин неостановимо. Средневековый художественный замысел должен был обязательно вписаться в готовую ячейку данного мира, подчиняясь еще к тому же устоявшимся канонам. Ренессансный проект мог родиться в чистой мысли и мир, наоборот, должен был вписаться в нее, подчинившись замыслу.
Живопись стала философией, потому что, не ограничиваясь органичной переорганизацией данностей, она перешла к поискам абсолютных первоначал бытия. Появилась чистая художественно-изобретательская мысль, которая, даже имея дело с конкретной вещью и частью мира, подходила к любой частной задаче так же основательно, как философия к миру в целом. Ветвление частных наук и умений было облегчено тем, что каждая отдельная наука и каждое умение в одном, но зато центральном отношении оставались философией. Любой предмет ренессансной и послеренессансной научной мысли можно, но не обязательно нужно брать в связи с другими. Так, рассуждая о «порождении», т. е. о первой причине движения тела, Галилей «конципирует в уме… нечто подвижное, запущенное в горизонтальной плоскости в условиях отсутствия какого-либо препятствия» (Беседы и доказательства вокруг двух новых наук, относящихся к механике и к пространственным движениям. День четвертый, начало). Подобный мыслительный эксперимент требует, чтобы предмет предстал сознанию самодостаточным целым, т. е. отдельным миром, а мысль очистилась от непредсказуемых факторов, заявлявших на нее раньше свои права.
Ранние ренессансные поэты, отстаивая философское достоинство поэзии и ее место во главе свободных искусств, предвидели будущую значимость живописи. Говоря о приемах астрономической науки, Данте ставит «искусство, именуемое перспективой» прежде свободных искусств – арифметики и геометрии, при том что говорит о геометрии как о чистейшей науке, «поскольку она не запятнана ошибочностью и в высшей степени достоверна как сама по себе, так и благодаря своей служанке, которая именуется Перспективой» (Пир II 3, 6; 13, 27). Перспектива, наделявшая живопись статусом науки, создавалась как математическая проработка пространства. Эрвин Панофски замечает, что похожий на масштабную сетку настил пола в виде шахматной доски на картине Амброджо Лоренцетти «Благовещенье» (ок. 1344) кажется прототипом системы координат. С живописной перспективой приходит новая философия пространства как «непрерывного количества, состоящего из трех физических измерений, по природе существующего прежде всех тел и до всех тел безразлично вмещающего всё»[244].
Петрарка хорошо знает место живописи в античной иерархии умений, поэтому не называет ее философией. Он помещает ее «выше всех прочих ремесленных искусств», упоминая при этом, что «если верить Плинию, у греков она даже числилась в первом ряду искусств благородных» (Лекарства от превратностей судьбы I 40). Однако в интимном ощущении Петрарки живопись стоит не ниже поэзии, источник ее «изумляющих нас славных творений» – красота души, дар всемогущего Бога (Повседн. V 17). В «Путеводителе для едущего в Сирию» Петрарка советует в Неаполе «не забыть зайти в капеллу короля, где мой соотечественник, первый из живописцев нашего времени (Джотто), оставил великие памятники своей руки и ума». В завещании 1370 года Петрарка оставляет синьору Падуи Франческо да Каррара «принадлежащую мне картину, или икону, блаженной девы Марии работы Джотто, выдающегося живописца… красоту которой невежды не понимают, при том что мастера этого искусства ей поражаются».
Боккаччо, полагаясь, как ему кажется, на Горация и Августина, смело ставит художника рядом с поэтом. Филиппо Виллани замечает около 1381 года, что «многие считают, и неглупо делают, что живописцы не ниже умом чем выученики свободных искусств, при том что эти последние усердием и учением приобщаются к законам искусств, извлекая их из книг, а художники достигают понимания искусства, полагаясь на глубину ума и цепкость памяти»[245]. К началу XVI века называть живописцев ремесленниками уже мало кто решался, и Кастильоне в начале «Дворянина» требует от достойного человека, среди прочего, знания живописи не в меньшей мере чем литературы.
Что бы ни говорилось некоторыми историками о чистой риторичности обожествления живописцев, скульпторов, архитекторов на художественно-изобретательской ступени Ренессанса, за небывало высоким статусом этого искусства стоит здесь тот простой факт, что у таких художников как Боттичелли и Леонардо да Винчи оно вместило в себя фундаментальную мысль о мире и природе. В составе живописи достоинства свободного, т. е. не служебного, а философствующего искусства, несущего на себе понимание бытия, достигло со временем техническое изобретательство.
Между прочим, освобождение от своего служебного статуса ренессансное искусство и художественное изобретательство подтвердило перевесом искания над осуществлением. У Леонардо да Винчи нет почти ни одного законченного произведения, не говоря уже о его записных книжках с тысячами набросков и проектов, перемежающихся планами написать книгу на каждую из сотен мимолетно затронутых тем. Важнейшие работы Бенвенуто Челлини пропали в проектах. Почти все работы Микеланджело тоже остались незавершенными.
Славе и совершенствованию художников-изобретателей это не мешало. Для них всего важнее было безостановочное движение ищущего ума. По А. Шастелю, Леонардо да Винчи вложил в свою жизнь едва ли меньше таланта чем в свои произведения. Подобно Бенвенуто Челлини, Джироламо Кардана тоже знаменитее своей биографией гениального оригинала чем открытиями и изобретениями. В значительной мере эти последние были фантастическими ввиду использования в них магии, астрологии, числовой мистики и каббалистического гадания.
Мало того что хитроумные, но часто непрактичные новшества XV–XVI веков гораздо меньше вписывались в жизнь общины, города, государства чем утилитарно направленные изобретения Средневековья. Энергия безудержного изобретательства часто действовала даже вразнос, на подрыв успешной установившейся практики и даже во вред самой себе. Эксперименты Леонардо довели до того, что краски собственного изобретения начали выцветать на его картинах. Даже когда его технические замыслы осуществлялись, на бумаге они оказывались долговечнее, чем на практике. Критики Ренессанса видят в этой неоконченности или даже практической бесплодности исканий несостоятельность творцов, их человеческую незрелость, даже душевную неустойчивость или прямо отказ им в благословении свыше. Но, посвятив себя осуществлению конкретных проектов, художники-изобретатели как раз изменили бы истине своего нового призвания. В проектах паровой машины, подводной лодки, танка, самолета у Леонардо, тем более далеких от воплощения, что художник тут же переходит к другим замыслам, жило главной чертой сознание безбрежности открывшихся возможностей. Обозначить фейерверком бесчисленных идей новый горизонт было исторически гораздо важнее, чем взяться и решить какую-то одну из множества задач.
Недовоплощенность замыслов всего лучше воплощала их бескрайность. В непрактичности, доходившей до ребячества или до наивного магизма, содержалась особая целесообразность очень далекого дыхания. Вот одна из характерных записей Леонардо да Винчи для самого себя: «Я отставлю пока в сторону доказательства и опыты, которые проведу потом, при упорядочении труда, и займусь только отысканием случаев и находок (casi е invenzioni). Буду записывать их подряд по мере того как они являются, а после придам им порядок, собирая вместе всё однородное; так что сейчас не удивляйся и не смейся надо мной, читатель, если я делаю тут такие большие скачки от одной материи к другой»[246]. Богач перед сокровищами своих «случаев», т. е. выпавших на его долю прозрений, и «находок», т. е. готовых легко дающихся изобретений, не хочет не только доводить их до конца, но даже просто упорядочить. «Индивидуализм… Леонардо… ставший абсолютным и последовательно проводимым эгоизмом, потерпел крах… но… нашел свое воплощение в титанической и беспорядочной деятельности»; он «человек, свободный так, как еще никто не был свободен, человек, которому всё безразлично, потому что всё может интересовать его в равной мере»[247]. Вопреки нескрываемой неприязни к ренессансному изобретателю, историк культуры угадал в этой, по замыслу обличительной, характеристике и размах его замыслов, и его равную открытость всему. Чем бы частным ни занимался Леонардо, «кажется, он всегда думает о чем-то другом»: впереди манит последний предел постижения, «после которого изменится всё» (Поль Валери). Было действительно почти всё равно чем заниматься: в перспективе любого открытия виделся преображенный мир. Мысль отправлялась от переменчивой конкретности, от частных жизненных ситуаций, но ориентировалась на предельные вехи. Для Леонардо это – первые «причины», т. е. законы природных вещей.
Открывательская деятельность, отвлекающаяся от меняющихся обстоятельств и от утилитарных задач, идущая с «философским» размахом без встраивания в заранее данный контекст, может быть подхвачена таким и только таким учеником и преемником, который способен увидеть любой, пусть уже другой предмет наблюдения и исследования в свете столь же предельных ориентиров.
Средневековая культура понимала преемственность иначе, воспрещала выходить из сложившейся данности. Кёльнский собор, материально вросший в прирейнский пейзаж, повседневную жизнь и историю города с конца XIII века, постепенно достраивался вплоть до XIX века. Суммы высокой схоластики создавались в XIII веке с замыслом на века оформить («информировать») умы людей, и неотомизм, утвердившийся тоже в XIX веке, имел целью упрочить вечную значимость самого зрелого плода средневековой науки, сохранив вещественную, осязаемую верность традиции.
Преемственность ренессансного типа, наоборот, отличается такой свободой по отношению к материальной традиции, что внешне создает впечатление разрыва с прошлым. Данте, Петрарка, Боккаччо не возродили ни латинского стихосложения с его просодией, жанрами и стилями, ни античной философской систематики с ее вечной топикой. Наоборот, в Европе XIII века было трудно вообразить большую противоположность облику античной литературы чем рифмованная силлабика и новеллистическая проза на «вульгарном» языке, которому посвятили свои усилия эти гениальные художественные умы. Но поэты Ренессанса возродили саму вещь – литературу и ее место в жизни народа, в культуре и в истории, тогда как Средневековью, прикованному к букве древних образцов, едва удавалось сохранять латинский язык полуживым. Уважение к материи прошлого не было утрачено Ренессансом, но он изобрел для нее музеи. Одним из таких музеев стала гуманистическая латынь. Учредив музеи, он мог со спокойной совестью, ничего не разрушив, ничему не следовать слепо.
Ведь независимо от того, понималась ли древняя virtus как мужество в противостоянии фортуне или как мастерство, ученичество у древности означало для Ренессанса вовсе не перебор оставшегося от нее материала, а прежде всего санкцию на предельность ставящихся задач. Бескомпромиссная мысль, признававшая над собой только императив идеального долга, подчиняла себе и одновременно определяла собой исследователя. В ограниченной обстоятельствами личности с ее колебаниями такой мысли уже тесно. Человек оказывается для нее только питательной средой. Субъектом глобального подхода к миру может быть только сила, способная подняться над человеческой ограниченностью.
«Трудно себе представить что-то более свободное, т. е. менее человеческое, – пишет Валери о Леонардо да Винчи, – чем его суждения о любви и смерти». Как в поэтической философии раннего Ренессанса человек растворился в прозрачной простоте немногих черт, любви, мудрости, добродетели, так в художественной науке высокого Ренессанса субъект исследователя упростился до сосредоточенного напора нескольких, немногих первобытных сил. У Леонардо это желание, возведенное в ранг природного первоначала, опыт как доверие к невыразимой в словах единичности сущего, чья конкретность ценится без сравнения выше отвлеченных идей, и упрямая строгость, ostinato rigore как решимость дойти наперекор собственной слабости, вопреки любой сложности до предела постижения. Он должен быть не условной величиной для меня, а чем-то обязательным для всех, как в математике.
В лице ученого-художника, изобретателя человек так же безраздельно посвящал себя исканию сути природы, как поэт-философ – Амору и Прекрасной Даме. Конечно, нельзя дать неопровержимое доказательство того, что такая посвященность была подлинным осуществлением человека, а не искажением его образа, как считают критики Ренессанса. Однако не нуждается в доказательстве тот наблюдаемый факт, что люди как судьбе отдавались исканию. В художественно-научное познание мира вкладывали всю страсть. По привычке художественно-научные открытия назывались изобретениями человеческого разума. На деле в них участвовал весь человек, а не только некоторые из его способностей. У средневекового ученого его занятия не могли не встать с самого начала на соответствующее их дефиниции место в общем распорядке естественной философии. Теперь любая тема становилась в перспективе целым миром и требовала себе целого человека с его сердцем и чувством.
Средневековое философское богословие переполнено предупреждениями против разгула разума. Сила разума, способная развернуться независимо от веры, любви, авторитета, пугала хранителей культуры. Действенное и годное на все случаи средство от злоупотребления отвлеченным разумом видели в задушевном молитвенном настрое. Правда, из мистических прозрений можно было, подобно катарам, тоже делать еретические выводы. И всё же внутренняя жизнь с духовными порывами, покаяниями, невыразимыми переживаниями, уходом в молчание, экстазами, сновидениями внушала стражам больше доверия чем деятельность ученых, потому что разрывала афинейские плетения рассудка.
С этой стороны поэтическая и научно-художественная философия Ренессанса как раз почти не навлекала на себя подозрений церкви, тогда как, например, схоластика Боэция Датского, Дурана, Оккама, Жана из Миркура, Жана Жандена требовала от епископов бессонной бдительности и назначения новых и новых комиссий для разбора жалоб на мнимые или реальные ереси диалектиков. Ренессансная мысль и речь даже в философии и науке, не говоря уже о ее возведенной в систему бессистемности, остается интимно личной, соприкасается с любовью и памятью о смерти, никогда не бесстрастна, то и дело тонет в мистическом чувстве и черпает в нем энергию. Природа художественной науки не оставляла никакой возможности для того, чтобы рациональная логика заняла тут ведущее место. Ученость Леонардо неотделима от страсти.
Воля к завершенной форме в раннем поэтическом Ренессансе была только символом неотступности в борьбе с Фортуной и не грозила идеологическим структурам своей современности. Создатели Ренессанса почти никогда не вели систематической работы по упрочению позиций нового против отвергнутого старого. Здесь одно из отличий этой эпохи от Средних веков, полных вероучительной и догматической борьбы, доходившей до рукоприкладства. Победа на соборах во многом зависела от численного, психологического или просто физического перевеса одной партии над другой. Борьба была тем более жестокой, что от исхода зависело, как всем казалось, торжество истины или лжи. Ранний Ренессанс полон спокойного сознания, что истина найдет себе путь, важно только самому видеть и назвать ее. Из двух средневековых стилей, официально-доктринального и мистически-интуитивного, Ренессанс ближе ко второму.
На первый взгляд неуместное, интимное и задушевное, почти молитвенное и во всяком случае философское переживание науки сделало возможным ее небывалый в истории подъем. Во-первых, предельная мобилизация человеческих сил обусловливала такую же предельную, максималистскую и тем самым безусловную и непреходящую постановку проблем. Во-вторых, когда после первого мало упорядоченного раскрытия области работы, очерченной только предельностью ориентиров, начиналось освоение этой вчерне размеченной строительной площадки, каждый кирпичик научного здания оказывался не столько итогом предыдущего накопления, сколько новым сгущением творческой энергии человека, посвящающего все силы души большому или малому миру своих занятий, и передавал заражение научной страстью следующим поколениям искателей.
Почти каждый крупный исследователь не столько подключался к тому, что наметили предшественники, сколько создавал новую науку или новую технику. Разветвление наук вело конечно к дроблению прежде всего единого поля знания, но вместе с тем к рождению новых самостоятельных потенциальных миров. В каждом поколении исследователей возобновлялась прежде всего опять глобальность постановки задач и основательность их решения. Всё подлежит восстановлению от первых оснований, эта программа Данте, осуществлявшаяся в изобретательстве Леонардо, в политической науке Макиавелли и Гвиччардини, стала лозунгом Хуана Вивеса и Френсиса Бэкона, неписаным законом всей новоевропейской науки, которая до сего дня по-настоящему озабочена больше строгостью метода, чистотой эксперимента и точностью представления данных чем практическими результатами. Познание всего познаваемого, не удавшееся при первом приступе у Леона Альберти, Джованни Пико и Леонардо да Винчи, продолжало питаться личным порывом и после того, как выставило требования, превышающие любые возможности индивида, и превратилось в коллективное научное производство.
«Когда спрашивают, в чем собственно заключалось величие достижения Христофора Колумба, открывшего Америку, то приходится отвечать, что дело не в идее использовать шарообразную форму земли, чтобы западным путем приплыть в Индию; эта идея уже рассматривалась другими. Дело было и не в тщательной подготовке экспедиции, в мастерском оснащении кораблей, что могли осуществить опять же и другие. Самым трудным в этом путешествии-открытии было несомненно решение оставить всю известную до тех пор землю и плыть так далеко за запад, что возвращение назад с имеющимися припасами становилось уже невозможно» (Вернер Гейзенберг). С Колумбовым прорывом в новую землю Гейзенберг сравнивает открытия теоретической физики первой трети XX века. Увлеченность, крайнее напряжение сил, озарение снова играли тут настолько важную роль, что открытия Бора, Шредингера, самого Гейзенберга, Дирака стали неотделимы от личности этих ученых.
Первым же шагом ренессансная поэтическая и художественная наука обеспечивала себе горизонт, допускающий обзор мирового целого. Выход на простор достигался в каждом случае по-разному, но никогда не минуя чувства и воли всего человека. Так перспектива – ранее полухудожественное открытие всевмещающего пространства, векторного и вместе стабильного, привязанного к личной точке зрения и вместе общезначимого – была делом страстного увлечения. Джорджо Вазари рассказывает, что Паоло Уччелло, который «беспрерывно находился в погоне за самыми трудными вещами в искусстве», в ответ на просьбы жены ложиться наконец спать после дня работы вздыхал: «О, сколь сладостная вещь эта перспектива!» Перспектива вдвигала сверхреальность художественного произведения в пространство повседневного восприятия и опыта, придавая ей таким образом небывалую близость к наблюдателю. Замысел художественно-изобретательского освоения мира, подобно перспективе, не просто отводил каждой области исследования свое место в рамках целого, но и делал общую картину мира интересом каждой личности. Благодаря этому даже отношение к предмету, возникавшему в ходе долгой и сложной специализации, могло оставаться по сути подобно отношению поэта-философа к природе.
Пишущий эти строки вынужден признаться, что ему никогда не удавалось понять важности споров о принадлежности или отнесении Данте, Петрарки и Боккаччо к Ренессансу, проторенессансу или предренессансу. Решающе важно то, что весь Ренессанс безусловно признавал этих поэтов своими и от них вёл свое летоисчисление. В XV и XVI веках они остаются ключевыми фигурами, им много и разнообразно подражают, они занимают центральное место в литературных и философских дискуссиях. Великая итальянская литературная традиция начинается с трех поэтов, от каких бы исторических дат ни вели исследователи свой «гипотетический Ренессанс»[248]. Язык XIV века, il buon secolo, оставался образцом до эпохи барокко.
Данте воспринимался до такой степени как начало эпохи, что непосредственно подготовившая его итальянская лирика XIII века оказалась почти полностью забыта в его пользу. Итальянские ренессансные естествоиспытатели с гордостью прослеживали в «Божественной Комедии» свидетельства и отголоски эмпирического исследования природы. Действительно, пристальность наблюдения вещей явствует уже из образов и сравнений Данте. «Переход от философии любви к философии Космоса – это не только онтогенез, но и филогенез, не только эволюция творчества Данте, но и эволюция всей философской, религиозной, моральной, политической, эстетической мысли, и совпадение онтогенеза и филогенеза этой мысли делает Данте величайшим поэтом и величайшим мыслителем Проторенессанса и Ренессанса – его фигура объединяет их, включает Проторенессанс и Ренессанс, соединяет XIV век с XV и XVI веками и, более того, с XVII веком, с Галилеем, с классической наукой и с ее неклассическим эпилогом»[249].
В XV и в начале XVI века Данте был на вершине славы. Леонардо да Винчи, презиравший литераторов, латиноязычных гуманистов, слыл толкователем «Божественной Комедии». Его набросок геологических катастроф сопоставляют с картинами дантовского Ада, Микеланджело в глазах современников был вторым Данте, а сам мечтал в сонетах: «Будь я как он!.. Я б лучшей доли в мире не желал», Боттичелли иллюстрировал «Божественную комедию», Рафаэль поместил Данте дважды на фресках в «Станца делла Сеньятура»[250]. Один из женских образов на этих фресках отождествляют с Беатриче. Высказывалось мнение, что «Афинская школа» Рафаэля написана по мотивам 4-й песни «Ада». В последней трети XV века флорентийская Платоновская академия признаёт Данте своим патроном. В 1480–1500 вышло до 11 тиражей «Божественной Комедии». Установлено, что она входила в первую или вторую десятку книг, наиболее читаемых художниками. В школе ее изучали наравне с баснями Эзопа.
Без Данте понятие Возрождения лишается доходчивой простоты и становится достоянием безысходно спорных периодизаций. С именем Данте связано не меньше чем возрождение в Европе после тысячелетнего перерыва поэтико-философской литературы, не подражательной и не комментаторской, сравнимой по мировому значению и по месту в будущей истории с классической античной литературой. Исключение Данте из эпохи Ренессанса равносильно исключению этого возрождения словесности из понятия Ренессанса. Возрождение классической литературы на новоевропейском языке за рамками Ренессанса… Историки, предложившие такое противоестественное разграничение, надеялись уточнить и конкретизировать тему, но добились только того, что их предметом стало не историческое событие, а условность.
Значение трех поэтов нисколько не умаляется тем обстоятельством, что от их забот, замыслов, заветов очень скоро и далеко отошли. Их влияние продолжалось и так. Авангардом культуры стали изобразительные искусства, историософское принятие древности вытеснилось археологическим, в понимании добродетели перешли от счастливого самоосуществления к самоутверждению через мастерство и силу. В слышании и применении слова тоже произошла перемена, близкая к измене делу ранних поэтов.
Филологический гуманизм XV века и особенно первой трети XVI века, ставшей и временем его крушения в Италии, склонился к словам о словах. В XV веке снова хозяйничает то грамматическое, герменевтическое отношение к языку, которое преобладало у средневековых гуманистов, разве что к древнеримским авторам прибавляются древнегреческие, а главное новые авторитеты, Данте, Петрарка, Боккаччо. Они было прервали на век тысячелетнюю историю филологического гуманизма, заставили его служить всенародному слову, но сами сделались скоро пищей для своеобразной гуманистической схоластики. Ренессансно-филологические ученые споры о том, сколько дней Данте провел в аду, были гораздо дальше от жизни, чем символические схоластические рассуждения о том, какая доля ангелов пала, последовав за Люцифером. Когда писатели XV и XVI веков хвалились тем, что не употребляют ни одного слова, ни одной конструкции, не засвидетельствованных у Цицерона, они гордо сознавали себя преуспевшими продолжателями Петрарки, превзошедшими своего учителя, который «не сумел вполне отмыться от грубости своего века» (Вивес). Но это говорило лишь о забытости настоящего Петрарки.
Скандальное непонимание ренессансной философии слова, констатируемое современным исследователем у своих коллег[251], началось в действительности сразу после ухода поэтов-философов. «Эстетический характер, который Петрарка придал сонету, был утерян, и сонет снова стал тем, чем был до Петрарки, строфической формой, одинаково пригодной для любых мыслимых причуд»[252].
Одно из самых длинных и скорбных «Старческих писем» Петрарки (II 1) полно тревоги о том, что суть его поэзии, заложенное под ней «прочное основание правды» (ср. Африка IX 92–93) остается незамеченным и художественное слово проглатывается как прекрасный вымысел. Слово для Петрарки – продуманная и выверен ная, а кроме того исторически конкретная и пророческая, и еще созидательная правда, работа над которой ставит поэта рядом с вождями истории. Это очень трудное понимание слова, всерьез перенять которое способны пожалуй только поэт и исторический деятель. Буркхардт недалек уже от мнения подражательных гуманистов XV–XVI веков, когда говорит, что Петрарка в «Африке» пошел по ошибочному пути.
Замысел «Африки», поэмы об эпохе высшего цветения римской добродетели, был переплетен с мыслями молодого Петрарки о будущем Италии, о возвращении обновленного апостольского престола в Рим, о духовном и политическом возрождении вечного города. В поэме был завязан узел истории Италии, былой и ожидаемой. В этом была ее безусловная пророческая правда. Петрарка венчался лаврами в Риме в 1341 году как автор «Африки», которая была еще едва начата и известна только понаслышке. Тридцать лет с тех пор поэма мучила его. Ему не удавалось ее завершить. Он умер, не закончив и не опубликовав это произведение, которое всегда считал для себя главным. Незавершенность «Африки» подтверждала связь петрарковской поэзии с правдой истории, по-своему свидетельствовала о раннем надломе итальянского возрождения, о несбыточности духовного и политического объединения страны, о ее неминуемом уходе с ведущего места в Европе.
Эпоха ренессансной гуманистической схоластики перестала воспринимать историческую мысль Петрарки, забыла и об апокалиптике трех поэтов, перешла от грозного чувства завершения и исполнения времен к довольно-таки абсурдному просвещенческому оптимизму[253]. Сходство флорентийского просвещенчества с новоевропейским не просто случайно: итальянский Ренессанс ускоренно пережил все формы будущего культурного развития. История пошла своим путем. Но это вовсе не обязательно значит что Петрарка был плохой пророк. Он в мечтах строил будущее на противостоящем Фортуне народном порыве к добродетели, счастью и славе. Он не то что не мог, а не хотел предвидеть другого пути для европейской культуры. По разным причинам она выбрала путь развития техники.
Безжалостный саморазбор, столь характерный для Петрарки, менее заметен у талантов XV века чем упоение творчеством. Недовольство собой и веком, «внутреннее борение, которое было движущей силой его поэзии, не нашло подлинных подражателей раньше шестнадцатого века»[254]. Философия поэтического слова уступает позиции филологическим упражнениям. Большинство речей типичного гуманиста Франческо Филельфо (1398–1481), по оценке того же Буркхардта – «отвратительная мешанина классических и библейских цитат, нанизанная на ниточку общих мест». В некоторые старинные издания Петрарки входит диалог «Об истинной мудрости», на самом деле лишь приписанный ему, скомпонованный самим Филельфо из краткого текста Петрарки из «Лекарств от превратностей судьбы» и небольшого диалога Николая Кузанского «Простец о мудрости»; в промежутке между этими шедеврами краткости и силы слова обескураживающим диссонансом выступают невероятно многословные и пресные добавления самого Филельфо[255]. Появился навык, набив руку, пышно писать по установившимся риторическим канонам. Латиноязычный гуманизм, окрепнув в борьбе с диалектической схоластикой, сам выродился в своеобразную схоластику.
Бесспорно и важно то, что подлинным возрождением античной классики явились не латинские, а итальянские книги трех поэтов, «Божественная Комедия», «Книга песен» и «Декамерон». И точно так же подлинными продолжателями Данте, Петрарки и Боккаччо стали в Италии не гуманистические латинисты, а Макиавелли и Гвиччардини, Микеланджело, нелитературный (omo sanza lettere) Леонардо и Ариосто. Они доказали свою верность Ренессансу именно тем, что заново развернули его в науке, искусстве, изобретательстве и итальянской поэзии, равнодушно, а чаще с презрением отвернувшись от латиноязычной филологии.
Ранних поэтов принимали, возводили в надмирный образец, отвергали, предавали, исподволь продолжали. Всё это было лишь разными ликами их интенсивного присутствия в XV–XVI веках. Оно, «пусть неполное и перетолкованное, доминирует в литературе последующих веков, поэтому любая история ренессансной литературы не имеет иного выбора, кроме как вести свое изложение от Данте; вопрос, является он или нет ренессансным автором, представляется праздным»[256].
Дантовский культ подвига предполагает, что любое самоосуществление на земле лучше чем косное ожидание загробных благ, которых бездеятельный всё равно не увидит. Проснуться к любви, загореться воплощением красоты, вырваться из вечной череды повторений на единственную историческую сцену, залитую светом славы, – этот завет не исключал того, чтобы художники, изобретатели, прежде скромные ремесленники, сравнялись по самостоятельному достоинству с философами.
Данте, перед глазами которого стояло средневековое раздробление человеческого существа на иерархические уровни и структурные функции, работал над собиранием воедино любви, воли, добродетели, знания. «Без любви и без ученого труда нельзя называться философом… Философия ради приятности или ради пользы не есть истинная философия, но прикладная. Поэтому не нужно считать истинным философом никого, кто… сдружился с мудростью в какой-то ее части» (Пир III 11, 9). Данте не мог или не хотел предвидеть нового раздробления мира уже не на иерархические слои, а на личные вселенные. Именно тем, что поэты-философы не видели этой возможности, они издалека готовили ее.
Они начали реабилитацию живописи и изобретательства. По Леонардо Аретино, Данте любил музыку, изучение ее было обязательно для философа и в Средние века, а кроме того «превосходно рисовал». Контекст, в котором Данте говорит о своей живописи (Новая жизнь XXIV 1–3 disegnava uno angelo sopra certe tavolette), позволяет думать, что она была для него другой способ продолжить поэтическую мысль. Петрарка, судя по его сохранившемуся рисунку, тоже был незаурядным художником. На то, что слова, обозначающие работу поэта и художника, отличаются только одной буквой, первый указал возможно Петрарка, который в двустишии на миниатюре, приложенной к его роскошному тому Вергилия, рядом с именем поэта поставил имя иллюстратора, Симоне Мартини: «Мантуя дала Вергилия, создавшего (fi nxit) такие песни, Сиена – Симона, так нарисовавшего (pinxit) своим перстом». Всякое мастерство уважалось. Петрарка оставил по завещанию «пятьдесят золотых дукатов на покупку колечка, которое он пусть носит в мою память… магистру Иоанну де Донди, врачу и физику и бесспорно первому из нынешних астрономов, именуемому также Часовщиком, по планетарию – дивному созданию, которое он изготовил и которое невежественная толпа называет часами».
Особенно на фоне косности всякий труд был благословен. «Я и советую и зову со всей настойчивостью и с высшим напряжением сил изгонять душевный мрак и невежество в стремлении здесь, на земле научиться чему-то, что откроет нам путь к небесам… Продвигаясь в познании вещей… мы не должны прерывать этот путь до последнего дыхания» (Повседн. I 8). «Другим, может, покажется, что я гонюсь за славой, но ты… угадаешь мою жизнь и настроение и поймешь, что мне отсюда больше стыда чем славы, – а именно оттого что в преклонном возрасте у меня забота о чем-то другом кроме как о душе. Однако таков я, и даже убеждаю себя, что и для души окажутся полезны мои труды, недаром я отдаюсь им всё беззаботней и радостней». Поскольку любящая мудрость, философия, есть жизнь и без нее просто пока еще нет человека, любое занятие оправдано, лишь бы оно помогало тянуться ввысь» (там же XXI 11; 12).
Если раннему возрождению человека не противоречило развертывание частных искусств и умений, пусть техническое совершенствование грозило превратить его в узкого специалиста, но и наоборот, homo inventor и homo faber позднего Ренессанса, уже превращающийся в специалиста, хранит привязанность к поэтам, показавшим образ человеческого совершенства.
Макиавелли, перешедший от противопоставления реальности и идеала к такому историзму в политической науке, который ближе к современной социологии чем к историософии Данте и Петрарки, говорит в год написания «Государя» эти фразы о своих прогулках: «Выйдя из леса, иду к источнику, а оттуда – на мой птицеловный ток. Под рукой у меня книга, Данте, или Петрарка, или один из меньших латинских поэтов, как Тибулл, Овидий и подобные; читаю об их любовных страстях, и эти их любови напоминают мне о моей; такая мысль доставляет мне на какое-то время удовольствие». Кончается «Государь» рассуждением о Фортуне и Добродетели и цитированием пророчества Петрарки: «Добродетель поднимет оружие против безумной ярости, и битва будет короткой, ибо древняя доблесть (antiquo valore) еще не умерла в итальянских сердцах» (Книга песен 128, 93–96).
Леонардо через голову гуманистов-филологов, фанатиков антикизирующей стилизации протягивает руку ранним поэтам, удостаивая их равной чести с художниками. Если поэт просто именует словами то, что «фактически есть в природе», он не может сравниться с художником, оставаясь лишь ритором, астрологом, философом, теологом; «но если он возвращается к изображению какой-либо вещи, он способен стать соперником живописца» (Quaderni anatomici С III 7 r). Упорная строгость, метод Леонардо – это та же добродетель, virtus, вторгшаяся в научно-художественное исследование. И, возможно, даже Петрарка, у которого ранняя серьезность, достойная Данте, с десятилетиями всё же немного уступает место филологической игре, изменил сам себе больше, чем omo sanza lettere[257] – ему.
Когда о добродетели как счастливой деятельной полноте человека внутри политического организма уже нельзя было мечтать, макиавеллиевское искусство власти всё еще оставалось добродетелью в особом смысле. Политическая наука Макиавелли вовремя явилась необходимой третьей силой между благонамеренной, но уже беспомощной массой и вырастающей на почве ее пассивности угрозой неограниченной тирании[258]. Спиноза понимал, что Макиавелли «хотел показать, как неразумно поступают многие, стремясь устранить тирана, когда не могут быть устранены причины, вследствие которых государь превращается в тирана» (Политический трактат V 7). Когда почва для тирании налицо и государство-общество (полис) невозможно, единственным реальным противовесом государству-власти (тирании) выступает научное и в этом смысле беспристрастное искусство политика.
Подобной третьей силой хотело быть изобретательство Леонардо да Винчи. Его хлестко обвиняют в «равнодушии к судьбам родины и государств вообще» примерно так же, как Макиавелли уличают в безнравственности. Леонардо, по-видимому, был настолько же лишен лицемерия, насколько и красноречия. Он тоже видел настоящие причины зла и не бежал от ситуации к созерцанию идеальных образцов. Он воспринимал всю Землю в ее истории как живой и, возможно, ощущающий организм, где подземные воды – артерии и вены, почва – плоть, леса – волосяной покров, горные кряжи – кости, сердце – недра океана, «а жар души мира – огонь, пронизывающий земные недра» (Codex Leicester 33 v–34 r = Codex Hammer 4 А left – 3 В right). Эта чуткая Земля дышит и, как думает Леонардо, в нашу эпоху по каким-то причинам истекает кровью. «Разветвления водных вен все соединены вместе в нашей Земле, как кровеносные сосуды у других живых существ; и в них происходит постоянное кровообращение для поддержания ее жизни, причем всегда исчерпываются места, откуда они (воды) движутся, как внутри Земли, так и на поверхности; и гораздо больше воды в своей совокупности проливают реки (разрывы вен), чем они имели обыкновение, из-за чего поверхность моря несколько осела к центру мира, будучи обязана заполнить пустоту из-за такого расширения этих вен» (С. Leicester 28 r = С. Hammer 9 В right).
Поведение человека на лице этой Земли абсурдно и преступно. С одной стороны, большинство лениво паразитирует на ее живом лоне, изменив своему призванию разумных существ. «Как надо называть некоторых людей, если не проходами для пищи и умножителями навоза – и наполнителями отхожих мест, поскольку через них – другое не появляется в мире, никакая добродетель не осуществляется в действии, alcuna virtú in opera si mette» (Codex Forster III 74 v). На другом полюсе этой лени люди, наоборот, развивают лихорадочную деятельность, тоже совсем чуждую всякой добродетели и даже элементарной разумности. «О жестокости человека. – На Земле появятся животные, которые всегда будут биться между собой, к великому ущербу и часто к смерти каждой стороны… На земле, под землей и под водой не останется ни одной вещи, которую бы они не отыскали, не изъяли и не испортили… О мир, почему ты не расступишься? и не поглотишь в глубокие расщелины своих недр и пещер столь жестокое и безжалостное чудовище, чтобы не показывать его больше небу?» (Codex Atlanticus 370).
Леонардо, как Данте, считал преступлением упование на загробную жизнь при негодности земной и ненавидел христианское самодовольство как причину легкомысленной или эгоистической практики. «Он сознательно поставил себя несколько в стороне от человечества, которое в грубом своем состоянии внушало ему ужас» (Шастель). Прозябанию, в которое соскальзывает масса, и жестокой немудрой активности зла Леонардо не морализируя противопоставил потенциально безграничную мощь, какую дает вчувствование в природу и продолжение человеком ее работы. Леонардовская добродетель познания и изобретения была призвана упредить силы косности с одной стороны и разрушения с другой. Философское знание в союзе с природой должно было спутать карты Фортуны, выступая между косной массой и злой властью примерно такой же третьей силой, как политическое искусство Макиавелли.
Подобно Макиавелли принимая за факт ухудшение политического климата, видя падение свободы, Леонардо противопоставил Фортуне в ее новом облике слепого насилия или косности технику, которая у него вовсе не безотносительна к этике. Вот пример: «Многие могут с соответствующим инструментом находиться некоторое время под водой… я не пишу о моем способе находиться под водой столько времени, сколько я могу оставаться без еды; я не обнародую и не распространяю этот способ из-за злой натуры людей, которые прибегнут к человекоубийству из глубины моря, проламывая суда снизу и топя их вместе со всеми людьми. И тем не менее я показываю другие способы, которые не опасны, потому что во всех них над водой виден укрепленный на надутом мехе или на пробке конец тростника, через который дышат» (Leicester 22 v = Hammer 15 а left). Художник-изобретатель чувствует себя арбитром мирских конфликтов, судьей, способным контролировать честность поведения сторон, лишить зло особо действенной техники и, возможно, вручить ее в критический момент добру.
По Мишле, народный Ренессанс свободных городов потерпел неудачу в XIV веке и после этого нашел себе обходный путь через искусства, в отношении которых тираны были менее подозрительны[259]. Научно-художественная и изобретательская работа развернулась как возмездие судьбе, Фортуне, грозившей снова утопить человеческое существование в циклах природного и животного бытия. Человек не хотел уступить маятнику Фортуны и с отчаянной решимостью хотел сохранить инициативу за своей свободной волей, бесповоротно внедряясь для закрепления своих позиций в материю мира и в ход мировых событий.
Макиавелли и Леонардо задумывают социальную и инженерную технику для любого общественного устроения и для всякого хозяйствования человека на земле. Как в поэзии, филологии и живописи, так в политической науке и изобретательстве Ренессанс выходит за рамки Италии и решает планетарные задачи. Крушение филологического гуманизма под напором Реформы и Контрреформы и постепенный политический и культурный упадок Италии не нарушили ренессансного процесса. Он был подхвачен на Севере Европы, тем более что музыка, пейзажная живопись и, главное, книгопечатание, обеспечившее непрерывность культурного накопления, с самого начала было северофранцузской, фламандской и южнонемецкой специальностями.
Северный Ренессанс
У ранних философских поэтов ученый труд, добродетель и ее тень, слава, взаимно предполагают одно другое. В письмах Петрарки 1360 и 1370 годов проскальзывает тревога о расколе между литературными занятиями, склонными превращаться в ремесло, и делом строительства жизни. Демонстративное, вынесенное на городские площади столкновение между играми культуры и настроениями религиозно-нравственной строгости внутри самого ренессансного движения произошло в трехлетнее правление Савонаролы во Флоренции. Внезапный прилив встревоженного религиозного благочестия в народе задолго предвосхитил тогда события лютеровской и кальвиновской Реформации и европейских религиозных войн. Савонарола увлек за собой не только массу, но и таких людей как Джованни Пико, Боттичелли.
Это было лишь начало. В первые десятилетия XVI века критика литературно-ученых изысков с позиций добродетели, чистоты веры, природной простоты становится по-своему темой каждого самостоятельного мыслителя. Леонардо да Винчи, в своей работе опираясь всегда на прямой опыт чувства, презирает говорунов, трубачей, декламаторов (discorsori, trombetti, recitatori), героев слова, которое для художника, изыскателя, инженера пустой звук, бесплотная тень настоящей вещи. Лодовико Ариосто обличает в седьмой Сатире болезнь времени, используя древний символ мужеложства, со времен греческой античности обозначавший искусство ради искусства и рассуждение чтобы просто порассуждать: «Известно, что ученость ты скорее достоинства сумеешь отыскать: оно сегодня не в союзе с нею… о наш печальный и злосчастный рок! Как редко можно встретить добродетель, к которой не примешан злой порок. Грамматиков и гуманистов мало, кто в том грехе невинен, за который встарь на Содом с небес проклятье пало… И если фра Мартин иль Николетто неверным иль еретиком слывет, виной занятья тонкие, sottile studio». Лишняя книжная ученость оказывается главным врагом добродетели.
Молодой Петрарка поразился бы такому повороту дела. Для него ученость синоним добродетели и тем более драгоценное, что редкое достоинство. В раннем сонете он говорит об упадке учености и искусств, тождественном упадку человека: «Чревоугодье, похоть, праздный сон изгнали всю со света добродетель… Стремится ли кто к лавру или к мирту? Нагой будь, философия, и нищей, – кричит толпа, стремясь к наживе грязной» (Книга песен 7). Этот сонет, кончающийся призывом к упорству в «великодушном предприятии» – поэтическом и философском труде – повторяет тему буллы Иннокентия IV от 1254 года: «До нас донесся слух… что все оставили философские занятия… Мы соблаговолили возвратить умы к наставлениям теологии, которая является наукой о спасении, или по крайней мере к философским наукам, в которых, правда, нет пищи для сладостного чувства благочестия, но которые приоткрывают первое сияние вечной истины, избавляя душу от позорных забот жадности – источника всех зол, особого рода идолопоклонничества… Редкие питомцы философии, столь ласково принятые ею в своем лоне, столь заботливо снабженные ее наставлениями, так хорошо подготовленные ее стараниями к исполнению жизненного долга, томятся в нищете, которая не оставляет им ни хлеба насущного, ни одежды для их наготы и вынуждает их бежать от взоров людей по примеру ночных птиц»[260]. Бескорыстные ученые занятия («философия») в глазах Петрарки сами по себе спасительны. Studia humanitatis как «стремление к человечности» явились в XIV веке если не новой религией, то влекущим и официально приемлемым образом жизни, держащимся на вере в гармонию духовных порывов.
Идеологические войны конца XV и XVI века не оставили от этой веры и следа. Не то что преданность ученым трудам, но даже и традиционная церковная обрядность перестала казаться своей собственной рекомендацией. Именно в это время итальянские ренессансные историки начинают тосковать по золотому веку, когда не было никаких наук. Всё безвыходно перепуталось, и сама классическая образованность предстала смесью добродетели и отравы, чуть ли не демонизма, как в глухие века Средневековья.
Забрасывая латынь, Кастильоне в философии и риторике, Леонардо в науке, Макиавелли и Гвиччардини в историографии выносили негласный приговор гуманистической схоластике. Она последний раз цвела при Льве Х (Джованни Медичи) в 1513–1521 годах. В год разграбления Рима (1527) произошло ее окончательное крушение. Гуманист, знаток цицероновской латыни, ритор был теперь вынужден, как умел, доказывать что он не безбожник, не распутник и не пустослов. Фигура антикизирующего говоруна начала внушать брезгливость. Ушел со сцены целый культурный тип – аристократический всевед, готовый рассуждать на любые темы, живая энциклопедия классических цитат. Человеку, посвятившему себя книжным трудам, могли теперь отплатить недоверием, если не презрением.
Бесполезность философии и поэзии казалась непременным признаком их достоинства для Данте, Петрарки, Боккаччо в их XIV веке. Еще и в XV веке, даже занимаясь ботаникой, разводя сады, подчеркивали, что делают это не для пользы, а для созерцания искусства, которое являет природа. В XVI веке всё меняется. Джироламо Фракасторо (1478–1553) в диалоге о поэзии отбрасывает как нелепость мысль, что будь то на загородной усадьбе, будь то в словесности можно трудиться не имея полезной цели: какая нелепость, это всё равно что рубить вековую рощу только ради улучшения вида из окна своего дома[261]. Церковная и государственная неустроенность стала такой вопиющей, что поневоле потребовала от каждого служения пользе, utilitas. Отныне никто не смеет говорить о пользе пренебрежительно. По Франческо Робортелло (1516–1567), «философ, устанавливая назначение человека и изъясняя условия его счастья, учит, как его достичь и… постепенно возвращает людей от пороков к добродетели… К той же цели стремятся и поэты… склоняя души к состраданию, богобоязненности, совестливости, кротости и пробуждая к жизни всяческую добродетель». Всё это воспитание рода человеческого философией и поэзией Робортелло объединяет под названием пользы[262]. К несчастью, пользу можно было толковать по-разному, и начиная с Реформации единодушие в ее понимании утратили даже церкви.
На протяжении XVI века, подытоживает Мишле эту перемену климата, по всей Европе слабеют веяния духа, души и тела коснеют в усталости, и к концу века «люди возвращаются в свои тюрьмы – тюрьмы-церкви, тюрьмы-государства, тюрьмы-войны». Пламя гуманизма становится неверным огоньком, рядом с которым человек едва может согреться; умы снова отдаются сомнению и року, хотя и ненадолго, до нового пробуждения в начале XVII века[263]. В Италии оскудение жизни духа началось раньше чем в остальной Европе. Уже с 1540-х годов «доверие к человеку и природе, отличавшее и вдохновлявшее писателей и людей действия в 15 и начале 16 века, сникло. Не вынесшие гнета и преследований бежали в Венецию или за границу»[264]. Аристократическая республика Венеция, итальянская Америка, была основана переселенцами из Падуи якобы в полдень 25.3.421 среди разоряемой варварами Италии. Доброта, чистота, преданность в привязанностях, благочестие, милосердие были политическими идеалами венецианцев. Они ухаживали на войне за своими и чужими, первыми основали госпитали и приюты – консерватории. Учителем музыки в такой консерватории был Антонио Вивальди. «Эти грациозные белокурые люди с тихой, раздумчивой походкой и разумной речью» (Буркхардт) были изоляционисты и почти ненавидели бестолковую Италию, служили своей республике и подчинялись ей на совесть. Лишь в самом конце XVIII в., гораздо позже остальной Италии, Венеция покорилась чужой мощи (Австрии).
Термины итальянский Ренессанс, Северный Ренессанс склоняют думать о единстве движения, прошедшего по разным частям Европы. Но эти два Ренессанса различались вплоть до взаимного отталкивания.
Различие специализаций Севера (теология, логика, теоретическая философия природы, пейзажная живопись и натюрморт, музыка) и Юга (поэзия, риторика, художественная инженерия, сюжетная и портретная живопись, устройство народных игр и представлений) сохранялось в целом неизменным на протяжении XIV–XVI веков. Одно из главных отождествляемых с Ренессансом изобретений, книгопечатание, родилось в Германии и подобно другому немецкому изобретению, индивидуальному огнестрельному оружию, было встречено многими итальянцами неприязненно. Федерико, герцог Урбино (1444–1482), гуманист и меценат, брезговал иметь в своей библиотеке печатные книги. Флорентийский каллиграф, один из создателей ренессансного рукописного почерка Веспасианода Бистиччи (1421–1498) устранился в 1482 от дел, раздосадованный успехами книгопечатания. Некоторые итальянские кондотьеры, еще мирившиеся с таким изобретением дьявола как полевая артиллерия, от ненависти к ружьям ослепляли взятых в плен немецких стрелков. В живописи «миф и человеческие судьбы были прерогативой Юга, природа с ее неповторимыми чертами – Севера… В Италии существовало инстинктивное сопротивление искусству, оказывавшемуся делом чистой практики, чистой эмпирии, коль скоро оно отвергало великолепную фикцию, интеллектуальное господство формы»[265].
Характерно, что первым из итальянцев повернулся к пейзажу Леонардо, не отделявший художество от науки и изобретательства. Леонардо, Макиавелли, Гвиччардини знаменуют поворот внутри итальянской традиции к тому, что условно называют Северным Ренессансом. Леонардо не признавал свободно парящих умствований и заново строил философию, как и науку и технику, от первых оснований чувства и опыта. Макиавелли и Гвиччардини предпочли гуманистическим идеализациям правду реальной политики. Как и должно было случиться, именно отказ от международного языка латыни и от общепринятого платонического кода, переход к жестким реалиям и к разговорному языку придали Макиавелли, Гвиччардини, Леонардо, как позднее Галилею, «европейское измерение»[266]. Наоборот, высокопарный платонизм и причесанная вергилиевско-цицероновская латынь, оставшиеся уделом позднего всё более захолустного гуманизма, уверенно опознавались как сугубо итальянское изделие. Итальянца, странным образом, опознавали по его изящной латыни, на какой остальная Европа никогда не говорила и не писала. Смешение языков произошло не из-за отказа от латыни с переходом на национальные языки, а внутри самой же латыни.
В целом на взгляд Севера итальянцы слишком спешили к преображению мира в искусстве, больше полагаясь на игру, мечту и магию, чем на тщательную критическую проработку прозаических проблем. Северный Ренессанс, едва развернувшись, принял благодаря широкой постановке печатного дела и публицистике Эразма Роттердамского, Томаса Мора, Хуана Луиса Вивеса, Этьена д’Этапля, Гильома Бюде размах культурной промышленности, рядом с которой итальянский гуманизм стал выглядеть кустарным предприятием. В одном письме к Эразму Вивес замечал по поводу исследования о древней монете – ассе, проведенного французским филологом и эллинистом Бюде (1467–1540), что один этот труд «устыдил всех этих Эрмолао, Пико, Полицианов, Газ, Валла и всю Италию»[267].
Существует крайняя точка зрения, что европейская культура следовала своей непрерывной линии развития, идущей от позднего Средневековья и готики к Новому времени, а итальянский гуманистически-художественный Ренессанс только на время затмил и отчасти задержал магистральное развитие европейских философии, науки, педагогики. В таком случае вклад итальянских гуманистов в серьезное аристотелеведение, например, ограничивался тем, что мог дать свежий взгляд «дилетантов и людей со стороны»[268]. Допустим, они сделали много для эпистолярного жанра, диалога, создания разнообразных ученых обществ, для архитектуры, поэтического языка, но не дали почти никаких новых моделей для государства и церкви[269]. Новоевропейская архитектура в целом пошла всё-таки за готикой, а не за восставшим против нее итальянским классицизмом. Прямое влияние Ренессанса на метафизику, гносеологию и современные науки во всяком случае оборвалось с Галилеем. Наука начиная с Декарта больше наследует Северу и Средним векам чем Югу и Ренессансу, больше схоластике чем поэтической философии.
Конечно, Северный Ренессанс отталкивался от расцветшей культуры Италии хотя бы тем, что с первых шагов сознательно противопоставил свою трезвую практичность южному фантазерству и фразерству, этический интерес эстетическому, действенность внедрения в социальную жизнь – художественному блеску Юга. Хуан Луис Вивес, который в XVI веке был одним из самых читаемых авторов Севера, светочем новой гуманистической образованности, вождем борьбы против сорбоннской схоластики, считал поэзию и художественный вымысел вообще неисправимо смешанными со «злом и похотью», в философии называл Платона и Аристотеля детьми, не дозревшими до серьезной работы ума, порицал Боккаччо и Полициано за их вольности и хвалил Петрарку за морализм «Лекарств от превратностей судьбы», не замечая многозначности этого произведения. Эразм Роттердамский выговаривал итальянцам Якопо Саннадзаро, автору латинской поэмы «О рождестве Богородицы», и Джироламо Вида, сочинителю эпоса «Христос», написанного в вергилианских гекзаметрах, за смешение антично-языческого и христианского вдохновений: «Затрудняюсь сказать, заслуживает ли большего порицания, когда христианин по-светски говорит о светском, скрывая свое христианство, или когда он по-язычески трактует христианские предметы».
Но Саннадзаро и Вида, как могли, продолжали осуществлять замысел всего Ренессанса, строили всеобщий культурный синтез, воплощали давнюю возможность сращения библейского и классического знания, обнаруженную в христианстве еще Климентом Александрийским и Оригеном. В сравнении с захватывающими интеллектуальными вольностями итальянских поэтов и художников, у которых Мадонны сближаются с Венерами, апостолы и библейские персонажи с фигурами римской истории, моралистический ригоризм Эразма и его соратника Вивеса очень узок. Служа тому же культурному делу восстановления античной духовной высоты, северные критики итальянцев были, конечно, ближе к земле и твердо намеревались действовать основательно, систематически, необратимо.
Своей серьезностью Северное Возрождение продолжает строительно-воспитательную тенденцию средневековой Школы с ее неотступным стремлением упорядочить жизнь общины, города, государства. Насколько для итальянского Ренессанса, начиная уже с Данте, характерен уход в «республику словесности» и блестящая изоляция в ней, настолько для Севера привычен терпеливый воспитатель, знаменосец широких духовных движений, идейный борец, который так же упорно отстаивает отвоеванные позиции против лагеря ретроградов, как то делали в свое время Абеляр, Тьерри Шартрский, Иоанн Солсберийский, томисты, скотисты. С таким переходом от вольной мечты к черновой работе начинает больно ощущаться раздор между видением преображенного мира и его непреодоленной косностью. Это – почва для трагедии, которая и в качестве драматургического жанра так же первенствует на ренессансном Севере, как комедия на Юге.
Вместе с тем, как на Юге, Ренессанс на Севере начинался с культа добродетели и противостояния косной власти судьбы. Спор с Югом был вызван ревнивой заботой о том, чтобы добродетель не поступилась своей действенностью, не ушла в мир снов, в область идей.
Достижения мысли и искусства на ренессансном Севере кажутся вначале менее яркими чем на Юге. В век губительных (до полумиллиона мучеников Реформации) религиозных и идеологических войн на Севере с тяжеловесной, осмотрительной основательностью велась радикальная критика всех общепринятых воззрений и выработка с позиций истинной веры, блага, пользы, природы, правды первых оснований знания и поведения, на которых можно было бы впредь совершенно надежно строить теорию и практику. На Севере в эту медленную работу чувства и разума, как и в Италии, вкладывалась добродетель, собранная сила всего человеческого существа, действующая наперекор судьбе «с такой жаждой отмщения, с такой упрямой волей, с такой терпеливой любовью, с такими слезами» (Макиавелли).
Прямым следствием небывалого исторического усилия возникла в XVII веке новоевропейская наука – самообосновывающийся, саморазвивающийся метод решения любых задач, по предельности оснований и по внутренним возможностям всемогущий.
Служение новоевропейской науке требовало не только «упорной строгости» Леонардо, но и прозаического труда и на первых порах настраивало против игр художественной фантазии, слишком склонной в своих надмирных замыслах и мечтательных проектах перескакивать через технические и практические трудности. Но зато сама наука стала со временем фантастичной.
Место Ренессанса в истории культуры
В начале и в конце ренессансного времени всего отчетливее слышна тема Добродетели и Фортуны, первый раз в далеких, почти надмирных проектах поэтической философии, второй раз в шокирующей политической трезвости Макиавелли, в написанных «в стол» книгах Гвиччардини, в шифрованных заметках Леонардо да Винчи, в надрывном энтузиазме Бруно, когда среди крушения свободных городов слово о силе Добродетели в противостоянии Фортуне, чтобы не стать пустым, потребовало для себя совсем конкретного обеспечения, а именно личной стойкости говорящего перед изгнанием, физической пыткой, казнью. Эти реалии вплотную теснили Джованни Пико и Савонаролу, Макиавелли и Гвиччардини, Томаса Мора и Вивеса, Галилея, Бруно и Кампанеллу. Впрочем, Данте и Петрарка тоже были изгнанники.
Жизнь людей, благодаря которым оказалось возможным говорить о единстве ренессансного движения, не вписывалась в заготовленные традицией нормы, мало определялась социальной иерархией, нарушала установившееся профессиональное разделение труда. Стереотипы поведения, социальные структуры, идеологические устои, утвердившиеся за тысячелетие и обещавшие еще несчитанные тысячелетия размеренного продолжения, ренессансный человек уважал, именуя всё это старомодным названием Фортуны. Но со смиренной разумной покорностью ей уживалась отчаянная решимость поступать, когда надо, наперекор ей и убеждение, что только свободное действие ценно. Новизна ренессансного типа происходит от этого восстания, решительного отношения к истории.
Надо признать, что последующие века имели уже меньше сил для такого вызывающего противления судьбе. В Новое время снова, напоминая о Средних веках, колеса мировой машины начинали подчинять себе человека, сделавшегося более рациональным. Ренессансный тип почти исчез с лица земли вместе с вольными городами, и теперь требуется усилие, чтобы воссоздать неповторимое сочетание терпимости, всепринятия и подвига.
Этот отдалившийся в прошлое, но еще не ставший достоянием прошлого тип отношения к истории реконструируется исследователями очень по-разному.
Критики Ренессанса приписывают ему в лучшем случае безрассудный порыв своеволия, обреченный потому, что распоясавшийся индивид неизбежно должен был порастратить свои всё-таки ограниченные силы в стычке с вечной мощью вселенского природного и духовного закона. С отрешенной позиции иронического наблюдателя можно представить восстание XIII–XVI веков и так: «Возрожденческий человек… стихиен, даровит и… вполне беспардонен… Человеческая натура дошла в нем до полной свободы, до полного безразличия ко всяким законам и правилам, но и его мастерство не знает пределов, доходя до стихийности и иррационального субъективизма… То, что такого рода человек из художника, математика и мыслителя становился весьма капризным и разнузданным обывателем, вплоть до полного духовного и физического ничтожества, это мы могли бы наблюдать на ком угодно, не исключая даже знаменитого Леонардо, который был подлинным героем Ренессанса, но который иной раз доходил до полной неуверенности в себе и во всяком другом, погружаясь в безысходность»[270].
При таком взгляде остается неосознанным тот факт, что признаваемая также и автором процитированного памфлета собранность ренессансного человека, «предельная напряженность всех его сил во всех предприятиях, за какие бы он ни взялся»[271], пусть на время энергией упрямой воли пересилила тысячелетнюю инерцию «законов и правил» и впервые позволила задуматься над источником, откуда берется всегда слишком навязчиво предлагающее себя знание «того, что надо и чего не надо делать».
Допустим, ренессансный человек действительно никому не наследовал и не повел за собой подражателей. Он «имеет мало общего с человеком Средневековья, хотя его героизм может иной раз превосходить даже любую средневековую духовность, и, с другой стороны, он вовсе не есть человек Нового времени, то есть человек послевозрожденческий, так как этот последний всегда был в значительной степени рационалистичен, связан разного рода правилами и приличиями, и многое из возрожденчества он расценивал как нечто нечеловеческое, беспутное и даже неприличное»[272]. Даже и в таком случае восстание против всего сложившегося течения обстоятельств останется обещанием избавления от рабства у истории, напоминанием о неизрасходованных возможностях.
Но только ли «вечная потенциальность», перманентная революционность, «бесконечная переходность»? Сторонники Ренессанса ценят в нем динамику. «Освобождение… должно было остаться неполным, переход – незавершенным… Переходность обрела зато целостность. Ибо Возрождение – переход не к одной капиталистической культуре, не к одному Барокко, не к одному Просвещению, но и к потрясающим духовным трансформациям нашего века, но и – в будущее. Целостность Возрождения состоялась как вечная незавершенность, вечная потенциальность, как… бесконечная переходность»[273]. Против такого размывания смысла Ренессанса нужно сказать, что ни одна другая эпоха, кроме может быть еще кратких десятилетий классической античности, не удерживалась в такой мере от разбрасывания себя во времени и в пространстве. Ренессансное принятие мира уникальным образом собрано на полноте текущего момента. Оно редко тоскует о прошлом и будущем и мечтает только о достижимом. Добродетель-счастье-слава, этот круг, в котором собрано ренессансное бытие, подчеркнутым образом располагается здесь и теперь. Добродетель предполагает действие, может быть, и ради далекого воздействия, но сначала ради самоосуществления, в котором открывается счастье и за которым как тень следует слава. Круг добродетель-счастье-слава в многообещающем смысле бесконечен, но не дурной бесконечностью необъятной череды задач. Находка – да хотя бы даже и одно обещание – деятельной завершенности, открытие возможности осуществиться здесь и теперь представляет собой достижение, которое можно назвать «вечной потенциальностью» только в смысле всегдашней доступности этого достижения, сопровождающей всю человеческую историю и придающей этой истории смысл.
Счастье, понятое как добродетельная полнота существования, требовало для себя мало внешних условий. «Только та безопасность хороша, надежна, устойчива, которая зависит от тебя лично и от твоей добродетели» (Макиавелли, Государь XXIV). «Возвращение республик к своим (природным) началам совершается благодаря простой добродетели (хотя бы) одного человека, не зависящей ни от какого закона, который подталкивал бы тебя к тому или иному действию; тем не менее (такие люди) так чтимы и показывают такой пример, что хорошие люди хотят подражать им, а дурные стыдятся жить жизнью, противоположной их жизни» (Рассуждения о первой декаде Тита Ливия III 1). Добродетель без спора уживалась с мыслью о близком конце мира. Она довольствовалась любой данностью, но не чтобы идти в ногу с ней. Только такой путь вел к славе.
Незаимствованная слава ренессансных поэтов, мыслителей, художников, изобретателей оказалась достаточна не только для своего века, но и далекой античности, и темному Средневековью дала выступить в ярком свете. Этот свет словесности, поэтической философии, художественной науки, выведший европейскую историю из беспамятства, пусть относительного, десяти или пятнадцати веков, продолжает светить до сих пор, как до сих пор нетребовательное счастье усилия остается единственной силой, способной противостоять приглашению к смерти, а противостояние мощи обстоятельств – главной надеждой на будущее. «Вечно» в Ренессансе то, что он показал средний путь между косным самоограничением и неразумным порывом в дурную бесконечность, воплощая в философии, поэзии, художестве почти невозможную красоту и пытаясь строить свою политику как почти невозможное равновесие мира.
Возрождение – узловое время, пружина истории как осмысленного движения. Поэтому не лучше ли периодизации профессиональных историков Ренессанса, отводящих этому событию два-три века в прошлом, позиция академической историографии, доводящей Средние века вплоть до XVI века и начинающей с 1600 года Новое время. Ренессанс тут вынесен за скобки, хотя, правда, и оставлен в тени. Академической историографии остается только обратить внимание на то, что им как историческим началом собственно и вызвано к жизни само подразделение веков на срединные и новые.
Если Возрождением подготовлено Новое время с его пониманием истории как задания, то не правы ли критики, винящие ренессансный поворот во всем нагромождении современных проблем? Нет. Избирательное подозрение к Ренессансу в обход более темных эпох напоминает образ действий ночного путника, потерявшего свои ценности и ищущего их под ближайшим фонарем потому что там светло. По существу критикам Ренессанса хотелось бы винить во всех бедах современности тот факт, что история когда-то двинулась опасными неторными путями, – как если бы вправду оставалась незадействованной какая-то другая, гарантированная история.
Тогда, может быть, достаточно просто вернуться к ренессансным началам, чтобы надеяться на преодоление исторических тупиков? В самом таком вопросе слышится духовная лень, прямо противоположная настроению тех ранних искателей, которые даже подражание античности сумели употребить на то, чтобы выйти за пределы подражательности.
Другое дело, что заветы Возрождения – деятельное счастье, полнота бытия, жизнь в свете славы, строительство своей судьбы – уже не смогут быть отброшены ни на каком историческом повороте. Это цели, лишиться которых человек впредь не имеет права.
Слово Петрарки
Петрарка принадлежит эпохе, когда было развито чувство прекрасного, некоторые искусства достигли неповторимого совершенства, но изучать их и заниматься ими значило обязательно и самому быть художником. В античном и средневековом мироощущении творец воспринимался как медиум, внеличная творческая сила. Новизна Петрарки в том, что полувековым трудом он, художник, создал свой собственный образ, в котором была повседневная простота и человеческая полновесность. Когда он «исповедует всенародно, чего ему стоила его личность, его победа над собой… такая исповедь гипнотизирует… Нельзя отрицать и эстетического желания предстать перед потомством в том гармоническом, нравственно-уравновешенном образе, какой мечтался ему как художнику жизни. С этой же целью он не раз возвращался к своим письмам, освещая прошлое поздними опытами мысли и чувства, подчеркивая связность душевной жизни… Его разбросанные стихотворения представились ему обрывками чего-то целого, его самого, и он начал приводить их в порядок, в исповедь своего Canzoniere. Содержание – внутренняя жизнь Петрарки, как она отложилась в тревогах молодой любви, в мечтах о славе, в грезах идеальной Италии… пока одухотворенная любовь не указала ему пути к небу»[274].
Отечество словесности
Петрарка философ, восстановитель великой древности, политический деятель и поэт, оставаясь созданием творческой воли, в опоре на свое право непосредственно и самостоятельно приобщаться к истине смело претендовал на то, чтобы быть действительностью, и притом самой несомненной действительностью среди всего политического и культурного окружения. Не только духовная, но и душевная страстная личность, в Средние века очень стесненная в самовыражении и вынужденная держать свои чувства и переживания про себя, нашла себе место в этом человеческом образе, которому суждено было стать одним из формирующих начал европейский истории, прообразом ренессансного и новоевропейского интеллигента.
Много ли было до Петрарки выдающихся людей, которые выступали не в той или иной государственной, церковной, учительной, культурной роли а, до всяких определений, в качестве свободного лица? В Средние века – возможно, только Августин «Исповеди». Его ученик и продолжатель Петрарка начал собой новую эпоху самоопределяющейся индивидуальности.
Но то, что он пишет о поэзии, искусстве искусств, о поэтах, о художествах, еще редко переходит границы средневековой воспитательной теории искусства[275]. Она гласила, что под оболочкой прекрасного вымысла, призванной, лаская слух, исподволь увлечь и зачаровать даже простеца и грубияна, таится бездна жизненной, философской и религиозной правды, которую надо только умерь раскрыть, причем, пусть притягательной силой искусства злоупотребляют безнравственные дельцы и всевозможные шуты, его образов не гнушается даже религия. Ученик Петрарки Боккаччо держится того же круга представлений; у него даже исчезает загадочная многозначность, ощутимая в самых казалось бы тривиальных формулировках Петрарки. Считается, что «даже в своей концепции поэзии он был скован средневековым подчеркиванием ее аллегорического значения»[276]. Было бы слишком узко называть петрарковскую теорию поэзии аллегорической. Главные для него мысли о благородстве поэта и ритора, о судьбоносной значительности его прихода в истории, о тайном родстве поэзии и правды, поэтической славы и добродетели далеко выходят за рамки аллегоризма, даже если понимать последний широко как символическое прочтение текста на четырех уровнях смысла (ср. Данте, Пир II 1). Но всё равно их можно еще относить к воспитательной, педагогической теории поэзии.
Воспитательная теория искусства широка, она заведомо оставляет свободы для разных стилей и жанров, требуя только ответственности художника в применении своей власти, и отводит искусству видное место, которого Петрарке, по натуре не бунтарю, а скорее мирному консерватору, хватало для оправдания своей художественной практики.
Вообще весь ранний Ренессанс видел в своей деятельности восстановление добрых древних и святоотеческих, т. е. антично-христианских начал наперекор похотливому вздору новых, modernorum ineptias lubricas; именно за верность старине поклонник Петрарки Колуччо Салутати хвалил на склоне лет молодого Леонардо Бруни, автора «Жизнеописания Петрарки»; пророческий, в духе Иоахима Флорского, утопизм Петрарки был вместе ностальгией по древности[277].
Теория искусства как мудрого иносказания, прекрасного поучения с избытком удовлетворяла и любым «земным тенденциям» Петрарки: искусство потому и способно служить «общественным интересам», что говорит увлекательными притчами, т. е. доходчиво для всего народа. Такое недоступно не только философии, но даже и религии, потому что гордецы и упрямцы, например, останутся к ней глухи.
Если таким образом петрарковская теория искусства не противоречила средневековым представлениям, то в его художественной практике таилась радикальная новизна. Всякий взявшийся читать Петрарку не раз увидит, как, легко принимая устоявшиеся формы и в поэзии, и в религии, и в политике, он преображает их изнутри. Педагогическое понимание искусства предполагает порядок бытия, где добро и красота обеспечены, стоит позаботиться о том чтобы не выпасть из него по собственной вине. Петрарка всей душой готов бы верить в прочность такого порядка, однако в новооткрывшейся бездне человеческой свободы полагается уже не на него.
В начале XIII века Италию больше других стран задел кризис двух великих учреждений Средневековья, Церкви и Империи, от которого им уже не суждено было оправиться. Опыт первых десятилетий того века даже для самых нереалистичных сторонников монархии должен был показать бесперспективность пятисотлетней Великой Священной Римской империи. Шумные наезды в Италию ее бессильного императора служили отныне лишь политическому разброду. В 1305 и Римская курия сорвалась с тысячелетнего насиженного места – папа-француз Клемент V перенес ее в Авиньон, и Европе не пришлось долго ждать, пока тревога Данте и Петрарки за состояние церкви оправдается: после долгого авиньонского пленения сразу началась великая западная схизма 1374–1417 годов, когда по двое и по трое пап боролись за престол первосвященника, а потом гуситские войны возвестили о близости Реформации. Со второй половины XIII века и смерти «последнего великого императора Средневековья» Фридриха II Барбароссы (1194–1250) в Италии царит обстановка «яростной социальной войны, политических сдвигов, крайнего философского и религиозного возбуждения». «Данте, как и Петрарка, пускай в разных формах – Петрарка утонченней, – выражают страдания измученного и сурового мира, трагедию расколотой Церкви и разлагающихся Империй, междоусобиц и бедствий разделенных городов». «XII и XIII века – время великих брожений в глубине народных масс, – брожений, подобных тем, какие некогда вынесло на своем гребне раннее христианство»; Италия XIII–XIV веков походила на «растревоженный муравейник»[278].
Данте до конца дней мечтал о Флоренции, утерянном рае. Отец Петрарки, товарищ Данте по изгнанию, забыл и думать о возвращении. Франческо вырос в итало-французской среде Авиньона, новой столицы христианского мира, уже не эмигрантом, а как бы натурализованным провансальцем, изгнанником во втором поколении, гражданином мира.
Первый крупный флорентийский лирик Гвиттоне д’Ареццо тоже был в свое время изгнан из отечества как гвельф. Начинатель «сладостного нового стиля» Гвидо Гвиницелли был изгнан из Болоньи как гибеллин в 1274, умер в 1275 в Монселиче. Гвидо Кавальканти был выслан из Флоренции в июне 1300, когда Данте был одним из ее шести приоров; перед смертью в августе того же года Гвидо разрешили вернуться. Данте был в свою очередь лишен имущества и изгнан под угрозой казни через сожжение в 1302 как «белый» гвельф после победы «черных». Чино из Пистойи жил в изгнании с 1303 наоборот как «черный» гвельф, ему удалось вернуться на родину в 1314. Почти для всех изгнание было бедой. «Горький хлеб чужбины» – без этой темы зрелый Данте почти непредставим, и вся «Божественная Комедия» не урок ли флорентийцам от преданного ими вождя.
Ничего похожего на горечь изгнанника у Петрарки не найти. В 1351 он отказался вернуться во Флоренцию вовсе не от оскорбленного достоинства, как в свое время отказался Данте: Петрарке, наоборот, возвратили земельные угодья отца и предложили кафедру в университете. Просто он уже отвык от привязанности к городу-отечеству: «Долго не держит меня никакая страна под луною; жительствую нигде и повсюду живу пилигримом». Может быть, он затаил обиду на флорентийцев? Ничуть: он посещал Флоренцию в 1350, писал ее правительству о своей любви к отечеству, благодарил за возвращение отцовского поля (Повседн. XIII 10; XI 5), бранил флорентийцев едко, по-свойски, но не особенно зло (Старч. II 1).
Петрарка постоянно в пути. Из любопытства едет в Париж, Ахен и Кёльн, для поклонения в Рим, на новое место жительства в Милан, Венецию, Аркуа, послом в Неаполь, Прагу, Геную, снова в Париж, снова в Венецию. Он близок с папами и государями, красноречивый и важный дипломат, с высоты своего авторитета судит политиков, зовет Италию к миру, словом, ведет себя как пристало просвещенному человеку в его время. Гвиттоне, Данте, Чино до него, Салутати, Бруни после него – все они были судьями, приорами, гонфалоньрами, канцлерами, послами. У него есть неизменные политические цели – реформа церкви, единство Италии, восстановление мировой роли Рима, прекращение междоусобных войн – и много конкретных задач: посольство в Неаполь для освобождения нескольких заключенных (1343), поддержка революции Кола ди Риенцо (до ноября 1347), миссия по примирению Венеции с Генуей (1353), долгая тяжба по поручению правителей Милана с монахом-августинцем Якопо Буссолари, тираном Павии (1357–1359).
Его обращения к папе, императору, итальянским государям, его итальянские стихи идеально возвышенны. В своей практике он трезвый реалист. В исправлении мира политическими средствами он по существу отчаялся, рассчитывая самое большее на избежание худшего зла. Настоящей помощи он ждал от духовной победы внутреннего человека над пороками. «Мне небезызвестны раны Италии, от которых она страдает и теперь и исстари; она уже окаменела ко злу, и бесчисленные шрамы зарубцевались мозолями, – впрочем, не одна ведь Италия, а весь круг земель от самого начала времен терпит несчетные беды. Что в самом деле иное земная обитель как не гнетущий позор рабства, тюрьма и вечно мрачный дом скорби? Всё знаю; и всё-таки одно дело неприятель и совсем другое – осада, жернова, гнет, пожар, грабительство пороков. Внешний враг иногда отсутствует и сам устает, удручая другого; в конце концов всякое нападение людей кратко и ни одна война смертных не бессмертна… Пороки возрастают со временем, крепнут по мере совершения ими своих действий и вредят тем больше, чем больше уже навредили» (Повседн. ХХ 1, 4–6). Для себя он мечтал только о свободе, покое и тихом уединении.
Неужели Петрарка совсем остыл к великим проектам своего времени? Еще Данте ими жил[279]. Тесная община граждан города-республики, «отечества», несмотря на все недоразумения и промахи, еще дышала сознанием творимой судьбы. О надрыве духа городской коммуны можно говорить только в эпоху Макиавелли. Петрарковская политическая риторика недвусмысленно показывает его принадлежность к эпохе крестовых походов, Франциска Ассизского, Иоахима Флорского, Сегарелли и Дольчино, времени хилиастических ожиданий и невероятных предприятий вроде восстановления республиканского Рима или поисков западного пути в Индию, куда в мае 1291 отправились из Генуи через Атлантику Уголино и Вадино Вивальди. В сонете 27 II successor di Carlo Петрарка ожидает от крестового похода, объявленного в 1333 Филиппом VI Валуа, сокрушения рога Вавилона, возвращения наместника Христова в свое гнездо, победы смиренной и благородной агницы, жены Филиппа Агнесы, над свирепыми волками; крестоносцы препоясываются мечом непосредственно за Иисуса. В сонете 137 L’avara Babilonia Петрарка чувствует конец Божьего терпения и наступление апокалиптических времен, ожидает суда над мирской гордыней и торжества золотого века: «прекрасных душ и доблестных владеньем мир станет; весь златым его увидим и древними деяниями полным».
Трезвость, понимание неотвратимого распада Италии, необратимого декаданса церкви как организующего начала вселенской жизни, догадка о безнадежности попыток земного устроения не мешали эсхатологическому энтузиазму Петрарки, чувству вот-вот настающего преображения мира, жажде полной и скорой перемены. Начинания Петрарки – возрождение традиции поэтического венчания на Капитолийском холме в Риме, восстановление латыни классической эпохи, вергилианского эпоса, эпистолярного стиля Цицерона и Сенеки – несут в себе энергию коммунального и христианского апокалиптического утопизма, идеалистической настойчивостью напоминают предприятия Франциска Ассизского и невообразимы вне духовного накала конца итальянских Средних веков. При всём том Петрарка расстается со своим миром, размыкает пределы города-коммуны и на просторе, где уже «не сталкивается ни с законами государства, ни с канонами церковной власти» (Джентиле), создает «литературную республику», «государство словесности».
Данте хотел усилием духа в союзе с искусством придать облик спасенной вечности своему миру, родной Флоренции. В самом деле, возможности устроения жизни казались еще совсем недавно безграничными, стоило только достичь согласия между гражданами. «Когда примирение совершилось, – пишет Макиавелли о Флоренции 1250–1260 годов, – наступило подходящее время для того, чтобы учредить такой образ правления, который позволил бы им жить свободно и подготовиться к самозащите… Нельзя и представить себе, какой силы и мощи достигла Флоренция в самое короткое время. Она не только стала во главе всей Тосканы, но считалась одним из первых городов-государств Италии, и кто знает, какого еще величия она могла достичь, если бы не возникали в ней так часто новые и новые раздоры» (История Флоренции II 4–6). Объявленная цель «Божественной Комедии» была еще здесь на земле привести живущих в этой жизни к блаженству, beatitudo huius vitae. Петрарка «не любил свой век» (Письмо к потомкам), отчаивался в нем, презирал его, но в его порыве к древности с ее добродетелью не меньше энергичной воли чем в намерении Данте перевоспитать современность.
Сияющая древность, которую Петрарка уверенно противопоставляет пошатнувшемуся миру, не мечта. Она была на земле, она будет, если люди поднимутся от сна, и она уже есть. В 1337, вернувшись из поразившего его Рима, Петрарка покупает недалеко от Авиньона небольшую усадьбу в Воклюзе у истока Сорги. Это место надолго, до 1353, становится его заальпийским Геликоном, обителью муз, поэтическим уединением. И после, живет ли он при миланских диктаторах Висконти, в Венецианской республике, в уединении Аркуа, среди интриг, переворотов, осад, эпидемий чумы, вокруг него всегда сплетается особое пространство, спасенный уголок мира, государство духа. Осанка, внушительный голос, «личный магнетизм», дар располагать к себе людей, ореол первого поэта эпохи, философа и мудреца, готовность сохранить это свое лицо до смертного часа – всё делало его уже и в глазах современников государем новой державы, отечества слова, питающегося вечными источниками.
В отрешенности Петрарки сгустились и горечь от распада вселенной и хладнокровная решимость осуществить собственной жизнью новый план спасения, один из самых дерзких в истории, – «грандиозный проект культуры»[280], способной отстоять себя. «Его жажда славы была сосредоточена на его собственной личности, но не была узкоэгоистической: его личность включала нечто большее чем его телесно ограниченное Я, и та личность, которая стремилась к славе, была сознающая себя личность полнокровной зарождавшейся цивилизации»[281]. Петрарка подобно Гёте воздвиг «символ самого себя – не ложно приукрашенный… а просветленный sub specie aeterni»[282].
Крайний взлет средневекового вневременного ощущения мира как податливой творимой целости привел таким путем к рождению ренессансного историзма. В мир как его неотъемлемое измерение вдвинулся идеал предельный, но не запредельный и такой, который можно и безусловно должно осуществить вблизи. Рискнув на сравнение, можно сказать, что примерно так же искусство перспективы в ренессансной живописи собирало всё посюстороннее изображаемое вокруг бесконечно отдаленной точки.
Уход Средневековья
Вихрь в политическом и церковном мире и чувство вакуума[283] в европейской культуре XIII века сопровождались остановкой главного философского движения Средневековья – схоластики. В 1274 сорокадевятилетний Фома Аквинский и пятидесятитрехлетний Бонавентура, два светоча веры, феноменальный эрудит и просвещенный мистик, были в приказном порядке затребованы на Лионский собор, чтобы доказать там грекам подавляющее превосходство латинско-католической истины над православной. Первый умер по пути на собор, второй не дожил до его окончания. В 1280 не стало учителя Фомы Альберта Великого. После них был утерян секрет, позволявший отвлеченнейшей теологии начиная с Алкуина и Эриугены в IX веке владеть европейскими умами.
Схоластика питалась мечтой соединить разум с откровением, интуицией, чувством и выстроить всё рациональное знание о мире ступенями неотвратимого движения к блаженному боговидению. Только такой теургический томизм, а вовсе не его философская методология, какой бы она ни была остроты, мог воодушевить Данте. Теперь энтузиазм Школы, стремившейся к окончательному богословскому решению вопросов разума, был в корне подорван. Дунс Скот (1266–1308) и знаменитый современник Петрарки Вильгельм Оккам (ок. 1300 – ок. 1350), тоже борцы против «теологических новшеств» XIII века, своим критическим пафосом сделали необходимое, чтобы развеять надежды на союз философии с вероучением[284]. После них схоластика стала клониться к академизму. Началом распада средневекового культурного единства Европы были такие предприятия как попытка французского короля в 1303 мобилизовать богословов Сорбонны на опровержение нового догмата папы об относительности блаженства святых. Дело шло к национализации универсальнейшего центра европейской мысли.
Хотя в юности Петрарку привлекал Париж, получив 1 сентября 1340 сразу два предложения венчаться лаврами первого поэта, от Парижского университета и из Рима (Повседн. IV 4), он выбрал Рим. Тогдашний Рим был богат в сущности только памятниками старины. Но он был символом золотой древности. Пренебречь в его пользу признанным богословским центром Европы Петрарке было нетрудно. Так или иначе почти всё, что было в этой Европе написано на латинском языке после Древнего Рима и не вышедших из античности ранних отцов церкви, для него словно не существовало. Остается еще нерешенной загадкой, почему он ни разу даже не упомянул в своих сочинениях близких современников, наставников Данте: Альберта Великого, Бонавентуру, недавно (1323) канонизированного Фому, а заодно их новых критиков.
Отчасти это можно объяснить свойствами эпигонов великой Школы. Петрарке внушала брезгливое отвращение «порода людей, одичавшая от ночных бдений и поста», «губящая всё время жизни в препирательствах и диалектических исхищрениях»; его ужасала явная недостаточность одной жизни для даже частных ученых разысканий, а не может быть счастья там, где благо дробится на части (Повседн. I 2; 8; III 6); после того как из обещания блаженства слово о Боге «превратилось в диалектику, если не в софистику», то может быть только одно отношение к спорящим старикам-мальчишкам: «беги, едва он начнет изрыгать свои силлогизмы» (Х 5; XVI 14). Наверное пророк возрожденческого аристотелизма, как называют Петрарку (П. Кристеллер), защитник Аристотеля от «старцев схоластиков» (I 7) и, вместе с Платоном, от современных ему итальянских «аристотеликов» (XVIII 2), один в свою эпоху угадавший значение Аристотеля так, как приоткрылось позднее лишь с проникновением в «суть эллинства» (Г. Наход), мог бы разобраться в Фоме, как разобрался в нем Данте. Похоже, что всю так называемую высокую схоластику Петрарка не принял эстетически. Схематический язык комментариев и логико-теологических трактатов, тяжеловесный неуклюжий словарь мистико-аллегорических поэм, вся тысячелетняя рабочая средневековая латынь оставалась для него за рамками всех трех допустимых стилей, возвышенного, умеренного и смиренного; ей не хватало достоинства, чтобы вообще стать стилем речи, она оставалась служебным, рабским (servilis) говорением (Повседн. XIII 5). За эстетическим неприятием, за «лингвистической» полемикой стоял сдвиг в мироощущении[285].
Средневековая идеология видела своей главной задачей упрочение и хранение должного строя материальных и духовных вещей. Правильное расположение ума, отвечающее этому строю, считалось настолько необходимым, что замеченные отступления от него вызывали самый резкий отпор, на какой было способно общество. Требуемый душевный лад не обязательно должен был высказаться в слове; вернее всего он выражался сосредоточенным молчанием или его аналогом, готовностью многократно прочитывать авторитетные тексты и вдумываться в них.
Схоластика – философия духовной школы, в ее заботе о должном устроении ума причина техничности, искусственности ее латыни. Как инструмент техники духа слово довольствовалось ролью намека, символа, знака. В «Сумме теологии» Фома Аквинский захвачен умопостигаемым зданием духа и укрепляет его, обставив лесами доказательств, которые перед смертью назовет соломой, легковесным ничто в сравнении с молчаливо созерцаемой истиной. Стремление внушить читателю должное расположение духа еще владеет Данте, им продиктованы заботливо-хозяйственный замысел и наставительные силлогизмы «Монархии». «Назначение целого и части, – терпеливо описывает он цель своей поэмы, – может быть и двояким, а именно ближайшим и отдаленным; но, опуская тонкое расследование, необходимо коротко сказать, что назначение целого и части («Божественной Комедии») – удалить живущих в этой жизни от состояния несчастья и привести их к состоянию счастья, removere viventes in hac vita de statu miserie et perducere ad statum felicitatis» (Письмо XIII 39).
У Петрарки от заботливости наставника не остается и тени. Достаточно говорили о его войне против схоластиков; сюда надо добавить его отвращение ко всякой школе вообще. Он не назвал своим учителем никого из старших современников, его наставники древние и отцы ранней церкви Амвросий Медиоланский, Иероним Стридонский, больше всех Августин; открыто презирал учительскую профессию; «враг кафедры»[286], он ни разу в жизни не прочел лекции и гордился, что превзошел по этой части Августина (который только в 33 года «тихонько отошел от этой работы языком на ярмарке болтовни», «Исповедь» IX 2, 2); не принял полного священства, потому что оно было связано с духовным наставничеством («мне достает заботы об одной своей душе; о, если бы меня хватило хоть на это!», Epistolae variae 15); не сумел воспитать своего сына («знаю, что тебя погубило, – писал он Джованни, разрывая с ним отношения, – моя беспечная благосклонность», Повседн. XXII 7).
Или еще: он видит что распространяет вокруг себя «поэтическую чуму» (Повседн. XIII 7), что люди бросают дела, отдаваясь стихотворству, и как выходит из положения? В который раз бранит век за шатость, забвение древних нравов, но ему не приходит в голову позаботиться о душевном покое своих подражателей и поклонников.
Этический ригоризм его писем к друзьям или непреклонность Рассудка в споре с Весельем и Горем, Надеждой и Страхом в 253 диалогах «Лекарства от превратностей судьбы» (1354–1366) не лицемерны, и зная, как жил Петрарка вторую половину жизни, скромная пища один раз в день, шесть часов сна, непрерывный труд, тщательно продуманное общение с окружающими, не скажешь, что благоразумная трезвость у него просто риторическая фигура. Но она только один из полюсов, между которыми развертывается его существование, другой полюс Лаура, бездна таинственной красоты, которая требует себе всего человека, и так выходит, что вместе с уроком благоразумия Петрарка преподает читателю совсем другой урок, неизгладимого раскола в человеческом бытии и необъятной широты человека.
И еще: «воздержание, – восторженно пишет Петрарка о брахманах, – высшая чистота ума… презрение к богатству… сосредоточенное и всепочтенное молчание, нарушаемое лишь пением птиц или звуками гимнов, единственным принятым у них употреблением языка» (Об уединенной жизни II 16). В подлинности его любви к безмолвничеству не приходится сомневаться, но с другой стороны для него нет сомнения и в том, что истину сосредоточенно-отшельнического образа жизни он призван нести и нести в мир в убедительной речи. Он явно мечтает о молчании и пустынничестве, но своим примером ведет в другую сторону; всё для поэта сводится к тому чтобы воплотить въяве прекрасный идеал, пусть это идеал молчания и пусть его состязание с идеалом славного красноречия отныне вечно раздирает душу читателя, как оно уже давно раздирает душу писателя, «тайным борением забот» (другое название диалогов «О презрении к миру»).
Завидуя «счастливому состоянию» (Повседн. Х 3) брата Джерардо, который в 1343 после смерти любимой женщины ушел в монастырь, Петрарка сам никогда не свяжет себя монашескими обетами и отговорит от этого Боккаччо (Старч. I 5). Не то что призыв к христианскому опрощению и против оттяжки (dilatio) спасения не был постоянным внутренним голосом Петрарки; наоборот, «опасность… оттяжки решения о спасении» так ясна, «что и говорить нет надобности» (Повседн. Х 4). Но время изменилось, и зову уйти от мира не хватало убедительности. Может быть, не случайно «изменение десницы Всевышнего» (Пс 76, 11 в славянской Библии) самая частая библейская цитата Петрарки: «изменение десницы Всевышнего, которому с величайшей легкостью повинуются не только отдельная душа, но и весь род человеческий, вся вселенная, да в конце концов и вся природа вещей» (Повседн. Х 5). Лицо времени стало другим.
В тысяче вещей, вглядевшись, Петрарка видит одну донну Лауру, она и есть мир (Книга песен 127, 14; 334, 4), и как она мир предстает ему хрупким, уязвимым созданием. Вдобавок к общему ожиданию конца истории и последнего суда, не говоря уже о чуме, сгубившей на его глазах треть населения Европы (в Сиене и Пизе в 1348 умерло больше половины жителей), даже отвлекаясь от сопоставления расколотых республик и мелких тираний Италии с былым величием Рима, он из опыта своей много видевшей жизни выводит, что порядок везде сменяется раздором, достаток скудостью, благополучие тревогой (Старч. Х 2 «Гвидо Сетте, архиепископу Генуэзскому, об изменении времен»), мир тает, и осталось утешаться разве только тем, что не пришлось родиться позже, когда его состояние будет хуже.
Презрение к миру потеряло былую блестящую остроту и стало отзывать ненавистной школой. Что для Августина было подвигом, для Петрарки стало бы малодушием. Его обещание Августину: «Помогу себе в меру сил, соберу разбросанные осколки души и неотступно буду пребывать с собой», конечно, искренне. Но получается так, что именно ради его исполнения не надо оставлять мира: «Признаю, и только для того спешу теперь так к остальным делам, чтобы выполнив их вернуться к этим, – хорошо зная, как ты сейчас говорил, что мне было бы намного надежней следовать одному только тому занятию и, минуя переулки, встать на прямой путь спасения. Но обуздать свое желание не могу». И Августин мирится с ним: «Пусть всё идет так, раз нельзя иначе; молитвенно прошу Бога сопутствовать тебе и привести твои, пусть блуждающие, стопы в безопасное место». «Да сбудется со мной то, о чем просишь, да выйду цел из всех странствий, ведомый Богом, и, следуя его голосу, не взметаю пыль себе же в глаза; пусть улягутся волнения души, молчит мир и не противится судьба».
Если мир нельзя оставить потому что он беззащитен, то в нем ничего и не сохранишь потому что в его основе раскол и бездна. В мироощущении Петрарки христианский Бог словно покинул свой средневековый трон на вершине церковной и ангельской иерархии и снова взошел на крест. В этом пошатнувшемся миропорядке, ожидающем от человека скорой помощи, стало нечему учить и не о чем молчать. Слово уже не могло быть пособием к самостоятельной истине, не могло полагаться как прежде на внешний авторитет, оно само и его автор должны были отвечать за себя.
Говорят, что с началом Возрождения на европейскую сцену впервые выходит писатель, выступающий от своего имени, а не от имени могучих сверхличностей, святых, церкви, божества, и поскольку он частное лицо, ему приходится надевать на себя во время писания героическую маску. «Героическое Я, которое силится предстать в виде маячащего издалека образа, всесторонне законченного и полного, дразняще совершенного… есть чистая интеллектуальная конструкция»; новый интеллектуал действует в этой безопасной сфере идеалов, мифов и иллюзий[287]. «Раскол между человеком и персонажем… глубокое расхождение между человеком реальным и человеком идеальным… составляет у Петрарки, а после него и у нас, в нашей эпохе, которая от него берет начало, абсолютный центр»[288]; если Данте еще цельный человек, то с Петрарки начинается литератор, который «абстрагируется от реальной жизни и не приходит поэтому в столкновение ни с законами государства, ни с канонами церковной власти»[289].
Эта схема блекнет при вчитывании в тексты Петрарки, где только очень унылый наблюдатель не заметит порыва бодрого и трезвого духа ко всей нравственной целости, какая доступна человеку. Образ отвлеченного интеллектуала оформился в эпоху итальянского романтизма и Рисорджименто, время политического активизма, когда писатель и автор обрели для себя новую опору в лице масс и жестких исторических закономерностей. Джузеппе Маццини и Франческо Де Санктису не хватало у Петрарки романтического энтузиазма, святого гнева, мобилизующего напора. Необычно при засилье теории отвлеченного писателя частное мнение, что Петрарка «делает политику, и делает ее на высшем уровне, на каком ее не делал, наверное, больше ни один итальянский поэт»[290]. В поисках тех кто не винил Петрарку ни в душевном расколе, ни в ацедии, ни в писательстве приходится идти чуть ли не до Уго Фосколо в начале XIX века, который среди прочего «самым непостижимым и удивительным» в Петрарке считал его влияние на сильных мира сего[291].
Не была ли для Петрарки достаточной опорой сердечная вера в родство поэзии и правды? Оттого, что он не представлял ни государственной ни церковной власти, он еще не обязательно должен был расколоться на частное лицо с одной стороны и безответственного литератора с другой. Весомость его слова становилась загадочней, но не меньше чем если бы он связал себя с церковью, чей авторитет был проблематичен, и с государством, чья власть теперь простиралась от одних крепостных стен до других.
Не вина и не доказательство его ухода от реальной жизни, если его цели – объединение Италии, возрождение Рима, обновление католичества – не могли быть достигнуты. Императорам, папам, римскому трибуну Кола ди Риенцо это тоже не удалось, с той разницей, что их провалы плодили в умах отчаяние, а слово Петрарки осталось собирающей силой на века. В 1452 Стефано Поркари повторил в Риме попытку покончить с коррупцией духовенства, вернуться к доблестному «прежнему образу государственной жизни» и «основать отечество»; этот заговор тоже был раскрыт и подавлен. «Вдохновлялся он, – пишет Макиавелли, – стихами Петрарки из канцоны, начинающейся словами “Высокий дух, царящий в этом теле”… Мессер Стефано знал, что поэты нередко одержимы бывают духом божественным и пророческим, и вообразил он, что предсказанное в этой канцоне Петраркой должно обязательно осуществиться» (История Флоренции VI 29). К середине XIX века, когда Италия наконец объединялась, слово Петрарки несло ту же, если не большую, силу чем в XV веке. Маццини, потрудившийся в начале Рисорджименто для переоценки Петрарки и Данте с гражданских позиций (в пользу Данте), несколько непоследовательно замечал в одной статье, что «Петрарка… заходит в выражении своего гнева еще дальше Алигьери всякий раз, как от вечного предмета своей любви обращал взор к Италии… А ведь он… не был смертельно обижен отечеством и притом имел душу необыкновенно нежную»[292].
С Петраркой, продолжившим дело Данте, самостоятельное слово пришло на смену средневековому комментарию, культуре хранения освященного порядка вещей. Но это не значит что рассвободившийся писатель снял с себя ответственность за государство и общество. Поэты-философы несут в себе жар теургических замыслов высокого Средневековья, «Данте и Петрарка явные и прямые наследники великих писателей-классиков и наиболее глубоких отцов церкви, но также и великих монахов и великих университетских учителей»[293]. «Петрарка помог начаться новой эпохе, третьей, как он думал, после Римской, от Сципионадо Тита, и после medium tempus мрака; он не сознавал, что принес в свой мир дар французского XII века, чью интенсивность воспринял в себя итальянский гуманизм»[294]. В свою очередь мысль средневековой Школы, не технику, а пафос которой усвоил Петрарка, отвечала «потребностям, которые создала новая (христианская) вера, вселив в человека сознание его инициативы, его центрального положения в мире»[295]. Поэт только уже не верит в природную устойчивость подаренного миропорядка, даже в возможность его сохранения и знает, что сохранится лишь то что способно воплотить и возродить себя.
Философская поэзия
Петрарка продолжал и завершал другое мощное движение средневековой культуры, начавшееся в Провансе, продолженное северофранцузскими труверами и наконец флорентийскими лириками и Данте. Крайняя точка зрения связывает Петрарку прежде всего с провансальцами. «Мы невольно прочитываем Петрарку в итальянском ключе, прежде всего в связи со стильновизмом, но это грубая ошибка. Петрарку не понять, если не представить его сначала в Авиньоне, в центре всего что еще оставалось от той крайне утонченной культуры… Некоторое время он явно был билингвом… был в завидном положении, зная непосредственно благодаря рождению и избранному месту жительства две важнейшие европейские школы лирической поэзии»[296]. Во всяком случае Петрарка впитал в себя искусство трубадуров, «усовершенствовал его античным искусством и заместил (своей поэзией), возвысившись до верховного образца»[297].
Идущая от Данте и Петрарки новоевропейская поэзия не всегда помнит о подытоженной ими поэтической работе двух веков. Сами Данте и Петрарка, наоборот, очень отчетливо ощущали, что принадлежат к совершенно определенной поэтической традиции, с начала которой «прошло не очень многое число лет», не больше 150 (Данте, Новая жизнь XXV 4), век или два, не больше (Петрарка, Повседн. I 1, 6). Данте, Петрарка и Боккаччо настолько исчерпали это блестящее двухсотпятидесятилетнее движение европейской поэзии, что после них в Италии начинается «век без поэзии», при том что в Англии, Франции и Испании поэзия тоже уже не имела мировой значимости. В этом отношении можно говорить вообще, что с Боккаччо «угасает последний великий свет человечности и поэзии в итальянской литературе XIV века, после Данте и Петрарки»[298]. «Итальянская литература золотой поры (XIII–XIV веков) была отчасти органическим продолжением римской, народным развитием ее начал… тогда как Renaissance XV–XVI веков был предвзятым, искусственным воспроизведением тех же начал на почве кружка и партии»[299]. Здесь только опять же забыто о провансальцах.
Петрарка перенял от них и от стильновистов, даже ограничив словарь и синтаксис по сравнению с Данте, поэтический язык, тему Прекрасной Дамы, лирического героя, разработанные стихотворные формы, сам не создав ни одной новой, и даже рифмы, которых всего только 564 во всех его итальянских стихах, включая «Триумфы». Несмотря на скандальное непонимание интеллектуализма петрарковской поэзии, причина которого якобы в неспособности поэта к глубокой романтической страсти, Де Санктис улавливает главное, когда говорит, что любовь заставляла его писать не ради славы, а для облегчения души, так что он «пассивно принял существующую школу» трубадуров-сицилийцев-флорентийцев[300]. Причем, по Де Санктису, Петрарке удавались только сонеты и канцоны, но не баллаты, эпиграммы (мадригалы) и сестины; а стихотворных форм в «Канцоньере» всего эти пять. Хотя мадригалы Петрарки – первые дошедшие до нас, нет свидетельств, что их изобрел он; «Триумфы» написаны дантовскими терцинами. Образы, мотивы, ситуации, стиль Петрарки – от прежней поэзии[301]; материалы и настроения его поэзии подготовила группа… Петрарка воспевает Лауру в сущности как трубадур; новое в его поэзии – не содержание идеала, а мощный субъективизм поэта, его художественная виртуозность, воспитанная чтением классиков… Лаура архаичнее Беатриче»[302].
Петрарка вложил огромный труд в свою Книгу песен. Не преувеличение сказать, что он всю жизнь правил и улучшал ее. С 1342 по 1374 было до девяти ее редакций, главные в 1350 (разделение частей «На жизнь донны Лауры» и «На смерть донны Лауры»), в 1358 (175 вещей), в 1366 и наконец в 1373–1374 (366 вещей, по числу дней високосного года), когда Петрарка наконец ее издает, причем из-за ухода секретаря-переписчика номера 121, 179, 191–263 и 319–366 переписывает сам; это Codex Vaticanus Latinus NQ 3195, с 1544 им владел Пьетро Бембо, в 1581 он попал в Ватиканскую библиотеку, но основой для изданий стал только в XX веке. Забота Петрарки о своих рукописях «ни в малейшей мере не бросает тень на его творческую искренность, а наоборот, скорее доказывает ее; только идущие до последней крайности искания могут оказаться достаточными, чтобы обрести верное выражение глубинам внутреннего опыта»[303]. Вот оставленные Петраркой следы последней шлифовки: «Обрати внимание»; «Надо будет целиком переделать эти два стиха, напевно, и изменить порядок. 3 часа утра 19 октября»; «Здесь нравится: 30 октября, 10 часов утра»; «Нет, не нравится: 20 декабря вечером»; «Вернусь к этому: позвали на обед»; «18 февраля, к 9 часам: хорошо, но посмотри еще раз»[304].
Улучшение шло по мере того как эта жизнь прояснялась, становилась прозрачнее. Пишет не стихотворец, rimatore, а мыслитель и ясновидец, поэт в раннем и редком смысле слова. Сложность поэтического слова Петрарки обычно связана с тем, что оно не устанавливается в законченный образ, к тексту приходится возвращаться, словно кроме букв в нем всё подвижно – смысл неостановимо углубляется, Лаура неприметно становится целым миром, пишущий преображается в своем слове.
Эта расположенность звучащего слова собирать именуемое в самом себе, становясь его необходимым воплощением, – завещание Прованса. Хотя и христианская мистика в итальянских лаудах XIII века тоже преодолевала средневековый аллегоризм, стремясь «не столько передать воспоминание о совершившемся экстазе, сколько позволить самому экстазу передать себя, миг за мигом, по мере того как он происходит»[305].
«Сложу стихи я ни о чем», начинает свою «Песню ни о чем» первый трубадур Гильем Аквитанский (1071–1126). Поэт может обойтись без темы для стихов, если дышит ими как воздухом. В противоположность латиноязычной средневековой культуре сбережения сокровища, которое само в себе обладает полнотой и не может быть схвачено словом, провансальская поэзия имела дело с реальностью, которая существовала в той мере, в какой осуществлялась – выговаривалась, выпевалась, разыгрывалась – в балете куртуазных, т. е. прекрасных и благородных поступков и жестов. Петрарка, перенимая из третьих рук этот важный термин провансальцев и затем сицилийцев и стильновистов, называет куртуазным даже Христа (Ben venne а dilivrarmi un grande amico Per somma et ineffabil cortesia, сонет 81 lo son si stanco). В канцоне 37 Si è debile il fi lo места, где живет избранница небес, названы обителью благородной красоты и куртуазности; новая Cortesia встает здесь рядом с Onestate, старым honestum Цицерона, так переводящего греческое to kalon. Точно таким же образом один из первых трубадуров Джауфре Рюдель (ок. 1125–1148) двумя веками раньше увидел в своей Далекой Даме, тоже любимице Творца, сокровище «достоинств куртуазных».
Поэт начинался тогда, когда любовь рождала в нем дар песни, и слово оказывалось средой обитания проснувшейся души. «Встречи сулят Родить, слуху приятный, Поток полноводный Слов и музыки» (Гаусельм Файдит, ок. 1172–1203)[306]. Любовь к Прекрасной Даме размыкала прежде глухое существо человека и для него начиналась новая жизнь в свете и славе. «Любовь к Даме становится источником беспредельного внутреннего совершенствования… уже само добровольно принятое страдание оборачивается для трубадура радостью»[307].
Куртуазная любовь встала в независимое и вместе дополняющее отношение к христианству. Если церковь звала к блаженству на небесах, то любовная поэзия напоминала ей, что дух не узнает порывов, разговоры о блаженстве останутся невразумительны без опыта влюбленности. «Всю красоту Твою, Боже, в сей госпоже я постиг», говорит Арнаутде Марейль, трубадур из клириков (конец XII века), и может надеяться, что его церковь отнесется к этому признанию сочувственно.
Любовь к Прекрасной Даме стоит в прикровенной, но неразрывной связи с культом Богородицы-девы[308]. Поэзия трубадуров сложилась не без влияния сирийско-греческой литургической поэзии и ее латинских подражаний, особенно распространившихся в X–XI веках. Почвой трубадуров была родная романская дописьменная поэзия и арабская, особенно испано-арабская любовно-мистическая поэзия со своей теорией (стихотворный трактат «Ожерелье голубки» Ибн Хазма, XI век). Говорят и о воздействии классической персидской поэзии. Именно этот широкий культурный синтез, окрепнув за два века цветения на юге и севере Франции, в Германии, Сицилии, Тоскане, вобрав в себя в новом ранневозрожденческом синтезе Данте, Петрарки, Боккаччо еще и культуру античной классики, дал образцы всемирной высоты, определяющие для европейской поэзии вплоть до Томаса Элиота, Эзры Паунда, Джузеппе Унгаретти, Осипа Мандельштама и Ольги Седаковой.
Так называемая сицилийская поэзия возникла в основном при дворе Фридриха II (1194–1250). Изумление света, stupor mundi, он был последним императором Священной Римский империи, который смел еще всерьез стремиться к объединению Италии и чуть не добился этого. Его резиденция Палермо был самым столичным и блестящим городом страны. Основатель университета в Неаполе, великодушный покровитель поэтов, Фридрих принимал трубадуров, бежавших из Прованса после его разорения крестовым походом, который папа Иннокентий III вел против альбигойцев. От примерно тридцати «поэтов Фридриха», называемых чаще сицилийцами, сохранилось 85 канцон (слепков с провансальских canso) и 40 сонетов (сицилийское изобретение). Писал, кажется, и сам Фридрих.
Джакомо да Лентино, упомянутый Данте в «Чистилище» 24, 56, глава поэтов Фридриха, числившийся в документах его двора как нотарий с 1233 по 1240, и возможный изобретатель сонета[309], «положил в сердце служить Богу» чтобы стать достойным рая, однако знает о рае не больше чем сколько видел от его сияния в ясном взоре своей золотоволосой дамы, и не хочет рая без нее. «Но это говорю не в том значеньи, – обстоятельно поясняет он, возможно, в актуальной полемике с Кораном, – что я хотел бы грех там совершать; нет, видеть лишь очей ее горенье, прекрасный лик и царственную стать и, восходя к вершинам наслажденья, ее в сияньи славы созерцать» (сонет lo m’aggio posto in core а Dio servire). «Льдом был я без любви, водой студеной, – говорит Гвидоделле Колонне, – но от Амора вспыхнул, его огнем зажженный… Собою образ снега тот являет, в ком нету ощущенья любовного горенья: он жив, но светлой радости не знает».
Сицилийцы снова и снова выводят один и тот же простой рисунок: светлые локоны и ясный лик (trecce bionde и chiaro viso, тоже без изменения перешедшие к Петрарке) Прекрасной Дамы; смятенное и восторженное сердце поэта; необузданное чувство, высветляющее себя в огне (the crowned knot of fi re «Квартетов» Томаса Элиота). Перейдя из дворцовой культуры Палермо в городскую Флоренции, эта поэзия усложняется и богатеет содержанием.
Для Гвиттоне д’Дреццо (ок. 1235–1294), вождя собственно тосканских лириков, тема любви начинает казаться не обязательной, лишь бы сама речь о нравах, политике, друзьях хранила благородную задушевность. Поэты «сладостного нового стиля» восстают против его школы и снова поют почти только о Прекрасной Даме. В «Новой жизни» XXV 6 Данте напоминает, что любовь не одна из тем рифмованной поэзии на народном языке, а ее существо, «поскольку такой род речи с самого начала был изобретен с тем чтобы говорить о любви»; потом Данте скажет о неспособности Гвиттоне писать «по внушению Амора» и о его заносчивости (Чистилище 24, 55-62; 25, 124–126; О народном красноречии I 13, 1; 116, 8).
Но стильновисты настолько многозначительны, недаром они все философы и ученые, что за образом мадонны встают космические или надмирные дали. Прекрасный рассказ об ореоле мудреца вокруг Гвидо Кавальканти есть в «Декамероне» (VI 9). Старший современник обращается к стильновистам: «О вы, переменившие манеру вести сквозь слезы речи о любви… Такую тонкость вы придали слову и ваши до того темны реченья, что некому их стало толковать; неслыханную начали обнову, как из Болоньи вышло повеленье – по писаному песни составлять». Последние не совсем ясные слова этого сонета Voi ch’avete mutata la manera сицило-тосканца Бонаджунты Орбиччани, возможно, намекают на то, что первый стильновист Гвидо Гвиницелли долго вращался в ученой среде Болонского университета, и удивление перед тем, что молодые перестали петь, тогда как начинатели традиции трубадуры были поэтами-музыкантами, бардами, и стали писать. Без отслоения слова от мелодии не возникла бы однако «Божественная комедия». У Петрарки была, судя по его завещанию, хорошая лютня. Но слова Фосколо, что он «сочинял под звуки своей лютни», приходится понимать как фигуру речи – музыка уже спрятана в звучании и смысле его стиха. Правда, начиная с Якопо из Болоньи (XIV в.) и Бартолино из Падуи (писал ок. 1380–1410) десятки ренессансных композиторов перелагали на музыку сотни сонетов Петрарки[310].
Прекрасная Дама теперь не только хранительница ключей рая, но и сама софия мира. Провансальский и сицилийский каноны еще допускают соединение с любимой; для «сладостного нового стиля», для всего Данте, для Петрарки оно безусловно исключено из-за неземного достоинства донны, «любимая недостижима ех hypothesi»[311]. Разделенная любовь и счастье с ней сейчас означали бы изменение в космосе, возвращение рая на земле. Несоизмеримость двух душ вмещает в себе всё напряжение бытия. Недостижимость Прекрасной Дамы у трубадуров еще только подозревается, у Данте скрадывается из-за размытости границ между этим и тем миром; Петрарка, говорит Джузеппе Унгаретти, первым открывает «идею отсутствия»: желанный мир (ибо в Лауре весь мир) в принципе неприступен и далек, хотя абсолютно действителен, вне его нет жизни, и поэзия – чудо восстановления близости этого мира; Лаура – отсутствующий мир, вмещающий все дали пространства и времени, чей живой голос вдруг явственно слышен сквозь листву чувства, памяти и воображения в обнаженном слове поэта, вторящем каждому биению сердца и «дающем человеку ощущать себя человеком, в религиозном смысле»[312].
Петрарка не стильновист и по заявленному им непринятию какой бы то ни было школы, и потому что подобно Данте он шире любого поэтического направления, но он так же «фильтрует свой опыт в философские и интеллектуалистские схемы»[313]. Он с неменьшим правом мог бы сказать о себе: «Когда любовью я дышу, то я внимателен; ей только надо мне подсказать слова, и я пишу» (Данте, Чистилище 24, 52–54, пер. Лозинского). Почти так же у него в сонете 9: «Когда та, что средь жен сияет новым светилом, луч мне шлет очей прекрасных, любовь взрастает мыслью, делом, словом». Петрарка говорит о своей независимости от поэтических предшественников, от Данте (напр. Повседн. XXI 15), а между тем почти во всём развивает их. Здесь одна из его загадок.
Как всех поэтов традиции, о которой идет речь, любовь к мадонне заставляет Петрарку проснуться от сна и зажигает порывом к неземному счастью. От нее – l’animosa leggiadria 13 сонета, светлый восторг, «прямым путем тебя ведущий к небу». Слова Петрарки о пробуждающей силе любви звучат грозней и бесповоротней чем у любого из предшествующих поэтов. «Вся жизнь, что в теле теплится моем, была подарком ваших глаз прекрасных и ангельски приветливого слова; я тот, кто есть, от них, мне это ясно: они как зверя грузного бичом дремотную во мне подняли душу» (сонет 63 Volgendo gli occhi). Путь пробуждения теперь должен быть пройден до конца. Обновляющая любовь, которая у провансальцев еще могла казаться, хотя уже не была, лишь одной темой из разных возможных для человека и поэта, – ночные встречи, предрассветные расставания, клятвы в верности, муки покинутости предполагают ведь что какая-то жизнь всё же идет своим чередом, – теперь, пройдя через стильновистов с их диктатом Амора и через Данте с небесным преображением его Беатриче, у Петрарки без остатка захватывает всего человека. Кончилась игривость провансальцев, схематизм сицилийцев, аллегорический символизм стильновистов и самого Данте, который, воспевая Беатриче, оставался верным супругом и заботливым семьянином. Говорит ли это об искусственности Петрарки, как думали Де Санктис и Кроче, об утрате им мудрой средневековой амбивалентности или о полном отдании себя мечте, но он не оставляет для себя никакой жизни вне служения донне, служения славе, служения слову. Это служение поглощало его с годами всё больше вплоть до последней минуты, заставшей его согласно устойчивой легенде над книгами и бумагами. Он не был уже в состоянии видеть ни в чем другом опоры. Любовь, не благоразумная «любовь к Богу» или холодная «любовь к человеку», а раз навсегда захватившая влюбленность – единственный узел, на котором укреплена его душа (сонет 24).
Ему не приходится ждать облегчения от будущего или оттого, что после жизни. Время грозит отнять силы и жизнь прежде чем человек успеет освоиться в своем новом парящем состоянии. Отсюда острая тревога многих его писем. А Данте жалеет ли хоть раз об улетающем времени, жалуется ли на безумную занятость? Единственной опорой Петрарки остается слово, чтобы порыв души мог воплотиться в славе, а иначе потонуть в вечном забвении, в страшном петрарковском oblio, «откуда смерть моя берет начало». Слово может казаться хрупкой реальностью. Петрарке оно таким не кажется. «Я часто убеждался в том, что простое слово (vox) благотворно действует на множество людей и не автор слова, а само оно приводит в движение души, скрыто проявляя свою силу, suamque vim latenter exercuit» (Старч. VII 1). Слово избавляет от смертельной Леты. Поэтому его здание строится Петраркой с таким старанием. В него переместится существо человека, когда прежнее природное создание растает, расплавленное силой им же начатой речи: «И распадаюсь я под звук своих речей, как снежный человек от солнечных лучей» (канцона 73 Poi che per mio destino). Неотступный саморазбор, идущий в диалогах «О презрении к миру», в собраниях писем, менее явно в «Лекарствах от превратностей судьбы», больше всего в «Канцоньере», переплавляет лучами слова временное и обреченное во вневременное. Нестойкая полусонная душа расслаивается, просвечивается, сливаясь в конце концов с этим лучом и уже не продолжая существование вне его света.
Настоящий, последний Петрарка не в той или другой из разбираемых им в себе «противоборствующих страстей», не с ушедшим от мира братом Джерардо и даже не с собравшей в себе всю прелесть мира Лаурой. Он – тот внимательный, кто, разбираясь в себе, пробирается к последней основе своего существа и только так, каждый раз вновь определяя сам себя, дает себе осуществиться. Он успел быть в своей жизни и легкомысленным, и игривым, и страстным, и серьезным, и скучным, и ученым, и мудрым, и стал другим чем был раньше (сонет 1, 4), и успел подумать, что всё казавшееся ему уже бодрствованием опять еще только сон и надо будет снова проснуться (канцона 105, 6), и желанная Лаура успела привидеться ему Медузой (сонет 197, 5–6 и канцона 366, 111), но во всех переменах сохранилось неизменным одно: всё в нем становилось словом. В непрерывно льющееся слово соединились и знание и жизненная мудрость и любовь и вера – человек в своей трудноуловимой цельности достиг недостижимой полноты тем, что стал песней.
Эта явленная полнота человеческого лица была невероятно заразительна. Где появлялся Петрарка, куда доносился звук его имени, там начиналось подражание ему, там начинался Ренессанс. Пожалуй, «проект новой культуры», который он несомненно осуществлял, только и сводился к тому «чтоб крылатою сделаться песней», по слову его любимого Вергилия (Георгики III 9). Жизнью-песней стала не только поэзия Петрарки (Унгаретти предложил для книги его стихов общее название «Жизнь человека»), но и проза, особенно книги писем, тоже очень разные, пестрые до внутренних противоречий, признаваемых самим пишущим, и связанные тем, что человек в них год за годом с последней достижимой искренностью рассказывает сам себя, оставляя свою жизнь в слове, вплоть до конца, когда прощается одновременно и с ней и с друзьями и с письмами (valete epystolae valete amici, Старч. XVII 4).
Новое слово
Основополагающий текст Средневековья был переводом. Это задавало тон любой средневековой речи; ее делом была добросовестная передача где-то уже достигнутого смысла. Почти не делалось серьезных попыток перевести стихотворные части Библии стихами. Петрарке едва ли не первому стало вдруг очень важно, что такие части вообще существуют, и он сообщает об этом как об открытии (Повседн. Х 4). Слову отводилась служебная роль. Играющее изящество фразы Алана Лилльского, блеск философской формулы Фомы Аквинского – это красота отлаженного инструмента. Современники схоластики «видели в ней ту красоту логического мышления, которую наши современники видят в математике»[314]. Слово-инструмент спешило уступить делу, в него закладывалось иногда даже нарочитое неподобие своему предмету, призванное лишний раз напомнить читателю о несказанности искомого смысла.
Дисциплины школ, размножившихся по образцу парижской при европейских дворах и соборах с образованием Священной Римской империи при Карле Великом, делились на естественнонаучный квадривиум (арифметика, геометрия, музыка, астрономия) и гуманитарный тривиум (грамматика, риторика, логика). Тривиум включал чтение античных поэтов, риторов, историков, философов. Но они не могли занять первое место в иерархии знания. Нельзя было сомневаться в том, что Христова истина затмила всякую мудрость древних, и доказательств превосходства нового знания над старым не требовалось. В хронике начала XI века Радульфа Глабера есть рассказ о некоем Вильгарде из Равенны, который «изучал грамматику усердней чем обычно принято, по примеру тех преисполненных гордыни и слабоумия итальянцев, которые запускают все науки ради литературы»; ночью безумцу и безбожнику являлись демоны в образах Вергилия, Горация и Ювенала и поздравляли с успехами в чтении и распространении их книг. Вильгард якобы думал, что «надо верить всем словам этих поэтов». «Его судил и осудил Петр, епископ города. В то же время в Италии обнаружили множество людей, проповедующих то же смрадное учение, – они погибли от меча и огня»[315].
Христианское устроение духа было высшей ценностью. Вместе с тем каждая эпоха подъема была отмечена усиленным изучением древней классики. В каролингское возрождение даже греческая античность была втянута в орбиту культурных интересов. Выражение cultus humanitatis и в гуманитарном (занятия словесностью и человечное воспитание человека, пайдейя) и в гуманистическом смысле (любовь к человеку, филантропия) есть уже у Цицерона и Авла Геллия[316]. Studia humanitatis в первом значении по существу не прерывались в поздней античности ни в европейских ни в византийских государственных и церковных школах, только в отличие от Ренессанса не ставилась всерьез (в шутку – часто ставилась) миссия возрождения классики. Второе значение стало преобладать после появления ренессансных трактатов о достоинстве человека, и в возникшем с XVIII века слове «гуманизм» старый смысл всей идеи – тщательная культура ума и души – отступил на второй план.
Французский ренессанс XII века увидел в классическом тексте образ всех искусств, собор, созванный ad cultum humanitatis, цветущее поле грамматики и поэзии, пронизанное золотыми стрелами логики, украшенное серебром риторики. Шартрская школа в первой половине XII века жадно спешила приобретать, переписывать и изучать латинских классиков, переводить не только Аристотеля и Платона, но теперь уже и арабов, «символическая ментальность» (М. Шеню) позволяла шартрцам легко истолковывать по-христиански любые языческие и даже так называемые еретические источники; их идеалом был синтез искусств, cohaerentia artium, способный отобразить собой гармонию космоса. Ученик Шартра Алан Лилльский в художественной прозе и стихах («Плач Природы», «Антиклавдиан», конец XII века) славил космического Человека, середину мира, и свободные искусства, с крылатой колесницы которых можно обозреть мироздание.
В XIII веке культурный центр Европы, каким стал Париж, склонился к аристотелизму, к логике и диалектике в ущерб классической поэзии и риторике, и cultus humanitatis там отодвинулся в тень. Анри д’Андели во французской поэме «Битва семи искусств» (вторая четверть XIII века) описал положение дел в школе своего времени. Подлинная Грамматика, т. е. словесность в широком смысле (от греч. γράμμα буква, как литература от лат. littera, то же), в боевых порядках которых сражаются Гомер, Вергилий, Гораций, Сенека, Алан Лилльский, пытается взять штурмом замок скелетообразной Логики, сумбурной Диалектики и извращенной низкой грамматики тривиума, знающей только свои правила и не читающей авторов. Логика успешно отбивается с помощью софизмов и апорий и прогоняет Грамматику, хоть сама не в силах внятно выговорить даже условия мира. Последние стихи поэмы пророчествуют о лучшем будущем: «Всего лишь тридцать лет пройдут, и люди новые придут; к Грамматике прильнут они не меньше чем то было в дни, когда родился д’Андели», т. е., надо думать, в конце XII века, когда процветал Алан Лилльский.
По Этьену Жильсону, здесь предсказано явление Петрарки, который пускай не через 30, но через 70 лет девятилетним мальчиком на всю жизнь был очарован музыкой Цицеронова слова, услышанного им от своего учителя Конвеневоле да Прато в Карпантрасе[317]. «Какая-то ладность и звучность слов сама собой захватывала меня, так что всё другое, что я читал или слышал, казалось мне грубым и далеко не таким стройным» (Старч. XVI 1). Но можно отнести предсказание Анри д’Андели к Альбертино Муссато (1261–1329), или ко всему кружку падуанских гуманистов, или к самому Конвеневоле да Прато, «увлеченны(м) латинист(ам) – начетчик(ам), бессознательный подвиг которых сделал возможным явление Петрарки и первую организацию “возрождения”»[318]. Старый маэстро был из числа многих, кто не захотел подделываться под логически-научный стиль века и посвятил жизнь трудам на почве латинской словесности. Как раньше него Альбертино Муссато и позднее Петрарка, он тоже был увенчан поэтическими лаврами, правда не в Риме, под рукоплескания почитателей античности.
Что в страстных поклонниках «авторов» среди поколения, предшествовавшего Петрарке, не было недостатка, говорит его рассказ о старике из Виченцы, фанатично преданном Цицерону. Петрарке пришлось умерять его пыл, и присутствующие дивились не старику, а смелости Петрарки, посягнувшего на непогрешимость автора (Повседн. XXIV 2). Жильсон повторяет ошибку Карла Бурдаха, равнявшего шартрский гуманизм с петрарковским[319]. Если бы в Италии XIV века просто возродился старый гуманизм, «авторы» в предельном случае поднялись бы до авторитета Библии, как отдаленно уже и получалось у Муссато, чтившего в поэтах пророков и богословов, античная и христианская культуры сравнялись бы в достоинстве, и стерлась бы убежденность в абсолютном превосходстве нового знания над старым, а ведь эта убежденность, обоснованная или нет, была силой, рождавшей историческую задачу.
Старый гуманизм замыкал античное слово в рамках толкования, аллегорически-символического развертывания. Самое большее, он мог взглянуть на него так же снизу вверх, как на Библию. Чтобы проснулось ренессансное отношение к классике, надо было сперва отойти от комментаторской зависимости. Гуманистами были падуанцы, из которых самый известный Ловато де’Ловати (1241–1309) и Альбертино Муссато. Их младший современник Данте оказался странным образом равнодушен к их латинским штудиям[320]. Ко времени Петрарки в Италии с расцветом Болонского, с открытием Неаполитанского и Флорентийского университетов стало еще больше ученых знатоков античной словесности. Петрарка вызывал раздражение признанных филологов тем, что вторгался в предмет их исследований, не имея специальности, кроме юридической, знаний, кроме почетного титула поэта-лауреата, определенных занятий. По нормам тогдашней точной филологической и философской науки его можно было не принимать всерьез[321]. Сбивала с толку его действительно прекрасная латынь. Но даже и над ней стали снисходительно посмеиваться гуманисты XV века, находя в ней грамматические ошибки. Он, правда, и тут предупредил критиков, Повседн. XVI 14: «Мне показалось смешным не то, что ты сделал такую ошибку в латинской речи, а то, что так всерьез устыдился этой ошибки…» Его язык «конечно еще очень далек от корректности и гладкости языка последующих поколений филологически вышколенных гуманистов; зато в нем пульсирует несравненно более сильная жизнь, и Петрарка владеет подвижностью интимнейшего выражения личности, какое уже не было достигнуто позднейшими в их рабском подражании высокочтимым классическим образцам»[322].
Петрарка хорошо понимает собственную филологическую непрофессиональность и объясняет в письме к брату свое право на нее: «Одни разглаживают пергамент, другие переписывают книги, третьи их исправляют, четвертые, употреблю простонародное слово, освещают (комментируют? иллюстрируют?), пятые переплетают и украшают обложку; благородный ум возносится выше, пролетая над всем более низким» (Повседн. XVIII 5 «К Герарду, картезианскому монаху, о том, что у просвещенных людей книги часто менее исправны чем у прочих»).
Для средневекового гуманиста филология окружена едва ли меньшим ореолом чем философия, и Шартр без устали комментирует, делая космологические обобщения, аллегорию латинского энциклопедиста V века Марциана Капеллы «О свадьбе Филологии с Меркурием». Иоанн Солсберийский однажды характерным образом вместо филологии пишет в передаче этого заглавия философии. А Петрарка? В молодости он пишет комедию «Филология», дает ей затеряться, сохранив только одну строку от нее в «Книге писем о делах повседневных» II 7, 5, и с тех пор буквально ни разу не употребляет это слово, вместо него – studia literarum, что приблизительно соответствует словесности, просвещению, подобно тому как не называет себя и не хочет чтобы называли почетными в среде латинистов именами знатока авторов (auctorista), знатока словесности (humanista), ученого (orator, в средневековом употреблении близко к современному профессору)[323]. Поэтому Билланович только наполовину прав, что «энтузиазм собирателя древностей, в силу которого Петрарка заставил и себя и потомков поверить в иллюзию, будто он явился одиноким глашатаем, поднявшимся среди массы спящих, был лишь более интенсивным и чистым возобновлением такого же энтузиазма грамматиков и филологов, которые подготовили ему путь». В отношении себя у Петрарки таких иллюзий как раз не было, свою новизну он видел не в собирании древностей, не в грамматике и не в филологии. Он ищет другого. «Ни грамматика, ни какое бы то ни было из семи свободных искусств не достойны того, чтобы благородный ум состарился в занятиях ими: они путь, не цель» (Повседн. XII 3, 18). Грамматика-словесность выделена здесь из семи искусств тривиума и квадривиума как у Анри д’Андели, но даже эту высокую Грамматику Петрарка называет недостойной благородного ума.
Данте уже не смотрит на Вергилия с дистанции толкователя и буквально встает рядом с ним в своей поэме. «Данте вступил в единоборство с Вергилием»[324], а комментировать начал свои собственные вещи[325]. Петрарка находит в библиотеке Веронского епископата Цицероновы «Письма к Аттику», но не обрабатывает их филологически, не предлагает для чтения и комментирования в университете, – он вообще никогда никого не комментировал, даже себя; для сравнения, Тьерри Шартрский не писал ничего кроме комментариев, в том числе к Цицерону, – а тут же, возможно, в том же 1345 году, решает создать из своей переписки аналогичное собрание и пишет письмо Цицерону (Повседн. XXIV 3). Классическая филология до наших дней почитает Петрарку как своего патрона, прощая ему погрешности, некоторую научную некорректность и великодушно именуя «подлинным филологом». Сам он отказывался даже от более широкой специализации поэта и хотел после всего сделанного всё-таки еще оставаться просто добрым человеком без особых знаний («О невежестве своем собственном и других людей»). Ему была нужна вся эта широта непредвзятого нетехнического подхода, чтобы открыть подлинную, а не символически-аллегорическую античность.
Как за внимание к античному слову Петрарку называют филологом, так за любовь к Цицерону, «вождю латинской прозы», ему приписывают поворот от фундаментальной философии и богословия к риторике и вину за риторичность всего пошедшего за ним Ренессанса. «Самый дружественный мне и самый уважаемый мною человек», говорит о Цицероне Петрарка, и еще неожиданней: «Христос Бог наш, Цицерон вдохновитель нашей речи, nostri princeps eloquii». То же соседство святыни и слова в пожелании умереть или в молитве или за письмом (Повседн. XXIV 2, 4; XXI 10, 9–12; Старч. XVII 2). Ставил ли Петрарка рядом веру и филологию? Или гармония, которою его увлек Цицерон, была больше чем красота звуков, а речь, eloquium, больше чем риторика как искусство изящного выражения? В Цицероне Петрарку захватила открытость голоса, классическая простота человека, который привык быть собой и не знает, зачем бы и когда ему надо быть другим. Греческому идеалу свободного Цицерон уступает разве что в безмятежности; если греческая классика цветок свободы, то римская предполагает еще и умение свободу хранить. Деловитость не мешает здесь мудрой глубине, мужество отвечает за равновесие между созерцанием и поступком. Петрарка первым расслышал эту простоту у виднейшего из «авторов»[326], т. е. у настоящих истоков той официальной прозы, на которой говорили вера, право и наука его эпохи, и сам заговорил не от имени или по поводу внележащей истины, не в пояснение заданного смысла, а прислушиваясь к тому, как движение духа развертывается в слове.
Петрарку расстраивает и злит, что толпе человеческая непосредственность Цицерона не видна за блеском риторики. «Большая часть читающих, скользя мимо сути дела, ловит только слова, а правила жизни, обманутая слышимой гармонией, воспринимает словно какие-то сказки. Ты помни: дело там идет не о языке, а о душе, то есть речи те не риторика, а философия» (Повседн. III 6, 7). Цицерон был для Петрарки идеалом такой философии, которая ни на минуту не оставалась отвлеченной дисциплиной, а с самого начала уравновесила себя гражданствованием, деятельностью в густой сети политических, дружественных и родственных связей, не отшатнулась ради логических схем от риторики и рискнула быть и живой, и увлекательной, и изящной.
Автор «Книги о делах повседневных», которая была задумана как искренний и переменчивый, день за днем, отчет о своем душевном состоянии, с тоской предчувствует, что и в нем будут искать ритора там, где хочется просто выплакать беду: «Мы ждали от тебя, – скажет читатель, – героической песни, легких элегий, надеялись услышать истории знаменитых мужей, а видим одну повесть о твоем собственном горе; мы думали, это письма, а это плачи; там, где мы искали искусных словесных сочетаний, отчеканенных на новой наковальне, и пленительно мерцающих риторических красок, находим лишь вопли страдальца, вскрики уязвленного и пятна от слез». Конечно, Петрарка и здесь, в скорбном отчете о годе чумы (Повседн. V 7 от 20 мая 1349), среди самого отказа от риторики остается поэтом – только не от пристрастия к литературности, а потому что как не мог он уйти от мира, так не может и не хочет подавить в себе еще и этот природный дар речи, хоть думает сказать сразу многое, а понимает, что толпа услышит один словесный звон. «Ложь, будто я хочу умалить его (Данте) славу, когда может быть я один лучше множества тупых и грубых хвалителей знаю, что это такое, непонятное им, ласкает их слух, через заложенные проходы ума не проникая в глубину души: ведь они из того стада, которое Цицерон обличает в “Риторике”, где говорит, что читая хорошие речи или стихи, они одобряют риторов и поэтов, но не понимают, что их заставляет одобрять, ибо не могут знать ни где скрыто, ни что собой представляет, ни как исполнено то, что им всего больше нравится». Поэт, даря, отдает себя на распятие. У него нет выбора. «Что же мне делать? Я умру, если не дам горю излиться в плаче и словах» (XXI 15; VIII 7, 9). Он ритор и филолог лишь поскольку человеку дано быть словесным, а слову естественно быть живым и играющим и неестественно – иссушенным и одеревенелым.
Поэзия Прекрасной Дамы не изъяснялась на латыни, хотя чем ближе к Петрарке, тем больше она питалась знанием латинских лириков. Данте распространил итальянский на философские темы, чтобы мысль могла положиться на родное слово. А Петрарка? Мирная и покладистая натура, убежденный традиционалист, он возвращается попросту к обычаю, исстари заведенному среди образованных людей: свои рифмованные безделки пишет на вульгарном языке, а серьезные сочинения, объемом в 15 раз превосходящие у него «Книгу песен», доверяет только латыни.
Латынь эта оказывается почти непонятна латинистам средневековой выучки (Повседн. XIII 5). Латынь Петрарки факт итальянской литературы[327]. Петрарка больше Данте и Боккаччо сделал для перехода от этого универсального европейского эсперанто к национальным языкам. Восстановленный до первоначальной жизни язык римской классики стал, если можно так выразиться, еще более итальянским чем сам итальянский, – по крайней мере итальянской латынью его ощущали ренессансные гуманисты и в остальной Европе; в своем большинстве они последовать за ним не смогли или не захотели.
Писатели Средних веков принимали латынь, какой она дошла до них изменяясь из века в век, и не смущались ее отличием от языка Цицерона и Вергилия. Петрарка возрождал ее, но тем самым объявлял о смерти тысячелетнего средневекового эсперанто. Одновременно с возвратом к золотой латыни преображался итальянский «Книги песен», становясь литературным языком, как мы его знаем теперь, и переставая быть volgare, языком без правил, которым еще Данте пользуется для того чтобы его поняли не ходившие в латинскую школу женщины. Боккаччо, чей итальянский архаичней петрарковского, тоже пишет Декамерон для женщин. Язык итальянских стихов Петрарки и язык его латинских сочинений сообщающиеся сосуды. Первый исподволь впитывает умудренную прямоту классики, почему и дорастает за два-три десятилетия до литературной зрелости; второй постоянно очищается и выверяется на искренность, достигая задушевной непосредственности родной речи. Замечания к своим итальянским стихам Петрарка пишет по-латински, словно ему так естественней. «Латынь была для него самым живым из всех языков, инструментом такой чуткости, гибкости и многозначительности, равного которому в то время не существовало»[328].
Когда Петрарка пишет на латыни, приобретаемое им здесь мастерство сразу сказывается на качестве его итальянского; наоборот, услышав в конце «Декамерона» у Боккаччо новые итальянские интонации, он примеряет, как новелла о Гризельде скажется на латыни. Этот перевод (Старч. XVII З) получил известность и в свою очередь переводился на новоевропейские языки. Темы и мотивы итальянской и латинской половин творчества Петрарки почти не повторяют друг друга, подобно тому как движения правой и левой рук редко одинаковы, хотя обе заняты одной работой.
Взаимодействие старого и нового языка в последующем итальянском Ренессансе было осознано и объявлено нормой. Это делалось в порядке теоретического освоения или повторения работы «формирования языка и стиля», которая в главном была выполнена Петраркой. Для Анджело Полициано, поэта и филолога при Лоренцо Медичи, восстановление полноты латинской культуры и греческого мира, которым питались римляне, равносильно возобновлению прерванной варварами национальной истории; став «древними» через изучение того и другого, надо прийти к совершенству сегодняшнего творчества. Так же в своем «Введении» к Петрарке Кристофоро Ландино объявил изучение классической латыни предпосылкой широты и развитости народного языка. «Полициано переходит от греческого к латыни, от латыни – к итальянскому, совершенствуя свой стиль, и его изысканнейший итальянский становится потом городским языком Флоренции, с народными обертонами. “Если будешь подолгу читать Цицерона и других хороших писателей, углубляться в них, затверживать их наизусть, подражать им, если впитаешь в себя множество вещей”, тогда и только тогда среди всего этого богатства обретешь ту высшую чистоту, простоту и обнаженность, которая кажется мелочью, но в которой всё»[329]. Завершалась работа формирования языка и стиля, в главном выполненная Петраркой.
В сонете 40 S’Amore о Morte Петрарка говорит, что ткет новую ткань, tela novella, сплетая стиль новых и древнюю речь, lo stil de’moderni e’l sermon prisco, сочетая «одну и другую истину». Если он не запутается в цепких нитях, слава о новой прочной ткани разнесется далеко, дойдет до самого Рима. Стиль новых – это звонкая поэзия Амора и мадонны, напряженная между смертью и райским блаженством, между сном забвения и экстазом любви; от надежды на неземное счастье человеческая душа уже не могла отказаться. «Изначальная речь» древних давала человеку стоять на земле со спокойным знанием своей трагической свободы. Петрарка хочет, чтобы от сплетения того и другого получились прекрасные вещи, cose leggiadre. Вольная и могучая древность, казалось, навсегда отгремела, и никогда не замиравшее в Италии классическое предание доносило только ее далекие отголоски. Однако новые при всем ощущении своего несовершенства знали за собой не меньшее могущество. Их силой было ощущение своей исторической исключительности. Не вернуться в древность, это означало бы отказ новой эпохи от самой себя, а найти в себе достаточно широты, чтобы ее вместить, и смелости, чтобы взять на себя решение ее судеб, – вот пафос развернутого Петраркой Возрождения. Настоящий двигатель здесь конечно не музейная античность и не ее идеализированный образ[330], а предельность замыслов, отказавшаяся мириться с привычным ходом вещей.
Проработав латинскую древность, ренессансная культура скоро в следующем XV веке смогла вобрать в себя и греческую, о чем Петрарка только мечтал (Повседн. XVIII 2), а потом в убыстряющемся темпе стала осваивать все доступные области духа и природы, открыла Новый Свет, и для Нового времени, наследника Ренессанса, не осталось уголка в пространстве и истории, который оно не захотело и не смогло бы включить в тот же воссоединительный восстановительный синтез.
Петрарка отличался неизменным вниманием и непредвзятой благожелательностью ко всему. Имея в виду эту его открытость, Э. Уилкинз называет его «одной из самых замечательных и одной из самых дружелюбных личностей нашего остающегося с нами прошлого»[331]. Этим он всего лучше олицетворял бесстрашную широту предприятия, начинателем которого он себя чувствовал. «Авось меня как-нибудь потерпят среди живых, – писал он в Прагу Эрнесту из Пардубиц, – а когда я покину землю, мои писания может быть выйдут наружу и покажут, что я был учеником истины… И кто знает, не я ли сам с моей негодующей и не боящейся призраков душой проложу путь имеющим волю идти вперед?» (Повседн. XXI 1).
Почти весь итальянский гуманизм с его «счастливой податливостью духа» и чутьем к всеобъемлющей единой истине[332] по праву видел своего патрона в мыслителе, для которого границы вселенной раздвигались, потому что его «изгнавший призраки» дух повсюду угадывал созвучное себе. Но и Северное Возрождение со своим стремлением к научности, этическим ригоризмом и воспитательно-просветительскими интересами находило в Петрарке родственные черты – духовную трезвость и безжалостный самоанализ, которые по взыскательности к себе, по разбору последних основ человеческого бытия действительно едва ли уступят позднейшему философскому критицизму[333].
С приходом Петрарки человек становится для самого себя задачей. Cultus humanitatis, занятия свободными искусствами теперь – прежде всего культура человека, возделывание такого прекрасного и доброго, сведущего и деятельного существа, которое отвечало бы чистоте своего, вместе и божественного, образа. Лишь позднее гуманизм стал снова означать в первую очередь занятия гуманитарным кругом дисциплин, и еще намного позднее – попечительное отношение к эмпирической данности человека. Новоевропейский читатель узнаёт себя в Петрарке так же, как целая эпоха и даже ее завершение иногда угадываются в ее начале. Усвоив себе блестящую точность Цицерона, загадочную проникновенность Августина и смятенный восторг поэзии Амора, речь Петрарки сумела подняться к новой простоте, залогу долгого и сложного развития. История подготовила этот синтез; нужен был гений, чтобы его осуществить; и всего этого было бы еще мало без неустанного подвига долгой жизни. Пятьдесят лет литературной работы Франческо Петрарки, заполнившие собой всю вторую и третью четверть XIV века, стали главным культурным событием времени.
Нет ничего удивительного, если идут споры о том, было ли это началом Ренессанса или чем-то более ранним, еще не поддающимся однозначному толкованию. Мы прикасаемся тут к одному из тех явлений ума, таланта и воли, которые трудно классифицировать и которые, наоборот, сами впервые только и дают нам понять, каким может быть человек в его Слове.
Кодекс Хаммера
Тетрадь в семьдесят шесть плотно исписанных в 1508–1509 гг. страниц, часть огромного, в тысячи страниц, рукописного наследия Леонардо известна в научных изданиях как кодекс лорда Лестера (Codex Leicester). Ее купил американский предприниматель, друг Советского Союза доктор Арманд Хаммер, расшивший и пронумеровавший ее по развернутым (у Лестера было по одинарным) листам. Весной 1984 все эти страницы были показаны под стеклом в залах Цветаевского музея в Москве.
Нет ощущения, что они из прошлого. Они вне времени. Леонардо да Винчи пишет справа налево, как до Гомера, и в зеркальном отражении, шифруя свой разговор с собой от нас. Его собеседник природа, стихии, вода. Земля одушевлена, вода в ней – то же, что кровь в других живых существах. Она меняется и изменится. Когда-то над равнинами Италии плыли рыбы; вода ушла под землю, но движется к вершинам гор так же, как кровь животных всегда движется от моря сердца к вершине головы, и в конце концов стекающая с вершин вода всё сравняет.
Непрерывная беседа Леонардо умолкает только когда уступает место рисунку, внедряющемуся в текст как его неотъемлемая часть. Вода – главная тема кодекса Хаммера, и внимание художника впитывается тоже словно вода в разбираемые вещи. Знаков препинания почти нет, хотя точка иногда разрывает посередине фразу или даже слово.
Сын флорентийского нотария Пьеро да Винчи и тосканской крестьянки Катерины в 1506–1513 работал в герцогстве Миланском под протекцией французского губернатора Шарля д’Амбруаза, с частыми наездами во Флоренцию, в основном занимаясь анатомией, автоматами и гидравликой, шире – свойствами воды. В его заделах были среди прочего карты с высоты птичьего полета, город с подземными переходами, боевые бронированные машины, паровая пушка, 33-ствольная пушка для стрельбы залпами, аппаратура для изучения превращения воды в пар, счетчик воды, скафандр, геликоптер, парашют, летающая машина на крыльях, новые музыкальные инструменты, астрономическая оптика, велосипед, самокат. В записях, которые не все вполне можно прочесть, встречаются планы развернуть в упорядоченный труд, opra ordinata, части этой инженерной энциклопедии.
Вглядывающийся, вживающийся в мировое вещество, Леонардо не меньше в далеком будущем чем в таком же далеком прошлом, он смотрит на свою Европу вневременным взглядом. «Дунай расходится по середине Австрии и Албании, а с северной стороны по Баварии, Польше, Венгрии, Валахии и Боснии. Впадал же этот Дунай, или Донау, в море Понтийское, простиравшееся почти вплоть до Австрии и занимавшее всю равнину, через которую теперь бежит этот Дунай, и признаками того являются жемчужины и раковины и улитки и панцири и кости больших рыб, какие еще во многих местах находят на высоких берегах, которыми были горы». Леонардо не занят вычислением лет, когда это было. Создается ощущение, что для него то время настоящее, и не менее отчетливо он предчувствует, «как вода сделает горы в конце концов равниной, потому что смывает одевающую их почву и обнажает их камни, которые растрескиваются и постоянно превращаются в почву, побежденные жарой и льдом; и воды поглощают их корни, и горы камень за камнем обрушиваются в реки, разъедающие их основания; и реки, разливаясь от рушащегося в них, образуют большие моря».
Леонардо видит эти большие моря, при взгляде на Землю издали они должны сверкать как зеркала, и он догадывается, что Луну освещает не только Солнце, но и Земля. «Некоторые ошибочно думали, что Луна имеет какой-то собственный свет, потому что между ее рогами в начале новолуния видна светлота. Ее свечение в такое время порождено нашим океаном и другими средиземными морями, которые в это время освещены Солнцем, уже зашедшим [на всей обращенной к нам стороне Луны], так что море тогда исполняет такую же службу для темной части луны, какую луна на пятнадцатый день служит для нас, когда зайдет Солнце; и соотношение этого малого света, который имеет темная часть луны, к свечению освещенной части такое же, какое существует между…». Дальше письмо стерто, и мы видим рисунок раннего-раннего новолуния, где самая темная кромка Луны всё-таки светлее фона ночного неба. «Пусть Солнце будет в положении а b; n будет положение луны; р q – земли; я говорю, что темная часть луны, е о, видна и освещена со стороны наших морей, покрывающих землю, а они видны (!) с Солнца в р S q».
А проходящий через воздух свет, что делается с ним? Леонардо догадывается о причине голубого цвета неба. Перескок от гидравлики к астрономии, от астрономии к Farbenlehre ему самому кажется слишком стремительным, и он оглядывается на возможного читателя, успокаивает его: «Оставляю в стороне доказательства, которые будут даны потом в упорядоченном труде, и займусь лишь отысканием случаев и изобретений, записывая их последовательно по мере их прихода, а порядок им придам потом, помещая вместе однородные; так что сейчас не дивись и не смейся надо мной, читатель, если здесь делаются такие большие скачки от материи к материи… Тут продолжу и немного порассуждаю о нахождении воды, хотя это по видимости выбивается несколько из нашего порядка, а потом размещу всё упорядоченно по своим местам при развертывании труда». Не потому ли Леонардо не ставит в своей тетради точек, ни одной?
Итак, догадка о цвете неба, которую позднее называл своим открытием Гёте. «Я говорю, что голубизна, в какой является воздух, не есть его собственная окраска, но причинена теплой, испаряющейся до мельчайших и неощутимых моментов влажностью, которая воспринимает на себя удар солнечных лучей и делается светящейся под темнотой громадного мрака области огня, который образует покрытие сверху; и это увидит, как видел я, тот, кто взойдет на гору Бозо, ярмо Альп, отделяющих Францию от Италии… Я видел воздух надо мной мрачным, и солнце, ударявшее в горы, намного более ярким чем на низких равнинах, потому что меньшая толща воздуха пролегала между вершиной этой горы и солнцем».
И снова вода, главная тема тетради Хаммера. Запись над рисунком волнореза перед быком моста: «Всегда устои мостов должны иметь далеко выступающие против потока реки шпоры, иначе такие мосты упадут в короткое время навстречу течению воды». «Камни запруд должны иметь через каждые 4 локтя более выступающее вперед соединение камней чем прочие». Запись к схеме горы с водными источниками: «Дамба, поднятая перед источником воды, поднимающейся из корня горы, поднимет воду снаружи также, как она была вначале внутри горы».
Кажется ясно, каким образом Леонардо получает свои сведения. Он всем своим существом, телом и волей врастает в вещество, о котором думает, и на собственных боках испытывает то самое, что происходит например с частицами воды в водовороте. «Вода, помутневшая от удара волны о ее берег, возвращается по дну и встречает следующую волну, которая бьет своими мельчайшими частицами по зернышкам песка, идущим ей навстречу, и немедленно их отбрасывает верхней частью волны обратно на свой берег. Когда два человека стоят на противоположных концах доски, установленной в равновесии при одинаковом весе обоих, если один из них захочет сделать прыжок вверх, то этот прыжок получится вниз от его конца доски, и этот человек никогда не поднимется вверх, но останется на своем месте, пока противоположный человек не утвердит своим толчком доску у него под ногами».
Если человек может врасти всем телом в мельчайшие частицы воды, то он может и всю Землю почувствовать как свое тело. Здесь смысл важного леонардовского видения Земли как живого, изменяющегося и в нашу эпоху страдающего существа. Вода, кровь земли, по какой-то причине чрезмерно выливается из недр на поверхность. Одним из следствий этого стала необратимая утрата равновесия. «Сдвиг центра тяжести Земли возник от сдвигания земли, уносимой водами туда, где ее не было, и там Земля отяжелела, облегчившись в местах, откуда сдвинута почва. Это очевидно, ведь реки всегда несут с собой землю, замутняющую их, вплоть до моря, где они потом, сложив землю, очищаются». Как всегда, воду Леонардо видит сразу во всех ее возможных состояниях. Превратившись в лед, она разрывала камень; кипя, она паром расталкивает преграды. На полях для экономии бумаги против вышеприведенной фразы о смещении центра Земли уместился рисунок поршня в цилиндре паровой машины. Если бы он не остался в проекте, Леонардо увидел бы, что не нужен никакой противовес, «чтобы испарение без труда могло толкать такую крышку вверх».
«[Напиши книгу о том] как есть вены, которые никогда не увеличиваются и не уменьшаются ни в какое время: и это такие вены, как у человека артерии». Земля снабжена, как мы кровеносной, своей водоносной системой, и тогда в ее глубинах должна сохраняться даже теперь более чистая вода, чем та, которая осолена смытыми породами. «[Напиши книгу о том] как в глубине моря все воды пресные, и тому я дал доказательство. Как все живые вены, разветвленные и переплетенные с телом земли, соединены с недрами моря. Как через разрывы вен, посредством рек, вода поступает в море».
Листы 14 и 15 заполнены рисунками потоков, водоворотов и сливающихся русел. «Когда два потока воды встретятся друг с другом, и один из них ударит в противоположный… Если будут течь две реки одинаковой глубины… Когда меньшая река вливает свои воды в большую…» Но, как всегда, от водяных вихрей мысль Леонардо перетекает к другим, на этот раз воздушным, и он замечает, что вода сама совершает тот же переход к воздуху, что и его мысль. «Вода родительница ветра, то есть когда она разрешается в воздух; об этом я уже поставил опыт: унция воды, испарившись, наполнила мне целый бурдюк, а прежде того она со всех сторон подпирала изнутри поверхность кожаного меха».
Попутно могут решаться военные и хозяйственные задачи. Как остановить и перенаправить воду реки: для этого надо особым образом расположить камни на дне; как использовать воду для мельницы; как сделать, чтобы поток не вымывал почву. Но свободная мысль никогда не сужена утилитарной целью, то и дело она без помех вырывается на волю. Среди гидравлических экспериментов вдруг вырисовывается проблема, не решенная и современной наукой; многозначительно загадочен переход к бесконечно малым, как если бы в них Леонардо видел разгадку гравитации: «О том, что невозможно описать волнообразность воды, если прежде того не определено, что такое сила тяготения и где это тяготение рождается и умирает. Если в вазу, полную вина, входит столько воды, сколько снизу выливается воды и вина, сказанная ваза никогда не окажется полностью лишена вина: это доказывается тем, что вино есть непрерывное количество и делимо до бесконечности». В силе тяжести участвует, пусть в малой мере, всё; каждая вещь – потенциальный центр всеобщего притяжения. Мысль продолжена в другой тетради: «Желание всякого тяжелого тела в том, чтобы его центр был центром земли» (Forster III 66 v).
И снова наблюдения о цвете, которые привели бы в восторг Гёте, доведись ему держать в руках и прочесть эту шифрованную рукописную тетрадку. «Светлость воздуха порождена водой, которая в нем растворилась и превратилась в неощутимые зернышки, которые, приняв свет Солнца с противоположной стороны, создают светлость, являемую этим воздухом; а голубизна, кажущая себя в нем, порождена мраком, прячущимся после этого воздуха».
После водных бурь Леонардо еще раз захватывают воздушные потоки. Он снова возвращается к силе пара. Опять извиняясь за спешку и скачки, составляет план пятнадцати книг, которые он напишет. Невыполнимое теснит со всех сторон. «Если бы можно было сделать колодец, который прошел бы через землю с противоположной стороны…»
Раньше, когда было больше досуга, он взглядывал на свою художественно-изобретательскую «науку видения», saper vedere, со стороны. «Живопись… тонкое изобретение, которое с философским и тонким созерцанием рассматривает все качества форм… справедливо мы назовем ее внучкой природы и родственницей Бога» (Codex parisinus А 100 r, записано в 1492). Хороший художник вторая природа, seconda Natura. Служение такому искусству захватывает всю жизнь. «Художнику необходимы математические науки, принадлежащие к живописи, и расставание с сообществом чуждым его работе, и ум изменчивый смотря по разной направленности предносящихся ему предметов, и далекий от других забот» (Codex Atlanticus 184 v.а.). С таким художником может сравниться поэт. «Когда поэт перестает изображать (fi gurare) словами то, что фактически есть в природе, то он не делает себя равным художнику», оставаясь ритором, астрологом, философом, теологом. «Но если он вернется к изображению какой-либо вещи и сделается подражателем художника, то сможет удовлетворить глазу в словах, как художник делает кистью и цветом: гармония для глаза, как музыка для слуха» (Quaderni anatomici С III, 7 r). Жизнь дана для этого художественного вдумывания в мир. «Как хорошо потраченный день дает счастливо уснуть, так хорошо употребленная жизнь дает счастливо умереть» (Codex Trivulziano 27 r, записано ок. 1490). Надо спешить, потому что иначе страшная судьба подстерегает человека. «Как иначе надо именовать некоторых людей, если не проходами для пищи и умножителями навоза – и наполнителями выгребных ям, потому что через них ничего другого не появляется в мире, никакая добродетель не вводится в действие» (Codex Forster 11174 v.). Может быть, даже злое действие лучше пустого существования, но намного ли? «О жестокости человека. – Появятся живые существа на поверхности земли, которые всегда будут биться между собой, и с величайшим ущербом и часто смертью обеих сторон… Ни одной вещи не останется на поверхности земли или под землей и водой, которую бы они не отыскали, не изъяли и не испортили; и вещи одной страны не перенесли бы в другую; и тело их сделается гробницей и проходом для всех уже мертвых тел живых существ. О мир, почему ты не разверзнешься? и не провалишь в глубокие расщелины твоих пропастей и пещер, чтобы не показывать больше небу, такое жестокое и безжалостное чудовище?» Художественное изобретательство Леонардо избегает в упорном труде косной лени и оно же призвано остановить преступный грабеж земли. «Кто не наказывает зло, велит, чтобы оно совершалось» (Parisinus 118 v.).
Леонардо весь в работе, ему осталось жить десять лет. В Кодексе Хаммера почти нет философии и эстетики. Он занят проектом подводной лодки, который держит втайне «из-за злой натуры людей, которые прибегли бы к убийству в глубине морей, разбивая днища кораблей и топя их вместе с людьми, которые там внутри». Он строит планы осушения болот, как старый Фауст. Но главной тревогой остается трагедия планеты, вены которой почему-то оказались вскрыты. «Разветвления вен воды все соединены вместе в нашей Земле, как кровеносные сосуды у других (!) живых существ; и состоят в непрестанном обращении, для животворения ее всегда истощая места, откуда они (воды) движутся, как внутри земли, так и снаружи; и много больше воды повсеместно льют реки чем имели обыкновение лить; по каковой причине поверхность моря несколько склонилась к центру Земли, из-за необходимости заполнить пустоту вследствие такого расширения этих вен». Со временем Земля полностью покроется водой, потому что после коррозии гор реки унесут всю почву в океан. Теперь Земля в середине этого процесса, и «самые высокие горы настолько же возвышаются над морем, насколько величайшие глубины моря ниже воздуха». Через голову ренессансных филологов, ненавистных латинистов omo sanza lettere перенимает от ранних поэтов-философов влюбленность в мир, и она теперь становится хозяйской заботой о нем.
Леонардо полон соображениями об испарении, паре и его силе (землетрясения это прорывы паров подземной воды), он словно ходит вокруг изобретения машины, которое будет сделано через три века. Нетехнические недоработки мешают ему ее построить. Машина невозможна, не нужна, если Земля – живое существо, взявшее на себя сохранение малых животных, движущихся по ее поверхности. «Тело Земли подобно телам живых существ и имеет разветвленную сеть вен, которые все между собой сплетены и устроены для питания и животворения самой Земли и ее созданий… Можем сказать, что Земля имеет растительную душу и ее плоть почва; ее кости – упорядоченные сцепления камней, из которых состоят горы; ее мякоть – туфы; ее кровь – водные вены; резервуар крови, скопляющейся вокруг сердца, – море океан; ее дыхание – подъем и опускание этой крови… а жар души мира – огонь, ее пронизывающий». Леонардо присматривается к живой Земле, прислушивается к ее дыханию, приливам и отливам; ему важно знать, чего в ней больше, воды или суши. Родство с ее великой жизнью, в которой нет места для мертвой природы, делает человеческий образ Леонардо полным спокойного достоинства.
Франческо Гриччардини
Франческо Гвиччардини (6.3.1483, Флоренция – 22.5.1540, Санта Маргерита а Монтичи под Флоренцией) итальянский политик, социальный мыслитель, историк. Оба его родителя были из старинных благородных фамилий. Отец входил в философско-гуманистический кружок Марсилио Фичино. Франческо учился в Ферраре и с 1502 в Падуе гражданскому праву. Одно время он думал о служении церкви и служении кардинала, хотя отец ни в коем случае не хотел священства ни для одного из своих пяти сыновей, считая, что дела церкви уже слишком в прошлом. С 15.11.1505 Франческо доктор и преподаватель гражданского права во Флоренции, адвокат. Платить 12,5 дукатов также и за экзамен по каноническому праву он уже не стал, сочтя эту дисциплину маловажной.
Уникальные способности, редкостная память, бесстрашная решительность поступка вдобавок к хорошему телесному сложению выделяли его. По натуре он склонялся к серьезности, строгую трезвость его нрава позже назвали бы пуританской. Мужество, прямота, долг прежде всего, остальное безделки, забава испорченного мира. «Я издевался в молодости над умением играть на инструментах, плясать, петь и над подобными пустяками; еще над умением хорошо писать (также Леонардо о себе: omo sanza lettere), ездить на лошади, изящно одеваться (ср. с изысканным костюмом молодого Петрарки) и над всеми этими вещами, которые, похоже, придают человеку скорее орнамент чем суть». Он примирился с блеском света позже ради влияния мирских людей на государей, раз уж мир и государи стали не такими, как им следовало бы, а такими, какие они есть (Воспоминания, 179)[334]. Но осталась взвешенность, основательность, самостоятельность решений. Чего Гвиччардини не терпит, так это действий наобум. «Не думаю, что в мире есть вещь хуже легкомыслия (leggierezza), потому что легкомысленные люди – орудия, способные встать на любую сторону, какой бы она ни была коварной, опасной или гибельной. Поэтому бегите от них как от огня» (Воспоминания, 167).
Очень надежного человека, его еще совсем молодым приглашают для крестин, засвидетельствований и в комиссии. В 1508–1509 Гвиччардини составляет «Историю Флоренции» (Storie Fiorentine) за 1378–1509 годы с патрицианских позиций. В 1512–1513 он с успехом в трудных обстоятельствах служит послом Флоренции при дворе арагонского короля Фердинанда Католика. В «Испанских реляциях» он рисует неприглядную картину страны малорослых, темных гордецов, бедных, но любящих честь, по сути не религиозных. В 1514 Гвиччардини входит в восьмерку (Otto di Balia), флорентийский комитет государственной безопасности. В эти годы он формулирует принципы аристократического правления для Флоренции по венецианскому образцу (Del governo di Firenze dopo la restaurazione de’Medici nel 1512, позднее на ту же тему более важная работа Dialogo del reggimento di Firenze).
Гвиччардини как человек ученый и знатный был назначен республикой встречать вошедшего во Флоренцию 30.12.1515 папу Льва X, который полюбил его, сделал адвокатом консистории, пригласил в Рим и назначил губернатором папских городов-государств Модены и Реджо в условиях смуты, с 1521 также Пармы. Гвиччардини брался за тяжелые дела. В Модене он начал с казни нескольких человек, и здесь можно вспомнить Макиавелли, который советует избегать компромиссов, «вреднейшего среднего пути»; позднее в Модене Гвиччардини встретился с ним, с 1521 началась их дружба и переписка. В 1517 Гвиччардини правитель Реджо, в 1522 возглавляет героическую оборону осажденной французами Пармы, умея соединить усилия испуганных граждан и недооплаченной буйной наемной армии. «Диалог о государственном устройстве Флоренции» относится к этому периоду 1521–1525. Тогда же в основном (но и позже) писались «Памятки» (Ricordi).
Фламандец Адриан VI, папа на 8 месяцев в 1522–1523, отнял некоторые должности Гвиччардини. Клемент VII (Джулио Медичи), папа с 1523 по 1534, поставил его губернатором (президентом) Романьи (Имола, Форли, Фаэнца, Римини, Чезена, Равенна). Италия всё больше зависела от европейских держав, соответственно расширялся кругозор Гвиччардини. Он убедил Клемента вступить в Коньякскую лигу 1526 года (Милан, Флоренция, Венеция, папские государства, Франция). Но и такая коалиция не могла устоять перед наступающим Карлом V и немецким ядром его войск. После Милана пал Рим и, в расплату за блестящее начало века, был разграблен (sacco di Roma) в основном немецкими солдатами, фактически или по настроению уже антипапистами, в марте 1527. Гвиччардини не сразу потерял свои должности, оставался генеральным наместником по армии, только самой этой армии и папской власти уже почти не было. Он вернулся в республиканскую Флоренцию. 16.3.1527 Медичи были изгнаны оттуда. Гонение на патрициев задело Гвиччардини. Его хотели сразу судить, сняли со всех постов, вынудили удалиться на свою виллу Арчетри. Там он пишет для себя «Утешение», «Обвинительную речь» и «Защитительную речь». Как в макиавеллиевском «Государе» ирония была прозрачна для флорентийцев, давно знавших его автора как необычную личность, так в «Oratio accusatoria» Гвиччардини мог надеяться на понимание сограждан, донося на себя, что это именно он сдал Венгрию туркам и присвоил причитавшееся наемным войскам жалованье, за что они и разорили флорентийские пригороды. «Oratio defensoria» осталась наоборот недописанной. В 1529 Гвиччардини пришлось всё-таки покинуть флорентийскую территорию. Яростные (arrabiati) заочно осудили его в марте 1530 как бунтовщика.
В эти годы так называемой второй флорентийской республики (1527–1530) Гвиччардини в своей временной отставке упорядочивает «Политические и гражданские памятки» (Ricordi politici е civili, 1512–1530), пишет «Соображения о “Беседах” Макиавелли», скончавшегося 21.6.1527 (Considerazioni sul Discorsi del Machiavelli). У него дар наблюдения редкостных непредвиденных вещей (ср. «случаи» Леонардо). С годами природная наблюдательная острота ума обогащается размышлением. «Когда-то я был того мнения, что то, что мне не представилось внезапно, не явится мне и позже, при размышлении; на деле у себя и у других я увидел противоположное: чем больше и глубже думаешь о вещах, тем лучше их понимаешь и делаешь» (Воспоминания 83)[335]. Гвиччардини нарочито сторонится энтузиазма своего друга, совершенно не верит в возрождение римской доблести, ничуть не надеется что вслед за художественным возрождением последует и политическое, не считает объединение Италии таким уж нужным делом, противопоставляет мечтам Макиавелли конкретный поступок. Но эти полярные противоположности стиля не касаются сути дела, они взаимно восполняют друг друга, как когда Гвиччардини выступает врагом второй Флорентийской республики, Макиавелли наоборот на Большом Совете 10.5.1527 предлагает свою кандидатуру на пост ее канцлера, но одинокими остаются оба: первый осужден и изгнан из родного города, второй не переживает позорного отвержения огромным (97 % Совета) большинством голосов.
После долгой героической самоубийственной обороны Флоренции среди голода и чумы победитель Климент VII поручил реформы в полуразоренном городе Гвиччардини, который, легко представляя себе лучшее применение для мужества сограждан, был так рассержен глупым упрямством республиканцев, что жестоко расправился с ними. Гонфалоньер Франческо Кардуччи был казнен. Позднее Гвиччардини признал, что особых преступлений за республиканцами не обнаружилось. Он навсегда остался для либеральной флорентийской интеллигенции persona non grata, «Столыпиным».
С 1531 Гвиччардини губернатор и вицелегат Климента VII в Болонье. В 1534 новый папа Павел III снял его с этого поста. С 1534 Гвиччардини один из первых советников герцога Алессандро Медичи во Флоренции, незаконного сына Клемента, якобы потомка Лоренцо Медичи Великолепного. В 1537 после убийства Алессандро, очень ценившего Гвиччардини, тот почти уходит от политики, которую всё труднее становится отличить от интриги. Пользуясь семейным (его предки с XIV века занимали разные посты в городе), личным архивами и доступом к государственным документам, Гвиччардини создает многотомную «Историю Италии» (Storia d’Italia, 1537–1540), где, следуя за сдвигом силовых линий европейской политики, рассматривает события на полуострове в европейской перспективе. Всего пятнадцатью годами раньше Макиавелли считал достаточным ограничиться в своей истории Флоренцией. Гвиччардини не публиковал своих сочинений. Их стали широко читать после его смерти. «История Италии», хроника трагического заката итальянского свободного города после смерти Лоренцо Медичи в 1492, признана лучшей работой современного тем событиям историка. Здесь нет и намека на гуманистическую риторику и морализаторство, царит деловитость средневековой хроники. Де Санктис, неоднозначный в отношении Гвиччардини, назвал ее самым значительным произведением из созданных итальянским умом. Гвиччардини ведет здесь критическое сопоставление источников, чего современная наука не находит у Макиавелли. До XIX века в Арчетри под Флоренцией, где Гвиччардини умер на своей роскошной вилле 27.5.1540, показывали стол, на котором он писал свою «Историю».
Пуританская суровость, от юности трезвая безочарованность в отношении к миру при решительной деятельности в нем, резкая неприязнь к лицемерию и распущенности высших классов, прежде всего церковных иерархов – черты, приближающие Гвиччардини к типу ученого и публициста Северного Ренессанса и Реформации. Он завершает начатый Макиавелли поворот флорентийской историко-политической мысли от культа античных идеальных образцов к строгому анализу реального события. Подобно Леонардо да Винчи, Гвиччардини не ценит книжного знания с его «обобщениями» и «правилами» И ищет новой прочной опоры для практики во внимании к неповторимому случаю, в настойчивом усилии ума, в опыте. Абсурдно полагаться на нормы разума, когда мир уже не какой должен быть, а какой есть. Природная тяга людей при прочих равных условиях к добру, а не злу, искажена легкомыслием, глупостью и эгоизмом, превращающими человеческую массу в бешеное животное и провоцирующими в ответ государственное насилие; страсть к свободе превращается в стремление к власти. Лишь упорная воля мудрого и опытного правительства, держащегося одинаково далеко от деспотизма и от охлократии, способны, если не помешает всевластная судьба (fortuna), восстановить то «дивное согласие», при котором только и возможны благополучие, история и сама жизнь людей.
Деятель наблюдает, судит и принимает каждый раз конкретное решение, глупое или мудрое. Всё остальное – факторы ситуации. Жизнь может расставить любые декорации вокруг свободного поступка. Достоверным остается только продуманная оценка обстоятельств. Силы не в пример мощнее человека, духовные сущности, возможно, существуют, но не в них дело. В лучшем случае они затруднят для меня анализ реального положения вещей, в худшем уничтожат. Но угадывать движение сверхсил, тем более плыть по их течению недостойно. Во всём этом нет и речи об эпохах истории или исторических закономерностях.
Сосредоточенность на воле и усилии индивида отличает Гвиччардини от Макиавелли, для которого существует особая физика государства и власти и который ощущает социальное тело как реальность особого рода, оказываясь в этом аспекте ближе к современному восприятию. Гвиччардини со своей стороны превосходит Макиавелли по осведомленности и точности описания. От Гвиччардини идет традиция философского осмысления истории, продолженная Монтескье, Вольтером, Гиббоном, Гегелем.
«Вот добросовестный историк, у которого, по-моему, с большей точностью чем у кого бы то ни было можно узнать истинную сущность событий его времени; к тому же в большинстве из них он сам принимал участие, состоя в высоких чинах. Совершенно невероятно, чтобы он из ненависти, лести или честолюбия искажал факты; свидетельством тому его независимые суждения о сильных мира сего и в частности о тех, кто выдвигал и назначал его на высокие посты, как например о папе Клименте VII… О каких бы людях и делах, о каких бы действиях и замыслах он ни судил, он никогда не выводит их ни из добродетели, ни из благочестия и совести – как если бы этих вещей вовсе не существовало – и объясняет все поступки, какими бы совершенными они ни казались сами по себе, либо какой-нибудь выгодой, либо порочными побуждениями»[336]. Эта запись Монтеня на книге Гвиччардини констатирует подчеркнутое неверие итальянца в действенность добрых желаний. Оно еще больше бросается в глаза у Макиавелли. Не надеясь на благие намерения, Макиавелли и Гвиччардини ждут и требуют от человека мужества, virtus, добротности, силы, упрямства, чего-то вроде упрямой строгости, ostinato rigore, их соотечественника и современника Леонардо да Винчи.
У Данте, их общего авторитета, мужество приходит на помощь, когда благодать любви тускнеет, подкрепляя ее и восстанавливая благородство человека (Пир IV, Канцона 3, 12–13). История стоит на доблести. Римлянам потребовалась величайшая добротность, grandissima vertude, чтобы выиграть в состязании народов и получить от Бога приз первой нации (IV 11). Эта ставка на virtus проходит без изменения через весь Ренессанс, как и понимание благородства в смысле мужества с презрением к богатству и наследной родовитости. Virtus это вкладывание всего себя в поступок. Решающим и важным оказывается то конкретное, что ты делаешь здесь и теперь. Лорд Болингброк в начале XVIII в. одобряет Гвиччардини, предостерегающего от опоры на исторические примеры (сопоставления). Тот же Болингброк называет главную проблему гаснущего Ренессанса. «Макиавелли… совершенно справедливо указывает… что один и тот же правопорядок, благоприятный для упрочения свободы, пока народ еще не развращен, оказывается неблагоприятным и даже пагубным для свободы, когда народ уже развратился». Подорваны дух и характер народа[337], у свободы не осталось почвы.
Только кажется, что Данте плачет по своей стране почти так же, как люди XVI века. «О несчастная, несчастная родина моя! какая жалость к тебе охватывает меня всякий раз когда читаю, всякий раз когда пишу что-то относящееся к гражданскому правлению… Увы, зловредные и злородные (malnati), вы разоряете вдов и сирот, грабите менее властных, воруете и захватываете чужое достояние; а из него устраиваете пиры, дарите лошадей и оружие, одежду и деньги, надеваете дивные платья, строите дивные здания и думаете, что проявили щедрость!.. Не иначе надо смеяться, тираны, над вашей благотворительностью, чем как над бандитом, который привел бы в свой дом званых на обед, а на стол постелил покрывало, украденное с алтаря, еще со священными знаками, и думал бы, что никто ничего не заметит» (IV 27).
После Савонаролы библейские инвективы не звучат. Макиавелли говорит тоном, который будет шокировать как безнравственный сознание, не прошедшее через жесткий ренессансный опыт городской свободы. Характерным образом Болингброк с позиций европейской христианской гуманности осуждает Макиавелли, который «так и не поднялся до главного и единственного соображения, которое должно было бы прежде всего побудить хорошего государя поступать таким образом (оберегать свободу), – что в том состоит его долг, который по одним законам предписан ему Богом, а по другим его народом». Но вчитавшись он догадывается, что Макиавелли строит стратегию для ситуации крайнего упадка, и примиряется с ними. «Если народом овладевает дух продажности, то… самые отъявленные, бездарные, неуклюжие, беспардонные, отвратительные, распутные и ничтожные негодяи, наделенные властью, вместе с толстосумами вполне справятся с несложным делом уничтожения свободы… По мнению Макиавелли, правопорядок тогда надо изменить, а конституцию приспособить к новым, порочным повадкам новых, порочных людей»[338].
Упадок страны не причина быть в упадке человеку. Для его мужества это новое испытание. Данте по Аристотелю и Фоме учит, что блаженство здешней жизни, земной рай состоит в действовании собственной доблести, in operatione proprie virtutis (Монархия III 16, 7). Есть и другое соображение против отчаяния, прямо не прочитываемое у Макиавелли и Гвиччардини, но следующее из уроков их учителей. Всякая данность в силу своего сложившегося существования имеет смысл. Цель, нисколько не оправдывая средства, вчистую оправдывает всё что угодно, к чему применены добрые средства. Что не идет прямо в дело, будет во всяком случае поводом для упражнения «добродетели». Мир дан не ради покоя, а ради предельного усилия. Опорой ренессансной практики с самого начала были не исторические условия, а разум и virtus.
При сквозном пророческом видении Данте немыслимо, чтобы его могли связать сколь угодно дурные сейчасные условия. И не улучшение окружающих условий было причиной его видения смеющейся вселенной: «И видел я улыбку, мне казалось, Вселенной; неземное упоенье мне в очи и мне в слух вливалось. О радость! о восторг и умиленье! о жизнь, любовью полная и миром! о верное богатство без стремленья!» (Рай 27, 4–9). Мы не сделаем ошибки, если будем искать тот же фон чистой радости в гражданском гуманизме (Э. Гарен) XVI века. Единство итальянского Ренессанса было скреплено его одинаковым ощущением эпохи Фридриха II и победы имперских гибеллинов при Монтаперти в 1260 как начала истории. Хотя уже для Данте «честь и вежество» кончились и во всей Ломбардии доживают только три старика, в которых «век новый минувшим веком устыжен» (Чистилище 16, 121–2), но чувство открытых возможностей останется надолго.
От Данте идет твердая уверенность, что церкви лучше бы отказаться от всякой власти. Лицемерное использование евангельского авторитета для завладения политической и экономической силой одинаково отталкивало Гвиччардини, который служил у пап, и Лютера, который восстал против них. Так называемая изоляция политики от морали, на которую в основном указывают исследователи, сближая Лютера и Макиавелли, не имеет отношения к секуляризации или антиклерикализму и служит у них и у Гвиччардини евангельской чистоте религии не меньше чем честному государственному устройству. За этим лозунгом одинаково по обе стороны расколовшейся церкви стоит одно важное настроение, более отчетливое у Лютера, но реконструируемое и у итальянских тайных реформаторов, к которым можно относить Гвиччардини.
Человек сам ничего не может. Его добрые пожелания и стремления, будь они самые искренние, имеют не больше шансов что-то исправить в мире, чем как если бы они ему приснились. Свобода воли самостоятельно создает только зло, «творит добро» человек никогда не сам. С равным успехом для победы добра человек мог бы застыть вне подвижности. Мужество-доблесть-добротность, virtus, переводимая как добродетель, имеет смысл не «делания добра», а мужества, крайнего напряжения сил, полного развертывания способностей без уточнения, каких именно и в каких целях, безотносительно к благу-злу в расхожем морализаторском смысле. «Если как следует всё рассмотреть, найдется нечто, что покажется благим поступком, но ведет к гибели, и нечто, что покажется пороком, но, следуя ему, можно достичь безопасности и благополучия» (Макиавелли, Государь XV). Мужество в пороке во всяком случае лучше вялой благонамеренности, но с мечтами об исправлении мира лучше расстаться.
Уравновешенный аристократ Гвиччардини не говорит с радикализмом Лютера, что свобода воли годится только для зла или для отдания себя в рабство Богу, и с вызовом Макиавелли, что пусть уж лучше правитель честно думает только о своей корысти, а проповедник показывает дорогу в ад. Человеческая неспособность подтолкнуть движение событий в желательном направлении видна у Гвиччардини в его отказе рассматривать что-либо кроме конкретного события и судить о делах по общей или типовой мерке. Всякий раз человек оказывается без знания, что и как делать. Всё происшедшее предстает уникальным, априорная ориентировка – невозможной.
Такому настроению противопоказано проектирование идеального или наилучшего строя. «Невозможно управить государствами по сознанию (secondo conscienza), потому что – если кто рассмотрит их происхождение – все они насильственны»[339]. Венецианские симпатии Гвиччардини объяснялись не теоретическим предпочтением аристократического правления двухсот или двух тысяч патрицианских семей, а тем практическим наблюдением, что только Венеции удалось избежать двух худших зол, единоличной тирании и демократии (охлократии) в смысле диктатуры толпы. Народ ведь тоже может быть тираном, когда большинство не берет в расчет лучших, оказывающихся всегда в меньшинстве. Есть тирания большинства над одиночками (Диалог о флорентийском правлении)[340].
То, что привычно называют демократией древнегреческого полиса, на деле установилось и получило такое название уже после разнообразного административного и идеологического искажения первоначальной формы правления, которая оставалась безымянной или называлась ἰσονομία, равенством удела или закона, равноправием, когда собственно главой города-государства выступал создаваемый вместе с его основанием закон. В этом смысле Гераклит советовал защищать закон крепче чем городские стены. В самосознании античного полиса занимает важное или центральное место фигура реального или мифического законодателя, иногда пришедшего извне. Гвиччардини заставляет вспомнить об этом начале свободного города. Основой строя он признает не власть, личную, групповую или всеобщую, не гармонию или согласие интересов, всегда оказывающихся частными, а конституцию, которая так или иначе включит лучшие черты монархии, аристократии, демократии.
«То удивительное согласие и ту гармонию, сладостнее которой нет ничего» (Заметки политические и гражданские, 41)[341] Гвиччардини знает не как результат общественного договора или политического соглашения, а как интимную реальность общего бытия, испытанную гражданами вольных городов.
Поскольку люди давно живут не по правилам, бессмысленно снова предписывать им образец поведения. «Мысли, что тиранам надо сложить с себя тиранию, а королям – хорошо упорядочить свои королевства, лишив свое потомство наследных прав, легче расписать в книгах и в человеческом воображении чем осуществить на деле» (Соображения вокруг рассуждений Макиавелли о “Первой декаде” Тита Ливия)[342]. «Нельзя судить о вещах мира с отстояния (da discosto), но надо судить и решать их день за днем (giornata per giornata)»; «суждение по примерам крайне ошибочно» (Заметки… 114, 117)[343]. Закономерностей нет, правит случай, зависящий от меняющихся обстоятельств. Постоянному изменению подлежат речь, язык, одежда, архитектура, культура, даже пища людей (там же, 69).
Глядя извне, такая установка как будто бы толкает к утилитаристскому расчету. Хаос жизни требует от Гвиччардини трезвого внимания, а не идеализма. Мечты, возможно, временами получают отзвук в действительности (Савонарола), но не надолго. Гвиччардини не верит, что римляне были образцовым народом; отчасти этим объясняется его отход от латыни. Мир построен не по образцам. Действительность располагается между двумя не поддающимися идеализации крайностями: моментом настоящего, который всегда одинаково требует сосредоточенности, и неподрасчетным, сбивающим с толку, непостижимым случаем, который в конечном счете решает в человеческих делах. «Большая ошибка говорить о вещах мира без различения и абсолютно и, так сказать, по правилам; ибо почти у всех их есть отличие и исключительность из-за разнообразия обстоятельств, которые невозможно скрепить одной и той же мерой; и эти различия и исключения не написаны в книгах, но им должна учить разборчивость» (там же, 6)[344].
Намеренное, злостное притупление конкретности происходящего исходит от церкви. «Не знаю, кому тщеславие, жадность и изнеженность священников противны больше чем мне: и потому что любой из этих грехов сам по себе отвратителен, и потому что каждый и все вместе они мало подходят человеку, исповедующему жизнь служения Богу, и еще потому что грехи эти так противоположны, что не могут существовать вместе иначе как в некоем очень странном субъекте (subietto). Тем не менее положение, которое я занимал у многих первосвященников, заставляло меня с моей личной стороны любить их величие; не будь этого уважения, я любил бы Мартина Лютера как самого себя; не чтобы освободиться от законов, внушаемых христианской религией в ее обычном толковании и понимании, но чтобы видеть эту свору негодяев введенной в должные пределы, то есть оставшейся или без грехов или без власти» (там же, 28)[345].
Непохоже, что свое лютеранство Гвиччардини скрывает только из конформизма. В его известных трех мечтах («хорошо упорядоченная жизнь республики в нашем городе, Италия, освобожденная от всех варваров, и мир, освобожденный от тирании этих мерзких попов»[346]) сквозит ощущение, что всё должно остаться под Луной как есть, недаром он сомневается, что увидит желаемое прежде своей смерти (там же). «Всё, что было в прошлом и есть в настоящем, будет еще и впредь; но с таким изменением имен и видимостей, что не имеющий хороших глаз ничего не опознаёт, не может уловить правила или вынести суждение посредством этого наблюдения» (Воспоминания, 76)[347]. И в повторяющейся ситуации мы не всегда понимаем, как надо поступить. Перед нашим носом могут происходить вещи, о которых мы знаем не больше чем об Индии.
Как тогда понять наставления Гвиччардини самому себе: «Никогда не бороться ни с религией, ни с вещами, которые, похоже, зависят от Бога; ибо этот предмет имеет слишком большую силу в умах бестолковых»[348]. Лучше не увлекаться чудесами; они есть во всех религиях и уже поэтому ничего не доказывают (Воспоминания, 123)[349]. Возможно, существуют чистые духи, но мы о них не можем знать (там же, 211)[350]. В равной мере тут примирение с религией и отказ от религиозных споров. В таком случае к Лютеру должна относиться и запись Гвиччардини о сумасшедших монахах, которые учат тонкостям догмата и диктуют правила веры, этим вселяя в умы только еще большую сумятицу[351].
«Как отлична практика от теории!» (Заметки, 35)[352]. Прагматизм Гвиччардини только кажется печальным. Он имеет опору в правде, ключ к которой – точное наблюдение и верное суждение, но не отвлеченная наука и не религиозная догматика. «Учение (la dottrina) в сочетании с немощью ума или не улучшает людей или губит их; но когда случающееся (lo accidentale) встречается с добротной природой (col naturale buono), оно делает их совершенными или почти божественными» (там же, 47). «Случай», сырой факт, встреча с лицом действительности – это встреча с тайной, почти с Богом. Ты готовишь что-то, трудишься, ждешь, но решит конкретная ситуация, твой неуправляемый партнер, зато какой надежный. Все безусловно признают случившееся. Если оно тебя подкрепит, ты победил.
Главная ловушка для всех, кто обращает внимание на Гвиччардини, – не замечать, что его реализм и логическая строгость в приверженности к конкретному историческому факту вовсе не имеют цели «свободного развертывания истории». Вся наблюдательность служит здесь только отрезвлению человеческого ума, который должен именно отвыкнуть от распорядительного отношения к миру и узнать настоящую меру своего незнания, или, что то же, меру непредвиденности случая. (В понимании случая у Гвиччардини можно видеть ключ к осмыслению средневековой и ренессансной фортуны). Внимательная строгость нужна Гвиччардини не для успеха в делах; тут, он знает, часто увереннее себя чувствует святая простота. «Говорят, что кто не знает хорошо все частности, не может верно рассудить. И тем не менее я видел много раз, что не имеющие большой силы суждения люди судят лучше, когда знакомы только с обобщениями, чем когда им покажут все подробности, потому что на почве обобщений у них часто появляется мужественная решимость, а услышав все частные подробности, они смущаются» (Воспоминания, 155)[353]. Решает расположение сердца, а не техническая оснащенность.
Встроенные в чудесную машину мира, непостижимым образом хранящую жизнь на земле (Воспоминания, 160 и др.), люди строго говоря не нуждаются в искусственных социальных и технических механизмах. Когда упущен этот постоянный немеханический фон мысли Гвиччардини, кажется, что при отсутствии стабильного идеала он исповедует «культ силовой кривой» и сосредоточен на узкой политической пользе. Надо понять, что нескончаемая социальная буря для Гвиччардини – школа смирения перед темнотой, в которую по своей смертной природе всегда и неизбежно окутан человек. «И философы и теологи и все другие, кто рассматривает вещи сверхприродные и которых они не видят, говорят тысячу глупостей: потому что по сути дела вещи скрыты от людей в темноте, и их исследование служило и служит больше для упражнения умов чем для нахождения истины» (там же, 125). Высшей целью остается школа. Гвиччардини не понимает, почему люди сначала губят всё, а потом бредят о высоком. Осмотритесь сначала вокруг себя и не делайте глупостей. «Не осуждаю постов, молитв и подобных благочестивых трудов, учрежденных Церковью и преподаваемых монахами. Но из благ благо – и в сравнении с ним всё другое легковесно – это никому не вредить, по мере сил помогая каждому» (Воспоминания, 159)[354].
Монтень в выписанной выше маргиналии о Гвиччардини угадывает главное: в суждениях о человеческих делах Гвиччардини не принимает в расчет благих намерений добродетели, благочестия и совести как если бы этих вещей вовсе не существовало. Причина однако не в том что он не верит в человеческую натуру, – «люди все по природе склонны больше к добру чем к злу», «от природы хотят быть свободными» (там же, 134, 203)[355], – а в том что он не хуже Лютера видит, что по желанию человека мало что делается. Решит никогда не благое намерение. Кто под влиянием массовой проповеди и в отличие от извращенных классов больше хочет добра чем народ, а между тем он тонет в таком месиве недоразумений, что простому человеку предпочтешь искушенного. «Кто говорит народ, тот говорит на самом деле обезумелое животное, полное тысячей заблуждений, тысячей путаниц, без вкуса и толка, без наслаждения, без постоянства» (там же, 140, ср. 147)[356].
Флоренция спешила жить и разыграла заранее будущие перипетии Европы. Там определенно наметилась линия капиталистического накопления. Были испытаны почти все формы правления. Флорентийские бешеные (arrabiati) 1529–1530 годов предвосхищают крайние радикальные партии будущего. Слово революция, якобы позднего происхождения, Гвиччардини применяет в близком к нам смысле внутреннего переворота в государстве (rivoluzione di stato)[357] в отличие от внешних потрясений.
Но когда Гвиччардини вместе с Аристотелем считает почетным и великим делом думать об общественном правлении, «от которого зависит благосостояние, спасение, жизнь людей и все выдающиеся дела, творимые в этом низшем мире» (Диалог о флорентийском правлении)[358], то отсюда вовсе не следует, что он надеется найти рецепт успешного государства. Устроиться на земле, возможно, не в человеческих силах. О положении мира следует думать независимо от надежды что-то изменить в нем (там же).
Политик оставляет сферу благодати и целиком отдается своей профессии? Или ренессансная мысль здесь, как у Данте, ищет строгого разграничения земли и неба для полноты обоих? В начале своей переписки с Макиавелли (посылая письма через нарочного как государственные депеши для повышения престижа друга), который искал тогда проповедника для одной из флорентийских гильдий, Гвиччардини советует ему не общаться подолгу с монахами чтобы не заразиться от них лицемерием и ложью. Тебе поручили, шутит он, найти добродетельного священника, как завзятому гомосексуалу могли бы поручить устройство доброго супружества. Я мечтаю найти проповедника, вторит ему Макиавелли, который показал бы вместо спасения путь в ад. В антиморальной публицистике Макиавелли, как в жестком отказе Гвиччардини от литературного диалога с современниками, – одинаковое упрямство демократа и аристократа, которые дорожат вольностью свободного города.
Известны слова Макиавелли из письма к Франческо Веттори, что он любит Гвиччардини как свое отечество, а это последнее больше чем собственную душу. Для Гвиччардини подобная исповедальность была под запретом. Что писатель открыто не проговаривает, то у него и не замечают. Де Санктис мог поэтому бросить с высоты своей самоуверенной революционной эпохи, что ренессансную Италию погубили разумники вроде Гвиччардини, которых оказалось больше чем вдохновенных безумцев. В действительности Гвиччардини не меньше героев Де Санктиса был захвачен стремлением к невозможному. Недаром он (в отличие от Макиавелли) ценил сумасшедшего Саванаролу, «если не доброго, то во всяком случае великого человека». Он уважал безумие флорентийцев, которые сдерживали врага у стен с октября 1529 по 12.8.1530, когда по-человечески невозможно было выдержать и семи дней осады. Но люди актеры, понимал он, не властные распорядиться историей. Дело не в том, кем ты оказался в мире. Единственно важно, не пускаясь в обсуждение доставшейся тебе роли, сыграть ее хорошо.
Сноски
1
Френсис Фукуяма. Конец истории? – ВФ 1990, № 3, с. 148.
(обратно)2
Френсис Фукуяма. Конец истории? – ВФ 1990, № 3, с. 144.
(обратно)3
J. Michelet. Renaissance et Réforme. P.: Robert Laffont, 1982, p. 55.
(обратно)4
J. Michelet. Renaissance et Réforme. P.: Robert Laffont, 1982, p. 80.
(обратно)5
См. ниже с. 000–000.
(обратно)6
Les nouvelles littéraires, le 30 mars – le 6 avril 1978, 55е an., n. 2629, р. 3.
(обратно)7
В. В. Розанов. О понимании. М., 1996, с. 403. Там же: «Значение настроений в истории нельзя достаточно оценить: все великое в ней произведено ими. Религии и революции, искусство и литература, жизнь и философия одинаково получают свой особенный характер в настроении тех, кто создает их».
(обратно)8
Michel Foucault. Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines. Paris: Gallimard, 1966, р. 55.
(обратно)9
Ср. В. Муратов. Образы Италии, т. 1. М., 1917, с. 157.
(обратно)10
Вводное занятие к курсу «Ренессанс», МГУ, философский факультет, 1 и 8 сентября 1992.
(обратно)11
Лат. auctor от augeo «увеличиваю, приумножаю». (Прим. ред.)
(обратно)12
Н. Sedlmayr. Verlust der Mitte. Salzburg, 1948; Frankfurt а. М., 1966; Die Entstehung der Kathedrale. Zürich, 1950, вышло вторым изданием в 1976; Die Revolution der modernen Kunst. Hamburg, 1955, в 1961 вышло уже десятое издание, не считая переводов на разные языки; Kunstwerk und Kunstgeschichte, Мünchen, 1956; Kunst und Wahrheit: Zur Theorie und Methode der Kunstgeschichte. Hamburg, 1959; Мünchen, 1961; Epochen und Werke: Gesammelte Schriften für Kunstgeschichte. 2 Bde. Wien-München, 1960; Festschrift fur Hans Sedlmayr (Sammlung). Мünchen, 1962; Der Tod des Lichtes: Übergangene Perspektiven zur modernen Kunst. Salzburg, 1964; Die demolierte Schönheit, 1965; Gefahr und Hoffnung des technischen Zeitalters. Salzburg, 1970; Die bildende Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts als Symptom und Symbol der Zeit. Salzburg, 1976.
(обратно)13
Hefte des kunsthistorischen Seminars der Universität Мünchen. Hrsg. von H. Sedlmayr. Hefte 1–4. Heft 1. Н. Sedlmayr. Kunstwerk und Kunstgeschichte. München, 1956–1959.
(обратно)14
Heft 1…, S. 22.
(обратно)15
Heft 2. Pieter Bruegel: Der Sturz der Blinden. Paradigma einer Strukturanalyse. Мünchen, 1957, S. 34–35.
(обратно)16
Н. Sedlmayr. Die Entstehung der Kathedrale. Zürich, 1950, S. 511.
(обратно)17
Н. Sedlmayr. Gefahr und Hoffnung des technischen Zeitalters. Salzburg, 1970, S. 7; 14.
(обратно)18
Н. Sedlmayr. Epochen und Werke: Gesammelte Schriften zur Kunstgeschichte. Bd. 1. Wien; Мünchen, 1959, S. 9; Bd. 2. 1960, S. 353–360.
(обратно)19
Н. Sedlmayr. Epochen und Werke: Gesammelte Schriften zur Kunstgeschichte. Bd. 1. Wien; Мünchen, 1959, S. 9; Bd. 1, S. 9; 17.
(обратно)20
H. Sedlmayr. Kunst und Wahtheit: Zur Theorie und Methode der Kunstgeschichte. Мünchen, 1961, S. 81.
(обратно)21
Н. Sedlmayr. Verlust der Mitte: Die bildende Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts als Symbol der Zeit. Salzburg: Мüller, 1948, S. 7.
(обратно)22
R. Wagner. Das Kustwerk der Zukunft. Мünchen, 1850.
(обратно)23
F. Nietzsche. Werke. Leipzig, 1895. Bd. 8, Abt. 1, S. 35.
(обратно)24
Н. Sedlmayr. Verlust der Mitte…, S. 49.
(обратно)25
Н. Sedlmayr. Verlust der Mitte…, S. 55.
(обратно)26
Н. Sedlmayr. Verlust der Mitte…, S. 88.
(обратно)27
Н. Sedlmayr. Verlust der Mitte…, S. 133.
(обратно)28
Зедльмайра не обманул шутовской оптимизм восторженных приветствий «новому искусству» у Ортеги.
(обратно)29
Н. Sedlmayr. Verlust der Mitte…, S. 163.
(обратно)30
Н. Sedlmayr. Verlust der Mitte…, S. 174.
(обратно)31
Е. Piscione. Bernardo di Chiaravalle е Tommaso d’Aquino di fronte al problema dell’amore: Due posozioni antitetiche о complementari? – «Sapienza», vol. XXXVI, n. 4, Napoli, 1983, р. 405–414.
(обратно)32
Н. Sedlmayr. Verlust der Mitte…, S. 193.
(обратно)33
Н. Sedlmayr. Verlust der Mitte…, S. 197.
(обратно)34
Н. Sedlmayr. Verlust der Mitte…, S. 204.
(обратно)35
Н. Sedlmayr. Verlust der Mitte…, S. 210. Спасающий спасется – формула Владимира Соловьева из статьи «Тайна прогресса».
(обратно)36
Н. Sedlmayr. Verlust der Mitte…, S. 226.
(обратно)37
Т. е. включая постмодерн. О постмодерне как радикальной реставрации модерна см.: С. Зенкин. Культурология префиксов. – Новое литературное обозрение 1995, № 16., с. 47–53.
(обратно)38
Н. Sedlmayr. Verlust der Mitte…, S. 235 f.
(обратно)39
Н. Sedlmayr. Verlust der Mitte…, S. 241.
(обратно)40
Н. Sedlmayr. Verlust der Mitte…, S. 245.
(обратно)41
Н. Sedlmayr. Verlust der Mitte…, S. 251.
(обратно)42
У. de. Constantin. Lettre ouverte а l’lnternational scientifi que, sous couvert de l’Institut et de l’Académie des sciences de France. Lyon: Peladan, 1983, р. 18–20.
(обратно)43
W. Köster. Abendland, woher und wohin? Aufriß zu einer Ortsbestimmung der Heute. Münster: Aschendorff, 1982, S. 5.
(обратно)44
J. François-Poncet. L’Europe, declin ou renaissance? – Bruxelles, 1983. – 36 р.
(обратно)45
В. Mondin. Una nuova cultura per une nuova societa: Analisi della crisi epocale della cultura moderna е dei progetti рег superarla. Milano: Massimo, 1982, р. 3; 183.
(обратно)46
Richard Falk. The end of world order: Essays on normative international relations. New York; London: Holmes & Meier, 1983, р. 39.
(обратно)47
Н. Franz. Der geistige Weg in die Zukunft: Überlegungen eines Ökologen. Wien: Schendl, 1982, гл. 2.
(обратно)48
K. M. Meyer-Abich. Wissenschaft als Beruf, im 199. Jahreszehnt: Ein Vorschlag zur Erneuerung der Wissenschaft. – In: Physik, Philosophie und Politik: Festschrif für C.F. von Weizsäcker zum 70. Geburtstag. Hrsg. von К. М. Меуег-Abich. Munchen; Wien: Carl Hanser, 1984, S. 441.
(обратно)49
F. Partant. La fi n du développement: Naissance d’une alternative? Paris: Maspero, 1982, р. 108.
(обратно)50
Цит. по: Physik, Philosophie und Politik: Festschrif für C.F. von Weizsäcker zum 70. Geburtstag. München (Hanser) 1982, S. 129.
(обратно)51
F. Partant. La fi n du développement…, р. 22; 148; 31; 36.
(обратно)52
Т. Kemp. Industrialization in the non-Western world. London; New York: 1983, р. 1; 2.
(обратно)53
Rajni Kothari. Chairman of the Indian council of social science research. – In: Physik, Philosophie und Politik: Festschrif für C.F. von Weizsacker…, S. 128 f.
(обратно)54
В.-Н. Lévy. Questions de principe. Paris: Denoёl/Gonthier, 1983, р. 41.
(обратно)55
V. Scardigli. La consommation, culture du quotidien. Paris: PUF, 1983, р. 21.
(обратно)56
Christine Jaeger. Artisanat et capitalisme: L’envers de la roue d’histoire. Paris. Payot, 1982, р. 283–287.
(обратно)57
V. Scardigli. La consommation…, р. 31–32. По Ханне Арендт, социума в античном полисе не существовало. его гражданин посвящал свои главные силы поддержанию «мира» в старом значении этого русского слова – открытого общего пространства как сцены для свободного поступка (см.: Ханна Арендт. Vita activa. Санкт-Петербург: Алетейя, 2000).
(обратно)58
V. Scardigli. La consommation…, р. 91.
(обратно)59
R. Garaudy. L’lslam habite notre avenir. Paris: Desclée Do Brouwer, 1981, р. 12.
(обратно)60
Цит. по: R. Garaudy. L’lslam…, р. 53.
(обратно)61
R. Garaudy. L’lslam…, р. 80–81; 233–234.
(обратно)62
А.Ф Лосев. Диалектика мифа. М., 1930, с. 140–141.
(обратно)63
П. А. Флоренский. Макрокосм и микрокосм. – «Богословские труды», сб. 24. М., 1983, с. 233.
(обратно)64
R. Habachi. Cultural values and scientifi c progress. – In: Problems of culture and cultural values in the contemporary world. Paris: UNESCO, 1983, р. 46.
(обратно)65
Франческо Петрарка. Книга о делах повседневных. XIV 4, 30; XXI 1, 1.
(обратно)66
Ср. С. Grayson. The Renaissance and the history of literature. – In: The Renaissance: Essays in interpretation. London; New York: Methuen, 1982, р. 208.
(обратно)67
Цит. по: Н. Standinger. Geschichte als Anthropologie. – In: Wozu noch Geschichte? Munchen: Fink, 1977, S. 49.
(обратно)68
Карл фон Вейцзеккер, цит. по: Meyer-Abich. Wissenschaft als Beruf…, S. 448.
(обратно)69
Köster. Abendland, woher und wohin?…, р. 76.
(обратно)70
Jürgen Habermas. Die Kulturkritik der Neokonservativen in den USA und in der Bundesrepublik: Über eine Bewegung von Intellektuellen in zwei politischen Kulturen. – «Merkur», Hft. 11, 36. Jg., Nov. 1982, Stuttgart, S. 1047–1061.
(обратно)71
Хельмут Тилике. Цит. по: H. J. Ausmus. The polite escape: On the myth of secularization. Athens (Ohio): Ohio univ. Press, 1982, S. 163.
(обратно)72
А. Gorz. Les chemins du paradis: L’agonie du capital. Paris: Galilée, 1983, р. 13.
(обратно)73
N. Abbagnano. L’uomo progetto 2000. Roma: Editori Dino, 1980, р. 104–105.
(обратно)74
М. Poniatowski. L’histoire est libre. Paris: Albin Michel, 1982, р. 166.
(обратно)75
«Nur noch ein Gott kann uns retten». Spiegel-Gespräch mit Martin Heidegger am 23. Sept. 1966. – «Der Spiegel», Nr. 23, 31.05.1976, S. 205; 209.
(обратно)76
J. Michelet. Renaissance et Réforme: Histoire de France au XVIe siècle. Paris: Robert Laffont, 1982, р. 34.
(обратно)77
R. Bellour. Deuxieme entretien avec M. Foucault. – In: Le livre des autres. Paris: Ed. De I’Herme, 1971, р. 201–202.
(обратно)78
Р. Major-Poetzl. Michel Foucault’s archeology of Western culture: Towards а new science of history. Brighton: The Harward press, 1983, р. 138.
(обратно)79
S. Bartolommei. Michel Foucault: Il libro come experienza. – «Il ponte», Firenze, а. XXXIX, n. 1, р. 44.
(обратно)80
М. Foucault. Les mots et les choses: Une archéologie des sciences humaines. Paris: Gallimard, 1966, р. 137–158.
(обратно)81
Цит. по: N. W. Boiz. Tod des Subjekts: Die neuere französische Philosophie im Zeichen Nietzsches. – «Zeitschrift für philosophische Forschung», Bd. 36, Juli-Sept. 1982, Hft. 3, S. 452.
(обратно)82
F. Partant. La fi n du développement: Naissance d’une alternative? Paris: Maspero, 1982, р. 100–101.
(обратно)83
D. Trombadori. Colloqui con Foucault. Salerno: 10/17 Соор. Editr., 1981. р. 21.
(обратно)84
Цит. по: S. Bartolommei. Michel Foucault…, р. 48.
(обратно)85
Р. Major-Poetzl. Michel Foucault’s archeology of Western culture…, р. 53.
(обратно)86
См.: Проблема нигилизма в современной западной культурологии // Новое в современной западной культурологии. М., 1983, с. 11–55. См. также: М. Хайдеггер. Европейский нигилизм. В книге: М. Хайдеггер. Время и бытие (статьи и выступления). М: Республика, 1993. (Прим. ред.)
(обратно)87
М. Хайдеггер. Послесловие к «Что такое метафизика?» В книге: М. Хайдеггер. Время и бытие. М, 1993.
(обратно)88
Е. Drewermann. Der tödliche Fortschritt: Von der Zerstorung der Erde und des Menschen im Erde des Christentum. Regensburg: Pustet, 1981. Выражение принадлежит св. Августину.
(обратно)89
А. Glucksmann. Cynisme et passion. Paris: Grasset. 1981, р. 33–34.
(обратно)90
Е. Severino. А Cesare е а Dio. Milano: Rizzoli, 1983, р. 132.
(обратно)91
Richard Falk. The end of world order…, р. 333.
(обратно)92
L. M. Hinman. Can а form of life be wrong? – «Philosophy», London, vol. 58, n. 225, July 1983, р. 351.
(обратно)93
Е. Lévinas. Ethique et infi ni: Dialogues avec Ph. Némo. Paris: Libraire Arthème Fayard et Radio-France, 1982, р. 131–132.
(обратно)94
Richard Falk. The end of world order…, р. 80.
(обратно)95
Н. Rauschning. – In: Der Nihilismus als Phänomen der Geistesgeschichte in der wissenschaftlichen Diskussion unseres Jahrhunderts. Hrsg. von D. Arendt. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1974, S. 124.
(обратно)96
G. Picht. Die Zusammengehörigkeit von Physik, Politik und Philosophie. – In: Physik, Philosophie und Politik: Festschrift für Carl Friedrich von Weizsäcker zum 70. Geburtstag. Hrsg von К. М. Meyer-Abich. München; Wien: Carl Hanser, 1982, S. 41.
(обратно)97
K. M. Meyer-Abich. Wissenschaft als Beruf…, S. 440.
(обратно)98
Цит. по: H. F. Geyer. Das Galilei-Syndrom. – In: Wissenschaft und Tradition. Hrsg. von P. Feyerabend, Chr. Thomas. Zürich: Verlag der Fachvereine, 1983, S. 303.
(обратно)99
K. M. Meyer-Abich. Wissenschaft als Beruf…, S. 450; 453–456.
(обратно)100
Е. Levinas. Détermination philosophique de l’idée de culture. Montréal, 1983, р. 5; 8; 13; 16.
(обратно)101
Richard Falk. The end of world order…, р. 270.
(обратно)102
Г. М. Тавризян. Проблема преемственности гуманистического идеала человека в условиях современной культуры. – В сб.: Личность в современном мире: Препринты докладов советских ученых к XVI Всемирному философскому конгрессу «Философия и культура». М.: ИФАН, 1983, с. 68.
(обратно)103
W. De. Boer. Progressivität als anthropologische Kategorie. – «Universitas», Jg.
38, Stuttgart, 1983, Hft. 1 О, S. 1085.
(обратно)104
Briefwechsel zwischen W. Dilthey und dem Grafen Paul Yorck von Wartenburg (1877–1897). Halle a.d. Saale, 1923, S. 83.
(обратно)105
R. Clavet. Le sens de notre époque chez Nicolas Berdiaeff. – In: XVII Congrès mondial de philosophie. Résumes. Montreal, 1983, р. 126.
(обратно)106
Н. Бердяев. Смысл истории. Париж, 1969, с. 174, 213, 217.
(обратно)107
Richard Falk. The end of world order…, р. 270; А. Inkeles. Exploring individual modernity. New York: Colimbia univ. Press, 1983, р. 322.
(обратно)108
Е. Drewermann. Der tödliche Fortschritt…, S. 68; Richard Falk. The end of world order…, р. 83.
(обратно)109
Р. Miller. Western traditions, nature’s values and environmental ethics. – In: XVlle Congrès mondial de philosophie. Résumés. Montréal, 1983, р. 5.
(обратно)110
Е. Drewermann. Der tödliche Fortschritt…, S. 67–68.
(обратно)111
G. Colli. Die Geburt der Philosophie. Frankfurt а. М.: Europäische Verlagsanstalt, 1981, S. 81.
(обратно)112
Е. Garin. Lo storicismo del Novecento (Materiali per una defi nizione). – «Giornale critico della fi losofi a italiana», Sesta serie. vol. 111, а. LXII (LXIV), Firenze, 1983, Fasc. 1, р. 20; 54.
(обратно)113
Richard Falk. The end of world order…, р. 23.
(обратно)114
G. Steiner. Dennis Nigel: Entrevista con George Steiner. – «Revista de Occidente», No. 13, Мауо 1982, р. 135–136.
(обратно)115
W. Oelmüller. Vorwort. – In: Wozu noch Geschichte? Hrsg. von W. Oelmüller. Munchen: Fink, 1977, р. 10.
(обратно)116
В. Nacci. Breve elogio della guerra. – «Belfagor», а. 38, Firenze, 1983, n. 4, р. 475.
(обратно)117
Standinger. Geschichte als Anthropologie…, S. 48.
(обратно)118
А. Gorz. Les chemins du paradis…, р. 19.
(обратно)119
Richard Falk. The end of world order…, р. 84.
(обратно)120
В. Mondin. Una nuova cultura…, p. 185.
(обратно)121
J.-P. Quentin. Mutation 2000: Le tournant de la civilisation. Paris: Le Hameau, 1982, р. 141.
(обратно)122
М. Poniatowski. L’histoire est libre…, р. 172–173, 197.
(обратно)123
J.-P. Quentin. Mutation 2000…, р. 121.
(обратно)124
А. Inkeles. Exploring individual modernity…, p. 322.
(обратно)125
J.-P. Quentin. Mutation 2000…, р. 136.
(обратно)126
J. Ellul. Changer de révolution: L’inéluctable prolétariat. Paris: Seuil, 1982, р. 230.
(обратно)127
V. Scardigli. La consommation…, р. 129–132; 182–183; 192–193; 223.
(обратно)128
А. Gorz. Les chemins du paradis…, р. 248; ср. J. Ellul. Changer de révolution…, р. 268.
(обратно)129
А. Gorz. Les chemins du paradis…, р. 237–239.
(обратно)130
J.-P. Quentin. Mutation 2000…, р. 67; 123; 150; 165.
(обратно)131
J. Ellul. Changer de révolution…, р. 266; 285; 288.
(обратно)132
Рене Декарт. Рассуждение о методе, 6.
(обратно)133
Н. Бердяев. Смысл истории…, с. 182.
(обратно)134
J. Freund. La fi n de la Renaissance. Р.: PUF, 1980, р. 7.
(обратно)135
L. Taccoen. L’Occident est nu. Paris: Flammarion, 1982, р. 8.
(обратно)136
L. Taccoen. L’Occident est nu…, р. 15; 56; 61–64; 94-100; 188.
(обратно)137
В. Mondin. Una nuova cultura…, р. 151–153.
(обратно)138
J. Freund. La fi n de la Renaissance…, р. 8; 18.
(обратно)139
F. Partant. La fi n du développement…, р. 22; 151.
(обратно)140
L. Taccoen. L’Occident est nu…, р. 15–40; 59; 61.
(обратно)141
J. Freund. La fi n de la Renaissance…, р. 17. О веках европейского чуда см.: E. L. Jonel. The European miracle: Environments, economics and geopolitics in the history of Europe and Asia. Cambridge univ. Press. 1981.
(обратно)142
J. Freund. La fi n de la Renaissance…, р. 17–23; 39.
(обратно)143
D. Shayegan. Qu’est-ce qu’une révolution religieuse?…, р. 203.
(обратно)144
М. Poniatowski. L’histoire est libre…, р. 52–53.
(обратно)145
L. Taccoen. L’Occident est nu…, р. 96.
(обратно)146
R. Garaudy. L’lslam habite notre avenir…, р. 11; 53.
(обратно)147
Dja’it Hichem. L’Europe et l’Islam. Paris: Seuil, 1978.
(обратно)148
L. Olagüе. Les Arabes n’ont jamais envahi l’Espagne. Paris: Flammarion, 1969.
(обратно)149
Miguel Asin Palacios. L’eschatologie musulmane dans la Divine Comédie. Madrid, 1919; R. Guenon. L’ésotérisme de Dante. Paris: Gallimard, 1957.
(обратно)150
R. Garaudy. L’lslam habite notre avenir…, р. 209; 233–234; 11.
(обратно)151
Т. Kemp. Industrialization in the non-Western world…, р. 43; 197.
(обратно)152
J. Freund. La fi n de la Renaissance…, р. 106; 143–144.
(обратно)153
L. Taccoen. L’Occident est nu…, р. 69.
(обратно)154
F. Partant. La fi n du développement…, р. 152; 156.
(обратно)155
V. Scardigli. La consommation…, р. 82; 226–331.
(обратно)156
Т. Kemp. Industrialization in the non-Western world…, р. 201.
(обратно)157
Caton. De la reconquête. Paris: Fayard, 1983, р. 260.
(обратно)158
К. Aune. The evolutionary move towards integration and holism in humanity: А case for an internal communication model. – «Et cetera», California, vol. 40, n. 1, 1983, р. 34.
(обратно)159
L. Taccoen. L’Occident est nu…, р. 197.
(обратно)160
V. Scardigli. La consommation…, р. 247.
(обратно)161
J. Ellul. La subversion du christianisme. Paris: Seuil, 1984.
(обратно)162
Ellul J. Changer de révolution: L’inéluctable prolétariat. Paris: Seuil, 1982.
(обратно)163
А. Ф. Лосев. Эстетика Возрождения. М.: Мысль, 1978, с. 612–614.
(обратно)164
К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 25, ч. 1. М., 1961, с. 25.
(обратно)165
См.: К. Маркс и актуальные вопросы эстетики и литературоведения. М, 1968.
(обратно)166
А. А. Сванизде. Проблемы истории средневекового города в тематическом межвузовском сборнике. – В кн.: Средние века. Вып. 45. М., 1982, с. 322; 324.
(обратно)167
Дж. Вазари. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. В пяти томах. М., 1956–1971, т. 1, с. 155.
(обратно)168
Mary Boas Hall. Problems of the scientifi c Renaissance. In: The Renaissance: Essays in interpretation. L.; N.Y.: Methuen, 1982, р. 274.
(обратно)169
Цит. по: М. Блок. Апология истории. М., 1973, с. 84.
(обратно)170
G. Stabile. La ruota della fortuna: tempo ciclico е ricorso storico. In: Scienze, credenze occulte, livelli di cultura. Firenze: Olschki, 1982, р. 477–503.
(обратно)171
Н. Sedlmayr. Das Abenteuer der Kunstgeschichte. – «Merkur», Jg. 37, H. 2, Stuttgart, 1983, S. 150.
(обратно)172
Н. Sedlmayr. Das Abenteuer der Kunstgeschichte. – «Merkur», Jg. 37, H. 2, Stuttgart, 1983, S. 145.
(обратно)173
J. Burckhardt. Die Kultur der Renaissance in Italien. Berlin: Safari, 1948, S. 95.
(обратно)174
J. Burckhardt. Die Kultur der Renaissance in Italien. Berlin: Safari, 1948, S. 165.
(обратно)175
Р. И. Хлодовский. Гуманизм Данте: Путь к «Божественной комедии». – В кн.: Дантовские чтения. М.: Наука, 1979, с. 150.
(обратно)176
Р.О. Kristeller. The Renaissance in the history of philosophical thought. – In: The Renaissance: Essays in interpretation. By Andre Chastel et al. London: Methuen, 1982, р. 136.
(обратно)177
Р.О. Kristeller. The Renaissance in the history of philosophical thought. – In: The Renaissance: Essays in interpretation. By Andre Chastel et al. London: Methuen, 1982, р. 142–145.
(обратно)178
Cecil Grayson. The Renaissance and the history of literature. – In: The Renaissance Essays in interpretation…, р. 205.
(обратно)179
А. Chastel. The arts during the Renaissance. – In: The Renaissance: Studies in interpretation. New York; London: Methuen, 1982, p. 237.
(обратно)180
Цит. по: Е. Niccolini. Per un’edizione del «Diario» е di altri scritti di Biagio Buonaccorsi. – «Archivio storico italiano», а. 141, n. 516, Firenze, 1983, р. 195.
(обратно)181
L. Valla. De vero falsoque bono. Ed. M. De P. Lorch. Bari, 1970, р. 114.
(обратно)182
Умберто Боско, цит. по: Cecil Grayson. The Renaissance…, р. 201.
(обратно)183
Для формальной целости поэмы важен не одиннадцатисложник сам по себе, – у Данте есть десятисложные стихи в той мере, в какой в итальянском есть слова с ударением на последнем слоге (например fè – sè – è, Чистилище 6, 8–12), – а нерушимая одинаковость ритма. Если бы Данте писал на других языках, у него рифмовались бы и слова с ударением на третьем или четвертом от конца слоге, т. е. допускались бы и двенадцатисложник и тринадцатисложник. Поэтому старания некоторых экспериментаторов при переводе «Божественной Комедии» на русский язык кончать каждый стих обязательно словом, в котором ударение стояло бы на втором слоге от конца, не очень логичны, особенно если попутно нарушается действительно важное требование, безупречная чистота рифмы.
(обратно)184
F. Fido. Silenzi е cavalli nell’eros del’ «Decameron». – «Belfagor», а. XXXVIII, n. 1, Firenze, 1983, р. 83.
(обратно)185
F. Fido. Silenzi е cavalli nell’eros del’ «Decameron». – «Belfagor», а. XXXVIII, n. 1, Firenze, 1983, р. 79.
(обратно)186
White Laura Sanguineti. La scena conviviale е la sua funzione nel mondo del Boccaccio. Firenze: Olschki, 1984.
(обратно)187
J. Michelet. Renaissance et Réforme: Histoire de France au XVIe siècle. Paris: Laffont, 1982, р. 37.
(обратно)188
J. Burckhardt. Die Kultur der Renaissance in Italien…, S. 188.
(обратно)189
S. Serlio. Tutte l’opere d’architettura е prospettiva, 1619 (факсимильное издание 1964), f° 64 V° (цит. по: А. Chastel. The arts during the Renaissance…, р. 235).
(обратно)190
J. R. Hale, ed. А concise encyclopedia of the Italian Renaissance. London: Thames and Hudson, 1981, р. 58.
(обратно)191
А. Chastel. The arts during the Renaissance…, р. 238.
(обратно)192
А. Chastel. The arts during the Renaissance…, р. 244; 257.
(обратно)193
M. Hall. In: The Renaissance: Essays in interpretation…., р. 317.
(обратно)194
PL 158, 143–144.
(обратно)195
В. Hauréau. Histoire de la philosophie scolastique. I-ère partie (de Charlemagne а la fi n du XII-e siècle). Paris, 1872, р. 35.
(обратно)196
J. Michelet. Renaissance et Réforme…, р. 39; 42.
(обратно)197
J. Burckhardt. Die Kultur der Renaissance in Italien…, S. 188; 202.
(обратно)198
Fet des Romains I 28. Ed. Flutre L.-F. et Sneyders de Vogel К. Paris; Groningen, 1938. Цит. по: N. Rubinstein. Political theories of the Renaissance. – In: The Renaissance: Essays in interpretation…, р. 155.
(обратно)199
Цит. по: N. Rubinstein. Political theories of the Renaissance…, р. 194.
(обратно)200
J. Burckhardt. Die Kultur der Renaissance in Italien… S. 137; 96; 152.
(обратно)201
А. Н. Веселовский. Собрание сочинений, т. 3. СПБ, 1908, с. 127–128.
(обратно)202
W. Ullmann. The Medieval origins of the Renaissance. – In: The Renaissance: Essays in interpretation…, р. 47–48.
(обратно)203
«Для множества единовременно живущих людей полезнее быть под управлением одного чем многих… Всякое естественное (природное) правление единоначально… Наилучшее состояние человеческого множества есть единодержавие» (Фома Аквинский, De regimine principum I 2).
(обратно)204
Li livres dou trésor 211, Цит. по: N. Rubinstein. Political theories of the Renaissance…, р. 158.
(обратно)205
J. Burckhardt. Die Kultur der Renaissance in Italien…, S. 213.
(обратно)206
F. Guicciardini. Ricordi, 1. – In: F. Guicciardini. Opere. А cura di Vittorio de Caprariis. Milano; Napoli, 1953, р. 95. Фра Иеронимо из Феррары – Савонарола.
(обратно)207
F. Catalano. In coda а San Francesco. – «Belfagor», а. XXXVIII, n. 4, Firenze, 1983, р. 478.
(обратно)208
F. Catalano. In coda а San Francesco. – «Belfagor», а. XXXVIII, n. 4, Firenze, 1983, р. 482.
(обратно)209
Pamela Major-Poetzl. Michel Foucault’s archeology of Western culture: Towards а new science of history. Brihton: The Harvester press, 1983, р. 168–169.
(обратно)210
А. Даниелу. Цит. по: С. Mettra. La Renaissance ou I’infi ni des rêves. – In: J. Michelet. Renaissance et Réforme: Histoire de France au XVI siécle. Paris: Laffont, 1982, р. 10–11.
(обратно)211
PL 175, 978.
(обратно)212
Г. В. Ф. Гегель. Энциклопедия философских наук, § 440.
(обратно)213
П. Валери. Введение в систему Леонардо да Винчи; Заметка и отступление. – В кн.: П. Валери. Об искусстве. Москва: Искусство, 1976, с. 83.
(обратно)214
Р. Major-Poetzl. Michel Foucault’s archeology of Western culture…, р. 170.
(обратно)215
J. Freund. La fi n de la Renaissance. Paris: PUF, 1980, р. 88.
(обратно)216
Е. Léivinas. Détermination philosophique de l’idée de Culture. Montréal: XVII Congrès mondial de philosophie, 1983, р. 6–8.
(обратно)217
G. Di Giannatale. Dante е I’autorita della Chiesa: In margine all’ enciclica In summorum praeclaram di Benedetto X V. – «Sapienza», v. 36, n. 4, Napoli, 1983, р. 415–440.
(обратно)218
А. Chastel. The arts during the Renaissance…, р. 260.
(обратно)219
G. Dominici. Lucula noctis. Ed. Ву E. Hunt. Notre Dame (Ind.), 1940, р. 365; 396. Цит. по: А. Х. Горфункель. Полемика вокруг античного наследия в эпоху Возрождения. – В кн.: Античное наследие в культуре Возрождения. М.: Наука, 1984, с. 11.
(обратно)220
И. Х. Черняк. Гуманизм эпохи Возрождения и христианская мысль древности. – В кн.: Античное наследие в культуре Возрождения. М.: Наука, 1984, с. 31.
(обратно)221
PL 158, 143–144.
(обратно)222
Н. Lutz. Luthers Zögern. – «Merkur», 37. Jg., Stuttgart, Okt. 1983, Н. 7, n. 421, S. 797–798.
(обратно)223
J. Burckhardt. Die Kultur der Renaissance in Italien…, S. 302.
(обратно)224
J. Burckhardt. Die Kultur der Renaissance in Italien…, S. 270; 297.
(обратно)225
Цит. по: В. Hemmerdinger. Jacob Burckhardt et la Renaissance. – «Belfagor», а. XXXVIII, n. 5, Firenze, 1983, р. 510.
(обратно)226
Цит. по: В. Hemmerdinger. Jacob Burckhardt et la Renaissance…, р. 511.
(обратно)227
Цит. по: В. Hemmerdinger. Jacob Burckhardt et la Renaissance…, р. 513.
(обратно)228
А. Chastel. The arts during the Renaissance…, p. 232.
(обратно)229
Franciscus de Meyronis. Commentarium in Sententias, lib. II, dist. 14, q. 5, 14-а diffi cultas: Dicit tamen quidam doctor, quod si terra moveretur et coelum quiesceret, quod hic esset melior dispositio.
(обратно)230
J. Burckhardt. Die Kultur der Renaissance in Italien…, S. 238.
(обратно)231
Cecil Grayson. The Renaissance and the history of literature…, p. 214.
(обратно)232
А. Ф. Лосев. Эстетика Возрождения…, с. 399.
(обратно)233
Ср. у Николая Кузанского в начале трактата «О даре Отца светов»: «Когда однажды при собирании трав…»
(обратно)234
N. Rubinstein. Political theories of the Renaissance…, р. 174.
(обратно)235
Е. Wind. Platonic tyranny and the Renaissance Fortuna: On Ficino’s reading of «Laws» IV 709 а–712 а. – In: Essays in honor of E. Panofsky. Ed. by Meiss M. N.Y., 1961, I, р. 491–496.
(обратно)236
J. Michelet. Renaissance et Réforme…, р. 797.
(обратно)237
Cecil Grayson. The Renaissance and the history of literature…, p. 206.
(обратно)238
Цит. по: А. Chastel. The arts during the Renaissance…, p. 230.
(обратно)239
Levi D’Ancona Mirella. Botticelli’s Primavera: А botanical interpretation including astrology, alchemy and the medici. – Firenze: Olschki, 1983.
(обратно)240
А. Chastel. The arts during the Renaissance…, p. 228.
(обратно)241
Леонардо да Винчи. Избранные произведения в 2-х томах, под ред. А. К. Дживелегова и А. М. Эфроса. Москва-Ленинград, 1935, т. 2, с. 55–56.
(обратно)242
Cod. Par. А 100 r, 1492.
(обратно)243
С. Mettra. La Renaissance ou I’infi ni des rêves…, p. 27.
(обратно)244
Е. Panofsky. Die Perspektive als «symbolische Form». In: Vorträge der Bibliothek Warburg. Hrsg. von F. Saxl. Vorträge 1924–1925. Berlin, 1927, S. 286.
(обратно)245
Цит. по: А. Chastel. The arts during the Renaissance…, p. 256.
(обратно)246
Codex Leicester 2 v = Codex Hammer 2 В left.
(обратно)247
А. Ф. Лосев. Эстетика Возрождения…, с. 397; 409.
(обратно)248
Cecil Grayson. The Renaissance and the history of literature…, p. 207.
(обратно)249
Б. Г. Кузнецов. От Данте к Галилею. Проблема Проторенессанса и Постренессанса как гносеологическая проблема. – В кн.: Типология и периодизация культуры Возрождения. Под ред. В. И. Рутенбурга. М.: Наука, 1978, с. 110.
(обратно)250
Здесь «помимо Данте… дважды изображен только… друг и сподвижник Рафаэля Браманте» (Р.И. Хлодовский. Анджело Полициано на «Парнасе»: Поэтический генезис художественного идеала Высокого Возрождения. – В кн.: Рафаэль и его время. М.: Наука, 1986, с. 158). «Данте, трактованный одновременно как поэт и богослов, поэт-пророк, связывает не только обе фрески («Диспут» и «Парнас»), но и гуманистически истолкованное поэтическое откровение с откровением религиозным» (А. Х. Горфункель. «Диспут» Рафаэля. – В сб.: Рафаэль и его время. М.: 1986, с. 70).
(обратно)251
St. Otto. Rhetorische Techne oder Philosophie sprachlicher Darstellungskraft? Zur Rekonstruktion des Sprachhumanismus der Renaissance. – «Zeitschrift für philosophische Forschung», Bd. 37, Н. 4, Meisenheim a. G., 1983, S. 479.
(обратно)252
К. Маркс. Конспект книги Ф. Бутервека «История поэзии и красноречия с конца XIII века. Гёттинген, 1801–1819». В кн.: К. Маркс и актуальные вопросы эстетики и литературоведения. М., 1969, с. 213.
(обратно)253
G. Holmes. The Florentine Enlightenment, 1400–1450. London, 1969.
(обратно)254
Cecil Grayson. The Renaissance and the history of literature…, p. 208.
(обратно)255
Francisci Petrarchae… Opera omnia. Basileae, 1581, р. 323–330.
(обратно)256
Cecil Grayson. The Renaissance and the history of literature…, p. 208.
(обратно)257
Так называл себя Леонардо, который писал на диалекте как придется (grogria вместо gloria и т. д.) И плохо знал латынь.
(обратно)258
A. Zanini. Machiavelli, I’etico contro il politico. – «Belfagor», а. XXXIX, n. 1, Firenze, 1984, р. 30.
(обратно)259
J. Michelet. Renaissance et Réforme…, p. 58–60.
(обратно)260
Цит. по: A. F. Ozanam. Dante et la philosophie catholique au treizieme siecle.
Paris: Lecoffe, 1845, р. 443.
(обратно)261
Эстетика Ренессанса, т. 1. Москва: Искусство, 1981, с. 101; ср. с. 91.
(обратно)262
Эстетика Ренессанса, т. 2, с. 109.
(обратно)263
J. Michelet. Renaissance et Réforme…, p. 30.
(обратно)264
Cecil Grayson. The Renaissance and the history of literature…, p. 222.
(обратно)265
А. Chastel. The arts during the Renaissance…, p. 250–252.
(обратно)266
N. Rubinstein. Political theories of the Renaissance…, р. 188.
(обратно)267
Цит. по: C. G. Noreña. Juan Luis Vives. The Hague, 1970, р. 25.
(обратно)268
Р.О. Kristeller. The Renaissance in the history of philosophical thought…, р. 137–138.
(обратно)269
Н. Lutz. Luthers Zögern…, S. 797.
(обратно)270
А. Ф. Лосев. Исторический смысл эстетики Возрождения. – «Эстетика и жизнь», М., 1982, с. 201–203.
(обратно)271
А. Ф. Лосев. Исторический смысл эстетики Возрождения. – «Эстетика и жизнь», М., 1982, с. 198 (далее: «он не знает никаких пределов ни в чем»).
(обратно)272
А. Ф. Лосев. Исторический смысл эстетики Возрождения. – «Эстетика и жизнь», М., 1982, с. 202.
(обратно)273
Л. М. Баткин. Итальянские гуманисты: стиль жизни, стиль мышления. М., 1978, с. 173–174.
(обратно)274
А. Н. Веселовский. Избранные статьи. Ленинград, 1939, с. 154–155.
(обратно)275
G. Ponte. Osservazioni sulla poetica del Petrarca. – In: Francesco Petrarca, pere des Renaissances, serviteur de l’amour et de la paix. Avignon, 1974, р. 76.
(обратно)276
Е.Н. Wilkins. А history of Italian literature. Cambridge (Mass.), 1954, р. 84.
(обратно)277
Е. Garin. Petrarca е la polemica con i «moderni». – In: Е. Garin. Rinascite е rivoluzioni. Roma; Bari, 1976, р. 80.
(обратно)278
С. Д. Сказкин. Из истории социально-политической и духовной жизни Западной Европы в Средние века. М., 1981, с. 71; 262.
(обратно)279
«Ему неудержимо хотелось исправить человечество». Р. И. Хладовский. Гуманизм Данте. – В кн.: Дантовские чтения. М., 1979, с. 106.
(обратно)280
U. Dotti. Petrarca е la scoperta della coscienza moderna…, р. 84.
(обратно)281
Е.Н. Wilkins. А history of Italian literature…, р. 84.
(обратно)282
Н. Nachod, Р. Stern. Vorwort. – In: F. Petrarca. Briefe. Berlin, 1931, S. XLV.
(обратно)283
G. Gentile. I problemi della scolastica е il pensiero italiano. Firenze, 1963, р. 142.
(обратно)284
Е. Gilson. La philosophie au Moyen Age. Paris, 1962, р. 638; 640; G. Left. The dissolution of the medieval outlook: An essay on intellectual and spiritual change in the 14’th century. N.Y., 1976.
(обратно)285
U. Dotti. Petrarca е la scoperta della coscienza moderna…, р. 190–191; Е. Garin. Lo storicismo del Novecento…, p. 80.
(обратно)286
G. Billanovich. Gli inizi delia fortuna del Petrarca. Roma, 1947, р. 32.
(обратно)287
U. Dotti. Petrarca е la scoperta della coscienza moderna…, р. 48–51; 119.
(обратно)288
М. Martelli. Petrarca: psicologia е stile. – In: F. Petrarca. Opere. Firenze, 1975, р. XL–XLI.
(обратно)289
G. Gentile. I problemi della scolastica…, р. 144–145; 218–221.
(обратно)290
G. Petronio. Storicità della lirica politica del Petrarca. – In: Studi petrarcheschi, VII, 1961, р. 247–264.
(обратно)291
U. Foscolo. Saggi sopra il Petrarca. Lanciano, 1911, р. 90.
(обратно)292
Дж. Маццини. Эстетика и критика. М., 1976, с. 54–55.
(обратно)293
G. Billanovich. I primi umanisti е le tradizioni dei classici latini. Freiburg, 1953 р. 97.
(обратно)294
F. Schalk. Vorwort. – In: Petrarca 1304–1374. Beitrage zu Werk und Dichtung. Frankfurt а. М., 1975, S. Х.
(обратно)295
G. Gentile. I problemi della scolastica…, р. 142–143.
(обратно)296
G. Bezzola. Introduzione. – In: F. Petrarca. Rime. Milano, 1975, р. 24–25.
(обратно)297
В. Croce. Poesia popolare е poesia d’arte. Bari, 1933, р… 82.
(обратно)298
М. Marti. Nota introduttiva. – In: G. Boccaccio. Decameron. vol. 1. Milano, 1974, р. XIX.
(обратно)299
А. Н. Веселовский. Собрание сочинений, т. 3. СПБ, 1908, с. 127–128.
(обратно)300
F. de Sanctis. Saggio critico sul Petrarca, a cura di N. Gallo, introduzione di N. Sapegno, Einaudi, Torino 1952, р. 55.
(обратно)301
М. Cattaneo. Francesco Petrarca е la lirica d’arte del’200. Torino, 1964, р. V.
(обратно)302
А. Н. Веселовский. Избранные статьи. Л., 1939, с. 273; 264.
(обратно)303
Е.Н. Wilkins. А history of Italian literature…, р. 97.
(обратно)304
Цит. по: U. Foscolo. Saggi sopra il Petrarca…, р. 45.
(обратно)305
Е.Н. Wilkins. А history of Italian literature…, р. 34–35.
(обратно)306
Пер. А. Наймана в кн.: Песни трубадуров. М., 1979, с. 128.
(обратно)307
А. Найман. О поэзии трубадуров. М., 1979, с. 8.
(обратно)308
М. Cattaneo. Francesco Petrarca е la lirica d’arte del’200…, р. VI.
(обратно)309
Е.Н. Wilkins. The invention of the sonnet and other studies in Italian literature. Roma, 1959, р. 11–39; Е.Н. Wilkins. Studies on Petrarch and Boccaccio. Padova, 1978, р. 21–23.
(обратно)310
См. J. Newsom. Francesco Petrarca. Musical settings of his works from Jacopo da Bologna to the present. А checklist. Washington, 1974, р. 1–15).
(обратно)311
L. Forster. The icy fi re. Five studies in European Petrarchism. Cambridge, 1969, р. 3.
(обратно)312
Цит. по: G. di Pino. La presenza del Petrarca nella poesia italiana del novecento. – In: Francesco Petrarca, рére des Renaissances…, р. 63; 65.
(обратно)313
М. Cattaneo. Francesco Petrarca е la lirica d’arte del’200…, р. XII–XIII.
(обратно)314
Н. Г. Елина. Проза «Новой Жизни». – В кн.: Дантовские чтения. М., 1973, с. 149. Правда, в схоластике искали еще и ответов на первые вопросы.
(обратно)315
Цит. по: М. А. Гуковский. Итальянское Возрождение, т. 1. Л., 1947, с. 21.
(обратно)316
Р.О. Kristeller. Der italienische Humanismus und seine Bedeutung. – In: Р. О.
Kristeller. Humanismus und Renaissance. Bd. 2. Munchen, 1976, S. 246.
(обратно)317
Е. Gilson. La philosophie au Moyen Age…, p. 412.
(обратно)318
А. Н. Веселовский. Петрарка в поэтической исповеди «Canzoniere». СПБ, 1912, с. 5.
(обратно)319
К. Burdach. Reformation, Renaissance, Humanismus. Berlin, 1918, S. 110.
(обратно)320
Об этом: Е.Н. Wilkins. А history of Italian literature…, р. 79.
(обратно)321
Е. Kessler. Petrarcas Philologie. – In: Petrarca. 1304–1374. Beitrage zu Werk und Dichtung. Hrsg. von F. Schalk. Frankfurt а. М., 1975. S. 99.
(обратно)322
Н. Nachod, Р. Stern. Vorwort…, S. XLIII.
(обратно)323
Е. Kessler. Petrarcas Philologie…, S. 97.
(обратно)324
И. Н. Голенищев-Кутузов. Данте и предвозрождение. – В кн.: Литература эпохи Возрождения и проблемы всемирной литературы. М., 1967, с. 85.
(обратно)325
О новизне самокомментария Данте: Н. Г. Елина. Проза «Новой Жизни»…, с. 147–150.
(обратно)326
«Петрарка был первым… кто по-настоящему понял классических авторов» (И. Н. Голенищев-Кутузов. Романские литературы. М., 1975, с. 124).
(обратно)327
G. Gentile. I problemi della scolastica…, р. 13–14.
(обратно)328
Н. Nachod, Р. Stern. Vorwort…, S. XLI.
(обратно)329
Е. Garin. Ritratti di umanisti. Firenze, 1967, р. 154. Во внутренних кавычках – слова Петрарки.
(обратно)330
«Что такое Древность? Прежде всего что-то совершенно замечательное» (Н. Л. Конрад. Об эпохе Возрождения. – В кн.: Литература эпохи Возрождения и проблемы всемирной литературы. М., 1967, с. 12).
(обратно)331
Е.Н. Wilkins. Life of Petrarch. Chicago; London, 1961, р. 261.
(обратно)332
Л. М. Баткин. Онтология Марсилио Фичино в связи с общей оценкой ренессансного платонизма. – В кн.: Традиции в истории культуры. М., 1978, с. 146; Р.О. Kristeller. Renaissance concepts of man and other essays. N.Y., 1972, р. 53.
(обратно)333
Р. И. Хлодовский. Гуманизм Данте…, с. 138.
(обратно)334
Francesco Guicciardini. Opere. А cura di Vittorio de Caprariis. Milano-Napoli, 1953, р. 134.
(обратно)335
Francesco Guicciardini. Opere. А cura di Vittorio de Caprariis. Milano-Napoli, 1953, р. 115.
(обратно)336
Мишель Монтень. Опыты. М., 1991, с. 234–235.
(обратно)337
Лорд Болингброк. Письма об изучении и пользе истории. М., 1978, с. 25–26, 218, 220.
(обратно)338
Лорд Болингброк. Письма об изучении и пользе истории. М., 1978, с. 25–26, 218, 220.
(обратно)339
Francesco Guicciardini. Opere…, p. 108.
(обратно)340
Francesco Guicciardini. Opere…, p. 263.
(обратно)341
Francesco Guicciardini. Opere…, p. 107.
(обратно)342
Francesco Guicciardini. Opere…, p. 338.
(обратно)343
Francesco Guicciardini. Opere…, p. 121.
(обратно)344
Francesco Guicciardini. Opere…, p. 98.
(обратно)345
Francesco Guicciardini. Opere…, p. 103.
(обратно)346
Приложение к Заметкам, IX, ibid., р. 145.
(обратно)347
Приложение к Заметкам, IX, ibid., р. 113.
(обратно)348
Приложение к Заметкам, IX, ibid., р. 146.
(обратно)349
Приложение к Заметкам, IX, ibid., р. 122.
(обратно)350
Приложение к Заметкам, IX, ibid., р. 141.
(обратно)351
Приложение к Заметкам, IX, ibid., р. 148.
(обратно)352
Приложение к Заметкам, IX, ibid., р. 105.
(обратно)353
Приложение к Заметкам, IX, ibid., р. 128–129.
(обратно)354
Приложение к Заметкам, IX, ibid., р. 129–130.
(обратно)355
Приложение к Заметкам, IX, ibid., р. 124, 139.
(обратно)356
Приложение к Заметкам, IX, ibid., р. 126, 127.
(обратно)357
Приложение к Заметкам, IX, ibid., р. 6 (Ricordanze).
(обратно)358
Приложение к Заметкам, IX, ibid., р. 241.
(обратно)
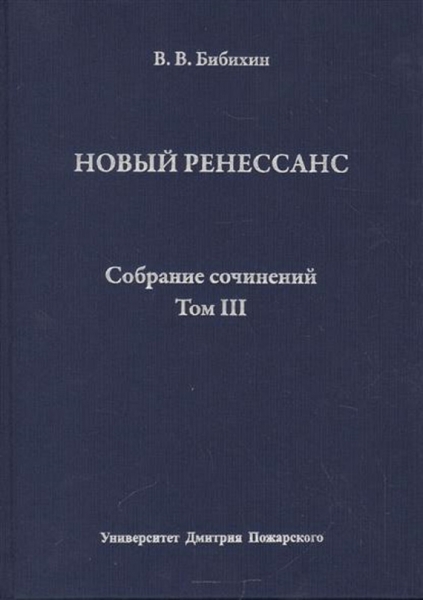

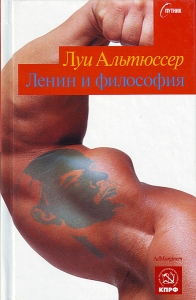
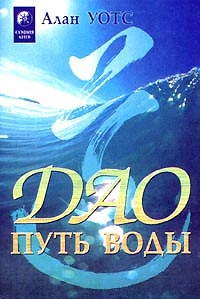

Комментарии к книге «Том III. Новый ренессанс», Владимир Вениаминович Бибихин
Всего 0 комментариев