Владимир Викторович Колесов РУССКАЯ МЕНТАЛЬНОСТЬ В ЯЗЫКЕ И ТЕКСТЕ
Велико незнанье России посреди России... Прежде всего выбросьте из вашей головы все до одного ваши мненья о России, какие у вас ни есть, откажитесь от собственных своих выводов, какие уже успели сделать, представьте себя ровно не знающим ничего и поезжайте как в новую дотоле вам неизвестную землю.
Николай Васильевич Гоголь
Часть 1. ВВЕДЕНИЕ: ПОИСКИ KOHЦOB
Предисловие
Слова Василия Ключевского о том, что «мужчины, начавшие поздно размышлять, обыкновенно пускаются в философию», в полной мере относятся ко многим из наших современников. Не избежал такого соблазна и автор этой книги. Причин тому несколько, они общие для всех нас сегодня.
Оставляя без внимания другое утверждение мудрого историка (что женщины вообще могут мыслить лишь в разговоре, заимствовано у Ивана Сеченова), замечу, что современные философы все решительнее вторгаются в язык и, следовательно, в языкознание, совершая при этом множество ошибок, допуская неверные толкования и т. д. Настало время лингвиста ответить философу, переходя на поле философских рефлексий и исправляя некоторые заблуждения философских мэтров.
Вообще же творческая интуиция русских философов-классиков однонаправленна, несмотря на различные схемы научных школ, к которым они относились. Они, как философы русские, мыслили однозначно, разными словами говоря об одном и том же. Оставим читателю счастливую возможность узнавания отмеченных здесь позиций каждого из философов в отдельности.
Мы говорим о народной русской ментальности, которая сегодня многократно перекрыта давлением извне, влияниями и заимствованиями внешних форм; это привело к некоторому искажению коренного свойства «русскости», но главное — к частому отходу от внутренней логики собственного развития. Это приводило и приводит к постоянному поиску самого себя в глубинах собственного национального сознания, в попытках определиться как народно-самобытный тип. По-видимому, такая задача должна быть решена. Современный мир не социализован государственно, но он и не объединен общностью религии. Национальная идентичность, соединяющая в себе все формы прежней идентичности, сегодня выходит на первый план, и традиционная русская терпимость в этот момент истории становится опасной роскошью.
Мы говорим о русской ментальности как о глубинном корне народной жизни — содержании, которое постоянно ищет новых форм, второпях захватывает чужие, не органичные для нее, ошибаясь и раскаиваясь. Поэтому о ментальности народа можно говорить только в исторической перспективе. Тогда она не конструируется, а воссоздается в действительных своих различиях. В других книгах я пытался описать основные моменты формирования русской ментальности, из которых выделим: аналитическое дробление исходного синкретизма мысли-слова, в результате чего сознание воссоздавало отношение род—виды метонимической связью идеи с вещью: синтез источников развивающейся ментальности (уже в «Домострое» представлено соотношение бытия и быта, сакрального и бытового, христианского и языческого); так совершился полный оборот идеологически важного соотношения между миром реальным (идеальным, помысленным, идейным) и миром действительным (действенным, действующим), от прагматичного номинализма через романтику реализма и рассудочность концептуализма ко взвешенной и устоявшейся в русской традиции точке зрения «русского неореализма».
Наконец, мы говорим о ментальности через рефлектирующую интуицию русских философов, которая основана на глубинных концептах русско-славянского слова. Русские мыслители говорили о деле, о труде, о хозяйстве, о народе — и это «философия общего дела»; средневековая формула «слово и дело» есть составная часть их миросозерцания. Но они же говорили об идеальном, прекрасном, помысленном — об идее, которая связана с тем же словом, из него исходит и в нем обретается. Вот две линии мысли, которые постоянно присутствуют в русском философствовании и оправдывают реальную действительность связки слово—идея и отношения слово—дело.
Верный своему правилу не издавать работу, пока не освоена вся литература по теме, здесь я попал в тяжелое положение. Литература огромна, но каждая новая статья или книга, попавшая в поле моего внимания, доступная мне для чтения, казалась лишь отчасти совпадающей с основными положениями уже написанных глав — и тем самым все более утверждала в мысли, что написаны эти главы не напрасно.
В свое повествование я часто вплетал высказывания, суждения, мнения, афоризмы русских мыслителей и наших современников, которые так или иначе связаны с обсуждаемой проблемой. В них, в этих горячих и точных словах, также выражена русская ментальность во всех ее противоречиях и сложностях.
В книге много цитат (иные неоднократно повторяются), и сделано это намеренно по ряду причин. Не только потому, что лучше не скажешь, но и чтобы отклонить упреки в субъективности личного моего мнения, в конечном счете — в самозванстве и отсебятине. Научное исследование опирается на многие факты, а свидетельства русской интуиции, выраженной в слове, есть непреложный факт. Прямая речь мудрецов — это и доказательство добрых моих намерений в отношении к истине, и правда их личных откровений: через такие «речи» просвечивает направленным светом та самая русская ментальность, которой и посвящена вся книга. Получился собирательный образ русского мыслителя, свои национальные интуиции оформившего в слове. Я выступаю тут как скромный писец, иже не преписах, но не дописах. Таким образом, русская ментальность описана на материале языка и текста, т. е. явленных свидетельств о языке. В шквальном потоке работ по истории русской культуры заметна тенденция современного мышления, не очень приятная в нравственном отношении. Многие идеи, мысли и факты приводятся без отсылки к первоисточникам, как бы свои, выстраданные и потому эмоционально убедительные. Это — вторая причина намеренного цитирования текстов, может быть потому, что тоже соответствует русской ментальности: уважение к авторитету и почтение к выстраданной мысли.
Эта книга писалась трижды, чего следы остались, и читатель непременно их заметит.
Сначала это были заметки на полях прочитанных статей и книг, которые пришлось изучить при работе над «Философией русского слова». По своему содержанию многие материалы не имели отношения к философии языка, но касались близкой тому темы. Тема эта постепенно захватывала, поскольку в свете философии русского слова становились очевидными многие общие черты в становлении и развитии русской духовности. Однако это была не книга, а только ее замысел. Практическое приложение к другой работе.
Потом возникла необходимость ответа на вызов. Работа в зарубежных университетах дала мне возможность ознакомиться с обширной литературой, посвященной русскому национальному характеру, менталитету и даже подсознанию (интересно, правда? Русскому подсознанию). Авторы подобных сочинений, в основном эмигранты бесконечной «третьей волны», зарабатывали себе репутацию путем шельмования покинутой родины — России. Чтение такой литературы вызывало внутренний протест, несогласие с глумливым ее тоном и откровенным искажением как исторических фактов, так и формальной логики изложения. Хотелось ответить на вызов, чтобы объяснить, чтобы — поняли. Со временем стало ясно, что такие труды и создаются не для доказательств, аргументов здесь не выслушивают, спорить не с кем: перед тобой безликие тени. Да и особенности русской ментальности, приведенные для иллюстрации, всюду как на подбор одни и те же и своей избирательностью напоминают высказывания иноземцев о средневековой России; узкий набор черт характера, как правило отрицательных, кочевал из одного отчета в другой. Именно об этом высказался когда-то Пушкин: «Европа в отношении России всегда была столь же невежественна, как и неблагодарна», а Тургенев добавил: «Европа нас ненавидит — вся без исключения; мы одни — и должны остаться одни». Справедливая эта мысль не раз формулировалась и другими словами, не станем к ней возвращаться. Бог с ней, с Европой: пусть цветет, а плоды мы увидим, и скоро. Нам бы в своем разобраться.
Так получалось, что в простом «ответе на вызов» не было бы цельности предмета и законченности повествования, а намерения публицистического тона мне, филологу, претят.
Но вот завершена долгая работа над «Философией русского слова», рукопись на столе, я листаю ее — и вдруг становится ясно, что «прикладное» значение заметок на полях и ответ на вызов, которого никто и не ждет, вырастают в проблему смысла. Смысла, который дорог русскому человеку, как и всякому человеку вообще: кто я? кто мои предки? для чего живу в этом мире? куда идти?
Так и писалась книга — как желание понять и объяснить коренные свойства русской духовности и просвещения, которые на новый лад называют теперь ментальностью и цивилизацией.
Да не смутит читателя эта смесь: прагматичность заметок на полях, публицистичность ответов на вызов, теоретических отвлечений «понять и объяснить». Они сошлись под одним переплетом и в соответствии с замыслом книги отражают основную ее мысль: образ, понятие и символ как части целого — Логоса — в своем единстве могут помочь интуиции человека постичь сущность предмета.
В различных вариантах и с разных точек зрения многие части книги читались как лекции студентам. А к университетским лекциям следует относиться как к лекциям — популярному изложению очень трудных и спорных вопросов. Некоторые из них, возможно, впервые входят в поле внимания читателя и оттого могут показаться сложными. По этому поводу могу припомнить знаменитое обращение к студентам университетского профессора, имя которого хорошо известно и часто встретится здесь — Василия Осиповича Ключевского: «Не я должен быть понятным, но вы — понятливы».
Разумеется, я не претендую на исчерпанность темы, на обоснованность многих выводов, но «своим ничего не надо доказывать» — максима, авторство которой читатель еще определит в своем месте. Одновременно я не отказываю себе в удовольствии быть дидактичным и немножко пристрастным, поскольку хотелось бы достичь того, что выразил как желание эмигрант волны первой Николай Трубецкой: «Мифу о примитивности и варварстве Древней Руси пришел конец»; и не только древней...
Понятно, что многие черты характера, духовности-ментальности, описанные здесь как русские, в разной степени интенсивности и в различном сочетании встречаются и у других народов. Однако я собираю свидетельства о русской ментальности и хотел бы выразить коренные ее особенности в наивозможно полном виде. А сравнения с ментальностями других покажет только, как близки мы друг другу и почему нам не нужно вздориться.
Осталось сказать о технической стороне дела.
Искушенный читатель встретит здесь много ему известного, знакомого или просто предполагаемого заранее. Но не в этом новизна книги, не в том ее суть.
Общий подход здесь — герменевтический, метод — системный анализ, взгляд на дело — исторический.
Герменевтика предполагает толкование текстов, признанных образцовыми в некотором отношении. В нашем случае это результаты рефлексии русских мыслителей разного направления на темы, связанные с развитием русских духа, разума и характера. Описание духа, разума и характера в их завершенности, как бы раз и навсегда данной, было бы непозволительным субъективизмом. Инвариант народного духа явлен в соборном разуме. Его и толкуем. Отсюда, быть может, все издержки изложения: большие цитаты, предпочтение тех или иных авторов и т. д. Иные из них остановят внимание читателя, и он обратится к первоисточникам, которые вполне того заслуживают. Единственный выход, отчасти снимающий недостатки изложения, состоит в проверке категориями языка, его смыслами и подробностями речи.
Системный подход в описании фактов позволяет выйти на уровень предварительных обобщений, оставляя в стороне не подробности, нет (без подробностей нет жизни), но мелкие детали, шорох звуков и пыль времен.
В исторической перспективе все просматривается полнее и, наверное, строже. Поскольку описание ведется с позиции русского «реалиста», то есть через слово, в слове и ради слова, естественно, что семантические переходы во времени и лексические варианты в пространстве существования русского языка лучше проследить в развитии. Тогда очевидней предстанут сущности, необходимые нам: и идея мира, и самый предметный мир.
Глава первая. Ментальность и духовность
Часто ссылаются на русский менталитет, но никто не объяснил, что это такое.
Сергей ШойгуСуждения о менталитете
О народном менталитете в Европе говорят уже более века. Сначала это были социологи и культурологи, изучавшие первобытные племена; они отметили ментальные отличия от современных народов, но говорили о «формах духа» и «ментальных функциях», а не о самом менталитете. Затем психологи обнаружили сходство подобных функций «духа» с мировосприятием ребенка, вступающего в жизнь, и тоже стали говорить о менталитете. В конце 1920-х гг. историки Средневековья указали на некоторые отличия средневекового типа мышления от современного европейского и тоже стали изучать менталитет средневекового человека. Чуть позже тем же занялись и философы, которые обобщали результаты эмпирических исследований, сделав вывод о том, что изучаются формы миросозерцания, отличающиеся от привычных современных, т. е. другие формы общественной мысли. Появились и ошибочные толкования термина менталитет (от mentalis), в котором якобы соединились два слова: mens, mentis ‘ум’ + alis (< alius) ‘иной, другой’, т. е. буквально «чужой ум-разум».
Завершающим моментом вхождения в тему менталитета стали работы лингвистов, которые с конца 1960-х гг. начали изучать проявления менталитета в категориях и формах народных языков. Языковеды и до того изучали связь языка и мышления: замечательные работы Вильгельма фон Гумбольдта явились теоретической основой исследований; в России хорошо известны труды А. А. Потебни и И. А. Бодуэна де Куртенэ. Потебня изучал символические формы языка, а Бодуэн — образные, и это характерно для русской науки. Здесь не занимались уяснением прямолинейной связи слова и понятия, потому что менталитет понимали как проявление духовно-символической связи индивида и общества, в котором он живет, что и представлено в языке.
Осталось сказать, что проблема менталитета как научная была сформулирована сначала во французской научной среде и долгое время разрабатывалась во Франции — в стране классического «концептуализма»; много лет в понятии «менталитет» «суровые критики видят свидетельство французского интеллектуального провинциализма», говорили тогда. Концептуализм есть направление мысли, согласно которому ум—идея лежит в основании всякого исследования, а задачей ученого является определить те связи, которые (в соответствии с известной идеей) существуют между словом-термином и предметом-вещью (слова и вещи). Русский философ Николай Бердяев, сам по матери француз, с интересом отнесся к этим идеям и даже высказал мысль, что именно «русский ментализм скажет новое слово Европе». Форма термина еще французская.
Но метод изучения менталитета (для науки это важно) пришел из германской философии. Французская «эпистема» как единица менталитета носит легковесно-внешний характер, не доходит до глубин подсознательного, а немецкая классическая философия в своем развитии к XX в. дошла до осознания «концепта» как основной единицы ментальности, постигаемой герменевтически. Ментализм сменился менталитетом.
Лингвистическая же обработка полученных в исследовании результатов — заслуга русских и американских филологов. Горячие споры I960—70-х гг. по поводу теорий Ноама Хомского находились еще в русле французской традиции, восходили чуть ли не к идеям XVII в. В России длительная традиция герменевтической работы над словом (Потебня и его школа, петербургские семасиологи) подвела русских филологов к «логическому анализу языка» с точки зрения языка (от слова, а не логически, от понятия). Менталитет обернулся ментальностью, и таким остается в нашей традиции до сих пор. И не случайно.
Проблема возникла в границах французского концептуализма, оформилась в рамках англо-американского номинализма, но окончательно сложилась в пределах германо-русского реализма. Каждое из этих направлений в развитии мысли мы еще обсудим, сейчас же важно отметить вот что.
Ментальность как научная проблема выделяется путем отчуждения собственного «ментализма» на фоне «экзотически»-непривычного; в последние годы много говорят о «восточных цивилизациях». Противопоставление «своего» «чужому» проявляется как контраст типично человеческого выделения: психология мышления воспринимается как форма культуры. Американские ученые доходят до утверждений о чисто биологическом характере ментальности, ее «общечеловеческой сущности»; «ментальный язык» как всеобщий инвариант конкретных языков распался в момент «вавилонского столпотворения», и в «голове человека» каждый концепт мысли связан с определенным нейроном [Пинкер 1994: 212—240]. Якобы все люди мыслят, пользуясь одной и той же концептуальной схемой, представленной как сеть категорий, с помощью которых можно понять и объяснить мир [Лакофф 1987]. А. Н. Логинова допускает, что глубинная ментальность всего человечества включает в себя всеобщие логические нормы и принципы, существующие в форме неосознанных культурных кодов («сенсо-моторные схемы»), которые складываются в онтогенезе (у ребенка) в результате наглядно-образного мышления [Менталитет 1994: 32]. «Всеобщие логические нормы и принципы» даны, а пути к овладению ими заданы, индивидуальные нормы формируются через образно-символическое восприятие мира, каждый раз заново. «Нормы и принципы» существуют от века; но кто их создал?
До сих пор нет всеми принимаемого общего определения менталитета. Вот несколько формулировок, принадлежащих российским ученым. С их помощью попробуем выделить основные признаки понятия «менталитет».
Историк зарубежного Средневековья А. Я. Гуревич: менталитет — это картина мира людей прошлого, которая владеет человеком; она внутренне противоречива, зависит от многих причин (пол, возраст, сословие) и потому лучше говорить о разных ментальностях в отдельности. Это разум отдельных людей в их отношении к остальным. В целом это «магма жизненных установок и моделей поведения, эмоций и настроений, которая опирается на глубинные зоны, присущие данному обществу и культурной традиции» [Ментальность 1989: 454].
Социальные психологи: ментальность есть характерная для конкретной культуры специфика психической жизни людей, обусловленная политически и экономически в данный исторический момент (знания + верования). Это национальный характер в его развитии («народный дух») [Менталитет 1996а: 12—13]. Профессор В. Е. Семенов говорит: менталитет— «исторически сложившееся долговременное умонастроение, единство сознательных и несознательных ценностей, норм, установок в их когнитивном, эмоциональном и поведенческом воплощении, присущее той или иной социальной группе (общности) и ее представителям» [Вассоевич 1998: 79].
Этнолог: менталитет — это система этнических представлений о приоритетах, нормах и моделях поведения в конкретных обстоятельствах, основанная на бессознательных комплексах (этнические константы), которые воспитываются в социальной среде; это система ценностей, которые создают культурную среду обитания [Лурье 1997: 228]. Следовательно, речь идет об этнических задатках, которые рефлексивно обрабатываются в определенной социальной среде.
Культуролог: менталитет — это духовная оснащенность личности, включающая язык, ум, сознание, мысль, «я». Менталитет не обязательно только положительное явление, но менталитет без активной работы языка или мысли предстает как полностью иррациональный. Высший менталитет в его проявлении — осознание без выбора, на уровне инстинкта-интуиции. Культуролог признает, что в узком смысле менталитет — это прежде всего язык, слова [Менталитет 1994: 3—4].
Политолог: менталитет есть «национальный способ видеть мир и действовать соответствующим образом в определенных обстоятельствах», своеобразная «полисистемная по принципу организация, коллективная по трансляции и индивидуальная по реализации установок сознания этноса на однородную реакцию на разнородные вызовы внешнего мира» [Менталитет 1996а: 11, 22].
Историки восточной культуры, филолог и философ: менталитет — наивная картина мира, которая стремится к целостности, а не к полноте (как научная картина); она прагматична, эстетически оформлена и действует в модальности желания (мечта); логика тут на втором плане, поскольку мыслят не понятиями, а прототипами, это конкретное недискурсивное мышление посредством умственных образов-символов [Касевич 1996: 103]. Менталитет, в конечном счете, это «система смысловых, или семантических, полей» [Вассоевич 1998: 79].
Таковы различные толкования менталитета, взятые взаймы у кантианского Запада. Менталитет понимается как психофизическая или социальная энергия, почти брутально сосредоточенная в совокупном организме народа: это не выражение сущности менталитета, а только рефлексия по его поводу. Не удивительно, что и русскую ментальность, не понимая ее сути, чаще описывают отрицательными признаками, как «человеческую стихию» или «переживание стихии как сущности русской души» в «архетипе произвола» [Кантор 1994: 31]. Биологическая сфера коллективного бессознательного с выходом в социальное пространство действующей идеологии, причем определенно классового характера [Барг 1987: 4, 15], — вот что такое менталитет с точки зрения исследователей загадочной русской души и русской идеи. Это феноменологически понятое представление о менталитете как о «фундаментально порождающих (прегнантных) структур и до-предикатного, предпонятийного мышления» [Акчурин 1994: 143].
Однако взаимно дополняющие определения представителей разных наук позволяют выявить некоторые признаки не уловимого сознанием «русского духа», поскольку все эти определения в большинстве своем даны как бы извне самой описываемой ментальности. Это всегда суждение о чужой ментальности.
Менталитет, конечно, не просто социальное, не чисто биологическое, не только психологическое явление, это присущее всем общенациональное проявление неких глубинных представлений о мире, не имеющее, впрочем, каких-либо расовых предрасположений. Ментальные архетипы складываются исторически и постоянно развиваются, и необходимо определить, по каким принципам это осуществляется. Идеал ментальности не есть идея сиюминутного социального наполнения, но важнее другое: часто не учитывается отношение ментальности к языку — ее хранителю. В результате «общечеловеческую ментальность» и конструируют на основе собственного языка, как это делает, в числе других, Стивен Пинкер [1994], который «все земное мышление» сводит к категориям английского языка.
Таким образом, менталитет в своих признаках есть наивно-целостная картина мира в его ценностных ориентирах, существующая длительное время независимо от конкретных экономических и политических условий, основанная на этнических предрасположениях и исторических традициях; проявляется в чувстве, разуме и воле каждого отдельного члена общества на основе общности языка и воспитания и представляет собой часть народной духовной культуры, которая создает этноментальное пространство народа на данной территории его существования.
Определение ментальности
Предварительное определение ментальности можно было бы сформулировать таким образом:
Ментальность есть мировосприятие в категориях и формах родного языка, соединяющее интеллектуальные, волевые и духовные качества национального характера в типичных его свойствах и проявлениях.
Менталитет и ментальность отличаются друг от друга составом своих содержательных форм. Поясним это на терминах.
Латинский корень mens (в родительном падеже mentis) сохранил много значений, метонимически растущих одно из другого по смежности смысла. Так оно, видимо, и происходило в движении мысли: ‘рассудок’ → ‘ум’ (но не ‘разум’, не ‘мудрость’) → ‘мышление’ вообще, а значит и → ‘образ мыслей’, откуда уже → ‘настроение’ → т. е. ‘душевный склад’, который и обозначен как → ‘душа’. Первый круг в развитии идеи завершен, и внутренняя форма слова раскрылась в одном направлении. Начав с простого рассудка, возносимся к «душе» как носительнице всего, уже перед тем явленного в значениях слова.
Но это не конец смысловой содержательности слова, тонко разработанного во многих текстах.
Параллельно развивается идея волевой энергии мыслительной деятельности. Она начинается как ‘представление’, а затем в той же метонимической последовательности развивается в цепочки внутренне зависимых со-значений: ‘представление’ → ‘желание’ → ‘намерение’ → ‘сознание’ (и в том же значении как ‘совместное знание — совесть’) → ‘страсть и гнев’. Естественное заключение в развитии обеих идей: в столкновении с волей мысль рождает деятельную страсть и праведный гнев — как результат своих свершений.
В логическом следовании смыслов замечательно вот что. Рассудок, чувство и воля охватывают все стороны человеческого существа в при-род-ном его существовании; их совокупность и создает личность. Но, взятые вместе и в общем, они же порождают непостижимую совокупность на-род-ных качеств, которую историк Василий Ключевский давно назвал «народным темпераментом», а другой историк, Афанасий Щапов, — «общинными предрасположениями». Явление давно известно, называлось оно — иначе.
Народы Западной Европы из понятия mens удержали исконное его содержание, их менталитет направлен на рассудок и мысль. Таково знаменитое ratio. Европейцы в своих языках закрепили исконный смысл античного концепта, еще не обогащенного христианскими со-значениями.
Народы Восточной Европы в движение родственной мысли включились позднее, и потому в своем восприятии как бы ухватили кончик в данной цепочке смыслов. Настроение, душевный склад и просто душа для них более важные ценности, чем шаловливая в своем непостоянстве мысль или трезвый рассудок. Даже ‘совместное знание’ они предпочли толковать не как ‘сознание’, а следовательно как ‘сознательность’, но как душевное качество высшей ценности — совесть. Латинское слово conscientia и русское совесть одинаково восходят к греческому syneidos — для язычника это психически сознание, для христианина — нравственно совесть.
Одно и то же слово оказалось столь многозначным, что может объяснить всё на свете, во всей противоречивости и взаимной несводимости качеств целых народов и притом, что более всего странно, с указанием личной их предпочтительности к той или иной грани менталитета.
Поэтому и менталитет не то же, что наша ментальность. Немецкий термин Mentalität, английский mentality, испанский mentalidad и прочие также различаются по смыслу. У германских народов менталитет предстает как всего лишь логически обоснованная сторона деятельности, которая связана с рассудком; у романских же, кроме указаний на тип мышления, признается также тип культуры, характеризующей отдельного человека, народ или поколение людей.
Термин восходит не прямо к имени mens, а к образованному от него определению mentalis ‘умственный, рассудочный’, отчего, по-видимому, и получилось уклонение в сторону рассудочной стороны менталитета. Русское слово с абстрагирующим суффиксом -ость уводит от европейского понимания менталитета. Такова вообще судьба заимствуемых русским языком терминов. Абстрактный у нас уживается с отвлеченным, реальный существует при действительном, абсолютный — при полном, хотя происхождением своим русские формы обязаны калькированию латинских слов. Примеров множество. Все двоится в русском понимании вневещественного, ибо так уж исторически сложилось, что необходимо было указать сразу на обе ипостаси одного и того же: на отвлеченно-возвышенное, на идею, и на конкретно житейское, на вещь. Не станем упорствовать в спорах и назовем свой менталитет русским словом ментальность.
Ментальность возникла на фоне менталитета. Ментальность в нашем смысле — нечто душевно-мягкое, понятие скорее этическое, чем логическое, и даже не понятие, а представление, которому определение дать столь трудно, что никто его и не дает. Это взгляд на мир той человечьей породы, которая ratio ставит на присущее ему место, предпочитая logos — то неуловимое единство мысли и чувства, которое и создает, и крепит русские «общинные предрасположения».
Национальный способ выражения и восприятия мира, общества и человека в формах и категориях родного языка, способность истолковывать явления как их сущности и соответственно этому действовать в определённой обстановке — это и есть ментальность.
Установки сознания
Менталитет в узком смысле слова связан с логическими операциями суждения на основе понятий, содержащихся в слове. Но познание осуществляется не только на рассудочном уровне, и это определяет установку русской ментальности на чувственное познание. Двуединство духовной сущности менталитета и разумной сущности духовности собирательно можно назвать ментальностью. В течение тысячелетия восточные славяне привыкали осознавать, что разум и чувство, голова и сердце, не враги друг другу, они в одном теле и служат тебе верно. Англичанин-эмпирик прав: человек как индивидуум бывает разным. Рационалист-француз также прав: человек как вид homo sapiens обладает общими свойствами, в отличие, например, от тараканов. Но прав и русский реалист: человек как род идеален, и только по этой причине достойна изучения его духовность. Так в объемности трехмерного мира, в котором живем, мы ищем следы четвертого измерения, скрытой от наших чувств и понятий меры: концептов национальной ментальности.
Менталитет статичен и внутренне замыкается на себе самом, подобно самому понятийному мышлению, на котором он и основан. Духовность же развивается, пластично укладываясь в изложницы исторического опыта. Русская духовность есть ментальность, понимаемая реалистически, а не номиналистически. Она непременно должна соединять — в действии и в сознании — идеал и вещь. Только таким образом можно преодолеть известную шизоидность западноевропейской культуры, ее «раздвоенность, разрыв между континуальностью мысли и дискретностью языка» [Тульчинский 1996].
Таким образом, понятие «ментальность» следует отличать от понятия психофизического типа (характера, темперамента), от номиналистически понимаемого менталитета (учитывает только логические формы мировосприятия), от духовности в традиционном русском смысле. Мы ищем инвариант национальной ментальности, который опосредованно, через язык и тексты, можно восстановить путем сравнения различных эмпирических данных: национального характера («дух народа»), идеалов, обычаев, эмоций, убеждений и т. д., разделяемых массовым сознанием народа и нашедших свое отражение в его языке.
В подходах к изучению ментальности можно выделить несколько типов.
Логическая установка преобладает на Западе — это установка со стороны идеи, которая заранее признается известной, хотя именуется по-разному: идея Платона — категория Аристотеля — врожденные идеи Декарта — априорные категории Канта — внутренние формы Гумбольдта — понятийные категории филологов XX в. — горизонт ожидания Поппера и т. д.
Этносоциальная установка роднит в принципе различные теории, например западных позитивистов и русских славянофилов: и те и другие говорят о преимуществах некоторых, особых, для них ценных человеческих обществ и отдельных людей — это установка со стороны вещи, а не идеи, со стороны «народа», «человека» и т. д., которые представлены как образцовые, воплощающие «общечеловеческие ценности».
Теория генотипа исходит из утверждения, что в каждом народе существует врожденный генотип, определяющий «расовую» ментальность. Например, Анна Вежбицка уверяет европейского читателя, будто русский генотип предполагает пассивную ориентацию русской этнофилософии, в отличие от активной английской. Основные концепты русской ментальности — душа, судьба, тоска и т. д., а русская фраза выдает мягкий, податливый, женственный характер ментальности. Логическая ошибка состоит в том, что символы народной культуры автор представляет как понятия; понятия можно определить, но символы требуют истолкования.
Психологическая точка зрения указывает на важную роль подсознания в формировании ментальности. Русские философы подчеркивали роль подсознательного в душе русского человека, но разграничивали различные его формы. Они говорили (Николай Лосский) об интуиции чувственной (это инстинкт), интеллектуальной (это собственно интуиция) и мистической (это инспирация — вдохновение, столь важный элемент в проявлении русской духовности). Современные исследователи упрощают дело, когда пытаются «обобщить» проявления народной ментальности в среднем типе психосоматического поведения. «Средний тип» — понятие уклончивое, поэтому трудно согласиться с теми, кто, например, утверждает, что русский народный тип — параноидальный (Игорь Смирнов), эпилептоидный (Ксения Касьянова), интровертный (Карл Юнг) или какой-то еще. Личные свойства характера невозможно распространить на целый народ; с другой стороны, те же характеристики можно перенести на любой вообще народ.
Модные психоаналитические суждения расширяются на фрейдистскую оппозицию «мужское—женское», распространяя на русскую ментальность представление о преобладании в ней «вечно-женственного», что объясняется либо длительным существованием на Руси матриархата, либо сохранением остатков язычества как по преимуществу «женской» религии, либо как-то еще. Эти суждения также исходят из предвзятых «идей» и требуют особого обсуждения.
Языковая модель ментальности отражает основную установку русской философии, интуитивно осознавшей «словесное достоинство» русской ментальности, основанной на логическом развертывании основных концептов народной культуры, которые заложены в генотипе и существуют на уровне подсознания. Важны все стороны указанных здесь подходов к изучению ментальности, но с выделением только языка как основного и главного элемента, способного выразить особенности народной ментальности.
Русская традиция о ментальности
Можно представить, каким путем продвигалась русская мысль в осмыслении национальной ментальности. Это поучительно, поскольку напрямую связано с развитием национального самосознания. В прошлом веке возникло несколько подходов к решению проблемы. Назовем их психологическим, социально-историческим и органическим (природным).
А. П. Щапов все особенности русского народа как типа (то есть в его типичности: так в прошлом веке понималось слово тип) связывает с двумя качествами нервной организации человека: «общая посредственность и медлительность нервно-мозговой возбуждаемости и восприимчивости и проистекавшие из этого по соответствующим психическим законам умственно-социальные следствия. Главнейшее из них то, что наибольшая чувствительность возникает лишь к впечатлениям наиболее напряженным и сильным — изумительным» [Щапов 1908]. Чтобы обосновать свое утверждение, историк нашего старообрядчества использует новейшие для середины XIX в. учения позитивистской психологии (много цитат из трудов английских эмпириков).
Если в процессе познания получается одновременно несколько представлений (запах, вкус, цвет и т. п.), возникает идея предмета, если же их последовательность — то идея движения, т. е. воспринимается не факт, а событие. Так толкуют положение дел умные англичане, и Щапов с ними согласен. Однако при этом он замечает, что для русских важнее второе — идея движения: существенными кажутся им не качество и отношение—свойство в понятии о предмете, т. е. заведомо не факт, а причина и цель, и потому у русских, в отличие, например, от германцев, налицо «господство внешних чувств над разумом». Отсюда, согласно Щапову, понятен особый интерес русского человека к практической «естествоиспытательской» деятельности и неприятие «метафизических отвлеченных размышлений»; для русского имеют значение «чувства семейной, родовой или племенной родственности или связи, чувство общинных предрасположений и стремлений в борьбе с чувствами родового эгоизма, упорное чувство любви и привязанности к родовым преданиям народной эпической старины, чувство пассивной ненависти к угнетавшим народам (например, к немцам), медленная умственная возбуждаемость к прогрессу, происходившему путем пассивной восприимчивости преимущественно к таким прогрессивно-побудительным впечатлениям передовых народов, которые наиболее действуют на чувство, чем на разум, и т. п.». Щапов согласен с мнением, по которому в современной ему Европе славянство — сердце, германство — голова.
Все это, по-видимому (так считает наш историк), связано с условиями внешней жизни восточных славян и с холодным климатом природных их условий. Именно это определило выдающиеся особенности народного характера: терпеливость, неприхотливость, выдержанность, смирение; русский человек «может отличаться спокойным глубокомыслием, не скорыми, но основательными, отчетливыми и строго последовательными выводами мышления, рассудительностью и обдуманностью действий, твердостью и постоянством характера, упорно-твердою энергиею и настойчивостью в практическом труде и начинании», причем в подобных обстоятельствах «люди могут естественно побуждаться к коллективному социальному концентрированию и усилению энергии и деятельности этих своих индивидуальных умственных и нравственных сил», потому что им органически присущ коллективизм. Они предпочитают больше показания чувств, без всякой критики и «без рассудочного анализа их», чем познание «глубокими мыслями, живыми идеями, логическими принципами рассудка». Это задерживало развитие наук и социальное благоустройство, поскольку «одни внешние чувства и память, без развитой силы мышления, разума, весьма мало значат» [Щапов 1908: 111—112, 117—118, 212, 217].
Время и социальные предпочтения наложили на мнение историка свой след. Такое мы еще не раз встретим и не будем слишком строги к личным суждениям людей о недоступном им понимании сути вещей. Уже современники по достоинству оценили мысли Щапова о том, что «необыкновенно медленное развитие понятий отвлеченных, общих начал» связано с «длительным питанием рыбой», отметив что его «заключения о русской цивилизации» XII в. основаны на «измерении мордовских черепов того времени» [Коялович 1997: 451].
Уже из внутренне противоречивых описаний Щапова следует, что в русской ментальности сошлись и действуют как раз две взаимно противоположные силы, материализованные в типе деловом и типе идеальном, предпочитающем слову дело или избирающем слово в ущерб делу. «Типы» не всегда типичны, они могут быть выражением исключений из общего ряда или, как предпочел сказать другой историк, «так называемые типы времени — это лица, на которых застыли наиболее употребительные или модные гримасы, вызванные патологическим состоянием людей известного времени» [Ключевский IX: 363].
Народники Н. К. Михайловский и особенно А. В. Шелгунов еще суровее отнеслись к проявлениям «русского народного духа», но все в той же его области — в сфере познания, в поле ментального.
«Очевидно, что в русском уме есть что-то, что мешает ему идти дальше. Это „что-то“ — идейная пустота», которая связана с «вечной неисходной бедностью со времен Владимира Святого». А ведь «без идей нет прогресса и без идей нет идеалов». «Наша многовековая историческая жизнь была жизнью только факта и бессознательного мышления, двигали нас обстоятельства налево — мы шли налево; двигали направо — шли направо». «Мыслящий класс» — самое слабое место нашей истории, ибо «вся история нашего умственного развития во все ее многовековое существование проходит только в борьбе двух слоев интеллигенции — собирательной посредственности и среднего человека. В этой борьбе и проходит, собственно, вся наша умственная жизнь — жизнь, подчас просто невыносимая, уносящая силы на повторение тысячный раз того, что, казалось, было уже совсем решено и принято. Вот, кажется, уже окончательно решено, что просвещение — свет, а непросвещение — тьма и что нам нужно образование, как можно больше образования, и вдруг внезапно откуда-то хлынет противная волна и раздается клич, что нам не нужно ни образования, ни просвещения, потому что они приносят только вред и создают превратные понятия... Собирательная посредственность опять, значит, подняла голову и, почувствовав свою силу, пытается повернуть жизнь по-новому», хотя сама по себе «собирательная посредственность обычно умничает и желает стать выше всех вокруг» и т. д., и т. п. [Шелгунов 1895: 589, 472, 896, 966, 969]. Понятно, что, говоря о ментальности, Шелгунов осуждает не ее носителей, а тех, кто препятствует их интеллектуальному развитию.
Природно-органическая точка зрения на русскую ментальность хорошо известна: В. О. Ключевский [I: 315] объяснял особенности русского характера влиянием внешней природной среды, начиная, как водится, с русской психологии.
Неустойчивая природа смеется над всякими расчетами русского человека: «своенравие климата и почвы обманывают самые скромные его ожидания, и, привыкнув к этим обманам, расчетливый великоросс любит подчас, очертя голову, выбрать самое что ни на есть безнадежное и нерасчетливое решение, противопоставляя капризу природы каприз собственной отваги. Эта наклонность дразнить счастье, играть в удачу и есть великорусский авось». У русского нет и навыка к постоянному труду, нежданное ненастье приучило его всё делать споро, сразу, неимоверным усилием и напряжением всех сил. «Ни один народ в Европе не способен к такому напряжению труда на короткое время, какое может развить великоросс», но и ровный, размеренный труд ему непривычен. Он воспримет его как работу, как рабский труд, мешающий делу.
Живя удаленными друг от друга деревнями при недостатке общения, великоросс привык к работе в одиночку, и потому он «лучше работает один, когда на него никто не смотрит, и с трудом привыкает к дружному действию общими силами. Он вообще замкнут и осторожен, даже робок, вечно себе на уме, необщителен, лучше сам с собой, чем на людях, лучше в начале дела, когда еще не уверен в себе и в успехе, и хуже в конце, когда уже добьется некоторого успеха и привлечет внимание: неуверенность в себе возбуждает его силы, а успех роняет их. Ему легче одолеть препятствие, опасность, неудачу, чем с тактом и достоинством выдержать успех; легче сделать великое, чем освоиться с мыслью о своем величии. Он принадлежит к тому типу умных людей, которые глупеют от признания своего ума. Словом, великоросс лучше великорусского общества».
Лучше Ключевского не скажешь, а потому продолжим его словами: «Житейские неровности и случайности приучили его больше обсуждать пройденный путь, чем соображать дальнейший, больше оглядываться назад, чем заглядывать вперед... он стал больше осмотрителен, чем предусмотрителен, выучился больше замечать следствия, чем ставить цели, воспитал в себе умение подводить итоги насчет искусства составлять сметы. Это умение и есть то, что мы называем задним умом. Поговорка русский человек задним умом крепок вполне принадлежит великороссу. Но задний ум не то же, что задняя мысль. Своей привычкой колебаться и лавировать между неровностями пути и случайностями жизни великоросс часто производит впечатление непрямоты, неискренности. Великоросс часто думает надвое, и это кажется двоедушием. Он всегда идет к прямой цели, хотя часто и недостаточно обдуманной, но идет, оглядываясь по сторонам, и потому походка его кажется уклончивой и колеблющейся. Ведь лбом стены не прошибешь, и только вороны прямо летают, говорят великорусские пословицы. Природа и судьба вели великоросса так, что приучили его выходить на прямую дорогу окольными путями. Великоросс мыслит и действует, как ходит. Кажется, что можно придумать кривее и извилистее великорусского проселка? Точно змея проползла. А попробуйте пройти прямее: только проплутаете и выйдете на ту же извилистую тропу».
Впоследствии мы проверим эмоциональные характеристики Ключевского, Щапова и Шелгунова на более обширном материале. Каждый из них и социально пристрастен, и лично прав, но одну общую для всех наших авторов ошибку можно указать сразу. Говоря о ментальности русских в «разнообразии национальных складов, или типов», они нет-нет да и сводят разговор к особенностям отдельных людей или сословий или даже поколений. Задача же состоит в определении существенно цельных признаков ментальности, своего рода инварианта народного сознания, как он уясняется из данных языка и рисуется на основе всех проявлений «народного духа».
Мы видим, что подобные общие суждения влекут нас в сторону западноевропейского понимания ментальности, подменяя ментальность менталитетом. Между тем в основе национальной ментальности лежит осознаваемое ее носителями нечто, что можно назвать основной единицей ментальности. У каждого народа она своя, ее ни похитить, ни подделать невозможно. Даже выучив чужой язык, «насильно мил не будешь».
Семен Франк в книге для немецкого читателя дает самое осторожное определение ментальности, предлагая ее инвариант на основе русской культуры XIX в. Он предпочитает говорить о nationale Denkungsart, т. е. о национальной идее (философеме «духовной личностности»), а не о позитивистском взгляде на мир как вещь (Weltanschauung). По его мнению, понятия «народная душа» или «дух народа» так же вредны, как и отвлеченные схемы: философы персонально интуитивно, может быть даже мистически, осознают «общие особенности народного миросозерцания». И тогда «народный дух» предстает в облике симфонической личности, а не механической смесью «коллектива». Апелляция к мистической идее помогает понять, почему «переведение философских интуиций в схоластику понятий (так!) не дает никакого представления о ментальности [Франк 1926: 5—8].
Глубоко справедливо, например, возражение, высказанное Григорием Померанцем против «модели несокрушимо общего национального типа», хотя такая идея «очень крепка как предрассудок, как иллюзия» [Померанц 1985: 93]. Национального типа, и верно, не существует в действительности, но такой тип создан народной идеей, а в этом именно смысле и существует в реальности «иллюзия». Всякая идея — иллюзия, в том числе и высказанная нашим автором. Он сам пишет, что любой «национальный тип» неминуемо «сбивается либо в идеал, лежащий в основе целого культурного круга (а вовсе не одной нации), либо в перечень самых пошлых, бросающихся в глаза черт», извлеченных из расхожих анекдотов. Поверим в этом автору, потому что и сам он на том же удачном материале обнаруживает в русской ментальности множество странных (разумеется, отрицательных) черт. Иллюзия — она для всех иллюзия. Но психологическое оправдание находится: идеалы мы присваиваем себе — «черты» отдаем чертям, то есть недругам и соперникам.
К ментальности ни «тип», ни «идеал», ни самые благословенные «черты» (бывают же и такие) никакого отношения не имеют, и именно потому, что глубинно связаны с языковым ментальным пространством национального сознания, проистекают из него, иногда даже — неожиданно — противореча общепризнанным и осмеянным в анекдотах «чертам» того или иного народа. Но потому-то и описание ментальности имеет лишь косвенное отношение к биологии, психологии, психопатологии и прочим изыскам современной интеллигентской мысли. Все они — внешние контуры того явления, которое становится темой нашего изложения.
Отсутствие ментальности
Но коль скоро в России не было ощущения собственной ментальности, может быть не существовало и самой ментальности? Сейчас я приведу цитату из книги известного славянофила, которая объяснит многие расхождения в толкованиях национального характера и мироощущения.
Возражая западникам 1860-х гг., славянофил Ю. Ф. Самарин заметил: «Мы вправе сказать, что доселе господствует у нас отрицательное воззрение на русскую жизнь; иными словами, ее определяют не столько по тем данным, которые в ней есть, сколько по тем, которых в ней нет и которым, по субъективному убеждению изучающих ее, следовало бы непременно в ней быть», и взгляд такой «необходимо идет от подражательного направления мысли к народному» [Самарин 1996: 501]. Например, один говорит о малом значении личности у нас, а другой — о недостатке «союзного духа и господстве ничем не сдержанной личности»: «В сущности, отрицательность выводов есть выражение неспособности угадать причину своеобразности народной жизни... которой позднее, в эпоху зрелости, предназначено развиться в стройную систему понятий и найти для себя идеальные образцы» [Там же: 507].
Вот такое-то рассмотрение русского обязательно на фоне западноевропейского и становится главной методологической ошибкой многих современных мыслителей. Она присуща людям пристрастным, т. е., по русскому разумению, весьма ущербным, не способным адекватно оценить соотношение между идеей и миром. Но, с другой стороны, это и понятно: сравнивая проявления русского мироощущения с западноевропейским менталитетом, хорошо известным и описанным, всегда придешь к выводу, что подобного менталитета у нас нет, а имеется его эквивалент — ментальность, т. е. менталитет, повенчанный с духовностью.
Все упреки в отсутствии того-этого основаны на подмене понятий ментального (рассудочного) и духовного (идеального), а также на присущей европейскому научному сознанию номиналистической точке зрения: наличие термина предполагает присутствие соответствующей термину идеи, явления. Сказано: «русский менталитет» — и должен быть русский менталитет! А уж что такое менталитет, мы хорошо знаем: у русских его нет? — никуда не годится. Отсталый народ. Вот и вся логика.
Между тем о духовности тоже написано много. Это традиционная тема русской философии, которая (устами Николая Бердяева) призывала развивать присущую русскому характеру душевность до высших степеней ее проявления — до духовности. Современные разговоры о менталитете — это попытка рационализмом ментальности заменить духовность. Духовность онтологична, она предсуществует в русском характере, воспитанная веками, тогда как менталитет предстает в качестве саморефлексии о духовности; ментальность гносеологична. А русское философское миросозерцание именно онтологично. Оно признает реальность как вещного мира, так и вечной идеи. Целостность цельного, понятое как целое, есть основная установка русской ментальности, не допускающая разложения сущностей на дробные доли анализа. Целое не является суммой аналитически явленных своих частей, как полагает ratio.
Контуры духовности столь же реальны, как и границы ментальности, но не для всех они одинаковы и равноценны. В. Н. Сагатовский [1994: 20—21] обобщил различные подходы к пониманию духовной атмосферы как формы «построения души». Безблагодатный структурно-информационный подход: самой духовной атмосферы нет, но она явлена в интерпретациях ее и в ее оценках. Все говорят о душевности и духовности, но в реальности забыли, что это значит. Второй подход — информационно-энергетический, также свойственный нашему времени: утверждают, что жизнь духа излучает особую энергию, которую называют по-разному (Вернадский — ноосферой, Гумилев — пассионарностью, Флоренский — пневмосферой, Лихачев — концептосферой и т. п.). Это как бы призыв вернуться к деятельному проявлению ментальности как миросозерцанию, утраченному в результате подавления информационной агрессией. Третий подход в понимании духовности — объективно-идеалистический: он предполагает энергийность божественной благодати как невидимой неуловимой силы, которая освящает всё сущее (Фаворский; свет — у Франка и Лосского). Это уже прямой акт отчаяния — апелляция к Богу, когда собственных сил для реализации ментальности уже не хватает. «Анатомию души» народа можно постичь не только в его «образе жизни», но и в его идеалах.
Мы еще раз убедились, что традиционные связи народного характера с духовностью как его энергией недостаточны для определения сути и сущности народной ментальности. Хотя с русской точки зрения ментальность и вторична, но она существенна, ибо обратным ходом способствует развитию духовности. Русские философы наметили еще один путь вхождения в народную ментальность.
«Есть люди, для которых слово дух не пустой звук и не мертвое понятие... они знают, что человеку дано внутреннее око», и «где-то в глубине человеческого бессознательного находится то „священное место“, где дремлет первоначальное духовное естество инстинкта», «дух и есть высшее естество инстинкта», а сама «духовность — уверенность, что в собственной душе есть лучшее и худшее, на самом деле лучшее качество и достоинство, чего никто не знает», но знаем мы сами, и потому следует развивать его, «и особенно нам, русским, которым еще предстоит воспитать в себе национальный духовный характер», а в этом деле «сознание есть не первая и не важнейшая ступень жизни, а вторичная, позднейшая и подчиненная» — ментальность вторична [Ильин 3: 252, 399, 407, 415]. Существуют какие-то «неуловимые витамины народного духа», возникающие из неповторимой и неистребимой индивидуальности народа, определяемые «динамикой нашего национального духа»; изучать ее следует «по самым основным фактам русской истории, проследить индивидуальное выражение русского народа, русского государственного инстинкта. Отмести всё второстепенное, наносное, случайное и из основных фактов нашего прошлого сделать основные выводы для нашего будущего» [Солоневич 1997: 19, 30] — выявить инвариант народного духа. В поисках такого инварианта иногда доходят до мистических тонкостей, уже не поддающихся логическим операциям рассудка. Для «познания духовных основ, целей и душевных особенностей русского народа» предлагается выйти «через высшую — духовную или метаисторическую — реальность» и методом исторической симптомологии на подлинно спиритуальной основе проследить развитие особой душевной конфигурации «сущности русского характера и русской истории» — «с помощью понятий и образов настолько всеобъемлющих и духовно емких», насколько это возможно для постижения нового духовно ориентированного сознания [Прокофьев 1995: 9—14] — инвариант народного духа в его отношении к вечному и сущему.
Какими бы неожиданно странными ни казались толкования русской истории и русской духовности — от логико-типологических, всеобъемлюще-универсальных до мистически иррациональных, — общим для них всех обязательно является выделение трех периодов в развитии русской ментальности, а каждая точка зрения выделяет какой-то инвариантно важный момент самой ментальности. Последнее означает, что при реконструкции ментальности-духовности желательно использовать все существующие модели, критически их осмысляя. Что же касается развития в «трех периодах», это естественно-диалектическая точка зрения на процесс становления явления, на переход от старого качества к новому. Весьма условно он просматривается уже из оглашенных мнений: это прогресс развития от внешней ментальности в глубинную духовность.
Такова рабочая гипотеза, из которой следует исходить. Ведь не готовая предметность находится в центре нашего внимания — а движение, развитие, деятельность. Ведь не застывшая формула рассудочного понимания привлекает нас в национальном типе, а многослойный символ и красочный образ, постоянно изменяющейся во времени. Не мысль, а — мир.
Реализм и номинализм
Коснемся темы, которой не миновать, иначе всё дальнейшее останется неясным.
Это тема о двух точках зрения на познание, в истории культуры сыгравших гораздо большую роль, чем различие между «материалистами» и «идеалистами». Всякий мыслитель признает и материю, и идею, другое дело, каким образом он соединяет их в своем философствовании. Когда мы изучаем народную ментальность, важнее выделить расхождения не онтологические (материализм, идеализм), а связанные с теорией познания (реализм, номинализм, концептуализм). И чтобы понять всё различие точек зрения на ментальность, для простоты объяснения воспользуемся «наглядным понятием», как говорил Гегель, — геометрическим образом отвлеченных категорий.
В трехмерном пространстве существования идеальным образом сознания естественно будет триада — треугольник. Так оно и есть. Древние говорили о соотношении равенств Единое—Ум—Душа, христиане — о Троице (Бог Отец—Бог Сын—Бог Дух Святой), современные физики материю понимают как единство
Вещества—Энергии—Информации, а логики, и вслед за ними лингвисты, толкуют такое единство как соотношение Слова—Идеи—Вещи, представляя его в виде семантического треугольника. Наглядно видна зависимость мысли от языка.
В логическом суждении присутствуют три части: Субъект—Связка—Предикат; в европейских языках, на основе которых сложилась современная формальная логика, тоже трехчастное, — предложение: Подлежащее—Связка—Сказуемое. В русском языке связка либо опускается, либо видоизменяется словесно, например: Денек хорош. День есть хорош не русская фраза, но вполне возможны выражения день был хорош, хороший будет денек, денек становился всё лучше и т. д. В форме настоящего времени связка отсутствует, поскольку «настоящее» как настающее есть данное; ситуация присутствия избавляет от лишних слов. Зато вариантность модальностей высказывания велика: целая россыпь предложений, выбирай любое. Такова особенность русского языка, в пользовании которым русский человек свободен в выражении своей мысли и данного чувства. Свободен в своем языке. Логика не давит его мысль, не отчуждает эту мысль от реальности.
Конечно, у каждого компонента триады могли бы быть и другие имена, с помощью которых человеческая мысль пыталась освоить сущностные связи ментального пространства, пребывающие в реальности. Не в действительности, нет (это проявление в вещи и в действии), а — в реальности, т. е. в реализации сущности.
Сущность же связей такова, что всегда в наличии надежная опора горизонтали (Бог Отец, Вещество, Вещь, Субъект, Подлежащее, а у древних — Единое), возносящая вверх вертикаль (Бог Сын, Энергия, Идея, Связка... у древних — Ум) и недостижимая глубина постигаемого (Бог Дух Святой, Информация, Слово, Предикат... у древних — Душа). Выбирая один из вариантов именования, человек поклоняется Богу, Материи или Имени (слову, информации, рекламе... — это нынешнее состояние «культурного» общества), но для реальности (не действительности в действии, а реальности) это всё равно. У Бога много имен, но все они даны человеком.
Однако предпочтение того или иного имени не проходит бесследно. Казалось бы, «что в имени тебе моем» — но нет! Имя — один из предикатов сущего. Смена имени влечет за собою изменение точки зрения.
Тут мы и касаемся древнейшего философского спора о смысле самых общих понятий — универсалий. Существуют ли универсальные идеи наряду и равно с объемностью конкретной вещи, реальны ли универсалии?
«Да» — отвечали реалисты; идеи реальны так же, как реальны вещи; более того, идеи предшествуют вещам, поскольку вещи созданы согласно идее.
«Нет» — отвечали номиналисты; идеи связаны не с вещами, а со своим именем, со словом (латинское потеп значит ‘имя’); идеи действительны постольку, поскольку имеют собственное имя, иначе — только то слово действительно, которое оформляет идею.
Реалист исходит из данного слова и утверждает равноценность идеи и вещи; номиналист исходит из данной вещи и утверждает равноценность идеи и слова, то есть:
Понятно, почему точек зрения две. В действительности нам даны лишь две материальные формы: материальность словесного знака (слово звучит, его можно записать) и телесность вещи. Опираясь на то или другое основание, на вещь или на ее знак, мы и можем выстраивать перспективу ментального, то есть воображаемого, предполагаемого ряда, включая сюда и идею — то, что соединяет вещь и слово, служит связкой между ними. Через идею вещь и слово взаимно понятны.
Но снова, в который раз, имя обманывает. То, что Платон называл идеей — эйдос — есть просто образ; таково и значение греческого слова эйдос. Образ вещи, данный в словесном знаке. Для Аристотеля та же идея уже не образ, а понятие, поскольку греческое слово эйдос имеет и такое значение. Ученый — не поэт, он строит логические связи понятий, пытаясь понять вещь. Поэт же во-ображ-ает вещь, видя и пре-образ-уя ее в слове. Идея Платона и форма Аристотеля представлены как проявления объективно существующих сущностей. Наоборот, Декарт, Кант, а вслед за ними и Гумбольдт говорили о том же самом, о родо-видовом соотношении идеального, с точки зрения человека, который, по определению, такими сущностями уже обладает. Это субъективная позиция, она позволяет переосмыслить как идею Платона (врожденные идеи Декарта), так и форму Аристотеля (категории Канта или внутренняя форма Гумбольдта). Всё опять-таки зависит от языка: идея Платона есть eidos, которому поклоняется реалист — форма Аристотеля есть та же идея, но явленная как forma, которой поклоняется номиналист.
В XX в., когда преобладали феноменологические установки познания, осуществился некий синтез субъективного и объективного; теперь они представлены как идеально-реальное (инвариант в вариантах), но только на понятийном уровне поняты как таковые. Символ и образ как содержательные формы не принимаются во внимание потому, что концептус-понятие феноменологически, путем замещения-подстановки, понимается как концептум-концепт (см. далее) и при этом понимается как глобальная всеобщность. В этом содержится еще одна причина временной победы рассудочного ratio над символическим миром logos'а.
Когда мы говорим «вещь», не следует думать, что имеем в виду конкретную вещь, скажем — стол. Что это не так, показывает история самого славянского слова вещь [Колесов 2004: 537—550], Первоначально вполне книжное (литературное) слово вещь обозначало сложную совмещенность смыслов: одновременно указывало на мысль (идею), выраженную в речи (слово) и представленную как начало действия (дело), в результате которого возникает предмет (тело). Древнерусская «вещь» в общем слове вещь представляет весь семантический треугольник сразу, но дан он с позиции номиналиста (от вещи к идее-слову). На протяжении нескольких столетий представление о «вещи» метонимически вытягивало из слова-образа вещь все его со-значения, в усилии мысли аналитически выстраивая известный теперь семантический треугольник [Колесов 2001]. В результате стали возможны и другие точки зрения на соотношение элементов треугольника; в сознании, в рефлексии об изменяющемся в нем смысле (соотношении частей) треугольник рас-трои-лся, треугольников три, а изменение точек зрения изменяет имена их компонентов:
идеи и вещи в соотношении наполняются новым смыслом, углубляя семантическую перспективу видения (вида, идеи):
символ — 3 — объект
понятие — 2 — предмет
образ — 1 — вещь
где образ и вещь соединяют словесный знак — имя (1), понятие и предмет — слово (2), а идеальные объект и символ — Логос (3). Конкретное, отвлеченное и абстрактное сосуществуют одновременно, именуясь различно.
Точка зрения номиналиста (1), концептуалиста (2) и реалиста (3) взаимно дополняют друг друга, выражая всё новые уровни абстракции в ее приближении к сущности. Ни одна из этих позиций не является абсолютной истиной, и только совместным усилием они создают движение мысли в сторону сущности. В европейской традиции каждый народ взял на себя труд разработать ту или иную точку зрения на общий предмет, и несводимость их друг к другу много столетий являлась причиной раздоров, взаимного непонимания или неявного заимствования (например, Кант заимствовал у английского эмпиризма).
С одной стороны, «вещь» — конкретное тело, инди-вид, с другой — она же идеальное «тело» — вид.
Номиналист в своих суждениях исходит из явленности вещи, индивидуально-конкретной, ради которой он и занимается уяснением связи между идеей и словом. Для него важен факт вещи. Он эмпирик, его интересует действительность как она существует.
Реалист, исходя из материальности словесного знака, с самого начала находится в плену идеи, потому что отношение знака к идее и составляет значение словесного знака, порождая слово. Следовательно, и вещь перед реалистом предстает как отвлеченное нечто, как вид этой вещи, как реальность мысли, а не действительность сермяжного факта. Он — идеалист, и факты ему ни к чему, поскольку он озабочен событием вида, становлением (или развитием) сущности, явленной в данном факте. Его интересует реальность как сущее.
Но как быть нам самим в исследовании ментальности? Ответ почти ясен.
В истории культуры сложилось так, что национальные типы ментальности предрасположены к той или иной точке зрения на универсальное сущее. Для англичан, например, номинализм является естественной позицией чуть ли не с XII в.; для германского племени более свойствен реализм («классический немецкий идеализм»), хотя и не без отклонений в сторону умеренного номинализма, который называют концептуализмом (Кант). Французы занимают промежуточное положение между этими крайностями, с XIII в. их классическая позиция — концептуализм. Рассуждение галльского духа, его знаменитое ratio, исходит из уже готовой идеи, с тем чтобы углубиться в исследование обоих феноменов действительности (реальной действительности) — слова и вещи — во взаимной их связи. Что же касается русской ментальности, то она во многом подобна германской; на традиционные связи германской и славянской ментальности часто указывают, да и предпочтение именно немецкой философии в России не случайно. Исторически русская «позиция» претерпела многие изменения, которые не раз описаны историками, но в качестве осмысленной и окончательно принятой в философствовании была избрана позиция реализма — «новый русский реализм», с легкой руки Николая Лосского именуемый идеал-реализмом. Особенность его в том, что предполагаемое тождество идеи и вещи опрокидывается на слово, имея целью постичь это слово как сущность одновременно и идеи, и вещи. Как Логос.
Конкретный вывод, необходимый для нашего изложения, состоит в следующем.
Для русского реалиста (и всякого вообще идеал-реалиста) заветной целью является поиск единиц национальной ментальности — и он находит их в концепте через символ. Западноевропейские номиналисты во всех их вариантах осуществляют поиск таких единиц в терминах ratio и потому обретают их в концепте через понятие. Выход в концепт через символ, через истолкование символов разного рода, предполагает, конечно, не всегда рассудочно-логическую форму поиска и описания. Поэтому было бы хорошо оставить за этой позицией привычный термин «духовность». Выход в концепт через понятие всегда есть логически строгая операция, и только такая позиция, связанная с ratio непосредственно, — это менталитет в узком смысле слова, менталитет как его понимают на Западе. Однако и в том и в другом случае, и в менталитете и в духовности, содержится и противоположная сторона: духовная сущность менталитета и разумная сущность духовности. Ибо всякая мысль, отмечая тот или иной путь, предполагает некий фон, на котором и возникают национальные предпочтения в формах постижения сущности: духовность явлена на фоне ratio, или менталитет — на фоне духовности. Духовность и менталитет в диалектическом их единстве мы обозначили собирательно как ментальность. Ум и чувство, голова и сердце не враждебны друг другу, они в одном теле. На Руси это знали со времен Нила Сорского (XV в.) и обрели в чеканных формулах Григория Сковороды. И если в дальнейшем изложении нам придется выделять особенности той или иной национальной ментальности, то лишь в релевантных (сущностно разграничительных, выделительных) их компонентах и только как идеальное их свойство.
Итак, в объемности трехмерного мира мы ищем следы четвертого измерения, скрытой от нас меры: концептов национальной ментальности.
Основная единица ментальности
Основная единица ментальности — концепт. Именно на уровне концепта и происходит подмена понятия о ментальности. Концептом называют обычно понятие, и внешне это верно, поскольку латинское слово conceptus и есть ‘понятие’. Но в том же латинском языке есть и слово conceptum, которое значит ‘зерно’ — своего рода росток первообраза, первосмысл, то, что впоследствии способно прорасти и словом, и делом. Вот в этом-то смысле слово концепт мы и станем употреблять, хотя, конечно, не очень удобно смешивать его с другим, хорошо известным «концептом». Но что поделаешь, в русской речи окончания латинских имен — мужского и среднего рода — отпали. Смиримся.
Концепт — единица когнитивной грамматики, которая изучает языковые формы национальной речемысли (от латинского слова cognosco ‘познавать, постигать’).
Концепт — и ментальный генотип, атом генной памяти, в разное время по-разному именованный. Это и архетип, и первообраз, и многое, с тем сходное. История европейской культуры накопила много «синонимов» к обозначению концептума, хотя каждый из них, как и положено синониму, по объему понятия не совпадает со всеми прочими. Идея Платона — категория Аристотеля — врожденные идеи Декарта — априорные категории Канта — внутренние формы Гумбольдта — понятийные категории лингвистов XX в. — горизонт ожидания Поппера и многие другие, им подобные, но внутренне как-то связанные друг с другом термины описывают различные проявления сущности — концептума. Наряду с гео-логическим и био-логическим миром существует и «третий мир» — ноо-сфера со-знания, созданная человеком и создающая человека: концептуальное поле со-знания.
Если весьма условно выделить два взаимозависимых признака, которыми по преимуществу и руководствуется сознание, сопоставляя и оценивая вещь и идею вещи: предмет (по-научному референт R) и «предметное значение» (денотат D), предстанет четыре возможности их взаимного сочетания, согласно математическому правилу распределения двух элементов по двум признакам, с наличием (+) или отсутствием (-) таковых:
Представим, что предмет реально не существует, но признаки его, пусть фантастические, иллюзорные, в сознании людей данной культуры присутствуют. Каждый может представить себе, например, русалку и описать ее по определенным признакам, хотя русалки (не в переносном смысле слова) он нигде не встречал. Попробуйте описать признаки, которыми может отличаться русская кикимора — получится не сводимая в общий образ картина, у каждого своя, хотя, как и в предыдущем случае, кажется нам, что эту самую кикимору мы представляем себе ясно. В диалектном словаре два десятка определений кикиморы, и все разные, но — при общности сходных признаков. Из определенных признаков мы воссоздаем образ того, что явлено только в своих признаках, то есть по сумме типичных качеств. Ясно, что в квадрате 1 у нас — образ.
Но вот имеется и предмет, и его признаки. Мы можем, например, различать мужчину и женщину и на основе личного опыта и известных всем признаков дать определение тому, что такое «женщина». Дать определение... но определение можно дать только понятию, относительно которого мы уверены, что у нас в наличии и объем его, и содержание. Следовательно, квадрат 2 занят другой содержательной формой концептума — понятием. Предмет и его идея соотносимы друг с другом.
В третьем случае есть в наличии предмет, но признаки его неопределенны, зыбки. Да и сам предмет при ближайшем рассмотрении оказывается не тем, за который мы его принимали. Скажем, богиня — и не женщина, и не русалка, но что-то подсказывает нам, нашей интуиции (может быть, форма слова, грамматические его приметы?), что речь идет одновременно и о «женщине» (это не бог, а богиня), и о «русалке» (это определенно не совсем женщина). Как и в первом случае, с русалкой, здесь также возможны речевые замещения: девушку я восторженно назову русалкой, а зрелую женщину — богиней (поэтизм, как поправит нас словарь).
То, что явлено в квадрате 3, — символ. Иногда его назовут «образным понятием», и это тоже верно. Образно через что-то иное символ дает понять смысл совершенно другого. Разнообразие типов символа и всех его проявлений не будем здесь принимать во внимание, потому что говорим мы только о символе в слове.
В трудах, посвященных изучению концептуального поля сознания, мы найдем различные представления о том, что именно в словесном знаке являет нам концепт. Преобладает, разумеется, логическая установка: концепт есть понятие. Даже различая понятие и концепт, некоторые ученые все же сводят концепт только к понятию, отрицая содержательный смысл образа и символа или, на худой конец, признавая за ними вспомогательное значение. Таковы академические издания под общим названием «Логический анализ языка». Здесь представлена, за редкими исключениями, номиналистическая точка зрения на идею и слово, разбираются ключевые слова любой культуры и всякого в принципе языка (например, истина, долг, судьба, добро, зло, закон, порядок, красота, свобода и др.). Они подаются вне времени и пространства как типологические общности, сформированные под знаком понятия-концепта, но на русском текстовом материале.
Возможно и иное представление о ментальности — не со стороны понятия, а со стороны образа (образной картины мира): «Картина мира существует в нашем сознании в довольно смутном виде, в неоформленном и неотрефлектированном состоянии», «она формирует стратегии жизнедеятельности... и цель жизни отдельного человека». Смена культурной парадигмы понимается здесь как момент, когда «новое умо-зрение дает и новую очевидность», как некоторое воспроизведение мира, «субъективный образ объективной реальности», феноменологически представленная модель мира путем развернутого суждения об этом мире, потому что реально концептуальные поля соответствуют естественному членению мира, но только «язык сохранил следы прежней картины мира» [Роль 1988: 27, 149]. Если логическая версия концептума призвана обосновать «общечеловеческий» характер всякого концепта как мыслимого идеала, то версия «картины мира» описывает заключительный момент в развитии национальных концептов, представляя их как состоявшуюся в обыденном сознании и навеки устоявшуюся идею.
Итак, в слове может быть образное, понятийное и символическое содержание. Все ключевые слова культуры в любом развитом языке именно таковы. Мы не один раз встретимся с этим. Рука — в исходном образе просто ‘грабли’, в современном понятии ‘верхняя конечность человека от плечевого сустава до кончиков пальцев’ (уф!), а сверх того и культурный символ: либо символ власти (заимствован из греческого), либо символ труда, трудовой деятельности (а это народное представление о руке: своими руками).
Но что же с квадратом 4? Нет предмета — нет и предметного значения. Полная нелепость, тьма. И верно; но не забудем еще одну математическую истину: «минус на минус дает плюс». Есть еще иррациональные числа — полное чудо для здравого смысла. В четвертом квадрате размещается концепт — концептум, незримая сущность, поначалу явленная в неопределенном образе, затем сгущающаяся до четкого понятия и, наконец, создавшая символ национальной культуры. Концептум есть архетип культуры, тот самый первообраз-первосмысл, который постоянно возобновляет духовные запасы народной ментальности.
И как бы мы ни называли его, ни открещивались под разными предлогами (мистика, идеализм, фантазии), концептум есть, он существует столь же реально, как существуют физические элементарные частицы, которых никто не видел, как существуют гены, которые видят опосредованно, как нечто, что всегда является в образе иного, уже доступного чувству или рассудку — образу или понятию.
Понятие — явленный концепт, тем оно и ценно.
Типичное и основное
О типичности типа мы уже говорили; можно добавить словами Льва Карсавина, что типическое может быть ярким отличием («бросаемость в глаза») или наиболее распространенным качеством («распространением внутреннего качества») в модели «среднего человека» [Карсавин 1997: 31]. То, что бросается в глаза, заметно постороннему, но типичным является как раз внутреннее качество, постороннему недоступное. Когда мы читаем заметки иностранных наблюдателей о России эпохи Средневековья, обескураживает чисто внешнее выделение черт, которые были присущи и самим иноземцам, но проявлявшихся на Руси в очень ярком отличии. Степени качества не сходились, это верно, но качество было то же самое. За всю свою жизнь свирепый Иван Грозный уничтожил в пять раз меньше противников своего самовластия, чем его современник, французский король, за одну только Варфоломеевскую ночь 24 августа 1572 г., однако все иностранные путешественники сотни лет переписывали слова Олеария о том, что московский государь Иван Грозный назван Васильевичем за исключительную свою жестокость. Характерна эта избирательность чувства: русский человек не забыл жестокостей своего царя и постоянно о них рассказывал — жестокость французской короны осталась как бы незамеченной или казалась неважной. Привычное дело.
Так мы подходим к другой стороне типичного, к пониманию «внутреннего качества», постороннему незаметного по той причине, что чужое сознание он оценивает по фактам, а не по сущности его состояния. Но нам не нужны поверхностные характеристики, те общие места, которыми сопровождается всякое описание «русского типа». Подобной клюквы, как заметил Иван Солоневич, много развесила Европа по миру за последние столетия, — видимо, в утешение себе. «Пошлое преобладает в поверхностных рассуждениях иностранцев», — а эти слова Георгия Федотова скажем в утешение себе самим.
Существует ли русский человек «вообще» как тип, а не отдельное лицо? «Конкретный русский, — заметил историк, — не постесняется назвать своего соотечественника идиотом, ослом, бездарностью, не считая нужным сделать оговорку: „Хоть он и русский“ (любопытно, что при отзывах о чужом наблюдается как раз обратное: „Он хороший человек, хоть и жид“)» [Бицилли 1996: 624]. Это типично русское представление о сущности и явлении. Конкретный человек тут предстает как вид русского, при одновременном представлении идеи русского как всеобщего варианта (инварианта) русскости вообще, т. е. как род. Индивида, индивидуального при этом нет, он отсутствует. Называя другого идиотом, ослом или бездарью, человек соотносит один вид с другим, показывая прежде всего свое отношение к лицу и только уж потом намекая на сходство между видами. Никаких оговорок здесь не требуется. Виды — различны, подведение под общий род («хоть он и русский») невозможно. Чувство, движение души направляет логику высказывания, и эта логика безупречна. Чувство не обманывает русского человека и при втором высказывании. Здесь оговорка необходима, потому что речь идет о родовом признаке, который накладывается на конкретного человека тоже как на представителя вида. В традиции русского словоупотребления жид имеет не то же значение, что слова, казалось бы, синонимичные ему: еврей, иудей. Жид — это прежде всего неодобрительное именование скупца, злобного ростовщика, стяжателя. Любая нация в числе своих представителей имеет и жидов — и русская в том числе. Противопоставление «хорошего человека» и «жида» в таком контексте понятно.
Оказывается, в нашем рассуждении присутствует три вида «русскости» (да и любой национальности вообще: рассуждаем не о русском). Есть индивидуально человек, конкретное физическое лицо, которое, соединяя в себе более отвлеченные свойства русского человека, становится представителем вида «русский». Вид — не индивидуум, не лицо, а — личность, которая и в свою очередь в сумме свойств является не конкретно физическим, а социально значимым типом, за своей личиной скрывающим множество усредненных свойств, присущих отдельным русским людям. Личина и есть личность. В старорусском языке личина — перевод слова персона (per se ‘для себя’): маска или, как скажут сегодня, отражение социальной роли человека в обществе. Уже не вещь (личина бестелесна), она заменяет лицо в определенных случаях и потому предстает как идея русскости.
Но где-то в подсознании, глубоко в сердце возникает неизбывное представление о светлом идеале человечности в национальном ее облике. Это лик, который одновременно и традиционный облик идеала, и цель образца. Высшая абстракция русскости, о которой следует помнить, говоря о воплощении идеи личности в идеал лика.
Ну, так о чем же станем мы говорить, рассуждая о русской ментальности? Ясно, что не об отдельном человеке: это проблема био-графии. Но и не об идеале, который сложился в народном сознании, поскольку идеальные цели только подчеркивают пустоту реальности, отсутствие идеального, по крайней мере в степенях их проявления. Будем говорить о среднем моменте нашей тройственной формулы, о национальном типе как виде во всех проявлениях его духовности и характера. Чтобы выразиться доступнее, скажем иначе. Типичное в своих признаках можно видеть в понятии как единице мысли, но понятие есть явленность концепта, который лежит в основе понятия. Таким образом, явленность концепта есть понятие (conceptum в conceptus'е): типичное есть форма основного.
Но тут возникает сразу несколько вторичных вопросов, решить которые необходимо, чтобы впоследствии они не запутывали ясных суждений.
В частности, скачок мысли от индивидуального к видовому — это пропасть, потому что индивидуальный человек веществен, это «предмет», далее неделимый (ин-дивид), тогда как вид выражает предметное значение, выше мы назвали его денотатом. Прыжок же от вида к роду, к идеалу, не столь велик, потому что род и вид одинаково идеальны, они не предметны, а располагаются в сфере идеального. Когда говорят: «Русские — варвары, но вот Иван Иванович руки моет перед едой» (и не спрашивайте почему: известно ведь, что «наиболее культурной страной называется такая, в которой больше всего расходится мыла» — уместна ироническая реплика Михаила Пришвина), — когда такое говорят, то соединяют несоединимое, вид и индивид. Никакой логики тут нет, то же «ощущение чувств», уже не раз опороченное как «русское».
Но наше «среднее» — вид — в своем проявлении соединяет и конкретное (через предметное значение), и абстрактное (через существенные признаки различения), высвечивая, с одной стороны, индивидуальное, а с другой — общее (человеческий род вообще). Если идеальность рода символична (идеал всегда символ), его можно уточнить понятием вида и тем самым осмыслить, понять. Одно другому помогает, чтобы можно было понять. Например, «любовь» как идея есть символ, скрывающий за термином множество смыслов, и когда мы скажем, например, что для русской ментальности характерны любовь, смирение и т. п., над нами просто посмеются: а для кого из человеческого рода эти ценности не важны? Нужно непременно понять, какая именно любовь подразумевается здесь. Непременно не та, о которой девушка говорит подруге: «Любовь, а по-русски сказать секс», и не та, о которой судит парижская проститутка: «А любовь — это русские выдумали, чтобы не платить!»
Даже славянофилы, которым отказывают в строгой логике, не совершали подобной ошибки, не смешивали род и вид, символ и понятие в применении их к конкретному человеку. А ведь для метонимического по существу мышления славянофилов это было бы вполне извинительно: принять часть за целое. Но нет, говорит Юрий Самарин, «смирение и любовь суть свойства человеческой натуры вообще», да и «смирение само по себе, как свойство, может быть достоинством, может быть и пороком» [Самарин 1996: 479, 482]. Есть оттенки и грани, неизбежные в исторической перспективе повороты духовного отношения к тому, что номиналист непременно поставит в основу народного характера, подчиняясь наличности термина («русский человек отличается смирением, терпением...»). Реалист на этом не остановится. За родовым по смыслу гиперонимом (и символом) «любовь» он также увидит видовые различия, которые и объясняют национальный характер данного «свойства». Мы увидим еще, что исторически у нас за общим термином любовь происходило динамическое развертывание идеи любви как «эроса — агапэ — филии» [Хоружий 1994].
Но средняя идея, вид, не есть идея «среднего человека», о котором как об объекте исторического изучения говорил Лев Карсавин, хотя и в условном смысле; он справедливо полагал, что понятие «средний человек» не понятие, а тоже символ. Но в любом случае «исследование духовной культуры покоится на предположении о существовании чего-то общего более или менее значительной группе личностей... Постулат общего является, следовательно, конструктивным моментом во всех известных нам трудах по культурной истории» [Карсавин 1997: 27]. Карсавин один из первых, кто начал такое изучение, и его мнение на сей счет интересно. Вдумаемся в сказанное им.
«Общий фонд существует в каждом члене данной группы», так что «средний человек как бы заключен в каждом реальном представителе своей группы... Следовательно, род средних людей является как бы родом построенных на различных основах систем, частью из тех же элементов. Аналогично отношение между средним человеком и реальным индивидуумом его группы...» «Средний человек» Карсавина — это вид нашей иерархии, но одновременно и род ее же, т. е. сразу и понятие, и символ, вернее сказать так: понятый (ухваченный сознанием) символ. Карсавин поэтому призывает «видеть творческое начало жизни не только в конкретном индивидууме, а и в родовом единстве. Новое в жизни не то, что не уничтожилось, не исчезло в процессе взаимообщения, не случайное, а органически необходимое, раскрывающее смысл истории» [Карсавин 1997: 30, 33]. Перед нами правильная позиция русского реалиста, каким и должен быть русский мыслитель по традиции. «Средний человек» одновременно воплощает в себе и общее, и особенное — и вид вещи, и идею рода. Вспомним историю со словом «вещь». Вещь тоже одновременно и тело, и идея. Они нерасторжимо слиты. Каждый тип выражает свой архе-тип, подобно тому как это происходит в известной ленте Мёбиуса: наружная поверхность переходит во внутреннюю без разрыва движения по плоскости. В таком именно смысле можно и согласиться с символом «средний человек». Под средним типом подразумевается инвариант.
Сомнительно только это словечко — «средний».
Середина и сердце
Надо бы отказаться от этого слова. В русском представлении «средний» — ни то ни се, ни рыба ни мясо, серость; «совсем средний, не черный, не белый, не серый» — говорил Вл. Соловьев. Предельность среднего — ничтожество. Редко когда не услышишь о русском, что он — человек крайностей, не приемлет середины: в своих проявлениях «или Бог — или червь», говоря словами другого классика.
История показывает, почему так сложилось. В России всегда погибал именно средний. Не тот, кто в бою шел первым, вооруженные богатыри, и не тот, кто остался в засаде, не успев вступить в сражение. Погибал незащищенный средний, вступивший в схватку, но не готовый к бою. И в миру погибал средний. С богатого да сильного как возьмешь — и ханский баскак, и княжий тиун его сторонятся; с бедного что возьмешь — гол как сокол. А вот он и средний: и перья есть, и тело нагулял — ощиплем да в котел. Не только середняк «тридцатых годов» за кулака пошел, но всегда так было и осталось в памяти. Слишком заманчивая добыча для власти этот мифический «средний класс»: безоружен, не опасен, а поживиться можно. Так идея «среднего класса» не проходит в России. С одной стороны, в чести герои, с другой — святые во славе, а мужика и нет, забили мужика насмерть. Каждая новая власть, волна за волной, строит на нем свою сытость и деткам своим норовит оставить кусок послаще — чтобы не оказались они где-то в «средних».
Вот и думает статистический «средний человек»: власти нету, и силы нет, сем-ка я придурюсь нищетой перекатной, авось и минует меня эта страсть неподобная... Иногда удавалось, но чаще — нет. Власть не обманешь, она ненасытна, власть, и гребет до конца.
Так и стоит держава — не на человеке стоит, на силе. А между тем давление «цивилизации» налицо, и «все идут к одному — к какому-то среднеевропейскому типу общества и к господству какого-то среднего человека» — не забыть бы пророческих слов Константина Леонтьева.
Даже в русских словах находим мы сложившееся в сознании неприятие всего поверхностно-«среднего». Перебирая антонимы да синонимы русской речи (о примерах — потом), видим, что всюду настойчиво представлено отталкивание от поверхностно-внешнего, от унизительно нижнего (и какие слова: низменный, подлый, пошлый и прочие с тем же смыслом), от постороннего — но не в пользу среднего или вообще середины, а именно в пользу центра, который там, в глубине, защищен от внешнего, от низменного, от чуждого: сердце.
Объемное пространство русского сознания очень дорожит не средним, а вот именно сердцем; на это указывает и облик слова. Только два русских слова с давних времен носят ласково уменьшительный суффикс -ьц(е): солнце и сердце. По-нынешнему сказать — звучало бы так: солнышко да сердечко. Укорененность в сердце поддержана и другими, того же смысла, словами: например, одного корня нутро («нутром чую!») и утроба («в утробе выношен»), — обозначавшими наполненность жизненной силой этой самой «середочки». Не середина в шеренге, но сердце в груди. И отсюда-то, от защищенной силы сердечной, ведет во все стороны русского человека всполохом «играние» крайностями, что предстают той яркой явленностью самого такого нутра, которую посторонний наблюдатель принимает за суть русского характера. Потому что видит явленное, не постигая сути.
«Середина не нужна не потому, что она сама по себе ни на что не годится, — размышлял Лев Шестов. — В мире вообще всякая вещь на что-нибудь да годится. Но середина обманывает, ибо у нее есть собственные начала и собственные концы, и она кажется похожей на всё». Да ведь и «середина не есть всё, не есть даже большая часть всего: сколько бы теорий познания ни написали немцы — мы им не поверим. Мы будем идти к началам, будем идти к концам — хотя почти наверно знаем, что не дойдем ни до начала, ни до конца. И будем утверждать, что истина, в последнем счете, может быть нужнее самой лучшей лжи — хотя, конечно, мы не знаем и, верно, никогда последней истины не узнаем. Уже и то хорошо, что все, задуманные людьми, суррогаты истины — не истина!..» [Шестов 1912: X—XI].
Таким образом, в идеале русского среднее предстает как внутренне глубинное, как инвариант; именно такое среднее и ценится. Не ценится поверхностно выделяющееся, то, что неоправданно бросается в глаза. «Равнинный, степной характер нашей страны наложил свою печать на нашу историю. В природе нашей равнины есть какая-то ненависть ко всему, что перерастает плоскость, ко всему, что слишком возвышается над окружающим. Эта ненависть составляет злой рок нашей жизни. Она периодически сравнивала с землей все то, что над нею вырастало... Теперь разрушается не одно только народное богатство, но и сама духовная культура... И если до этого дойдет, то отрицательная всеобщность и равенство осуществятся у нас в виде совершенно прямой и ровной поверхности: то будет равенство всеобщей нищеты, невежества и дикости в связи с свободой умирать с голода» [Трубецкой 1990: 199—200].
Очень противоречивый и сложный характер.
И трудно дать его описание. Такие описания «легко даются чужому наблюдателю и всегда отзываются вульгарностью для „своего“, имеющего хотя бы смутный опыт глубины и сложности национальной жизни. Хорошо было бы раз навсегда отказаться от однозначных характеристик народной души. Ни один типичный образ, даже самый любимый и распространенный, не может определить всей нации... И если необходима типизация — а в известной мере она необходима для национального самосознания, — то она может опираться скорее на полярные выражения национального характера, между которыми располагается вся шкала переходных типов. Формула нации должна быть дуалистична. Лишь внутренняя напряженность полярностей дает развитие, дает движение — необходимое условие всякой живой жизни» [Федотов 1991: 11—12].
Настоящая картина «ментальности» может раскрыться только в исторической последовательности ее становления, со всеми противоречиями, в которых явлена суть духовности. В отличие от в себе замкнутой, исторически данной ментальности духовность развивается, она задана и чувству, и мысли — в слове.
Исходные признаки русской ментальности
В оценке моральных качеств средневекового русича существует две противоположные точки зрения, одинаково, видимо, недоказательные. Согласно одной из них древнерусский простец чуть ли не ангел совершенно беспорочного свойства и обладает одними лишь положительными чертами; эта точка зрения ведет свое начало от славянофилов и никогда не подвергалась сомнению со стороны их последователей.
Их противники, наоборот, показывали все самые отрицательные свойства восточных славян-язычников, но историки русской церкви при этом подчеркивали высокие моральные качества восточных славян после крещения. Образцом выставлялся монах-отшельник, отгородившийся от мира, истязующий свою плоть, чтобы тем самым выше воспарить духом. Для нашей темы это не герой. «Автономность» существования не давала такому человеку возможности проявить себя как создателя нового типа ментальности, способного внести в общий запас нечто общественно важное. Более того. Основной жанр средневековой повествовательной литературы — житие, — рассказывая как раз о таких подвижниках, долгое время оставался узко церковным жанром — пока в него не ворвался сильный и свежий голос Аввакума, повествующего о действительной жизни подвижника в миру, среди людей и для людей. Мало было создавать всё новые оттенки духовности, нужно было и отражать реальные черты народной ментальности в том виде, как она есть, — что и сделал Аввакум, между прочим изменив характер самого жанра: описывал житие святого как духовное прохождение жизни в животе, т. е. сам о себе. Традиционный жанр жития стал описывать жизни живых людей в проявлении их социального жития. Появился русский роман, на два века ставший учебником жизни как идеал праведного жития. Русский роман — не fiction, как на Западе, сакральность его происхождения сохраняла в нем оттенок возвышенно-идеального. Классический русский роман есть русская философия в начале ее пути. Еще и сегодня Достоевский и Лев Толстой — величайшие русские философы.
Современные авторы также не совпадают во мнениях относительно ментальности древнерусского славянина. Это касается и личности, и текста, на основе которого мы можем себе представить такую личность.
Д. С. Лихачев [1958] рисует нам полнокровную личность, с постоянными изменениями в характере и образе мыслей; эта личность всегда одухотворена высоким помыслом. И ясно почему. Такие личности — лики на заре русской культурной жизни. В литературе Средневековья представлены идеальные типы, которые служили примером для поколений, прошедших с тех пор по земле.
Напротив, для И. П. Смирнова [1991] тот же человек оборачивается не ликом своим, но личиной, по-русски сказать — харей, и потому предстает неприглядным и даже чуть-чуть помешанным. Автор называет такого человека параноидальным типом.
В обоих случаях за ликом и личиной, за духовным и за социальным обликом исчезает действительное лицо человека, которое нам-то и нужно углядеть за всеми ухищрениями обманных движений средневекового автора и его поучительного текста.
Текст культуры и культурный текст
Текст становится предметом особенно тщательного описания и исследования. Древнерусский текст прежде всего, поскольку в Средневековье лежат истоки европейской ментальности.
Тут также возможны различные подходы. Можно ведь сказать культурный текст, а можно и иначе: текст культуры.
Культурный текст скрывает за собою важные культурно-исторические условия своего сложения и существования, тогда как текст культуры обычно определяется в установке исследователя этой культуры — в установке, которая, в свою очередь, еще требует отдельного исследования. Культурный текст конкретен, насыщен деталями, которые необходимо распознать и выявить как доступные нам и необходимые для исследования данные. Текст культуры не обязательно изучается как своеобразно-национальный текст; здесь важнее типологические, психоаналитические, социологические и всякие иные схемы, которые накладываются на изучаемый текст, с тем чтобы дать оценку конкретно-историческому и узко-национальному явлению с точки зрения «общечеловеческих ценностей» (то есть обычно тех, которые разделяет сам автор).
Культурный текст Древней Руси изучает, например, чешская исследовательница Светла Матхаузерова [Матхаузерова 1976]; древнерусский текст как текст культуры изучает, например, эстонский исследователь Ю. М. Лотман [1992].
Они изучают текст как историки литературы, но возможно и более глубокое проникновение в текст, когда помимо непрерывности текста в исследование включается и дискретность слов, которые такой текст составляют. Это уже лингвистическая герменевтика, связанная не с номиналистической, а с реалистической традицией изучения текста [Камчатнов 1995].
Отношение к тексту и слову исторически изменялось. В средневековой Руси текст предстает как essentia ‘сущность’, со стороны идеи; после XVII в. он воспринимается как existentia ‘существование’ в вещном виде. Идеальное растворяется в телесном.
Различия таковы.
В Средневековье текст понимается вещно, как явленность сущности, его надлежит ведать и с-каз-ать (растолковать, раскрыть) как сокровенное и неведомое, как манящую тайну. Следует перечитывать текст, один и тот же Текст, мыслями углубляясь в его первосмысл. Так читают Библию.
Текст ни в коем случае не должен изменяться, но, приспосабливаясь к обстоятельствам, он может и должен меняться в формах. «Слово о полку Игореве» — загадочный текст, как будто даже и утраченный. Великое произведение древности — почему оно не сохранилось? Дело даже не в том, что «монахи его уничтожали», а татары сожгли все списки. ТЕКСТ остался, и он известен: например, как «Задонщина» или как более поздние, стилистически уже иные, его варианты. Прежние варианты потому исчезали, что уже повлияли на свои продолжения, поскольку на эту тему текст уже есть. Он один, а все продолжения «Слова» только его варианты. Варианты прочтения, то есть коллективного восприятия текста во времени. Текст выражает идею, а не отражает реальность. То, что в единственном списке «Слова» XVI в., дошедшем до начала XVIII в., перепутаны были листы, объясняется тем же: последовательность описанных действий не имеет значения, коль скоро сохраняется идея текста. То же и в поздних произведениях. «Домострой» больше века переписывали с дополнениями по мере возникавшей нужды, с поправками и перестановками; это коллективный текст, текст как жанр, текст как образец. «Слово о полку Игореве» и любой древнерусский текст, в том числе «Домострой», представлены не фактом рукописи, а как система, существующая вне человеческой воли, «как ото отцов пошло», как Богом дано от века.
Затем развивается релятивистская теория текста. Всякий текст относителен, его можно критиковать, сравнивать с другими текстами, каждый раз новыми. Текст — всего лишь источник информации, которую достаточно поверхностно знать и не обязательно глубинно ведать; достаточно про-говор-ить хорошо известное, а не сказ-ывать смысл неявленного. Теперь текст не перерабатывается, а пишется новый текст. Так случилось с новгородским «Домостроем», который Сильвестр переделал по-своему, снабдив его авторским «клеймом»: с послесловием, обращением к сыну Анфиму. Текст теперь не система, а норма.
Различие между системой языка (это — сущность) и возникающей на ее основе нормой его употребления (а это — ее явление) состоит в следующем.
Система объективна, существует сама по себе, реально; норма организуется, это не «вещь», а «идея». Святой Кирилл-Константин приложил усилия, чтобы за славянским переводом Писания признали статус достоинства и образца, т. е. соответственно ранга стиля и текста. Первые образцовые тексты действительно были переведены или обработаны. Так, житие Феодосия Печерского — слепок с византийского жития Саввы Освященного, Моление Даниила Заточника — с текстовых формул переводных Изборников 1073 и 1076 гг. То же относится к летописи и к другим каноническим текстам. В Новое время место цельного образца занимает сорганизованнная и мыслимая парадигма, которая представлена и описана в специальных руководствах, грамматиках и словарях, В первую нашу «Грамматику» Мелетия Смотрицкого 1619 г. вошли даже искусственно созданные формы, не подтвержденные системой языка.
Изменялось также понимание многих сакральных явлений, показанных в старых текстах. В Житии Феодосия чудо явлено вещно (неожиданно находят еду в дальнем углу пещеры) — в Житии Сергия Радонежского чудо обретается в слове (Сергий благословляет Дмитрия Донского на победу). Изменяются ключевые символы христианства, это качественно два разных состояния: в Древней Руси — София, в Московской Руси — Троица.
Система допускает варианты. Например, различные сборники поучительных слов Иоанна Златоуста, почитаемого на Руси, изменяются системно, представая как Златоструй в XII в., как Златая Чепь в XIII в., как Измарагд в XIV в. (смарагд — изумруд, служивший увеличительным стеклом), как Маргарит в XVI в. (жемчуг) и т. д. Любопытно развитие внутренней формы в означивании сборника: золотая струя — золотая цепочка — изумруд — жемчужины, от внешнего блеска к содержательной сути (ср. жемчужина поэзии). Сущность текста — инвариант, один, общий, он сохраняется постоянно, но изменяет свои формы, представая в вариантах, в списках и редакциях. В новое время это исключено, право авторства запрещает компиляцию и плагиат, оно требует нового инварианта текста, который создается другим автором. В качестве вариантов выступает тираж.
Преобразование системы в норму вызывало нежелательные последствия, в том числе механическое уничтожение древнерусского запаса текстов. На Красной площади в Москве с XV в. запылали костры из «обветшалых книг».
Ритуальность канона (важно даже то, как работают писцы) сменяется жесткостью новой традиции, допускавшей, в принципе, выбор форм в том или ином стиле, жанре и т. д. Если согласно прежним канонам описание боя давалось вполне однообразно, то у Пушкина, Марлинского или Льва Толстого оно всегда отличается авторским своеобразием в подборе слов и создании образов.
В древнерусских текстах выражена синкретическая цельность характеристики (это идеал подобия, для которого главное — духовность), ибо ценности у всех и для всех одни и те же. В Новое время ценности различаются по интересам, в таких условиях становятся возможными и описания природы, и портреты героев, и авторские отступления, и описание обычных вещей.
В старой литературе обращение к высокому — вечность находится в центре внимания, глаз охватывает направление сверху вниз или снизу вверх, просторы коррелируют с вечностью. В Новое время на фоне торопливо-поверхностных впечатлений развивается горизонтальный вектор право—лево; тут важно осознать явление, не проникая в его сущность. Это порождает впадение в скороговорку низкого стиля и речевую неряшливость. Скоропись сменила торжественный устав.
По всем указанным признакам возможны разновременные переходы и возвращения, взаимные замены, тонкие оттенки и т. д., но в целом, полнотой совпадающих признаков, соединением всех черт противопоставление старого новому осознается явно.
Характерно изменение отношения к художественному тексту в наши дни. Филологи первой половины XX в. текст представляли как исходное нечто априорное понятие, как данность, как готовую в производстве вещь. Семиотики середины века понимали текст как пересечение точке зрения автора и читателя; такой текст каждый раз как бы воссоздается заново, он не только пишется (автором), но и читается авторски как заданный, как идея. С этим же связано широко распространившееся перенесение терминов специальных (текст, контекст, подтекст, затекст) на жизненные ситуации, т. е. вторжение в вещь (основная проблема постмодернизма).
В наши дни возникает стремление прочитывать текст, истолковывая слово. Читатель должен поставить себя на место автора, чтобы понять его идею как осуществленную вещь. Герменевтика — искусство толкования — выходит на первый план при восприятии данного текста в его заданности автором. Вот почему при чтении старых текстов, оценивая их содержание, следует сознавать, что современное восприятие старого произведения («вещи») через старое же «слово» должно стремиться к тому, чтобы его «идею» понять и осмыслить в полном соответствии с тем, что было, как оно было и почему совершилось именно так.
Терминология
Наконец, весьма существенным остается вопрос о терминологии. Дело в том (мы увидим это), что в старых текстах обретается множество слов терминологического значения, которые способны обозначать одно и то же явление или одно и то же понятие. Своеобразие древней литературы в том, что источники (для перевода на славянский язык, да и сами переводы) поступают из разных мест и отражают различные культурные традиции. Под завалами таких терминов обрушилось все Средневековье, будучи вынужденным перейти в Новое время на новый научный язык. То, что прежде переводилось (пословно) или калькировалось (переводилось поморфемно, частями слов), теперь попросту заимствовалось как иностранное слово. Это, разумеется, не самый лучший способ создавать научные термины, что поначалу и осознавалось. Например, Ломоносов придумывал термины на основе русских слов, и они сохранились доселе; чего стоит бессмертное частица — не только вещи или вещества, как полагал сам Ломоносов, но и — теперь — материи в целом. Основанный на русском слове термин потенциально богат развитием — ведь в нем заложен неисчерпаемый по смыслу концепт.
Нам также придется произвести расчистку накопившихся словесных завалов, всякого рода слов частного значения (гипонимов), не собранных еще в системном подчинении к словам родового смысла (гиперонимам); но только гиперонимы могут стать теми абстрактными по смыслу обозначениями, на которых в сознании высвечивается наконец вожделенный концептум.
Проблема терминологии оказывается самой важной в процессе развития русской ментальности. Подчас вообще только из известных нам терминов мы и получаем информацию по нужной нам теме. На смену разрозненным и не сведенным в систему калькам, весьма конкретным по смыслу терминам постепенно приходят выработанные самими славянами философские термины, созданные на основе славянских слов и корней. Процесс ментализации, то есть усвоения христианской символики в категориях и формах славянского языка, есть одновременно и процесс становления новой терминологии, нашего основного источника в изучении ментализации. Особенность славянских литературных языков состоит в том, что они раньше других европейских были созданы на основе народной речи; в этом заслуга братьев Кирилла и Мефодия, еще в IX в. добившихся равноправия славянского языка с латинским и греческим. Концептуальное содержание славянских ключевых слов оказалось заложенным глубже, чем в латинизированной терминологии европейских языков (это одна из внешних причин развития ratio на Западе, который отказался от концептов собственных слов). Но и не только глубже; к сожалению, также и в более древнем варианте: инерционная энергия славянских терминов постоянно задерживала развитие культурных концептов, частенько отставая от жизни.
Предупреждая дальнейшее изложение, припомним и разницу между направлениями средневековой мысли в их отношении к слову, влиятельными и в наше время. Номиналисты не доверяют смыслу слова, а реалисты, напротив, в своих построениях исходят из слова. Поэтому, рассуждая о прошлом, номиналисты конструируют систему как субъективное ее подобие (модель), а реалисты пытаются (с переменным успехом) ее ре-конструироватъ, т. е. воссоздавать в соответствии с ее объективной идеей (образ). О построениях современных структуралистов, они же номиналисты, сказано много и с разных точек зрения различными мыслителями: их одинаково осуждают, например, и Алексей Лосев, и Виктор Шкловский. Личное впечатление автора, на котором он не смеет настаивать, заключается в том, что современный «номиналист», конструируя свою модель, чаще всего лишь переформулирует, излагая другими словами, уже открытые «реалистом» в его реконструкции отношения между идеей и вещью, которые выражены в слове.
Значение языка в этом процессе исключительно велико, в чем мы убедимся неоднократно. Славянофилы верно поняли, что Гегель «всю свою философию извлек из немецкого языка» [Самарин 1996: 490], равно как и Кант — свою [Булгаков 1953]; влияние категорий древнегреческого языка на философию Аристотеля известно давно, а современные философы и не скрывают зависимости своих философских категорий от категорий родного языка. Правда, филологу и сейчас неясно, «язык направляет те или иные психические свойства как индивидуально специфические для соответствующего народа — или наоборот» [Бицилли 1996: 140], но что такая связь между умственным, психическим и вербальным (языковым) существует — это несомненно. Именно язык и делает всеобщим достоянием характерную для данной культуры связь концепта-идеи с вещью-веществом.
Предварительный итог
Таким образом, с определением, исследованием и описанием ментальности происходит то же самое, что и с самой ментальностью. Трудно выйти из круга, в который вовлекает желание понять. Мы осуждены чувствовать или пред-чувствовать, и не больше того. Понять в понятии мы можем только с помощью языка, который, в свою очередь, и сам «прикипел к мысли», зависит от нее и сложной связью соотносится с природным миром вещей, в нашем сознании его подменяя. Идеально мыслимые черты русской ментальности, духовности и характера — мысли, чувства и воли — в обобщенной их сущности предстают совершенно иными, чем их же про-явления в действительности, временами надолго оборачиваясь противоположной своей стороной. Гордость тогда становится гордыней, правда — кривдой, а любовь — ненавистью. И так всегда, и не только у нас. Если и есть какая-нибудь «общечеловеческая ценность», так это она: амбивалентность, взаимообратимость идеальных черт, которые невозможно описывать в ценностных формулах.
Амбивалентность каждой черты определяет возможность предпочтения и выбора, и в этом, видимо, состоит основная добродетель свободного человека: он хочет, он может, он должен выбрать правильный путь. Требовать того же от социально, духовно или физически несвободного человека — несправедливо. Он поставлен в условия, когда выбора нет, и остается одно: выжить, сохраниться... остаться на этой земле.
Но описать всё это в сложностях словесного материала и противоречивых свидетельствах текстов... вот задача. Тут тоже — выбор пути. Приступая к изложению темы, попробуем проникнуть в идеальную сущность «народного духа», быть может, отчасти скрывая телесные его проявления, но лишь потому, что в конечном счете важны идеальные знаки духовности, а не их воплощения в прагматике менталитета.
Глава вторая. Язык и ментальность
Язык есть средство или, лучше, система средств видоизменения или создания мысли.
Александр ПотебняВ соответствии с общим планом изложения классификация феноменов ментального ряда возможна с трех равноценных точек зрения, а именно от слова, от идеи, от вещи (от предметного мира, идея которого воплощена в слове). В такой последовательности мы их и рассмотрим. Это поможет в определении сущностных признаков русской ментальности, потому что только язык усредняет все крайности эмпирического проявления ментальности.
Не следует забывать, что все особенности ментальности, всё, с нею связанное, «отразилось всё и в языке, зеркале народного характера», как уже не первый заметил это Солженицын; мысль, дорогая для русских писателей, но она редко останавливает внимание авторов «русскоязычных», что, может быть, лучше всего оправдывает определение ментальности через язык, данное славянофилами от Хомякова до Солженицына.
Изучение языковой ментальности
Изучение ментальности на материале языка затруднительно до сих пор. Причин много, мешает, в том числе, теоретическая неразработанность проблемы, устойчивое неприятие таких исследований со стороны позитивистски настроенной науки, а также появление трудов, своими результатами дискредитировавших проблему (например, многие очерки Н. Я. Марра).
Первые труды по нашей теме появились на рубеже XIX и XX вв., особенно в начале XX в. И. А. Бодуэн де Куртенэ [1929] активно интересовался влиянием языка на миросозерцание народа и на его «настроение». Он исследовал некоторые грамматические категории, прежде всего категорию рода, в которой видел своеобразные остатки древней и потому особенно устойчивой черты индоевропейских народов.
Одна из первых работ по ментальности — исследование Ф. Н. Финка [1899], который, разумеется, не хотел бы «воспевать гимны» родному — немецкому — языку, но как-то так получается в изложении, что это и есть самый лучший по своей ментальности язык, представляющий германское (в широком смысле) миросозерцание в самом законченном и целостном виде.
Позиция Ф. Н. Финка номиналистична. Всю проблему он сводит к вещи, к конкретному воплощению языка в речи, к индивиду. Этот индивид — современный автору немец. «Дух народа», т. е. родовое, описывается на основе «внутренней формы языка», но поскольку «народ от народа отличается психологически» [Финк 1899: 10], это делается на основании речевой деятельности конкретного человека.
На фоне различных экзотических языков Финк рассматривает индоевропейские (и признаваемые за близкие к ним семитские), оговариваясь, что имеются исключения (курдский и осетинский не столь развиты, как прочие индоевропейские, а венгерский и финский, напротив, максимально к ним приближаются). По «строю» современные славянские языки оказываются близкими к урало-алтайским, английский — к китайскому, а романские языки — к индонезийским, но подобная близость зависит не от природной родственности языковых структур, а от темперамента и других особенностей «среднего» представителя нации. На с. 48 Финк приводит схему, показывающую соотношение языков по типам:
Расположением в схеме определяются все «идеологемы» национального характера вплоть до различий между германским протестантизмом и романской верностью католичеству [Там же: 101]. Немецкий язык оказывается самым выразительным, так что, если переформулировать эту схему концептуально, получится, что германское мировосприятие (die Weltanschauung) ближе всех остальных к сущности, т. е. к концепту, и тем самым концептуально предрасположено к спиритуалистической философии, а славяне, напротив, «живут в символических формах».
В пересказе Карла Юнга «лингвистическая гипотеза Франца Финка» выглядит следующим образом. Структуры отдельных языков «указывают на два основных типа. В первом из них субъект обыкновенно является активным (я его вижу, я его бью); во втором — субъект воспринимает, чувствует, а объект действует (он показывает мне, он побит мною). Первый тип, очевидно, понимает либидо (психическую энергию. — В. К.) как бы исходящим от субъекта, следовательно в его центробежном движении; второй понимает его исходящим от объекта, следовательно в движении центростремительном. Подобная (вторая. — В. К.) структура интравертного типа обнаруживается, в частности, среди некоторых наречий эскимосов» [Юнг 1995: 605—606].
В конечном счете, отличаясь от всех остальных народов, индоевропейцы и семиты оказываются чрезвычайно схожими по ментальности: их объединяет их «всемирно-историческое значение», чем не могут похвалиться остальные народы; однако у семитов высшим проявлением народного духа является религия, а у индоевропейцев — философия, т. е. доминирует либо чувство, либо рассудок. Основное отличие индоевропейского народного духа в осознании роли причинности (каузальности), которая определяется именно особенностями языковой структуры, в частности распространенностью субъективных глагольных форм и наличием падежа субъекта (именительного) [Финк 1899: 98—99]. Эти языки четко противопоставляют субъект и объект, что позволяет выявить активность субъекта в непосредственной деятельности и тем самым точно определить каузальные связи в окружающем мире. Отсюда проистекает (или это определяет) широкое развитие грамматических форм, не ограниченных ни пространственными, ни временными пределами, не привязанных к определенной «вещной» среде, что допускает развитие языка в сторону всё более отвлеченных «умственных» понятий и особых синтаксических (каузальных) связей в высказывании, с распространением «синтетических способов выражения», что и приводит в конце концов к развитию философского сознания.
Философ и лингвист
Философское знание о ментальности глубже лингвистического. Так потому, что философ, исходя из концепта и толкуя его герменевтически, слово держит в напряжении идеи, тогда как лингвист по роду своих занятий обязательно сползает на уровень обозначаемого предмета (вещи). Покажем это различие на двух обширных цитатах из классиков.
Первое высказывание принадлежит философу — Владимиру Соловьеву [1988, 11: 277]; оно лишний раз подчеркивает различие между действительностью и реальностью, между сознанием и совестью — категориями, столь важными для реалиста.
«Тогда как в русском и немецком языках кроме слов реальность, Realität, которые общи им с французским realite и английским reality, будучи взяты из одного общего источника — латинского языка, — тогда, как говорю, в русском и немецком кроме этого общего слова есть особенное коренное слово действительность, Wirklichkeit, так что оба эти сродные, но различные понятия имеют определенное соответствующее выражение, — во французском и английском, напротив, одно слово, обозначающее реальность, служит и для обозначения действительности, так что здесь оба понятия отождествляются или, собственно, понятие действительности исчезает, будучи поглощено понятием реальности. В силу своего языка француз и англичанин могут признавать только реализованную, вещественную действительность, ибо для выражения нереальной собственной действительности у них нет слова. Этому соответствует склонность этих народов придавать значение только тому, что реализовано в твердых, определенных формах. Повлиял ли здесь недостаток языка на характер народного ума, или же, наоборот, реализм народного характера выражается в отсутствии слов для более духовных понятий, ибо ум народный творит себе язык по образу и подобию своему, как бы то ни было, это обстоятельство весьма характеристично. Отождествление существования вообще с существованием вещественным или исключительное признание этого последнего и отрицание всякой вещественной действительности выразилось в английском языке особенно резко в том, что для понятия ничто, nichts в этом языке употребляется слово nothing, которое, собственно, значит ‘не вещь’ или ‘никакая вещь’, и точно так же для понятия нечто или что-нибудь, etwas — слово something, то есть ‘некоторая вещь’. Таким образом, по смыслу этого языка только вещественное бытие, только вещь есть нечто, а то, что не есть вещь, тем самым есть ничто: what is no thing is nothing of course. С таким же грубым реализмом англичанин говорит nobody, somebody, то есть ‘никакого тела’, ‘некоторое тело’ вместо никто, некто. Французский язык представляет эту особенность не так резко (хотя и в нем нечто — quelque chose), но зато в других случаях он еще гораздо беднее английского. Так, он имеет только одно слово conscience для выражения двух столь различных понятий, как сознание и совесть, точно так же существо и бытие выражаются по-французски одним словом etre, а дух и ум — одним словом esprit. Неудивительно, что при такой бедности языка французы не пошли в области философии дальше первых элементов умозрения, установленных Декартом и Мальбраншем; вся последующая их философия состоит из отголосков чужих идей и бесплодного эклектизма. Подобным же образом и англичане вследствие грубого реализма, присущего их уму и выразившегося в их языке, могли разрабатывать только поверхность философских задач, глубочайшие же вопросы умозрения для них как бы совсем не существуют».
Комментарии излишни.
Второе высказывание принадлежит гениальному лингвисту — Николаю Марру, и мы увидим, что его смысловые ассоциации основаны не на концептах, как у Соловьева, а на созвучиях. Иначе говоря, не на содержательных формах, а на форме внешней. Тут комментарии понадобятся (даны в прямых скобках; ключевые слова выделены жирным шрифтом).
«Например, белорусское слово зброя с русским сбруя различно, да являются [оба слова] и терминами различного порядка. Бел. зброя значит 'орудие’, общее понятие [идея], русск. сбруя значит всем хорошо известный предмет [вещь]. Однако оба термина женского рода, т. е. относятся к женской организации первобытного [!] общества. Они, однако, создания той поздней стадии, когда женская организация успешно боролась с мужской организацией [орган?] как противоположностью внутри одного и того же общества и отстаивала за собою ряд хозяйственных отраслей [женская сбруя?], ряд производств и надлежащих общественных ролей. Выходит так, что этой женской организации принадлежало право ездить верхом [сбруя — на лошади] (охота или война верхом), ее собственностью было орудие производства, позднее и общее понятие.
Расхождение огласовки в звуковом выявлении этих уже терминов — наследие недифференцированности губных гласных о <> и в первобытном обществе, в эпохи выработки в производстве уже уточненных звуков [фонем?], непрерывных или длительных песенных гласов (,,гласных“), из них каждый — собственный вклад той или иной группы соучастников одного общего производства [Марр — марксист]. Для белорусского языка, как и для русского, „губная огласовка“ не основная характеристика национальной речи [языка?], а, казалось бы, привходящая. Основная же характеристика белорусского языка — гортанная (а <> а), русского — нёбная (е <> і), что не устраняет нисколько исконности в них губной огласовки [!] и появление ее в целом ряде производственных и социальных терминов. Русским языком губная огласовка (о <> и) освоена в громадном количестве звуковых комплексов (= терминов, = слов), также и белорусским. В комплексе же Русь русский язык сохранил недифференцированное состояние из мышления первобытного общества: этот комплекс обозначает и коллектив производителей (впоследствии племя, нацию), и место производства (впоследствии страну).
Однако губная огласовка j <> и (or <> ur) берет верх многочисленностью применения... Она налицо еще в детерминативе „глагола“, на деле также имени действия, ставшего уже аористом [простое прошедшее время] из будущего — у-мер, о восхождении которого к тотему (= племенному названию шу-мер = ки-мер) речь будет особо... Ср. еще рус. слово и белорус. мова 'язык’ — у белорусов налицо женский род при среднем роде в русском. Это расхождение, однако, лишь стадиальное, поскольку возрастной, так называемый средний род [обозначает социально неполноправных лиц], верховодство молодежи, и женской матриархальной организации труда и хозяйства — дело различных стадий. Ведь и солнце в этом смысле среднего рода, т. е. молодежь, как женская, так и мужская, являлась собственницею астрального имени [сложные ассоциации!], и когда мужская часть стала брать верх, мужская возрастная сила завладела астральным именем, тогда как отроки и парни встали в противоречие и с матриархальной, и с патриархальной организациею, они боролись на два фронта, и по ним оформился внешне так называемый средний род гласным о и гласным е [речь идет об окончаниях: окн-о, пол-е]» [Марр 1935: 9—10].
Вот в какие дебри завели автора его рассуждения, для того только, чтобы обосновать различие между русской и белорусской орфографией в написании одного и того же слова сбруя.
Современные интерпретации
Одного этого примера достаточно для иллюстрации высказанных в адрес лингвистов упреков. Современные работы также весьма приблизительно решают поставленные проблемы.
Так, В. Н. Телия в духе времени интересуется только «обыденным менталитетом русского народа» или даже только языком, изъясняющим «связь мировидения с менталитетом народа»; это проблема прочтения, интерпретации, истолкования ментальности, а не механизма и логики сложения ментальности. Ментальность понимается очень узко как «словозначение, выполняющее функцию символа», в частности только на материале традиционных русских фразеологизмов («образное содержание фразеологизмов» [Телия 1996: 238, 260, 244, 247]), следовательно на уровне явления без углубления в концепт (под концептом представляется только понятие; о понимании московскими лингвистами «концепта» см. реферат [Фрумкина 1995]). Это истолкование лингвистического материала с позиции вещи, чисто номиналистическое; оно отличается от аналогичных работ, например Г. Гачева — типично «реалистичных» (его типология идеальных схем идет от идеи и слова [Гачев 1995]). Непонятно также, почему именно (и только) «анализ русской лексики позволяет сделать выводы об особенностях русского видения мира» до степени «объективной базы, без которой такие рассуждения часто выглядят поверхностными спекуляциями» [Булыгина, Шмелев 1997: 481] — весь язык в целом является носителем народной ментальности.
Известны попытки психологических объяснений основных свойств «русского характера» [Касьянова 1994], но ссылками на «эпилептоидность» или «параноидальность» целого народа (!) тут мало чем поможешь. В старых исследованиях на эту тему упор делался в основном на традиции материальной русской культуры. Русская ментальность в таких работах [Федотов 1991; Лосский 1991; Вышеславцев 1995 и др.] сводится к духовным поискам соборного сознания — своего рода «богословская интуиция» русского народа. «В резкой противоположности манихейству русский стих принимает онтологическую божественность природы, которую мы назвали софийной», это есть «тройственность народной этики», связывающей «ритуальный закон — с Христом, каритативный — с Богоматерью, натуралистический — с Матерью-Землей» [Федотов 1991: 118]. «Трихотомия народной религиозности» противопоставлена дуализму «нашего материального сознания». Подтверждение этой структурной противоположности находим и в средневековом материале [Колесов 2001].
Лингвистический подход к теме
Даже наиболее удачные попытки исследовать русскую ментальность через семантику языка страдают односторонностью выводов.
Например, Анна Вежбицка [1991] заключения о русской ментальности строит на основании статистически более распространенных конструкций — без учета возможных обратных синтаксических типов (следовательно, пристрастно) и описывает их по контрасту с английской формой ментальности (речемысли). Утверждается «пациентивная» (пассивная) ориентация русской «этнофилософии», в отличие от «агентивной» (активной) ориентации английского языка, и такое заключение основано на контекстах вынужденно услужливого характера (письма Марины Цветаевой). Если в данном случае и нет национальной пристрастности, то искажение ментального поля сознания тут налицо. В качестве основных выделяются: повышенная эмоциональность, склонность к фатализму, неконтролируемость событиями (приводится словечко Евтушенко притерпелость), иррациональность сознания (отсутствие каузации событийного ряда, т. е. равнодушие к идее причинности), антирационализм с примером знаменитого русского авось, категоричность моральных суждений в отношении других лиц. В последнем случае приводятся многие русские слова типа мерзавец, негодяй, подлец и т. д. при единственном (якобы) слове других языков, например только scoundrel у англичан. Но и тут обычная подмена тезисов: сравниваются стилистически разные уровни двух словарно богатых языков, причем сознательно исключаются английские слова столь же низкого стиля (их даже больше, чем в русском).
На основе языка Вежбицка учитывает все компоненты, организующие коллективное поле русской ментальности: и психологические, и генные, и культурные, — но под углом зрения слова, которое всегда обобщает. В данном случае ключевые концепты русской ментальности автор определяет в словах душа, судьба и тоска. Однако при точности найденных концептов нельзя говорить об их исчерпывающем списке специально для русской ментальности (с одной стороны) и притом приписывать данное сочетание концептов только русским. Можно указать и другие ментальности с тем же набором. Но, кроме того, те же самые концепты можно истолковать иначе, чем делает автор, не придавая им обязательно осуждающего значения: как душевность, мистически ориентированное отношение к миру, доверчивость и особый склад характера, склонного переносить собственные недостатки на другого — с тем чтобы бороться с пороками как с нежелательными объектами критики.
Наконец, для анализа избраны вовсе не понятийные, а символические константы. Говоря о понятии, автор толкует символы, в то же время упрекая других исследователей за неверное определение базовых прототипов (инвариантов) в исследуемом языке. В целом изучается не русская система ментальности с диалектическими ее противоречиями, но конструируется «средний тип» на основе отталкивания от другой (английской) системы, представляемой как «универсальные человеческие концепты». К тому же, если диалектические противоречия самой системы в исследовании редуцировать, окажется, что никакого развития нет. Есть схема. А схема неинтересна.
Исследования Анны Вежбицкой, замечательные по тонкости анализа конкретных фактов, смелости сопоставлений и по ценным наблюдениям национальной речемысли, по энергии критики в адрес оппонентов, — явление незаурядное. Но логика есть логика. Исследуя национальные формы речемысли, мы не должны забывать о национальном своеобразии каждой системы отдельно.
Сводить их в «общечеловеческий тип» — значит отождествлять с какой-то одной системой, признанной за базовую. Это и есть номиналистическая подмена концепта — понятием. В данном случае, как представляется, свою роль играет исходный принцип изучения. Определим его как не-о-концептуализм, т. е. типично католический подход к согласованному (скоординированному) описанию элементов семантического треугольника: связь словесного знака и вещи исследуется в целях определения концепта-понятия, на который/которое и направлено внимание исследователя. В таком случае мы и ищем, например, признаки цвета (слово) в выражающих их предметах (вещь), ср. у Вежбицкой описание красного, зеленого, синего, коричневого, желтого и прочих как типичных признаков (соответственно) крови (огня), травы, неба, земли, солнца. Сопоставление с известными работами Александра Потебни на ту же тему показывает, что символический заряд всех таких слов носил совершенно иной смысл.
Ошибки всех, изучавших русскую ментальность и русский характер, в том, что они исследовали предмет научно, т. е. на понятийном уровне, который и требует усреднения положительных данных, явленных в рефлексии как факты («факты — воздух ученого»). Между тем «среднее» как раз и несвойственно ни русской ментальности, ни русскому характеру («нраву»: нравится или не нравится). Особенности их создаются на контрастах (Или Бог, или червь!), потому что опираются не на рассудочно однозначное понятие, а на душевный образ или на духовный символ. Сбой, возникающий между объектом исследования и методом, с помощью которого объект изучается, искажает реальные признаки и принципы русской ментальности. Они строятся на других основаниях и пренебрегают аристотелевскими классификациями, столь почитаемыми на Западе (неотомизм).
Например, согласно таким классификациям, добродетель есть золотая середина между двумя крайностями. Например, щедрость — между скупостью и расточительностью, а теплое — между обжигающе-горячим и холодным. В русской ментальности сложилось иное представление об идеальном, согласно ему род есть одновременно и вид, путем удвоения такой ряд организующий. Поэтому щедрость есть расточительность, противопоставленная скупости, а теплое есть (про)хладное в противопоставлении к горячему. Синекдоха направляет нашу мысль, логика чувств и ощущений подчиняется принципам язычески эквиполентного (равно-ценного) противопоставления:
горячий : (теплый — холодный)
скупой : (щедрый — расточительный)
Подобных особенностей в русской ментальности много, и все они, если и не содержатся в основном значении слов, то обязательно расшифрованы в классических текстах.
Ментальные совпадения
Читая отечественных философов, русский человек ловит мысли: всё это я уже знаю, а потому и безусловно согласен с большинством излагаемых ими идеи. «Своим ничего не нужно доказывать», — замечал по этому поводу Бердяев, но вместе с тем «нельзя ничего понять не ,,мое“», — добавлял Розанов. Эту мысль постоянно варьируют русские писатели, оправдывая свою манеру изложения, афористически сжатую и поэтически емкую. Они как бы намекают на хорошо известную истину, скрытую в смысловом зерне (этимоне) русского слова и доступную каждому русскому. «Если нужно что-то доказывать, доказывать ничего не надо» — эти слова Дмитрия Мережковского как нельзя лучше выражают феноменологию русского сознания. Ничего не нужно доказывать логически, потому что логические операции ума раздробляют цельное тело истины и создают иллюзию знания, подавляя естественный порыв человека к познанию нового.
Общие со всеми европейскими языками особенности языка русского являются скорее ментальными, чем собственно лингвистическими. Это проявление общности культуры, культуры «средиземноморского типа», как говорил Потебня, которая восходит к античным временам и обогащена христианскими ценностями.
Вот первое общее. Гений Аристотеля подарил Европе ту великую идею, что мысль и язык взаимозависимы, что идея не может существовать без воплощения в слове, что логическое и языковое представляют собою две стороны одного листа, на котором и записаны знаки культуры. Разорвать их никак нельзя, но их разрезали надвое разделившиеся христианские конфессии. Из формулы
ratio = мысль > ментальность
logos = язык > духовность
католичество извлекло первый член, а православие — второй. Это обусловило и особенности средневековых европейских литератур, и отношение к ним разных слоев общества.
Разумеется, на практическом уровне существования это разбиение не приводило к тому упрощенному состоянию, которое часто приписывают сегодня русским: будто в отличие от логически строгой мысли и прагматической рассудочности западного человека мы обретаемся только на уровне образов и впечатлений и неспособны к разумному решению проблем. Рассудительность и практическая тонкость мысли русского мужика поражает иностранца с XV в., с этим всё в порядке. Речь идет о предпочтениях. Для русского сознания духовно идеальное, возвышающее над бытом важней и значительней приземлено-человеческого рационализма. Дух направляет мысль, а не наоборот.
Не забудем, что ratio и logos представляют собою одно и то же единство логического и лингвистического, мысли и слова, и только выражено оно в латинском или греческом термине. Мы — наследники византийского Логоса, но даже сравнение смыслов греческого и славянского слов, logos и слово, при внешнем их подобии показывает различия, существующие между культурами. Греческий термин образован от глагола со значением 'говорить’, тогда как славянский — от глагола со значением 'слушать’. В греческом слове преобладает идея разумности, того же ratio, тогда как для славянского употребления более характерно значение, связанное с выражением духовного, а не рассудочного знания. В греческом подчеркивается индивидуальная возможность человека распоряжаться своим собственным «логосом», а в славянском указана зависимость личного «мнения» или суждения от общего, соборного восприятия или знания (со-в-местного со-знания) — не личным разумением человека, а неким высшим произволением, в которое надлежит «вслушаться». Такое предпочтение коллективного и возвышенного существенно, оно подчеркивает направленность славянского выбора даже при заимствовании христианских символов. Оказывается, даже при переводе греческого термина славяне заимствовали природно-свое, то, что ближе их духу: «Ratio есть человеческое свойство и особенность; Логос метафизичен и божествен» [Лосев 1991: 215].
Итак, мы живем в логике категорий, выраженных в языке частями речи. Имя существительное — предметность, имя прилагательное — качество, глагол — состояние или действие и т. д.
Вторая особенность европейской культуры в том, что основой информации является текст. Мудрость веков собиралась в тексте, со всеми его символами, образами и понятиями. Через культурный текст человек выходит из природной среды и становится человеком культуры. Через образы личного восприятия и через символы культа он создает понятия своей культуры. Именно тексты сохраняют культурную традицию — в литературных формах языка. По мере того как у народа формировался литературный язык, народ вступал в семью европейских наций. Он получил язык, совершенно необходимый для творчества в слове. Литературный язык — это язык интеллектуального действия. Тем самым, в постоянном совершенствовании Богом данного языка народ и растет духовно. Он становится со-творцом своей собственной ментальности, проникая в ее суть.
Третья особенность европейской культуры — вера в личность. Это самое болезненное и чувствительное место европейца. Возникают рефлексия, угрызения совести, проблемы чести и прочие уклонения от чистого ratio. Личность понемногу выходит из-под контроля общества, но остается в миру, поскольку язык-то один, для всех общий. На первом плане тут — собственные имена, обращения и прочие сложности бытового и сакрального этикета.
Четвертая особенность европейцев также взывает к интуициям и формам творчества, отчужденным от логик. Это — приверженность универсалиям самого разного рода. Универсалии — это самые общие понятия, самые абстрактные категории, которые только могут быть созданы в сознании человека энергией его разума. Их даже нельзя назвать понятиями, потому что это попросту символы. Что такое любовь, судьба, счастье сами по себе? О них у каждого собственное свое представление, образ, замещающий символ в конкретном употреблении и потому понятный мне в данном случае. Образ ярок, но он расплывается, виден мне одному. Символ — всеобщее достояние, но требует истолкования в понятии.
Пятая особенность для нас важнее всех прочих. Все европейские языки суть языки флективного строя: к корню слова у них прибавляются различные суффиксы, флексии (окончания) и т. д., что определяет особенность нашего мышления. Мы мыслим как бы квантами, клочковато кусочками присоединяя всё новые оттенки мысли, постепенно расширяя их всё новыми словами — в дискурсе, в последовательности развития мысли. Мы «лепим» понятия из обрывков образов и символов, которые у нас под руками. Любое слово в действительности — наслоение сложившихся со временем со-значений. Действительность... Веками накапливались части слова, здесь их восемь в последовательности наложения на исходный многозначный корень дѣ — со значениями "касаться, говорить, делать" и т. д.
В отличие от других европейских языков русский сохранил парадигму склонения и усовершенствовал ее; это позволяет строить высказывание за счет простого видоизменения одного и того же слова, заменяя, как говорил Константин Аксаков, «целую толпу предлогов», с помощью которых выражают различные синтаксические связи.
Главная особенность такого языка заключается в том, что для него характерна множественность форм. Всё существует в вариантах, тогда как сущность категории предстает как абсолютный ин-вариант (смысл формы). По-русски мы можем сказать: вот слово мужского рода в форме именительного падежа множественного числа; это категория-инвариант. Форм же несколько, они различаются окончаниями: и во́лосы, и волоса́, а также столы и соседи черти — выражение одного ин-варианта посредством нескольких вариантов. Форма подвижна, переменчива, многолика — смысл один, и на нем крепится категория. Многообразие форм при общности смысла простегивает наш язык, давая нам свободу выражения, но смиряя волю смысла. Смысл — достояние всеобщее, форма — всегда твоя. Проявление соборности в языке.
То, перед чем мы встаем теперь со своей свободой выбора вариантов, — это проблема стиля. Наличие вариантов дает возможность выбрать стилистически нужные формы. В «Руслане и Людмиле» Пушкин говорит о герое в разные моменты его борьбы с Черномором: «и щиплет волосы порой» — волосинку за волосинкой; «седые вяжет волоса» — тут уж сразу все хватает в длань. Стиль создает красоту слога, не разрушая смысла языка. Но такая свобода не беспредельна; стиль определяется контекстом, а свобода выбора ограничивается нормой. Важно не только сказать красиво, но и сказать правильно. Русская норма — не жесткий стандарт, как в некоторых западных литературных языках. Русскую фразу можно сказать по-разному, порядок слов будет разный, но всегда понятный. Там подлежащим начинаем, сказуемым продолжаем, дополнением заканчиваем. Русская норма как русская мысль — свободна.
Ничего не нужно доказывать
«Без всяких оговорок можно согласиться с мнением Гумбольдта, что каждый язык есть своеобразное мировидение» — эти слова замечательного лингвиста И. А. Бодуэна де Куртенэ определяют работу по изучению русской ментальности.
Обстоятельства социальной, политической и культурной жизни русских людей на протяжении тысячелетия обусловили основные принципы мировосприятия и народной идеологии — мировоззрения.
Долгий период «двойничества» и мировоззренческого дуализма, сказавшихся и на сложении чисто русской веры — Православия, и на необходимости выбирать из двух зол меньшее, и противоречия, возникавшие между природной и социальной средой обитания, и дестабилизация общества в пользу государства, и тяжелая рука этого государства — крепкого и сильного хозяина земли Русской, — таковы в кратком перечислении только некоторые особенности русской жизни.
Существуя в трехмерном пространстве физически, духовная ипостась русского человека обреталась в психологическом и идейном дуализме, а это выстраивало исторически насыщавшуюся фактами и событиями культурную парадигму: двоичная оппозиция в единстве с третьим, не всегда «лишним». Мир удвоен в сознании, но реально он все-таки троичен, и от человека зависит, будет ли эта тройственность рас-троена или ус-троена, будет ли пространство (в широком смысле — в том числе и ментальное пространство) расширяться метонимически смежностью ряда как чин или станет расти иерархически вверх, наращивая мощь и силу как сан. Разумеется, «генная память» народа — его ментальность, формировавшаяся в течение многих веков, — рачительно откладывалась в словесном знаке, который и обслуживал каждого в соответствии с его уровнем чувства или интеллекта: в сказочном повествовании для маленьких, в пословичных выражениях для несмышленых или в каждом отдельном слове, таинственную силу которого мог раскрыть только мудрый.
Рассматривая особенности русской ментальности в том виде, как она представлена в фактах языка, не следует понимать дело так, что только и именно русским присуще то или иное свойство ума, чувства или характера. Однако в целях экономии места при изложении ментальных особенностей русского человека до поры до времени мы не станем приводить никаких сравнений с ментальностью других народов (соответственно и языков); черт сходства значительно больше, чем различий. Очень трудно сделать это сегодня, когда изощренный национализм («заблуждение агрессивного шовинизма», по меткому слову Николая Трубецкого), и особенно «малых народов» с их «национальным комплексом неполноценности» (Сергей Левицкий), ревниво следит за всякой попыткой определить реальные заслуги и достойную силу великого народа.
Если путь развития русской ментальности проследить на достаточно большой дуге исторического движения мысли, легко обнаружить самую общую закономерность: русское самосознание, как, очевидно, и самосознание любого народа, отражало реальное отношение человека как к себе самому, так и к другому человеку и к миру в целом. На этом, как известно, строится парадигма добродетелей и пороков, например у Владимира Соловьева. Личное самосознание никогда не выходит за пределы коллективного, соборного, откладываясь в терминах языка и затем, будучи определено, постепенно сгущаясь в научной рефлексии о народной речемысли. Это было ясно уже славянофилам — первым, кто хотел обозначить специфические особенности русской ментальности в формах языка. К сожалению, построение грамматики по «русскому типу», предложенное К. С. Аксаковым, создание словаря по «русскому типу», предложенное программой А. С. Шишкова, русской идеологии, предложенной некоторыми проектами А. С. Хомякова, не нашли осуществления. К сожалению, потому что за усреднено-европейскими, идущими от античной традиции, свершениями — словарями, грамматиками и идеями — остались неосуществленными попытки выявить и обозначить основные параметры русской ментальности — через адекватные ей формы идеологии, грамматики, словаря, т. е. на основе общей ментальной программы, исторически созданной предками.
Со славянофилами легко «бороться», потому что в основе их философствования лежит самородное слово, не высушенное еще до тонкости термина; оно кажется слишком субъективным — «легковесным». Один из них, Алексей Хомяков, справедливо сказал: «Язык наш, м[илостивые] г[осудари], в его вещественной наружности и звуках есть покров такой прозрачный, что сквозь него просвечивается постоянно умственное движение, созидающее его. Несмотря на долгие годы, которые он уже прожил, и на те исторические случайности, которые его отчасти исказили или обеднили, он и теперь еще для мысли — тело органическое, вполне покорное духу, а не искусственная чешуя, в которой мысль еле может двигаться, чтобы какими-то условными знаками пробудить мысль чужую». Такова исходная точка русского философствования, которая, отталкиваясь от слова, через поэзию и беллетристику, затем — через публицистику, к концу XIX в. оформилась в первые системы русской философии.
На основе постоянных столкновений с «внешним» миром происходила специализация общих установок философствования. Например, исходный синкретизм Логоса постепенно — в сознании же — аналитически раскладывался на составляющие его компоненты: мысль—слово—дело (и как результат дела — вещь, полученная в тройственной деятельности мысли—слова—дела). Если не пугаться мистического якобы подтекста этой чисто аналитической процедуры членения целого (в данном случае — русского представления о Логосе), то можно заметить, в чем заключается трагедия русской ментальности: происходило последовательное отчуждение первоначально ясных и взаимно увязанных соответствий, поскольку в качестве существующей самостоятельно мысль не точно соотносится с эквивалентным ей словом и не всегда соответствует делу. Каждый волен выбрать для себя то, что он признает главным как олицетворяющее
Логос — мысль, слово или дело. Тем не менее подобные столкновения на протяжении веков позволяли обогащать содержание философской мысли путем обновления ее форм. Отсюда известная продуктивность только тех ученых-гуманитариев, которые понимали необходимость и признавали неизбежность нового синтеза славянской и западноевропейской научной мысли. Чистые западники и чистые славянофилы оказывались бесплодными, оставались на уровне или критики, или публицистики.
Глагол, а не имя
Следует напомнить характерные особенности русского языка, так или иначе отражающие ментальные характеристики сознания. Это важно сделать хотя бы потому, что «,,славянство“ есть исключительно лингвистическое понятие. При помощи языка личность обнаруживает свой внутренний мир». Так утверждал выдающийся филолог и философ Николай Трубецкой в 1930-е годы. Не вдаваясь в подробности, перечислим эти особенности, предполагая, что каждую из них можно изучить самостоятельно и на очень большом материале.
В центре русской грамматики находится не имя, а глагол, обозначающий в высказывании действие. Именно с глагольных основ «снимаются» отвлеченные значения и создаются отвлеченные имена типа мышление или то же действие — с помощью самых разных суффиксов.
Русский язык четко различает время внутреннее и время внешнее, т. е. категорию глагольного вида и категорию глагольного времени. Само по себе действие протекает независимо от позиции говорящего, и глагольный вид передает различные оттенки длительности или завершенности действия. Точка зрения говорящего определяет то же действие относительно момента речи: прошедшее, настоящее и будущее, причем (что естественно) настоящее не имеет формы совершенного вида, поскольку настоящее длится, а будущее нельзя передать с помощью простого несовершенного вида. Субъект и объект разведены в сознании через глагольную форму, которая с помощью другой категории — категории залога — еще больше уточняет характер соотношения между субъектом и объектом.
Качество как основная категория в плане характеристики вещного мира, качество, но не количество влечет законченностью и разнообразием радужных форм; через признак выявляется каждое новое качество, привлекающее внимание своей неповторимостью; отвлеченные имена точно также образуются с помощью адъективных основ, а самостоятельная категория имени прилагательного, выразительно представленная самостоятельной частью речи, формируется в русском языке начиная с древнейших времен.
В качестве связочного и вообще — предикативно осмысленного выступает глагол быть, а не глаголы иметь или хотеть, как во многих западноевропейских языках. Установка на глагол бытийственного значения во многом определила характер русской философии, о чем не один раз говорили, например, В. С. Соловьев и Н. А. Бердяев.
В русском языке нет артиклей, что, в свою очередь, привело к размыванию границ между узуальными употреблениями имен. Если англ. а table связано, главным образом, с выражением понятия о столе или представления о нем же, то же слово с определенным артиклем the table уже вполне определенно указывает конкретно на данный стол, на эту плоскость стола, на эту столешницу, на предмет. Разведение в сознании двух уровней «семантической связки» — вещи и понятия, как они отражены в слове, делает англичанина стихийным «номиналистом», тогда как некоторая размытость границ между вещью и понятием об этой вещи у русских прямо-таки направляет их в сторону «реализма». На первый взгляд неожиданный, такой вывод вполне оправдан исторически, не случайно этим вопросом интересовался А. А. Потебня, а из западных ученых — автор семантического треугольника Готлоб Фреге. Да, «мысль направлена словом», эти слова Потебни никогда не потеряют своего значения.
Неопределенность высказывания, фиксируемая большим количеством неопределенных местоимений и различных синтаксических конструкций, в свою очередь повышает некоторую уклончивость и размытость русской мысли, скользящей по яркости образа и пугливо сторонящейся понятийного скальпеля. Сказать до конца ясно — прямо — значит открыться до времени и тем самым обезоружить себя. Изобилие наречных и местоименных форм помогает до поры спрятаться за словом: «Русские говорят громко там, — иронизировал А. И. Герцен, — где другие говорят тихо, и совсем не говорят там, где другие говорят громко».
Застенчивое уклонение от метафоры тоже определяется основной установкой словаря на метонимические переносные значения в слове; категория одушевленности — остаток древнего языческого анимизма — также препятствует созданию оригинальной авторской метафоры, — разумеется, такой метафоры, которая оказалась бы понятной другим носителям языка. Постмодернистские изыски неприемлемы для русского сознания.
Вежливая уклончивость проявляется и в том, что славянский императив не есть, собственно, повелительное наклонение, он восходит к древней форме оптатива — пожелательного наклонения.
Отношение к другому проявляется не в наглом приказе или хозяйском повелении, но в пожелании, что высказываемое будет принято к сведению. В известном смысле оживлением этой формы становится в наши дни широкое распространение формул типа хотелось бы, чтобы...; некоторые, вот, говорят, что... и т. п.
Совсем наоборот, в отношении к себе самому русский человек излишне категоричен, свое собственное мнение он признает за истину в последней инстанции, что всегда — с XVI в. — поражало иностранных наблюдателей. Иностранец обязательно оговорится: мне кажется, что...; я думаю, что...; кажется, будто... и т. п., в то время как русский, пользуясь формами родного языка, строит свое высказывание без помощи всякого рода уклончивых шифтеров, поскольку категоричность личной точки зрения не требует, на его взгляд, никаких антимоний: а я ведь говорил!
Категоричность самоутверждения и «бытовой нигилизм» находят себе поддержку в способности русского языка строить отрицание таким образом, что каждое отдельное слово высказывания отрицается само по себе: никто никогда ничего не видел; никто ничего никому не должен. Англичанин или француз употребит только одно отрицание — скорее всего при объекте, ради которого, собственно, и делается подобное заявление.
Плеоназм как особенность русской речи — весьма серьезная проблема и в наши дни. Он проявляется в самом различном виде, засоряя речь ненужными определениями, но вместе с тем и помогая усилить высказывание эмоционально: основная установка на то, чтобы убедить, а не доказать, поскольку «очевидность только тогда не требует доказательств, когда она очевидна» [Трубецкой 1995: 79].
Диалог
Все указанные особенности русского языка, формирующие ментальность и обыденное сознание русского человека, определяются установкой на характер общения: во всех случаях преобладает, будучи типичным проявлением речемысли, не монолог-размышление (который воспринимается как признак помешанности или юродивости), а активно протекающий диалог, в котором и рождается обоюдно приемлемая мысль. Эмоция убеждения важнее логики доказательства, поскольку назначение подобного диалога вовсе не в передаче информации: не коммуникативный аспект речи кажется существенно важным в диалоге, а речемыслительный, формирующий это высказывание. Мысль соборно рождается в думе, с той лишь разницей, что не индивидуальная мысль направлена словом, а что «думу строит слово»: по старому различию смысла у слов дума и мысль мыслит каждый сам по себе, думу же думают вместе, и дума — важнее мысли, поскольку как законченное воплощение мысли дума освящена признанием Другого. Своя правда удостоверяется правдой собеседника, и с этого момента становится истиной для всех.
Речь идет именно о диалоге как основной форме мышления. В исторической перспективе третий всегда лишний. Местоимение третьего лица он, она, оно, они формируется довольно поздно на основе указательного в значении "тот, другой" — который находится вдали, вне диалога. До сих пор в выражении: Третьим будешь? — звучит тоска напарника, который в силу необходимости должен прибегать к содействию постороннего, третьего. Глагольные формы в настоящем и прошедшем времени, как много их ни было, долгое время не различали второго и третьего лица, потому что в конкретном диалоге третий не принимал участия, а высказываться об отсутствующем не было принято до XVII в.
Собирательная множественность объектов (нерасчлененная множественность) особенно хорошо представлена в отношении к людям, к человеческому коллективу, который ценностно воспринимается в своей цельности: народ, толпа, полк, люди... Многочисленные формы множественного числа сохраняют исходный смысл собирательности или нерасчлененной множественности, что характерно для имен мужского рода, ср.: браты, братья, братия, также листы—листья, города, волоса́—во́лосы и т. п.
С течением времени происходило интенсивное отделение парадигмы единственного числа от парадигмы числа множественного; имена склоняются различным образом, причем в парадигме множественного числа окончания не различают уже имена по грамматическому роду. Происходит как бы разведение вещественного и понятийного значения в слове, причем идентифицирующее значение обычно связано с формой единственного числа, а отвлеченные имена вообще выступают только в этой форме. Происходит разведение смысла и по формам: дух или даже Дух, но ду́хи и духи́. На характере множественности завязывается категория определенности, в которой нуждается устная речь, обычно широко использующая, например, акцентные маркеры речи, ср. уже приведенные формы типа волоса́—во́лосы с противопоставлением по степени определенности в отношении объекта.
Высказывание
Восхождение «по родам» постоянно приводило к порождению все новых и новых гиперонимов — слов родового смысла, и этот процесс — непрестанный процесс воссоздания символов и воплощения их сущностей (концептов) в содержательных формах слова. Для русского сознания характерно построение синтетических моделей высказывания, что также отражает устремленность к целому, а не к аналитически данным его частям. Отсюда даже символический образ предстает как основная манифестация понятия, своего рода понятие, которое воссоздается постоянно путем наложения образа на известный символ. Обратим внимание: не существует, а постоянно воссоздается, что и сближает точку зрения русского философа (например, А. А. Потебни) с мнением В. фон Гумбольдта о языке как энергии действия, а не его результата.
Безличные, неопределенно-личные, обобщенно-личные и прочие типы предложений создают совершенно уникальное, непереводимое подчас на другие языки, представление о зыбком внешнем мире, который является своего рода отражением мира другого, реального, существующего в сознании человека до встречи с миром внешним. Отсюда многочисленные конструкции типа про батарею Тушина было забыто, неопределенные выражения вроде бывает, ладно, давай-давай и т. п. Такой неопределенности высказывания способствует и синкретизм союзов, союзных слов: союз когда передает нерасчлененную идею и времени, и условия, а там, где условие, неизбежно присутствует и цель; для русского сознания условие вообще предпочтительнее причины — чисто внешней, субъективно определяемой характеристики действия (прит-чина Бердяева), потому что на самом-то деле цель важнее условия, поэтому и условие предстает в русской фразе как словесно определенная и обозначенная вспомогательным словом причина. Относительно условия уславливаются словом, тогда как причина есть всего лишь задним числом приписанное (приткнутое) событию или действию то же самое условие.
Своего обсуждения требует и вопрос о формировании русских сложных предложений, об активности словообразовательных процессов в русском языке с определенного лишь времени. Словообразовательные парадигмы, модели и гнезда в русском языке развиваются почти одновременно со стабилизацией и формальной специализацией различных типов сложноподчиненных предложений (гипотаксиса). Происходило это в XVII в., когда вполне обозначилось направление развития мысли в сторону концептуализма (формирование идентифицирующего значения в отдельном слове-знаке) и потребовались синтаксические средства для обслуживания малоактивных до этого типов логического суждения. Все типы придаточных сгущались на основе сопряжения трех признаков высказывания, также весьма малозначимых в предшествующий период: из модальности, определенности и предикативности (единый предикативный центр высказывания вместо соединенных согласованием множественных предикативов) постепенно выявлялись различные типы придаточных предложений, помогавших выстроить семантическую перспективу высказывания; поэтому первоначально только в целостном высказывании они и могли выступать совместно.
Таковы основные признаки русской ментальности, проявляющиеся в русском языке. В дальнейшем мы коснемся подробнее тех или иных сторон этого процесса порождения языковых форм, сейчас же отметим основное: становление ментальности определялось развитием самого языка, и специальных размышлений заслуживает вопрос: язык развивает формы ментальности или же, наоборот, развитие ментальности, явленной в каких-то иных формах, руководило изменениями, происходящими в языке и определяло направление его развития? Ответ, видимо, будет прост: в общем масштабе действий мысль и язык развиваются параллельно и совместно, но для каждого отдельного человека, вступающего в ментальное пространство русской речи, «мысль направлена словом» (см. также: [Трубецкой 1995: 192—207]).
Символичность
Обсуждение феномена «слово» подвело к важному выводу. Символ есть не только и не просто знак, но — в другом существенном смысле — также и высшая содержательная
форма этого знака. Символ есть символ, А = А. Триипостасность символа — в понимании ли древнерусских книжников, или современных семиотиков — это последовательно развивавшееся представление о символе как основном компоненте культурной парадигмы.
Рассматривая символ как содержательную форму слова, мы одновременно замечаем, как изменялось представление о символе-знаке. В средневековой христианской культуре таким символом, знамен-ующим сущность сущего, является вещь; в Новое время в качестве символа-знака выступает само слово как форма (германская феноменология), как структура (французский концептуализм), как «контейнер» (американский прагматизм) или просто как смысл (русский неореализм). Постмодернизм, постструктурализм, вообще все, что post idem, «после этого», в качестве символа избирают уже не вещь, ставшую объектом моделирования, и не знак, возросший до слова, но идею во всех ее воплощениях: идею как образ, как понятие, как символ. Это, конечно, не значит, что в борьбе реализма, исходящего из слова, и номинализма, исходящего из вещи, победил концептуализм, исходящий из помысленной идеи. Это значит, что в гармонии компонентов смыслового триединства все точки зрения одинаково существенны, поскольку лишь совместно они создают адекватный действительности мир концепта, различными мнениями восполняя объект изучения до его цельности. Содержательные формы концепта, явленные в слове, суть аналитически представленный сам концепт, т. е. одновременно и явление сущности, и анализ сущности. Онтологическое и гносеологическое сливаются в самовыражении через семантическую глубину слова (знака).
В современном представлении мысль (= идея, = концепт) амбивалентны, т. е. одинаково обращены и к реальности, и к знаку. Культура, насыщенная знанием, в познании (связь «слово—идея») нуждается так же, как и в сознании (связь «идея—вещь»), т. е. согласует все их взаимные действия в процессе познания. Диалектика особенного (идея) заключается в синтезе частного (вещь) и общего (слово).
Итак, имя становится словом в своем приближении к Логосу. Внутренняя противоречивость в оформлении смысла или в наполнении смыслом формы в диалектических переходах от одного к другому — от содержания к форме или от формы к содержанию; содержание порождает свою форму, форма создает содержание. Знак непрерывно наполняется содержательными формами концепта, который тем самым пластично входит в трехмерное пространство явления: широта объема в предметном значении и высота содержания в значении слова обогащается глубиной содержательных форм, которые и создают третий мир культуры — из культа, ментальность — из мысли и сущность — из духа.
Теория как логическая последовательность доказательств достоверна тогда, когда она соответствует исторической логике фактов. Факты соответствуют теории. Общий очерк результатов, достигнутых средневековой рефлексией, сводится к следующему.
На исходе Средневековья завершилось формирование сознания как функции мысли: ясность рассудка и покой души в совместном постижении сущего в его существовании, в постижении общего на основе индивидуального. Со-знание предстает как совместное знание, а совместным может быть только общее, соборное и притом — свое.
Каждый из трех моментов становления нового качества в явленности концепта выделяется только ему присущими особенностями предъявления. Продуктивность ментализации стала возможной только на номиналистической основе с точки зрения «от вещи»; укоренение концептов христианской культуры — идей — в славянском слове являлось основной целью номинализма, поскольку ментализация есть процесс насыщения словесного знака (имени) культурным символом. Согласование возникшего в результате этого символа-идеи с вещью есть процесс идеации вещи, результатом которой становилось выявление концепта в его национальных признаках. Эту работу исполнил основанный на неоплатонических идеях философский реализм, что, в свою очередь, привело к замене мифологии идеологией — поскольку основной целью реализма является соотнесение уже обнаруженной в слове идеи с соответствующим ей объектом («вещью»). Наконец, не получивший законченного развития концептуализм (возвращение к номинализму через преодоление реализма) был ориентирован на рационально-прагматическое согласование слова, заряженного идеей (раннесредневековый символизм), с вещью, отчужденной в идею (образ эпохи зрелого Средневековья); однако движение в эту сторону, в сторону всеохватного сопряжения всех элементов Логоса, в начале XIX в. было приостановлено влиянием классической немецкой философии, уже вполне осознанно вернувшей русскую мысль к реализму.
Изменения в языке полностью подтверждают данную последовательность восхождения к концепту. Они материально удостоверяют процесс ментального развития, который иначе было бы трудно объективировать как реальный.
Древнерусская ментализация потребовала коренной переработки наличных языковых форм, которые могли бы стать материальным субстратом новых семантических осмыслений. Мы действительно видим активные преобразования всей фонетической, фонологической, акцентологической системы с середины X до конца XIV в. [Колесов 1980]. Результатом стала очень экономная по числу элементов, но выразительная по числу различительных признаков система гласных и согласных, способная создавать в принципе бесконечное количество фонемных цепочек — тех своего рода слов, которые в те времена называли глаголами, т. е. набором звуковых единиц — носителей смысла (слово глагол восходит к звукоподражательному удвоению gol-gol, обозначавшему чистое звучание, даже шум, просто звук). Последовательное упрощение акцентных признаков такого глагола, устранение в качестве различительных средств интонации и различий по долготе-краткости (важных соответственно в словоформе или в пределах слога) и выдвижение в качестве единственного смыслоразличительного признака словесного ударения привело к «вырыванию» глагола-слова из традиционного текста, ибо именно словесное ударение есть признак отдельного и самостоятельного слова, представленного как идея, как инвариант, явленный во всех своих словоформах. Новый синтаксис выдавил слово в самостоятельную единицу языка.
Таким образом, ментализация заключалась в соединении знака-звучания с символом-смыслом. В эпоху раннего Средневековья, до конца XIV в., такой символ-смысл именовался разумом, а процесс наполнения глагола «разумом» приводил к созданию слова как новой культурной ценности в границах литературного языка. Еще раз повторим: во всей определенности, последовательности и завершенности этот процесс мог быть осуществлен только в режиме номинализма, с аристотелевской точки зрения «от вещи», которая и сводится к согласованию имени со смыслом, глагола с разумом. Абстракция «слово» снимается постепенно с разнонаправленных потенций языковой системы, которая развивается. Слово кристаллизуется в законченности своих форм как манифестация исходного славянского имени, т. е. имени собственного, конкретного по функции, но еще неопределенного по смыслу — синкреты.
В продолжении данного процесса, в момент идеации важно было посредством готового слова согласовать полученный символ с соотносимой с ним «вещью», показать, что каждой конкретно явленной «вещи» и одновременно гомогенному их множеству соответствует идеальная их сущность, то есть символ как явленный концепт. Подобное согласование двух равноценных компонентов знания происходило уже не в границах слова, а в пределах предложения, в суждении. Это процесс соотнесения мысли (идеи) с реальностью (вещью). Как последовательная программа такой процесс возможен только с позиции реализма, поскольку реализм исходит из «готового» слова, уже известного, автономного, со своими содержательными формами вне текстовой словесной формулы, и рассматривает связь между символом и предметом на основе предикативного отношения.
Основанием идеации стало прежде всего абстрактно-личностное понимание христианством человека как, человека вообще, человека как такового — это инвариант «человека» как идеальная норма, под которую в сопоставлении качеств подводится любой конкретный человек. Постоянное развитие самого христианства стало залогом совершенствования идеи человека, а вместе с тем и содержательного наполнения слова человек. Оправдание идеи, материализованной в языке, в слове, телесностью «вещи» есть соотнесение идеи с миром вещей, явлений, действий, развитие всё новых уровней отвлеченности, уже заряженной энергией символически-образных смыслов превращенных в слова глаголов.
Всё, что нам известно об изменениях в языке начиная с XV в., подтверждает: в этот период уже нет существенных изменений внешней, фонетической, на уровне материального знака формы (как было до того времени). На первый план выходят семантические, категориальные изменения. С конкретно-вещных, определенно-реальных (действительных) признаков «снимались» отвлеченные идеи категориального характера, приводившие к укрупнению прежних категорий языка, еще неопределенных и размытых в пределах высказывания (предложения). Возвратность, переходность, пассивность, соединяясь, формировали более отвлеченную категорию глагольного залога; способы глагольного действия, определенность, предельность все вместе формировали отвлеченную категорию глагольного вида; так же развивались, становясь идеальными, категории времени, числа, лица, одушевленности и пр. В соответствии со сложившейся культурной парадигмой оттачивалось противопоставление имени — глаголу, что совершенно необходимо для выделения самостоятельной части речи, в границах которой происходит накопление сущностно-содержательных форм — имени существительного.
Четко выстраиваются парадигмы слов в их отличии от синтагменных формул. Последовательное разведение конкретно-вещного и идеально-отвлеченного уровней проявлялось буквально во всем. Например, у имен парадигма единственного числа сохраняла некоторые идеальные признаки прежних имен (различия по типу склонения, по грамматическому роду и пр.), а в парадигме множественного числа все типы склонений сошлись в общности форм. Имя существительное в форме единственного числа выражает идею, а в формах множественного числа указывает на вещи разного качества (волос—волосы, волоса́, волосья...). Форма единственного числа представлена как бы с неопределенным артиклем (которого нет в русском языке) и потому возможна для обозначения любого элемента мира вещей, заменяя его на правах символа.
Естественно, что развитие различных типов суждения в свою очередь вырабатывало новые модели предложений, прежде всего сложноподчиненные, подчеркнуто выразительных с логической точки зрения конструкций, что потребовало и терминологизации посредством увеличения словообразовательных моделей, и именно термин становится предельной нормой для понятийно заряженной содержательной формы.
Общее направление в развитии синтаксических средств выражения суждения также двунаправленно. С одной стороны, происходило усиление предикативности с дифференциацией специфическими формами лица, времени, модальности и т. п., что связано с логическими операциями, что соответствует идее. С другой стороны, выстраивалась синтаксическая перспектива высказывания, передающего сложные взаимосвязи элементов опыта, что соответствует вещи. Развиваются различные типы сложных и усложненных предложений.
Двуобращенность единого процесса фиксации мысли выражает его разнонаправленность из общей точки: в перспективе идет от слова одинаково и на идеальность предикативной связи, и на вещный характер конкретного опыта. Параллель находим в древнерусской миниатюре или иконе. Там тоже каждый изображенный предмет существует как бы независимо от других и вне общей перспективы от точки зрения зрителя. Предикативность высказывания организует общую точку зрения, а синтаксическая перспектива высказывания структурирует размещение информации разной степени ценности. Основанием единой точки зрения является модальность, определяемая говорящим. Выражается отношение содержания высказывания к действительности с точки зрения говорящего — и отношение говорящего к содержанию высказывания с точки зрения его достоверности. Первая точка зрения онтологична и объективна, модальность фиксирует реальность события; вторая точка зрения гносеологически субъективна — модальность фиксирует идеальность оценки такого события в плане его возможности, необходимости или желательности. Самый древний тип придаточных, условные и уступительные, структурируется на модальности возможности и необходимости, но формальным средством организации такого высказывания становятся утратившие свое прямое (на)значение глагольные формы типа 6уде(ть), есть ли, хотя, хоти (повелительная форма хоть), хоть (из хочешь) и пр. [Лавров 1941]. На синтаксическом уровне происходит все то же наполнение смыслом «пустой» формы, которое было основным содержанием семантических движений в древнерусский период. Глагольные формы, утратившие предикативный смысл, становились союзами и союзными словами, с помощью которых скреплялись узлы развивающейся мысли. То, что прежде следовало разуметь, теперь требовалось осмыслить.
Во всех случаях заметно, что развитие семантики высказывания вело к необходимости оформить мысль с помощью специальных средств: логическое осознается много раньше, чем появляется семантически опустошенная форма, способная выразить новые отношения. Однако лишь после полного оформления подобные отношения и становились всеобщими, доступными для любого носителя языка; теперь им могут обучаться, поскольку они выходят за пределы «бытового сознания». Концепт последовательно и постоянно порождает свою форму, первоначально в образном ее про-явлении: на первых порах новые синтаксические модели и конструкции конкретно образны, экспрессивно выразительны, воспринимаются как разговорные, да и возникают чаще всего в диалоге.
Подчинительные союзы как грамматическая форма кристаллизуются из составных частей самого предложения, главным образом на основе сказуемого, а это значит, что действие выступает в роли семантического субстрата логической операции. Конечно, влияния калькированных с греческого синтаксиса конструкций в развитии этого процесса отрицать нельзя, но они стали всего лишь наводящим принципом в создании собственно русских синтаксических моделей.
Так язык готовит и готовится к смене культурной парадигмы.
Конечным результатом всех описанных изменений стало совмещение двух взаимообратных перспектив семантического поля сознания, известных уже средневековому миру: номиналистической, трудившейся над определением объема понятия, и реалистической, занятой уяснением признаков различения (содержание понятия). Совмещение обеих точек зрения на мир к концу XVII в. привело к осознанию единства совпадающих точек на «вершине» и оказалось, что слово и вещь, звучание и «тело», равноценны в своем устремлении к соединению: на острие идеи является понятие как логически точная содержательная форма слова, вполне пригодная для всех мыслительных операций.
Так возникает еще одна, научная точка зрения — «взгляд от идеи» (концепта) — концептуалистская по своему существу номинализация.
Из этого вытекал ряд следствий.
Во-первых, стало возможным перевернутое отношение от известной связи «слово—вещь» к постигаемому понятию — возникла необходимость в прямой перспективе, сужающей горизонты познания в точке идеи (постижение глубины концепта).
Во-вторых, наряду с чувственной «языческой» и мистической «христианской» интуициями возникла «научная» интеллектуальная интуиция; обо всех трех типах интуиции писали философы А. И. Вознесенский, И. И. Лапшин и Н. О. Лосский.
В-третьих, стало развиваться научное знание, одновременно и опытное (экспериментальное), и теоретическое.
Слово как результат всех, в принципе бывших и потому принципиально возможных, пропозиций соединяет в себе все свои содержательные формы одновременно; накопленные длительным ментальным строительством, они несут энергию текста, точнее — дискурса, т. е. осмысленного текста, текста, погруженного в концептуальное ядро первосмысла. Номинализация, или идентификация, есть процесс опредмечивания идеи в слове, непосредственное согласование слова с вещью, остановка в понятии, прежде всего — в отглагольных и отадъективных именах. То, что когда-то было достаточно уразуметь, а затем осмыслить, теперь оказалось необходимым глубоко понять.
Материализация идеи через слово есть явленность той иллюзии, которую именуют материализмом. А слово становится слововещыо (термин Густава Шпета).
Идентификация развивается в системе, перегруженной «идеями», идеологически несоединимыми, несводимыми друг к другу, взаимно противоречивыми. Происходит это в условиях избыточной содержательности словесного знака, развившего все содержательные формы, от образа до символа. Таково наше время. Соотнесение «вещи» (явления) напрямую со словом, минуя сущность «идеи» — болезнь современного интеллигентского сознания. Именно этим объясняется, например, бурное заимствование иностранных слов, призванных заменить понятие, вызревшее в формах родного языка.
Здесь описаны точки роста русской ментальности/духовности, возникавшие в столкновении различных позиций, взглядов и перспектив в том виде, как они являлись в трудах выдающихся деятелей нашей культуры, и особенно в момент заимствования. Как относился к таким движениям мысли простой народ, молчаливое большинство эпохи Средневековья? Осмысляя классические тексты, народ получал энергию новой ментальности через дискурс — в языке. Роль языка в описанных процессах ментализации, идеации и идентификации очень значительна.
По направлению к нашему времени все более развивается индивидуальное сознание и осознание, и происходит это именно потому, что в процессе накопления содержательных форм слова и фиксации различных точек зрения возникает возможность выбора самой точки зрения и различительных признаков, содержательно наполняющих избранную точку зрения. Становятся возможными многие комбинации ментальности как явленной концептуальности. Материально-вещно это подтверждается и специализацией социальных ролей в обществе, число которых постоянно увеличивается по направлению к нашему времени.
Слово и дело
«С русским говорить весело, потому что перед ним открыты все горизонты мысли и русского не пугает никакая умственная и общественная неизвестность» — эти слова писателя-народника Николая Шелгунова хорошо показывают связь слова, мысли и дела (вещи).
Сжато можно представить характерные признаки русской ментальности в сложившемся к настоящему времени виде. Некоторые из особенностей являются общечеловеческими, они свойственны всем людям на определенных этапах развития правосознания и морали — если иметь в виду естественного человека, а не искусственно устанавливаемые, навязываемые формы человеческого общения.
В сущности, каждый ключевой термин данной культуры содержит выработанный народом и хранимый в его «генной памяти» концепт, однако рассмотрение каждого словесного знака в контексте представляется излишним, а примеры, уже приведенные и те, к которым мы еще обратимся, прекрасно показывают, о чем идет речь.
У русского человека в центре внимания находится не факт или идея, а конкретное дело, воплощенное в слове. Много язвительных замечаний разбросано в трудах русских мыслителей о феноменологичности идей и позитивизме фактов; приведем только одно, особенно выразительное: «Эмпирик англичанин имеет дело с фактами; мыслитель немец — с идеей: один грабит и давит народы, другой уничтожает в них самую народность» [Соловьев V: 7]. Русский человек владеет делом, которое результирует в вещи. Действительность понимается как система собственных действий, на что указывает и внутренняя форма отвлеченного имени действительность. Таким образом, в установочном треугольнике вещь заменяется делом, что и определяет предпочтение глагола имени, а процесса — результату. Сложная история самого слова вещь показывает внутреннее развитие этого представления.
В связи с этим мысль расценивается как дело, за мысли можно судить так же, как и за совершенное дело. Мысль как личный результат мышления не принимается во внимание, но коллективная мысль — дума — может выходить за пределы традиции, поскольку думает не один, а многие; можно по-мыслить, при-мыслить, за-мыслить, даже вы-мыслить и произвести прочие неблагопристойные дела, но глагол думати с подобными приставками и в данных значениях до XVII в. не встречается, при-думать нечто непотребное невозможно. Такое понимание мысли стало формальным основанием для борьбы с ересями и вообще трагически отозвалось в нашей истории. Для русского философа мысль предстает как «проект дела» (Н. Ф. Федоров), а следовательно, как реальность такого дела: сказано — сделано.
Всякое дело, мысль или слово, т. е. все три ипостаси Логоса, окрашены нравственно, поскольку идея предстает как идеал; нет ничего, что бы не сопрягалось с моральным в поведении или в мыслях человека. Действие нравственно или не нравственно, а каждый результат этого действия (продукт, предмет, вещь, артефакт и т. п.) окрашен признаком красоты. В оценке действия присутствует критерий «хорошо—плохо», а в оценке продукта этого действия — критерий «красиво—некрасиво»; действие и результат дифференцированы также и по моральным критериям. Н. Ф. Федоров специально говорил о приоритете нравственных категорий в противовес логике объективного развития, поскольку внутреннее понимание существа дела (личная совесть) всегда выше навязываемого извне и со стороны явленного мнения (со-знання, перерастающего в коллективную сознательность).
Красота и польза
Красота важнее пользы, поскольку польза — один из компонентов красоты. Враждебное отношение к формальному практицизму и позитивизму западного толка есть устойчивая характеристика русской философской мысли, она восходит к народному пониманию красоты как пользы. Мир спасет красота, а не буржуазная польза. Отрицательная критика, направленная на кого-то или на что-то, должна исходить из реальности дела, с тем чтобы выявить положительное, ценное, в конечном счете и полезное. Таково требование к критическому замечанию в чей- либо адрес (причем ранг адресата безразличен): не «себя показать» или выставить свой идеал как предпочтительный перед другими, но, пользуясь общностью языка и одинаковым пониманием слов, выявить в высказывании оппонента рациональное зерно. Добро как один из предикатов категории Благо есть одновременно и понижение степеней самого Блага, и явленная форма пользы (мое добро как мое имущество). Народная традиция в своих постоянных эпитетах сохраняет равенство предикатов красоты и пользы; красна девица и добрый молодец выражают один и тот же признак, но с разной его стороны. Красота девушки эквивалентна силе и здоровью молодца, красота—доброта представлены как внешняя и внутренняя характеристика молодого человека в соответствии с общим пониманием пользы для всего общества.
Враждебное отношение к мещанскому практицизму и ученому позитивизму есть устойчивая характеристика русского философа, определяющего западноевропейский эталон личности. В этом русский философ исходит из народного понимания красоты и пользы. Отрицательная критика, направленная на кого-то или на что-то, должна исходить из реальности дела — с целью выявить положительное, ценное, то есть в конечном счете все-таки полезное. Полезное — доброе — устанавливается как отношение к высшему идеалу, блага от благодати, который и является предметом познания.
При этом духовность важнее меркантильности; духовное выше — как цель действия, в то время как душевное выступает в качестве причины, а меркантильность — как условие и средство движения к цели. Только цельность человеческой личности создает духовность («синтезирующий творческий акт» Николая Бердяева; это вообще сквозная тема русской философии, основанной на раскрытии русской ментальности). Прагматические установки действия не важны в случае, если на первое место выходят идеи и идеалы более высокого порядка. Происходит это потому, что прагматическое и мистическое совмещены в сознании, будучи выраженными в противоположностях конкретного и абстрактного, или, точнее, отвлеченного от конкретного. Эта противоположность и вместе с тем нерасторжимая слиянность одного и другого объясняет, почему все слова абстрактно-родового значения в русском языке обслуживают «сферу мистического», сакрального, а слова конкретного значения, даже и обобщенно-терминологические — «сферу прагматического», связанную не с идеей, а с конкретным проявлением вещи. До сих пор в русском языке слово вещь в высоком смысле употребляется только как форма единственного числа, а конкретность низменных ее проявлений фиксируется формой множественного числа (откуда и термин вещизм).
Качество дела или исполнения важнее, чем количество произведенного. Категорию «качество» как основную категорию славянской ментальности особенно отстаивали славянофилы (К. С. Аксаков), поскольку, действительно, история языка доказывает такое предпочтение. Категория имен прилагательных является в специфически славянской форме, различая прилагательные действия (бел, белеющий) и прилагательные качества (белый), тогда как категория имен числительных до XVIII в. фактически отсутствовала (существовали счетные имена), да и сегодня числительные, по крайней мере порядковые, воспринимаются скорее как прилагательные (первый—второй, другой, иной...).
Высшим качеством признается целое, которое в самом общем виде предстает как жизнь. «Жизнь есть самое общее и всеобъемлющее название для полноты действительности везде и во всем» [Соловьев 1988, II: 330]. Исходя из цельности всеобщего, мы тем самым приближаемся к идее, к сущему, и философия Всеединства становится основным направлением русской мысли. Только целое есть живое. «Составить убеждение из различных систем — нельзя, как вообще нельзя составить ничего живого. Живое рождается только из жизни» [Киреевский 1911, II: 172]. Это, безусловно, связано с синкретическим восприятием внешнего мира. Живой, т. е. действующей, признается целостная вещь, а не элементы отношений. Из этой основополагающей идеи исходит и русское представление о системности: только исходя из целостности «вещи» она открывается «как бы сама собою», а не нуждается для своего объяснения в субъективно представленном логическом аппарате и терминах. Это понимание системности отличается от западноевропейского (иудейского, по авторитетному суждению Осипа Мандельштама), согласно которому целое конструируется из элементов на основе приписанных этим элементам признаков и предстает как относительность отношений в пределах целого. Разница та же, что и между картинами передвижников и живописными конструкциями Пикассо.
Одновременно и по тем же причинам признается, что правда важнее отвлеченной истины, как и вообще душевное важнее телесного, а искусство информативнее науки (в широком смысле). Эту связку понятий русские философы обсуждали неоднократно. Правда-истина как категория гносеологическая отличается от правды-справедливости как категории этической. Эта мысль народника Н. К. Михайловского выявляет основные значения слова правда: правда одухотворена человеческим чувством, личным отношением совести, характеризуется свободой воли — в отличие от предопределенной истины, слишком отвлеченной, чтобы человеческая воля могла ею управлять, и слишком субъективной как чужое мнение, чтобы ей стоило подчиняться. Истина понимается как категория «государственная», в то время как общественное мнение руководствуется правдой: «правда как основание общества» (слова Григория Сковороды) всегда во владении оппозиции. Так происходит потому, что государство предстает как данное установление, тогда как общество постоянно развивается; между тем уже в Средние века понимали, что правду нужно постичь, тогда как истина от века известна.
Право говорить должно подкрепляться правом решать, иначе возникает то, что в народе называется болтовней. Это своего рода вариация известного единства (синкретизма) право—долг — одно предполагает и обеспечивает другое, — но обращенного не к действию, а к речи, не к вещи, а к слову. Современные философы подтверждают хорошо известный факт, что больше всего текстов остается от «эпохи молчания», когда правом говорить обладают многие, а правом решать — только исключительные личности, которых искусственно культивируют как выразителей мнения общества. С этим связаны и другие особенности русской ментальности, сформированные еще в эпоху Средневековья: христианская культура формирует принцип умолчания, а не знания и познания — все признается уже известным и фиксированным в символе. Еще Ф. И. Буслаев показал, что в истории русского языка глагол съ-каз-ати значил, собственно, "раскрыть, объяснить (таинственно скрытое от непосвященных)", ср. прямой смысл таких слов, как сказка, сказ, сказание. Устная культура, каковой и была культура народная, особое значение придавала именно соотношению двух действий: сказать — (раз)решить — при исконном значении слова разрешить "развязать, открыть", т. е. опять-таки "истолковать". Сказал одновременно значит и сделал, исполнил. Искусственное отсечение одного от другого грозит неисчислимыми бедами. На каждом уровне социальной иерархии имеются свои пределы как для права, так и для долга, каждый может и должен сказать свое слово и тем самым решить дело.
Знание в системе таких соответствий никак не отождествляется с говорением, хотя незнающий — молчит, а единственным средством передать знание остается речь. Важна не информация, а открытие нового, то самое откровение, которое всегда соотносилось скорее со смыслом глагола ведать, чем глагола знать. Знание не в слове, а в действии, в его повторении, т. е. это скорее даже не знание, а техническое умение, мастерство (в этом смысле интересно развитие значений в слове худогъ — художник): тот замысел, который исполняется руками — в деянии. Поскольку слово и дело разведены как знание и ведение, дифференцируются также коммуникативный и когнитивный аспекты слова. Это важное отличие восточнославянской ментальности от западноевропейской обусловило и особенности в воспитании и образовании молодого поколения. «Классические недостатки западноевропейского, преимущественно диалектического образования усилились у нас до того, что, за небольшими изъятиями, относящимися преимущественно к специализированному образованию, особенно высшему, у нас знание отождествляют с говорением или изложением. Хорошо говорящий, особенно же бойко пишущий — почитается и знающим то, о чем идет речь. По существу это значит {...}, что все наше образование направлено преимущественно в сторону индивидуалистическую, подобно древнему или средневековому (? — В. К.) и на деле вовсе чуждо задачам жизненным и общегосударственным. Разговор и слова нужны, но они только начало, вся суть жизни — в делах, в умении перехода от слова к делу, в их согласовании» [Менделеев 1904: 247]. Предпочтение слова делу создает иллюзию как бы отсутствия всяких оригинальных идей, пережевывания известного, повторения задов, что и действительно было свойственно средневековой учености — в условиях, когда каждый «новый пример, поясняющий старую истину, кажется открытием» (Лев Карсавин). Вряд ли стоит настаивать на сохранении этой черты в русской ментальности, поскольку активное развитие отечественной науки изменило ситуацию, по крайней мере в отношении многих творческих личностей.
Тем не менее остатки старых представлений о взаимоотношении слова и дела остались в нашем сознании, и это отличает русского человека от западного.
Авторитет и наука
С этим связано традиционное для русской ментальности легковерие, точнее — вера в авторитет, а не в отвлеченную «науку», т. е. не во внешний навык, поскольку наука искусственна, она создана человеком, а не сотворена изначально как природное. Верить можно только конкретному представителю данной науки (отсюда столь трогательная вера в академиков, которые всё придумают, исправят и даже сделают). В этом смысле показательна книга Н. А. Бердяева «Смысл творчества». Недоверие к науке определяется уравниванием ее с ветхозаветным законом, тогда как высокая благодать знания определяется здесь мистически. «Неученые люди самые гениальные» — этот афоризм Н. Ф. Федорова в полной мере отражает старое представление об угодном Богу мудреце. Любопытно это соединение крайностей, скептицизм и мистицизм идут рука об руку, по- разному проявляясь в зависимости от ситуации действия.
Границы веры также важно установить. «Вера есть обличение вещей невидимых», — утверждал Н. А. Бердяев; «...только у ученых вера отдаляется от дела, становится представлением», — добавлял Н. Ф. Федоров, и т. д. Особенно характерно последнее добавление, утверждающее качественный переход «веры» в новую сущность — в представление-понятие (которому ученые доверяют столь же слепо, как верующий — Богу).
Собственно говоря, сила русской ментальности в том, что русский человек ни в ком не видит авторитета, поскольку в качестве абсолютного авторитета для него выступает Бог. Бог предстает как иррациональная связь людей — высшая сила единения и цель движения: «Если нет Бога как Истины и Смысла, нет высшей Правды, все делается плоским, нет к чему и к кому подниматься», — говорил Николай Бердяев. Отсюда самовольство и кажущаяся буйность русского человека, его свободолюбие и видимая среднесть состоянии, в том числе и интеллектуального. Гениальность представляется такой же блажью, как и дурость, — крайности сходятся. Бог — средостение между каждым отдельным человеком и всеми остальными людьми (особенно хорошо показал это на своей классификации добродетелей В. С. Соловьев). Русский в силу необходимости подчиняется — власти, силе, судьбе, но авторитета для него — нет. Величайшее заблуждение полагать, будто можно его в чем-то убедить, что-то ему доказать: при покушении на свою личную «волю» он упрям, поскольку не пропущенное через собственную его совесть знание признается навязанным, а потому и чуждым и решительно отвергается. Прежде чем стать его знанием, оно должно быть со-знанием. В этом также кроется разгадка многих трагедий: «Погибну, а не подчинюсь!»
Рацио и логос
Конкретное и образное предпочитается отвлеченно-рационалистическому. Именно потому, что оно образное, в нем нет убедительности единичного. Толкование конкретного как материально единичного полностью соответствует современному уровню научного эмпиризма. Ментальность русского не есть ratio, но это и не сенсуализм, хотя старые русские историки и пытались уверить в склонности русского человека к чувственному восприятию мира («...всё хочет пощупать», — замечал А. П. Щапов). Никакого восхождения от конкретного к абстрактному и наоборот такая форма познания не предполагает, поскольку для нее абстрактное и без того воплощено в конкретном и, в единосущности с ним, присутствует в конкретном, которое само по себе есть всего лишь знак отвлеченного и всеобщего. «Односторонняя рассудочность западной линии развития развила в себе не общественный дух, но дух личной отделенности, связываемой узами частных интересов и партий {...}, забывавши о жизни целого государства», что невозможно для русских, у которых преобладает «стремление любви, а не выгоды», отмечал Иван Киреевский. Заметна принципиальная установка на идею, которая своей силой соединяет все возможные проявления бытия — а эта идея предстает не в виде понятия, но как образ, в котором всё существует «в совершенно внутреннем свободном соединении, или синтезе», — полагал Владимир Соловьев.
Живое целое
Модель синтеза, в противоположность аналитической процедуре выявления признаков, элементов, частей и т. п. — от общего к частному, — есть основная модель конструирования и восприятия мира. Важными в познании признаются главным образом «сходства и подобия», т. е. те элементы структуры целого, которые соединяют нечто в целостность, а не разрывают на части живое тело предмета. Дифференцирующие, различительные признаки несущественны, поскольку они привнесены извне, сознанием, они не составляют природы самого предмета. Так можно было бы определить этот нравственный запрет на разъятие живого. Но — одновременно используется антитеза как способ мышления образами.
«Мир постижим лишь мифологически», — говорил Бердяев, в соответствии с языковой интуицией, а Александр Потебня любил повторять в своих лекциях мысль о том, что язык «синтетического строя», каким является любой славянский, не может изучаться аналитически, равно как и с помощью такого языка опасно классифицировать предметы, ибо рискуешь впасть в типичную ошибку «умножения объектов» на пустом месте. «Всеобщий синтез» Николая Федорова зиждется на том же основании, но в принципе это утверждали все русские мыслители, исходя из интуиций слова: «Только живой душой понимаются живые истины», — утверждал Герцен, возражая против аналитического «трупоразъятья» позитивистов.
Образность символа, данного как словесная синкрета, предопределяет предпочтения в типах мышления. «Формальная сторона везде преобладает над сущностью мысли», — писал Петр Лавров, — если логическая форма преобладает; такова мысль Запада. Вариантность форм не покрывает сложности и разнообразия содержания, и формы бесконечно множатся, не попадая в светлое поле сознания. Сравните с этим мысль Бердяева о том, что «русские совсем почти не знают радости формы», что «гений формы — не русский гений», а формализм как течение мысли и оправдание идеи в принципе неприемлем для русского сознания. Роль символа в современном познании исполняет термин, но, в отличие от символа, он однозначен, а поэтому и безобразен, представляет мир аналитически, в системе, которая конструируется логически, и тем самым еще дальше отводит разум от реальности, в качестве которой признается не явление, вещи, а сущность идеи.
Диалектика развития важнее идеи о материальности мира: материальность вообще двузначна, как и всё в этом представлении, — это не обязательно материя или только материал природы. Диалектика снимает противоположность между анализом и синтезом, являясь как бы третьим способом познания (Вл. Соловьев) и тем самым в полной мере отражая установку на действие, на дело, на деятельность, на действительность. Диалектическое восприятие жизни выступает в нескольких ипостасях, но главное, в признании: весь мир — состязание, борьба, спор, все находится в движении, в действии, но при этом всё изменяется в частностях, присутствует в вариантах (в границах своей формы), хотя и остается неизменным и незыблемым по существу. Кстати, в этой особенности русской ментальности можно найти объяснение устойчивой вере в «доброго царя»: царь всего лишь инвариант в представлении власти, а власть навсегда пребудет, изменение ипостасей власти в сущности ее ничего не меняет, ибо сама по себе идея-сущность вечна.
Стихия диалектики связана и с самостоятельным вопросом об иерархии сил, в том числе и мистических, о которых говорит или пишет и современный философ (например, Бердяев или Карсавин), и «Ареопагитики» в средневековой славянской версии. Русское христианство, устраняя всякие следы демонологии, тем самым постепенно расчищало путь науке, слой за слоем снимая различные наслоения мистической иерархии, создавая все более отвлеченные по смыслу гиперонимы — термины общего содержания, приучая мысль к согласованным и ясным синтаксическим структурам.
Таковы основные результаты длительного развития русского сознания— в том виде, как оно отложилось в значениях русских слов, в смысле русских текстов и в содержательных образах русских философов. Впоследствии мы разовьем эти положения.
Глава третья. Исторические антиномии в основе русской ментальности
Тот не понимает настоящего, кто не знает прошедшего.
Алексей ХомяковКто-то из знатоков Достоевского (а это целая профессия) заметил, что в его произведениях русская душа как бы разложена на антиномии, а затем представлена в слове в виде определенной идеи. Весь семантический треугольник перед нами: вещественность русской души (это не дух), соединенной с идеальностью идеи, воплощена в слове. Все возвращается в слово, где и родилось в свое время.
Антиномия — αντινομία ‘против-закон’ — противоречие между двумя принципами, которые признаются одинаково правильными.
Вся русская история — сплошная антиномия, не имеющая решений, или, как принято ныне говорить, употребляя другое слово, — проблема. Первые славянофилы и западники, осуществляя свои идеи на деле, в вещи, во взаимных отношениях явлены как антиномия: идеи и деяния их расходятся так, что не дают возможности верного выбора в альтернативе. Все повторялось в России, и повторялось неоднократно. Всякое противостояние двух лагерей было обычно попыткой преодолеть возникавшую антиномию жизни. Подобное кружение мысли вокруг одного дела происходило, да и происходит, потому, что в сам язык — в слово его — антиномии жизни уже впечатаны — как след состоявшейся прежде жизни, как традиция, как возвращение в слово.
И возникает вопрос: жизнь поставляет антиномии — или язык разводит по полюсам идеи и идеалы, единую плоть жизни?
Одновременно это и классификация явлений русской ментальности «от идеи», поскольку каждая из рассмотренных здесь категорий представляет собой самостоятельную и давно определенную идею родового смысла.
Общество и государство
Общественная среда бытования восходит к отдаленным временам родового быта, с которого и начинается — в известных нам обстоятельствах — история на-род-ности, а затем и на-род-а. Народ — это то, что народилось, наросло на корне рода, с тем, однако, отличием, что чисто биологическую массу рода теперь прикрывает от покушений извне социально ориентированная культурная общность. Общее — это община, уже раздвинувшая узкие границы родственников по крови, родственников по свойству, ближних и дальних — соседей, сябров и прочих. Община живет по обычаям предков, здесь свои неформальные лидеры, которые не избраны и не назначены, но явлены всем как лидеры. Просто потому, что такими они у-род-ились. Они вовсе не авторитеты, поскольку для общины авторитетны только вожди прошлого — герои ее и святые, но они образцы и пример для других, отчасти чем-то напоминающие героев прошлого. Иногда они носят имена таких героев. Действующий вождь или вожак — не авторитет, а именно образец поведения. Этим часто пользовались недруги, создавая ложные репутации тем, кого хотели выставить образцом поведения и мысли в каждый данный момент, и тем перехватывали вожжи с коренника, заставляя всех пристяжных мчатся по их пути. В этом проявляется не доверчивость русского человека, хорошо известная его черта, но как раз неумение отличить стратегическую идею образца от тактической формы ее проявления. Идея мыслится важной, в ней всё дело, тогда как конкретность вождя в явленности данного временна. Это, конечно, не доверчивость, это вера в идею, которая всё превозможет, даже лжевождя.
Совокупное мнение общины в общении рождает общество.
Самое главное в обществе — общность миросозерцания, культуры, того неуловимого духа свойственности, который определяется важным словом свои. По мнению некоторых историков, svojь — ключевой термин всякого общества; он определяет и характер собственности в этом обществе (тот же корень слова), и характер принадлежности человека к собственной, т. е. к своей родной, среде. Такого же смысла и слово общий, от него славянофилы образовали термин община. По исконному смыслу корня *obьtjь — ‘круглый’; общим для всех является всё, что лежит вокруг. Община — это свой круг, свои. И всё, что ни есть окрест, — в полной мере также и твое, принадлежит и тебе тоже (до сих пор опасное заблуждение многих русских людей).
Славяне — те, кто владеет словом, понимает своих и действует в полном согласии с ними. Напротив, не обладающий такими способностями и правами — нем, он немец. Всякий чужой — немец. Не то чтобы враг — враг всегда конкретен, он на линии схватки с тобой (супротивник, противник), — но нейтрально не свой, которого за великую его немоту и пожалеть не грех. «Что для русского здорово, то для немца — смерть» — не германца, нет, не только его. Для всякого, кто не свой.
Государство идет от верховной силы, от государя, иначе сказать — от хозяина, от господина (слово государь восходит к форме господарь), навязанного если не силой, то обстоятельствами многотрудной жизни. Но навязанного.
Русская государственность исторически многонациональна. Нести на себе вериги титульной нации — тяжкий крест для русских с X в. Многоплеменность государства — многоименность его, и тут уж не до славянского слова, потому что многие племена как раз и были «немцы» в исконном смысле старинного слова с уменьшительным суффиксом сострадания к ним.
Так искони расходятся в своих стремлениях государство и общество. Разнонаправленные силы — центростремительная и центробежная — в точке натяжения образовали то, что и зовется Россией. Однако властных структур, господствующих над обществом, русское общество не создавало само, и так шло искони. Всегда «верховная власть принадлежала роду, а не лицам» [Ключевский I: 191]. По этой причине и обожествления государства, державной идеи, никогда на Руси не было; об этом много писал Н. А. Бердяев. В том-то и дело, что на Руси власти приходили извне, во главе государства часто стояли совсем не «свои». У русских славян веками не было собственной власти, — может быть, никогда за всю их историю не было. «Варягов» призвали не одни приильменские словене, но также и меря, и чудь, и многоликие племена иные, которые не смогли сплотиться в государство ни по языку, ни по крови, ни по нравам своим, ни по вере. А потом и пошло... и идет до сих пор.
В последовательном развитии русского государства даже социальные слои — сословия — укладывались вначале по национальному признаку. Летопись выделяет различные племена, каждое из которых заняло особую социальную нишу в момент образования Киевской Руси; особенно выделяет летопись киевских полян, а периферийные древляне, напротив, всем плохи. Впоследствии, поступая на службу русским князьям и царям, целые народы становились то ремесленниками, то купцами, то воинами.
Даже имя чужое пришлось принимать славянам — Русь — как ни суди, то ли греческое, то ли скандинавское Ruotsi — имя державы, государства — власти, а русский просто лояльный ее подданный. Долгое время русский — это великорус, белорус, малорус, а ныне — всякий, кто из России вышел: неважно, кто он по крови и роду, но коль из России — русский. Лукаво забывают уточнить различие между российским и русским. Кредит русского весом исторически.
Несводимость государства к обществу — исторический факт. Общество и государство были две силы, тянувшие человека в разные стороны, но понятно, что, даже побеждая морально, общество всегда находилось в тени государства. Когда в обществе возникало новое умственное движение, обязательно происходило разбиение на государственников и защитников прав общины (общества). Так случилось и в XIX в., когда славянофилы противопоставили себя западникам. Как бы и в какие бы времена ни фрондерствовали западники, власти всегда уживаются с ними, но при этом с подозрением относятся к «славянофилам», потому что славянофил головою стоит за общество (хотя не всегда при этом он против государства), и не только за общество русское. Кто-то справедливо выразился, что в России государство и общество есть своего рода вариант двухпартийной системы, хотя при этом общество не политическая, а культурная оппозиция государству. Позиция такой оп-позиции — независимость и уважение к собственным ценностям, которые не являются ценностями для государственной власти. Как говорил Павел Флоренский, дело тут в принципах — власти и свободы.
Такова удвоенность категорий в ментальном пространстве русского человека, который на дух не выносит власти, не признаёт ее как свое, но государству служит — государству, давшему имя его обществу.
Действительно, парадокс. Опора и надежда России в течение тысячи лет, русский крестьянин — русский по государству и христианин по вере — на самом деле вольный землепашец, прирожденный словенин, «во девичестве» и земной, и земский, и земельный человек. «Без земли, без внутреннего русский человек — это уже не русский» — сказано точно [Гиренок 1998: 147]. И свое государство русский называл — Земля. Мать сыра Земля ему родина, да вольный простор — отечество, но имя его заветное, предками завещанное, — имя-имечко уворовано.
Похищено, чтобы имя государственности дать иное.
Имена изменялись, потому что русская государственность издавна обрела формы «странствующего царства», и только с точки зрения «Москвы — третьего Рима». Телесно государство меняет свои обличия, представая то царством, то империей, то Союзом, то федерацией. Но это несущественно в плане идеи государства. Прагматический аспект властного правления может быть разным, но не ему служит русский человек; он верен идее, а идея государства — категория этическая, лишь как таковая она соотносима с категорией «общество». Политически государство и культурно общество не противопоставлены одно другому, они в дополнительном распределении по сумме качеств, способных восполнить государственные формы до цельности.
Самое время коснуться темы, по существу запретной: рождение государства в государевом лике самодержавия.
Самодержавие и государство
Три точки зрения как типичный взгляд изнутри, из нашей традиции: публициста монархического направления, религиозного философа и вдумчивого историка.
«Деля Русь на "правительство" и "общество", [историк С. Ф.] Платонов опять прибегает к дидеротовской терминологии: такого деления Московская Русь не знала вообще. Правительство было обществом, и общество было правительством. Правительством были все, кто служил, а служили все. Служба была очень тяжела, но от нее не был избавлен никто», — утверждает Иван Солоневич. «Московское самодержавие рождалось как чисто народное, демократическое» и «русская земля тянулась к центру — к царю»: «настоящая реальность таинственной русской души — ее доминанта — заключается в государственном инстинкте русского народа или, что почти одно и то же, в его инстинкте общежития». Именно потому, не имея внутренних противоречий между обществом и государством, в построении государственности мы и шли «впереди всего мира», и только исторические обстоятельства задержали этот процесс. Поскольку «демократический строй правления основан прежде всего на вранье», он у нас и не прививался, но и тоталитаризм России не грозит — при обширности ее территорий, безграничных рынков сбыта, разноплеменности населения и исторического опыта в организации «дисциплины народных масс». У нас не было феодализма и борьбы государства с церковью, что расчищало путь к созданию идеального самодержавия, основной принцип которого в том состоит, что — никаких посредников между личностью и властью (финансовых, клерикальных, бюрократических, политических — никаких). И вывод: «Мне кажется довольно очевидным несколько иной ход событий: Россия создала царскую власть и этим спасла сама себя. Или, иначе, царская власть не была никаким заимствованием извне, не была кем-то навязана стране, а была функцией политического сознания народа, и народ устанавливал и восстанавливал эту власть совершенно сознательно, как совершенно сознательно ликвидировал всякие попытки ее ограничения» [Солоневич 1991: 56, 61, 97, 110, 167, 291, 352, 406, 408]. Самодержавие создано самим народом и представляет собою форму существования общества; таких же взглядов придерживались Н. Федоров, К. Леонтьев и другие крайние наши патриоты.
Религиозная философия, а также различные направления славянофильства полагали, что «создание всевластного государства в России было, главным образом, дело церкви», именно она «выпестовала московское самодержавие, и в этом состояла ее социальная, историческая задача» [Соловьев V: 151]. Эту точку зрения разделяли евразийцы: «Обвинения и самообвинения русских в негосударственности, т. е. в слабости их государственного единства» противоречат фактам: «церковь и государство как формы личного бытия» одинаково создавали «общество», причем постоянно «государство почерпало силы у церкви, но не дорастает до идеала соборности» [Савицкий 1997: 43, 46, 49]. С последним, кстати, согласен и монархист: с прошлого века у России три беды — «культурная отсталость, вырождение правящего слоя и продолжение политики территориального расширения» [Солоневич 1997: 24].
Итак, идеальным государством была только Московская Русь — которая развивалась, находясь в силовом поле энергий народа и церкви. «Идея государства как некоторой реальности вышла из идеи церкви как мистического тела Христова. Эта идея влечет за собою и другую — идею общей воли целого» (в монархе, в лучших людях, диктаторе и пр.) — так подытожил этот взгляд Петр Бицилли [1996: 43]. У евразийцев-государственников государство предстает как личность высшего порядка, как «симфоническая личность», и мы уже знаем источник такого движения мысли. Сам Бицилли замечает: «Это — чистейшей воды средневековый "реализм". Он основан на смешении идей с формами их воплощения. Церковь и государство не суть материальные "вещи", но сферы сознания, обязательно личного, ибо никакого иного нет. "Церковь" и "государство" — это мои переживания... Теоретическое определение взаимоотношений между этими идеальными величинами издавна наталкивается на затруднения, коренящиеся в самих особенностях нашего дискурсивного мышления, в такой сильной степени зависящих от нашего обобщающего и олицетворяющего наши представления языка» [Там же: 46—47].
Однако реальную картину событий более трезво рисует не идеолог, а историк. Слово — В. О. Ключевскому, свидетелю весьма компетентному.
«Появление государства вовсе не было прогрессом ни в общественном, ни в нравственном смысле. Я не понимаю, почему лицо, отказавшееся от самостоятельности, выше того, которое продолжает ею пользоваться... В смысле нравственном появление государства было полным падением. Существование государства возможно только при известных нравственных понятиях и обязанностях, признаваемых его членами», но как раз политическая мораль резко отличается от «обычной людской нравственности». Особых замечаний требуют принципы самодержавия. «Самодержавие — бессмысленное слово, смысл которого понятен только желудочному мышлению неврастеников-дегенератов»: сказано сурово, но справедливо, «неврастеники» успели забыть и происхождение слова (калька с греческого), и его смысл. «Самодержавие — не власть, а задача, т. е. не право, а ответственность... Неудачное самодержавие перестает быть законным. В этом смысле единственным самодержцем в нашей истории был Петр Великий». Не право, а долг у слуги государства, в противном случае «русские цари не механики при машине, а огородные чучела для хищных птиц» — и разве не так? «Наша государственная машина приспособлена к обороне, а не к нападению. Она дает нам столько же устойчивости, сколько отнимает подвижности», а вот «подвижность»-то человека и общества полностью уничтожена ближайшими наследниками Петра в своих корыстных целях. «Все эти екатерины, овладев властью, прежде всего поспешили злоупотребить ею и развили произвол до немецких размеров», создав в России «однорожие и единодержавие» [Ключевский IX: 296, 363, 428, 435, 441, 442, 443].
Интуиция русского человека и опыт историка, знакомого с фактами, подсказывают Ключевскому верную точку зрения, можно сказать — народную точку зрения на самодержавие и на царя.
Подмена понятий в рассуждениях может привести к разрушению принципа: самодержавие становится единодержавием, иезуитски продолжая именовать себя самодержавием. Истинное самодержавие — ответственность за свой народ, «возглавление», как говорил Николай Федоров, тогда как единодержавие есть абсолютизм власти, оторванной от народа, который и остается отрешенным от прав как «общество», таких прав добивающееся. Типологическое сопоставление государственности «трех Римов» привело С. Аверинцева к справедливому выводу: «И римская, и московская государственности открыты для тех, кто примет их веру. Оборотная сторона такого универсализма — слабое развитие мотива природной связи между этносом и его государством: основания в обоих случаях не природные, а сверхприродные» [Аверинцев 1988, 7: 219].
Усиление государственности, основанной на этносе, в конце концов приводит к отождествлению исходного этноса с государственностью — и к полному размыванию этого этноса как самостоятельной политической, даже этнической силы. Русская государственность начиналась неоднократно, и всегда с внешней силы. Внешний произвол восточные славяне испытали с начала нашей эры, затем и в Средние века, и в Новое время. Лишенный власти и прав, народ создавал энергию противодействия — общество, которое имело разные имена, исповедовало различные цели, но всегда оставалось в оппозиции государству.
Константин Аксаков выразил русское представление о власти, оправдывая самодержавие: «Власть делить нельзя» — иначе ведь это и не власть. Историк показал, что уже в средневековой России было три властные стихии, но в каждой из них действовал принцип, решение должно быть единогласным, независимо от того, является ли власть демократической (новгородское вече), аристократической (боярская дума) или монархической (княжое право) [Вернадский 1996: 194]. «Сгущение» власти от народа или избранных на личности не отменяет права власти лица, хотя и превращает право в обязанность единомыслия. В XIX в. о том говорили много, от Льва Тихомирова до Бориса Чичерина. Не раз и подчеркивали парадоксальность отношения к власти: «Всякая похоть власти есть грех» [Бердяев 1991: 28], «власть имеет для нас мало привлекательности» [Данилевский 1991: 487].
Современный историк предложит свои толкования и, может быть, будет прав. Но прав извне, со стороны, из схемы «мировой истории», все равно — марксистской или иной какой, к ментальности отношения не имеющей. Понятно распределение сил, влиявших на отчуждение государства от общества: усиление государства и посторонность власти народу. Общество как духовная оппозиция государству постоянно создавало некие материальные формы своего бытования, например в наличии двух столиц. Московское государство свое общество имело в Новгороде, но Москва подавила его мятежность, включая и ереси не политического характера. В Новое время «общество — в Москве, государство — в Петербурге» — сегодня, видимо, наоборот. В сознании русского человека общество, обслуживающее власть, — не общество. Интеллигенция есть общество в идеальном его варианте. Все режимы преследуют интеллигенцию как носителя антивластных идей, как источник идей духовных и просто — нравственных. Не случайно «интеллигент» в этом смысле латинского слова, попавшего к нам из польского в эпоху освобождения крестьян, выражает чисто русское понятие.
Тоталитаризм
Любопытны взгляды русских мыслителей на все эти проблемы. Сегодня много говорят о «тоталитаризме» как признаке русской государственности, «имперском» ее характере. В данном случае допускают подмену понятий в духе западного номинализма, в слове отыскивая оправдание непонятной идеи. Не стоило бы этого забывать, иначе и наше собственное ощущение русской государственности войдет в противоречие с навязываемой логической схемой чужого понятия. Тоталитаризм, говорил историк Георгий Вернадский, вовсе не особенность русской ментальности, а исторические условия выживания. Кроме того (это мнение Леонтьева, Тихомирова, Федотова и других) русскую «государственность» породил византизм, основная суть которого заключается в том, что «империя не понимала нации. Она знала только чиновное государство», — не из нации создавалось государство, а в соответствии с корпоративными интересами «чиновников-политиков»; империя по структуре своей — бюрократия, а бюрократия есть власть, которую нация лишена возможности контролировать (см.: [Тихомиров 1992: 179, 338]).
«Ну, а историю образования всероссийской империи все знают; тут участвовали и татарский кнут, и византийское благословение, и немецкое чиновно-военное и полицейское просвещение. Бедный великорусский народ, а потом и другие народы, малороссийский, литовский и польский, присоединенные к ней, участвовали в ее создании только своею спиною» [Бакунин 1989: 330]. Так что «византизм — мировое, а не национальное начало» [Бердяев 1991а: 236]. Вот как полагают русские мыслители.
Они хорошо показали, что и государственность — вообще не русская идея. Русская идея кружилась около понятий общества и общины, хотя «деспотичность» и самого русского общества отмечал еще Алексей Хомяков. Деспотичность идеи и слова, а не силы и власти. Таким образом, является последовательность:
тоталитаризм < империя < бюрократия
Приписывать русской ментальности некую «склонность» к тоталитаризму — бессовестная передержка. Она основана на метонимическом переносе смысла с одного на другое, с явной целью опорочить совершенно третье — нацию, которая никак с подобным движением мысли и дела не связана.
«Принцип тоталитарности, то есть полноты и всеобъемлемости власти, выражался в образе русского самодержавия. Принцип единства нации выражался в формуле: державный хозяин земли русской. Принцип подчиненности частного интереса выражался... в термине "государево служение"... и в термине "государева служба"... Российская империя была или, по крайней мере, пыталась стать не неким племенным единством, а единством чисто духовным» [Солоневич 1997: 59, 51]. За этим определением и скрывается различие в смыслах, которые вкладывают в термин «империя». Империя как идея единения независимо от каких-то признаков крови, земли или веры, и Империя как властная сила единства для целей прагматических. В каком из определений правда — нужно еще установить.
Русское понимание государственности
Государственность в нашем представлении удачно определил гегельянец-реалист Борис Чичерин [1998: 64]: «Государство как единое целое есть реальное явление; общество как единое целое есть фикция». Общественная среда может сгущаться в государство согласно идеальным целям, тогда как государство всегда предстает как единство, «представляющее общество как единое целое». С такой точки зрения государство воспринимается как «живой организм народного единства», как «существо мистическое», как «особый аспект сверхличного человеческого бытия» [Струве 1997: 377, 406]. Так представляет себе рождение государства русская мысль. От семьи через род и общество оплотняется государство.
Вообще-то это славянофильская схема. Хомяков говорил, что «область государства — земля и вещество; его оружие — меч вещественный» [Хомяков 1912, 8: 32]. Энергия силы, двинутой идеей общественных связей, поскольку «правительство только направляет употребление сил, а не создает сил» [Там же: 177]. Вот первое в литературе разграничение мыслью государственности и «правительства» (бюрократии). Впоследствии ее развил Ключевский, разграничивая «технику правительственной машины» и идею государственности. Русский человек — государственник, верно, но не подменяйте понятий, не ставьте вещность чиновника вместо вечности государства.
Естественно, начались поиски той социальной компоненты, которая скрепляет все уровни данного метонимического смещения от частей к «единому целому». И такая компонента находится. Она запрограммирована в самом термине государство. История слова разворачивается как бы на глазах:
господарь > государь > государство > (сударь)
Эту вырастающую последовательность Иван Солоневич представил так [1997: 162]: «Каждому человеку, вне зависимости от принадлежности его к тому или иному народу, свойственно желание иметь семью. Всякому народу свойственно желание стать нацией. Всякой нации свойственно желание отлиться в форму независимого государства».
Совмещенность субъект-объектных отношений, выраженных составным словом господарь (гость—хозяин), со временем разводится по уровням «господства»: с одной стороны, это Господь, с другой — государь. В «Домострое» XVI в. тройственный смысл слова государь обозначен четко. Государь предстоит как хозяин Дома (глава семьи), как хозяин государства (царь) и как «хозяин мира» (господарь > господь, впоследствии господин). Очень тонко, в оттенках смысла, передавал это «истечение власти» сверху вниз Иван Ильин, в соответствии с традицией полагавший, что русская идея государства есть растущий из общества на сакральном освящении организм, тогда как привнесенное извне любое иное государственное образование неприемлемо. Государство прорастает из общества как наивысший уровень «государения»-дарения, а не навязывается по чуждым схемам чужого властвования. «Право и государство, закон и начальство как система абстрактных представлений мало о чем говорят волевому началу русской души. Необходимо их принять сердцем — с верой и совестью соединить, через веру и совесть обосновать и одобрить; надо объять их своим религиозным и нравственным взором, надо представить их художественно, стало быть персонифицировать» — в символе царя [Ильин 6, 2: 579—580].
Интуитивно осознаваемая связь уровней социального подчинения поддерживается в сознании семантикой корня, из чего, например, монархисты (Лев Тихомиров) делали вывод: единство общества и государства достижимо только при монархии, поскольку лишь монарх одновременно является и «краеугольным камнем государственности», и символом органического единения общества. «Этимологическая» эта перспектива не согласуется с историческими фактами, да и сами концепты «государство» и «общество» сходятся лишь в одной-единственной смысловой точке: развитие идеи «господарь» в «государь» выражает иерархию сверху вниз (это — воля), тогда как «община» > «общество» выражает идею равенства в горизонтальном ряду (а это — свобода, причем свобода важна для самой личности, а не для общества в целом). Общество поставило себе государство как скрепу, — говорил Константин Аксаков, — но горе в том, что «цель государства сделать ненужной совесть» [Аксаков 1898: 592], и это верно, поскольку для государства не духовное важно (как совместное сознание со-вести), а честь — вещное воплощение той же совести, материальный ее субстрат. Впрочем, и сам Тихомиров говорил не об обществе, а об «общественности», а это совсем не то же самое. «Передовая общественность» ныне именуется «элитой» и прочими непривлекательными словами, но признать такую элиту за общество трудно. Скорее — свой круг. Мы же... «мы даже не умеем угнетать» [Самарин 1996: 324]. В русской истории были-таки светлые точки схождения свободы и воли, чина и ряда, государства и общества. Это — точки расцвета. Иначе — когда решались говорить о подавлении одного другим.
Тот же Тихомиров полагал, что общество не нужно («упраздняется»), если личности, его составляющие, внутренне независимы и самоудовлетворены. Происходит так оттого, что общество — порядок стихийный, тогда как государство — «сознательный», и потому он крепче. Омертвление общественного организма происходит, когда исчезает состязательная соревновательность между обществом и государством и государство единолично устанавливает нормы развития (это и есть тоталитаризм). Подобно тому как в других странах политическая борьба осуществляется как борьба между партиями, у нас конкурируют не политические партии, а этические нормы государства и общества.
Как государство двоится на идею государственности и на телесность «правительственной власти», так есть и «два понимания общества: или общество понимается как природа, или общество понимается как дух. Если общество есть природа, то оправдывается насилие сильного над слабым, подбор сильных и приспособленных, воля к могуществу, господство человека над человеком, рабство и неравенство, человек человеку волк. Если общество есть дух, то утверждается высшая ценность человека, права человека, свобода, равенство и братство» [Бердяев 1990: 144]. Замените слово дух словом идея, а слово природа словом вещь — и вы получите то же уравнение, связанное со скрытым удвоением мысли русского реалиста. Равно как и в толковании Чичериным отношения «человек — общество»: это все то же соотношение вещи и идеи: «Не общество, а лица думают, чувствуют и хотят; поэтому от них все исходит и к ним все возвращается» [Чичерин 1998: 39].
Таким образом, родовая черта русской ментальности состоит в отторжении западной модели государства как вспомогательного механизма общественной деятельности; для русских государство «включает в себя смыслополагающую функцию. Государство должно генерировать образы будущего, мы же все должны "строить" что-то определенное. Повседневная рутина без придающей ей возвышенный смысл цели-программы для россиян психологически тягостна», «заботливое государство» должно ставить «трансцендентные цели» [Андреев 1999: 50]. Внутренняя противоречивость русской ментальности в толковании «государства» возникает из-за несведения в единый фокус категорий государство и государственность — вещного и вечного, «тела» государства и государственной «идеи». «Русский народ довольно сносно переносит, так сказать, внутрисемейные неурядицы, но когда его систематически начинают бить чужие — он этого не любит. Означает ли эта нелюбовь "извращение государственного инстинкта"? Или она означает силу этого инстинкта?» [Солоневич 1997: 155] — вот вопрос, опять-таки неразрешимый. И так в любом отношении к категории «государство».
Именно с позиции идеальной государственности выделяются те традиционные русские ценности, которые могут лечь в основу новой цивилизации: почитание родной земли как величайшей ценности, жертвенность общественного служения, духовный авторитет верховной власти, идеал соборного социального единения, «дух всемирной отзывчивости» и нравственное искание правды [Иванов 1999: 92, 96].
Народ и государство
Взглянем на нашу антиномию и с другой стороны. Всё так: государство реально — общество идеально (т. е. не имеет материализованных проявлении, но нисколько не виртуально). Именно общество, по многим суждениям, порождает защитную свою сферу — государство. Следовательно, «идея» воссоздается в явленности «вещи».
Однако антиномия рассудка не всегда соответствует жизни. Субъектом (или объектом?) общества или государства является народ? «Народ» — такая же отвлеченность мысли, как и «государство», и потому, быть может, часто именуется «публикой», «массой» и т. д. Возникает еще одно метонимическое перенесение смысла, весьма характерное для «реалиста», в своих суждениях исходящего из слова:
общество > народ > «народные массы» > масса
Речь идет об одном и том же действительном, но в оттенках идеальной реальности. Зависит от взгляда. Русский либерал XIX в. замечал «поразительную черту — еще весьма недавнюю безличность великорусской массы, отсутствие, в огромном большинстве, ясно определенного индивидуального характера, индивидуальной обособленности русских людей», у которых «все их хорошие стороны сосредоточены только в домашнем, семейном быту; только интересы семейные и домашние составляют для них серьезное дело; всё, что вне этого круга — государство и общество, — являются, в их глазах, чем-то посторонним, внешним, чужим, до которого им нет дела» [Кавелин 1989: 227, 229].
Таков «реализм» русского мужика полтора века назад; он реален и сосредоточен на телесности и вещности исходной базы всех социальных наростов — на семье, на действительности жизни в действии природных сил. Заклинания московских гегельянцев, уверовавших в то, что государство важнее личности как целое важнее его частей, не пробивает еще скорлупы традиционных взглядов на коренное в жизни. Семья остается одновременно и родом (как идея), и видом (как естественность «вещи»). «Слово семья человеческая есть не слово, а дело», — объяснял либералу Алексей Хомяков.
И так же, как идея личности возникает как ответ на притязания государства, так же точно и общество создается (организуется, формируется и т. д.) на основе интересов различных личностей, идеально заменяя собою действительность традиционной общины. Русское общество есть идеальное претворение русской общины.
Развитие социальных уровней русской жизни происходило путем качественных преобразований двух враждующих «партий» — народа и государства — на основе выделения каждый раз новых, отмеченных признаком различения субъектов социального действия. Всегда есть что-то, на чем «душа успокоится», иначе — в чем нейтрализуется противоположность крайностей. В данном случае:
М. В. Ильин описал этапы развития социальной структуры «общество», учитывая и данные языка [Ильин 1997: 144 и сл.].
Сначала происходит органический рост общества, чисто биологический процесс, для которого важны такие чувства, как любовь, приязнь, единение и пр. (поэтому славянофилы обращают свой взор именно к этому моменту вызревания общества).
Затем начинается чисто физическое расширение пространства как выход общества вовне, и «круг» заполняется уже не совсем органически «своими» членами.
В захваченном пространстве начинается целенаправленное движение общества (идеи спутника, друга как другого, дружины — следование и поддержка в пути).
Наконец, происходит снятие с этого движения инфраструктуры, объединенной со специализацией по функциям, а не по рождению, не по близости, не по связи, — «усиление социативности» как «структурация общества» с выделением четырех основных символических «посредников»: власти — в политике, денег — в экономике, ценностей — в культуре, влияния — в обществе. В разные эпохи преобладал тот или иной посредник, но все вместе они и создавали форму — государство. За обществом остается, сохраняясь, влияние.
Если внимательно присмотреться к тексту «Домостроя», увидишь, что в XVI в. налицо были первые три момента — рост и движение в пространстве, — но не было законченных схем государства, не было системы. Система не структурировалась потому, что средневековое государство создавалось от идеи (византийского образца империи), а не от народного «вещества». По той же причине нет и общества. Общество существует только во взаимном общении, здесь и теперь, и если посредники тому препятствуют, а государство подавляет (нет круга общения, своего языка, не дают слова и пр.), то и общества уже нет, наступает «конец истории». Идея общества омертвлена в явлении. Отсутствие общества ослабляет государство.
В таких условиях говорить о русском человеке как государственнике было бы, пожалуй, натяжкой. Ничего хорошего от такого «государства» в явленном его виде русский никогда не видел потому, что все четыре «посредника» оказывались в руках государства, даже овеществленные ценности культуры. А кто радуется встрече с грабителем?
В полной мере представление о государстве как силе выразили анархисты, в частности Кропоткин и Бакунин. Тезисы М. А. Бакунина хорошо известны: «Всякое государство, как и всякая теология, основывается на предположении, что человек, в сущности, зол и плох»; «Государство... отнимает у каждого часть его свободы только с тем, чтобы обеспечить ему все остальное. Но остальное — это, если хотите, безопасность, но никак не свобода. Свобода неделима»; «Государство — это самое вопиющее, самое циничное и самое полное отрицание человечности. Оно разрывает всеобщую солидарность людей на земле и объединяет только часть их с целью уничтожения, завоевания и порабощения всех остальных» «ибо нет ужаса, жестокости, святотатства, клятвопреступления, обмана, низкой сделки, циничного воровства, бесстыдного грабежа и подлой измены, которые бы не были совершены, которые бы не продолжали совершаться ежедневно представителями государств без другого извинения, кроме столь удобного и вместе с тем столь страшного слова: государственный интерес!» [Бакунин 1989: 89, 92, 94, 97].
Только такое движение мысли, основанной на чувстве справедливости, соответствует метафизической сути русского сознания, основанного на метонимической связи рода и его видов, а именно:
«Народ» — символ суровый, непреклонный, мужского рода, чем и отличается от «нации», представляющей «женственное начало культуры» [Федотов 1982: 150]. Народ — основа всех социальных устроений, нация — их порождение.
Если интересы «общества» и потребности «государства» соединяются в пользу «народа» — в этой исторической точке происходит движение вперед. Истина, известная эмпирически, на основе опыта; пожалуй, даже банальная истина. Но почему же тогда о ней «забывают»? Не потому ли, что слишком много расплодилось непотребных «личностей», а «общество» состоит не из народа? Народ защищает не государство, которое обещает ему безопасность, а общество, которое дает ему свободу.
Общество и государство как понятия часто лишаются содержания, а народ как род в отношении к конкретному человеку связан с «народной массой». И дело в том, что «русский человек не бессодержателен, но русское общество бессодержательно» (Розанов).
Исторически, говорит современный исследователь, «особенностью государства в Древней Руси являлось совмещение его с общиной,.. ибо перед нами не одна община, а ряд подчиненных общин во главе с общиной волостного центра, узурпировавшей власть (правда, частично) у подчиненных общинных союзов и возвысившейся над ними в качестве правящей» — с VI по XI в. «Элементы государственности появляются в определенной последовательности»:
публичная власть > дружина > налогообложение > территориальная общность
Таким образом, «древнерусское государство (о нем речь. — В. К.) сложилось в условиях доклассовых общественных связей. Оно наполнялось классовым содержанием по мере созревания классов и стало инструментом классового господства тогда, когда Русь из общинной превратилась в феодальную, а это произошло не ранее XIV—XV вв.» [Фроянов 2001: 750]. Это традиционно русское представление о данной антиномии.
Изменение термина фиксирует происходившие изменения.
Общность общины как первоначальная государственность действительно показывает, что русское государство возникло на основе общинного строя. Но общество и тем более общественность не то же, что первородная основательница государства — община.
Более того, и «общество» вовсе не то, что народ, и не то, что государство. И жизненные задачи их, и отвечающие им формы жизни, и внутренний строй совершенно различны. Задача, вызывающая к бытию всякое «общество»... всегда есть задача специальная, относящаяся лишь к одной определенной стороне жизни и деятельности человека, но не охватывающая ее со всех сторон и во всех отношениях» [Астафьев 2000: 168]. Общество всегда связано с неким конкретным интересом, а народное чувство как раз к интересам и относится с подозрением: интересы всегда чужие. Вдобавок у общества отношения, а не органически природные связи, добавляет П. Е. Астафьев: общество всегда космополитично. О том же говорил и Л. П. Карсавин на примере средневековых взаимоотношений государства и общества: «Не государство вгоняет общество в рамки кастового строя. Само общество, пассивно отдаваясь ходу вещей, теряет потребность в свободной социальной жизни» [Карсавин 1995: 12]. Другими словами, в отличие от «общины» «общество» продается в каждом удобном случае, «и "русский гражданин" начинается с лакея, а "русская общественность" есть взбунтовавшаяся кухня, так что увольте: "гражданином" совсем не хочу быть. "Гражданин" есть претензия, выскочка и самомнение. А я русский» [Розанов 1998: 193,63].
Вот приговор современной общественности. Интересы, отношения, космополитизм зашли за грань дозволенных обществу связей и обернулись совершенно отвлеченной идеей, никакого отношения к русской государственности не имеющей.
В последние годы появилось много провокационных работ самого общего характера, не исторически, а типологически — сравнением с западными «историями» государств — решающих проблему русского «гражданского общества» (см.: [Стариков 1996]) или разграничивающих «тоталитаризм и соборность» как две разные ментальности у одного народа (Есаулов). Типологический антиисторизм — родовая болезнь западной науки; внесистемная разбросанность фактов — также. Не говоря уж о номиналистической игре терминами. Например, оксюморон «гражданское общество» было бы лучше заменить плеоназмом «гражданская общественность», и тогда это соответствовало бы русскому пониманию данной заемной категории. Иначе путем подмены понятий навязывается нечто, русской ментальности чуждое. Гражданин — индивидуум, общество — единство, — как их согласовать?
«Берегись, Вася. Берегись "русской цивилизации"... Берегись же, Вася, — берегись. И никогда не союзься с врагами земли своей. Крепко берегись...» [Розанов 1998: 19, 209].
Крепко — это значит твердо.
Кажется, объяснение просто, оно сформулировано Петром Струве еще в начале XX века: «Я западник и потому — националист. Я западник и потому — государственник» [Струве 1997: 74]. Совершенно верно, и национализм, и государственничество — порождения заемной идеи. «Национализм нашего времени, обеднев духовно, защищает не идеалы, а интересы наций, т. е. государств» [Федотов 1982: 148], и важно определить (идею привязать к вещи), кто ныне «государство» и кому какой национализм нужен. Ни русский человек, ни его идеологи (например, славянофилы) никогда о них не говорили. Для них всё определяют принципы нравственности и справедливости — только эти принципы могут быть «посредниками» в социальном общении. А социальное общение и есть общество.
И было бы неплохо хоть на терминологическом уровне различать: национализм — одно, национальные чувства — совсем другое. Русская духовность приемлет второе, отрекаясь от первого как от порождения чуждой ментальности. Да и в национальном чувстве заметно двоение, и всё в том же роде, с обязательным выделением в слове: матерински — Родина, отцовски — Отечество. «Во всяком национальном чувстве можно различать отцовское и материнское сознания — находящие себя как любовь к Отечеству и любовь к Родине. Родина, материнство связаны с языком, с песней и сказкой, с народностью и неопределимой, но могущественной жизнью бессознательного. Отечество, отцовство — с долгом и правом, с социально государственной, сознательной жизнью. В соединении их было величие национального задания XIX века», а их расхождение обедняет народ, который в результате «утрачивает право на национальное имя» [Федотов 1982: 149].
Мы вернулись к тому, с чего начали. Матерински Родина и отцовски Отечество в совместности их — та же Семья. Исходная точка ветвления социальности в развитии от вещества к идее как идеалу.
Язычество и христианство
Удвоенность сменилась раздвоенностью в отношении к духовному содержанию жизни, по традиции — прежде всего в отношении к вере.
Язычество как воплощение веры в Природу столкнулось с христианством как новым культом — ростком совершенно новой Культуры, в центре которой сам человек. С верой в то, что человек может совершенствоваться нравственно. Такая точка зрения отводила природе второе место, и «хрустальный сосуд, который мы называем Природой», теперь непостижим ни чувственно, ни нравственно — только интеллектуальным действием, которое влияет на природу разрушительно [Андреев 1991: 37, 40].
Есть нечто сокровенное в религиозном предпочтении народов, которые — изломом собственной истории — в конце концов добивались нужной формы для своей веры, уже после насильственного обращения в устоявшиеся формы христианства. Какой-то закон природы велит возвращаться к питательным корням народной жизни, к понятиям предков и к их пониманию духовности. «Христианство есть "закваска", которая может быть положена в самые различные виды теста, и результат "брожения" будет совершенно различен в зависимости от состава теста... Распространение христианства шло успешно именно там, где христианство воспринималось как фермент, а не как элемент уже готовой иностранной культуры. Органически и плодотворно воспринятыми, привившимся оказывалось христианство лишь там, где оно переработало национальную культуру, не упразднив ее своеобразия» [Трубецкой 1995: 80—82].
Не религия формирует цивилизацию, но цивилизация выбирает необходимую для ее целей религию. Уже Владимир Соловьев писал, что, например, понятия о совести или о месте Бога в жизни людей у восточных славян были далеко не греческими: сформировались, и притом давно, свои собственные. Принцип, на основе которого возникала возможность и направление предпочтений, был известен древним римлянам: Боэций утверждал, что сближение происходит не на общности сходств, а на отсутствии различий, что, конечно же, впоследствии и могло привести к вариантности общих качеств. Диалектика семиотических связей.
Латинские народы остались в поле конфессии католической (истинной с точки зрения ratio), поскольку одинаковое отношение их ментальности и к рассудку, и к чувствам восполнялось соответствующей формой христианского вероисповедания. У германцев и некоторых (западных) славян приобщение к католицизму — дань традиции, отчасти сломившей их родовую идентичность. Большинство же германских и славянских народов такому давлению не поддались.
Начать с того, что само христианство они приняли в арианском его обличии, представленном позже как ересь. Христос как человек, ставший Богом за святость свою личную, это, конечно, соблазн, но соблазн, приемлемый для вчерашних язычников, избирающих новую веру в расчете на признание их равноправными с другими народами — в миру.
Впоследствии у славян и германцев пути разошлись.
Славяне со своим православием (правильной по чувству верой) всё больше погружались в податливую утробность язычества, по привычке включая в свои традиции многое из того, что дорого было язычнику-словенину и без чего он не мыслил веры: от встречи весны на Пасху (не Рождество главное празднество года) до почитания святых — угодников Божиих, которые, подобно умершим родовым вождям, помогали соплеменникам проходить по земле своим предстоянием на небесах.
Н. А. Бердяев образно выразил смысл удачного этого союза: женственность язычества с культом матери-земли повенчалась с суровым отцовством христианской веры: язычество — религия «женская», христианство — «мужская».
Германские племена, кристаллизуясь в народы, всё больше сопротивлялись давящей силе католичества, прорываясь в протестантские «ереси». Как в православии побеждало не слово (всего лишь носитель идеи), но сама идея, воплощенная в Слове, непобедимый Логос, так и у германцев сквозь все препоны данной католичеством идеи побеждала исконная склонность к прагматичности вещи, ее конкретности, осязаемости и рассудочной цельности.
Три христианства
С точки зрения культурно-исторической и религиозно-философской уясняется различие между тремя христианскими конфессиями (см.: [Новгородцев 1995: 407—423]). Основной принцип католичества — авторитет церкви как учреждения: организация, власть и дисциплина (идея теократии); у протестантов — юридическое понимание христианства: принцип свободы непосредственно личного обращения верующего к Богу (этическое понимание веры); в православии, по мысли Новгородцева, который и сам был юристом, — принцип взаимной любви всех во Христе — отдельно и всех (диалектика общего и частного). Утверждается, что в религиозной жизни важна не организация сама по себе и не свобода личности сама по себе, а благодать всеобщей взаимной любви — единение во Христе. Иначе, философски, называется это соборностью. Таково религиозно-мистическое понимание христианства, по слову Бердяева — Иоанново христианство (не Павлово, как у католиков, и не Петрово, как у протестантов, по именам апостолов). Личное спасение также понимается по-разному. Спасет вера, а не дела — протестанты; спасут дела, а не вера — католики; спасут как вера, так и дела — православные.
Тут тоже были традиции, восходящие к прошлому. О. Н. Трубачев [1994: 8] заметил, что у славян в дохристианской их культуре реконструируется — по лексическим данным — только рай (ирей в средневековых текстах, в народных говорах вырей — сказочная страна, куда бесследно исчезают души), тогда как идея ада заимствуется ими из христианства, а отсюда постоянное, навязчивое упоминание ада в древнейших текстах и множество обозначений, его уточняющих «имен»: ад, геенна, пекло и пр.). В западноевропейских культурах наоборот: лат. infernum, нем. Нӧllе, англ. hell и другие свои обозначения ада, а для обозначения рая служат заимствованные слова, например парадиз, с присущим каждому языку произношением этого общего слова. У древних славян оно тоже было в произношении порода, в XVIII в. парадиз — но оказалось ненужным при наличии собственных слов.
Исторический прецедент обуславливает толкование противопоставления ад—рай в русской традиции. Вот только два примера, показывающие несводимость оппозиции с точки зрения национально-русского представления о рае как о созданном благими трудами.
«Вера в ад, — говорит Бердяев, — есть неверие, есть большая вера в диавола, чем в Бога. Ад есть идея эзотерическая», «ад есть несомненная удача диавола и обнаружение его могущества», а «несуществование ада есть нравственный постулат», более нравственный, чем «этика ада» [Бердяев 1996: 132, 135, 136]. Николай Федоров, обсуждая ту же проблему, приходил к выводу, что «рай, понятый по-христиански, по-православному, превращается в чистилище; ибо если господство получает награду, то гордость перестает быть пороком; и, наоборот, если гордость порок, то и господство не добродетель. Если же гнев — порок, то и крестоносцы, и легисты, одержимые благородным гневом, нуждаются в очищении... Православие не знает безвыходного ада. Но если рай должен опуститься в чистилище, то и ад должен подняться до него же, так что будет уже одно чистилище, которое и есть сама наша история, даже и не выходящая из области, доступной чувствам»: из этой-то истории и нужно создать рай делом [Федоров 1995: 48].
На примере двух церковных деятелей конца XVII в., Стефана Яворского с его тягой в католичество, и Феофана Прокоповича с его стремлением к протестантизму, Ю. Ф. Самарин детально описал различие между католичеством и протестантизмом, как их воспринимала традиционная русская мысль [Самарин 1996: 32—43, 59—73]. И тому и другому отказано в благодати — из-за точного следования закону; оба осуждены за предпочтение свободы — воле и рассудка — вере.
Кстати сказать, возведение к заимствованным обозначениям коренных представлений народа, его способности к мыслительным операциям семиотического толка приводит к заблуждениям. Например, Ю. М. Лотман настойчиво утверждает, будто «все наши беды не результат чьего-либо недомыслия, а суровый диктат бинарной исторической структуры», в отличие от благодетельной западной, которая тернарна: рай — чистилище — ад; у русских нет чистилища [Лотман 1992: 270]. Лингвистическая поправка показывает, что в обоих случаях языческая система была одномерной, но древние язычники поклонялись разным богам. Предки русских своим богам доверяли.
«Семантический треугольник» современных семиотиков, по происхождению продукт средневековой схоластики, схематически показывает, что вещь, этой вещи идея и обозначающее такую идею слово (знак) составляют как бы зримые углы треугольника, связанные сторонами взаимных отношений:
Если отвлечься от (существенных, может быть) деталей, окажется, что распределение основных христианских конфессий Европы можно представить следующим образом.
Исходя из идеи, католический мыслитель ищет связи между словом и вещью; исходя из слова (Слова), православный ищет связи между идеей и вещью; исходя из вещи, протестант ищет связи между словом и идеей. Ни один из них не видит проблемы в целом, ограниченный только своей точкой зрения. Более того, ни один из них и не хочет «выйти из своего угла», изменить направление взгляда: ведь тогда отпадает надобность в вере, заменяющей знание.
Всегда должно оставаться нечто третье, что заполняет промежуток между противоположностями и, по видимости, их объясняет: противоположность между словом и идеей — у протестанта или противоположность между идеей и вещью — у православного. Этим третьим заканчивается всякое размышление, углубляясь в вопросы веры, а не положительного знания. Таким тяжелым наследством оказывается для народов чем-то важное в прошлом предпочтение тех или иных отношений в мире идеального. Для славян это на их духовном пути возникшая устремленность к идее-душе и неотвязность тела-вещи. Нравственные метания и скорбный выбор между душой и телом, их несводимость в духе, расхождения между земным и небесным при несводимости их в идее тоже «удваивали» мир славянина, вызывая потребность выбора между вещной идеей и идеальной вещью. Как верно заметил Бердяев, «русский человек душевен; задача состоит в том, чтобы стать духовным».
Старинная летопись рассказывает о причинах, почему Владимир предпочел христианство другим верам. Из рассуждений летописца ясно, что христианство привлекло красотой обряда, трогательной историей о Богородице и Сыне и допущением свободы воли. Все три признака как-то соотносятся со славянским язычеством. Первый — с ритуально-обрядовой его стороной, второй — поклонением матери сырой Земле и господствовавшим в ту пору матриархатом, третий — с возможностью нарушать заповеди (знаменитое слово князя: «Веселие Руси есть пити!»). В то же время это отталкивание от мусульманства и иудаизма, гнет которых восточные славяне только что испытали под хазарским игом.
Русская вера
«Русская вера» допускает известные пределы вариантности, всегда ограниченной пределами другой веры. Ко всему чужому и даже чуждому русский человек относится терпимо, даже способствует его развитию, но до известных границ: если это не есть чуждая вера. Вероучение как инвариант измениться не может — это идеал. Здесь рождается фанатизм идеи, и чем сильнее вера, тем фанатичнее адепт. Именно в этом коренится догматизм, в котором часто обвиняют русское сознание; но он вовсе не связан с природными свойствами русского характера [Никольский 1913]. Тем же объясняется и «религиозный пессимизм», и некоторая склонность к восточным религиям — не столько из-за пристрастия к мистическим культам, сколько в противоположность иудейству и мусульманству с их идеей национальной исключительности. Что бы ни говорили, такая идея не свойственна русским; Н. Лосский точно обосновал особенности русского мессионизма: он носит оттенок супранационализма и как таковой исключает и национализм, и космополитизм. Определяется такое свойство «русской веры» исторически. Христианство как наднационально типологическая культура и язычество как всечеловечески интернациональная в своем синкретизме не приемлют крайности националистического толка. «Национальная душа не дана в истории» — этнос всего лишь материал («вещь») в освобождении духовных энергий [Федотов 1981: 93], которые и создают историю. Как это напоминает идею построения всемирного коммунизма на том же российском этносе!
Нельзя сказать, что русский народ — народ до конца православный и верный. Мятущийся дух земли притягивает русского, он клонится к этой тверди, временами отвращая взор свой от небес. В своей вере он верен и земле, и небу, душа его мечется между ними, между землей и небом, между телесным и духовным как крайностями, в конце концов замыкаясь в душевности среднего, примиряющего несводимые противоположности земли и небес. И тогда воцерковленному кажется, будто «русский мужик не тот пошел: пьет и в Бога не верует!». И тогда безбожнику кажется, будто русский народ — «это по натуре глубоко атеистический народ. В нем еще много суеверия, но нет и следа религиозности; религиозность не привилась в нем даже к духовенству» (известные слова Белинского, обращенные к Гоголю). Не то и не это, не так все просто. Русский мужик себе на уме и понимает прекрасно, что Бог на небе — это одно, а его наместник здесь, на земле, совсем иное. Уж сколько ядреных слов и фривольных рассказов о попе и монахе! «Русское народное сознание: Христос был хороший, виноваты попы... Другими словами: учение Христа верное, но виновата церковь» [Пришвин 1986: 179]. Хорошо о «падении русской церкви» в XVII в. сказал Даниил Андреев [1991: 173, 179]. Она настолько развращена пороками, что строить на ее основе русскую соборность просто грех.
К тому же какая разница в представлении отвлеченных истин! Богослов и мужик не понимают друг друга. Кто-то из славянофилов говорил, что символ Софии в народном представлении обернулся образом Богородицы, матери-земли. Если это так, возникает еще одно противоречие — между идеальной моделью, идеей Троицы и реальным, обращенным к жизни соотношением Бога-отца и Богородицы-матери. Такое же раздвоение, что и во всем прочем: идеальной схеме в бытовом сознании соответствует нечто реально парное, в данном случае это семья с владыкой дома и хранительницей домашнего очага.
И вот положение этого среднестатистического «мужика». Он верит в Бога, потому что вообще верит, весьма доверчив, но — зачем ему поп? Он и в попе может видеть доброго человека: старца, отца духовного, даже святого. Но то ведь конкретный человек, а не сан, в нем личные свойства души и духа. Богом данное то, что свято и не подлежит отчуждению в пользу идеи церкви. А свечки и ладан, поцелуйный обряд? Еще одна антиномия жизни, ведущая к душевному разладу. Остается традиция. Женская жажда очиститься в духе. Святою водой покропить, елеем помазать. Нет, не то. «Религия там, где государственность» — выразил русское понимание этого, кажется, Василий Розанов.
Полуграмотность современной «образованщины» позволяет ей совершать ошибки в русской орфографии. Мессианство она (не намеренно ли?) смешивает с миссионизмом. Историческая миссия русских, утверждает русский мистик, заполнить все пространства между мировыми культурами, соединяя их в общее братство: «Сознанию российского сверхнарода (так именуется внеэтническая нация. — В. К.) христианский миф с самого начала сообщил предчувствие именно всемирной миссии — не миссии всемирного державного владычества, но миссии некоторой высшей правды, которую он должен возвестить и утвердить на земле на благо всем... Самосознание это творит идеальные образы Святой Руси: не великой, не могучей, не прекрасной, а именно святой» [Андреев 1991: 137]. Такая идеальная цель находилась в постоянном конфликте с «русским национальным эгоцентризмом», обязанным тому, что во исполнение этой миссии русским приходилось сталкиваться с народностями, и не только в битвах, «по культурному уровню их не превышавшими», вплоть до выхода на Запад при Петре I [Там же: 157]. Расхождения между идеальной целью и вещной ограниченностью конкретных деяний вызывали в русской ментальности несоединимые качества веры и безверия.
Уместно напомнить и о различиях в язычестве, существовавших в древнерусском обществе.
Носителем языческих (в культурном аспекте — античных) традиций в Византии была светская высокообразованная знать, тогда как на Руси язычество дольше всего (на Севере — до XVI в.) сохранялось в самой темной крестьянской массе. «Темная» — сказано по привычке. Это была своеобразная культура, которая, между прочим, сохранила нам древнерусские былины, сказки и другие произведения устного творчества, исчезавшие в областях, раньше всего отказавшихся от верований предков. Противоположность относительно социальной принадлежности язычества — наверху или внизу общественной иерархии — оказалась существенной в дальнейшем развитии христианства: на Руси христианство постоянно развивается, прививается к могучему языческому подвою, наполняясь особой мистической силой и всё шире распространяясь по Руси, становившейся из Руси светлой Русью святой. По происхождению слова свет и свят родственны; само определение святая Русь — переформулировка языческого термина свѣт земля; отсюда и древнейшие термины типа светлый князь в договорах русских с греками X в. или обращение свет мой («Свет мой, зеркальце, скажи...» у Пушкина).
Развитие новых представлений идет параллельно — и в христианстве, и в славянском язычестве. «Русское православие не совпадало с язычеством так, как католичество. Оно не ассимилировало его себе, оно не истребило его» [Бицилли 1996: 59]. Язычники создают «народную Библию», но и христианство включает в свою традицию некоторые языческие праздники: слово христианина и дело крестьянина соединяются через символический образ Христа в общем неприятии иудаизма. Потом это проходит, противоречие сменяется другими формами конфронтации, но самый принцип противоречия остается. Всегда в русской культурной традиции новое качество развивается на общности совпадающих сходств, но — в противоположность к какой-то третьей силе, по тем же признакам и в данный момент враждебной.
Вера и Церковь
Предупреждая дальнейшее изложение, скажем тут о различии между верой и церковью. Православие как вероисповедание, конечно, шире понятия Церкви, взявшей на себя функцию посредника между Богом и человеком. Внешних форм православия накопилось множество, тем агрессивнее притязания каждой из них на роль носителя Истины. Возникло еще одно противоречие между верой и знанием, потому что истина — категория католическая, равная православному символу Правды. И оказывается, что Правда есть у каждой веры. Правда — своя, тогда как Истина невозможна ни для одной из них. «Церковь Христова» как символ, действительно, едина: это есть аксиома учения о Церкви [Булгаков 1991: 201], однако толкование символа (смешением Церкви с Православием) возводит церковь до степени всеобщей веры: «Нельзя определить пределы Церкви ни в пространстве, ни во времени, ни в силе», — утверждает С. Н. Булгаков. В мистические тайны амбивалентного символа трудно войти — но еще труднее из них выбраться.
Глубокие суждения историка, в тексты которого мы уже вчитывались, скорее помогут понять присущее русскому человеку отчуждение личной веры от организационных форм конфессии, от церкви. «Русский простолюдин — православный — отбывает свою веру как церковную повинность, наложенную на него для спасения чьей-то души, только не его собственной, которую спасать он не научился, да и не желает: "Как ни молись, а всё чертям достанется". Это — всё его богословие». С другой стороны, «русский образованный человек не может быть неверующим в душе: Бог нужен ему дома, как городовой на улице, и он не может прожить без благодати Божией, как без царского жалованья». И хотя «большинство верующих имеют не веру, а только аппетит веры, и религия для нас — не потребность духа, а воспоминание или привычка молодости», мы, тем не менее, на всякий случай опасаемся неприятностей, способных настичь нас в самый неподходящий момент. Расхождение между верой и жизнью началось с того, что «русское духовенство всегда учило паству свою не познавать и любить Бога, а только бояться чертей, которых оно же и расплодило со своими попадьями. Нивелировка русского рыхлого сердца этим жупельным страхом — единственное дело, удавшееся этому тунеядному сословию», в чем, собственно, и проявляется остаток византинизма: учить не на положительном идеале, а пугать возможным страданием. «Высшая иерархия из Византии, монашеская, насела черной бедой на русскую верующую совесть и доселе пугает ее своей чернотой». Раздерганность организационных форм православия всегда вызывала желание «найти Правду» — ибо «что такое Бог? Совокупность законов природы, нам непостижимых, но нами ощущаемых и по хамству нашего ума нами олицетворяемых в образе Творца и повелителя Вселенной». Историк понимает причину расхождения между верой и церковью. «Христос дал истину жизни (т. е. идею. — В. К.), но не дал форм (не материализовав ее в вещь. — В. К.), предоставив это злобе дня. Вселенские соборы и установили эти формы для своего времени, цепляясь за его злободневные условия. Они были правы для своего времени; но не право то позднее узколобие, которое эти временные формы признало вечными нормами...» Гибкость форм в католичестве или в протестантском движении всегда вызывала некоторую зависть у наших мыслителей, желание к совершенной организации форм веры. Такие мысли являются на Руси с конца XIV в., уже в первый момент формирования Московского государства. Так и случилось, что «на Западе церковь без Бога, в России Бог без церкви» [Ключевский IX: 442, 41, 380, 434, 437, 357, 386].
Но верно и то, что всякое организационное изменение в Церкви влечет за собою идеологическую подготовку к изменению власти. Каждый раз столкновение православия с католичеством приводило к уступкам последнему. И в деле Унии, и в реформах Никона, и в метаниях Петра I и далее русская культура поддалась культуре российской, и политические реформы Петра — протестанта по характеру веры — стали возможны. По меткому слову Ключевского, Петр не исполнил всего задуманного потому, что пути общения с Западом были противоречивы: «...активное — международное политическое, пассивное — культурное. Они противодействовали одно другому...»
Боязнь в перемене форм приводит православие к поражениям в содержании веры. Духовное влияние католичества на крестьянскую веру славянофилы видели в утверждении единодержавия Церкви, в гонениях за веру, в признании еретика за бунтовщика с приданием его мучительной смерти — замене чистилища [Самарин 1996: 211—212].
Действительно, «нельзя ничего понять не мое». И потому Дж. Биллингтон начинает свою книгу «Икона и топор» картой Европейской части России, на которой обозначены границы постепенного расширения государства с 1300 до 1945 года. Американцу становление государства иначе и не понять, как только указанием на расширение его границ; именно так росло североамериканское государство США: прикупали и грабили. Но внешнее сходство в расширении вовсе не объясняет внутреннего подобия. В отличие от экспансии США Россия просто возвращалась к исконным своим границам, которые постоянно от нее отторгались. Шесть веков реконкисты не то же самое, что американские века конкистадоров, умучивших не один народ.
В другом случае говорят, что «на Западе конфликт между церковью и государством развивал право (регламентацию жизни), а это — развитие наук, университетов и т. д.» [Кондаков 1997: 150] — почему бы не добавить: и схоластику формы, и принцип двух стандартов и прочего многого также. Русское «направление» ничем не лучше: соборность при подчинении церкви государству сохраняла опору на традиции и развивала религиозную догматику. Жизненные ситуации требовали от русских то подвига, то терпеливой жертвы, и это верно: «Русская культура... есть культура молчания» [Шубарт 2003: 149], и это тоже верно. Призывы к silentium для нас обычны, потому что сам Христос молчит — и при Пилате, и при Великом Инквизиторе. Молчит, потому что, согласно еще Платону, «молчание чревато» — чем? Быть может, рождением нового смысла?
А почему бы и нет...
Для славянского сознания важно начало как категория явления, рождения, источника всего последующего. Все древнерусские и средневековые летописи озабочены вопросом, «откуда есть пошла» та или иная социальная или моральная ценность. Характерно неравномерное отношение к государству и вере. Славянские государства до X в. складывались по принуждению; чужеродным завоеванием или насильственным присоединением под одну корону возникали Болгарское, Хорватское, Моравское царства и другие, в том числе и Русская земля, само имя которой до сих пор является загадкой. Несмотря на то что многие социальные явления, развившиеся в славянском мире, уже подготовили создание государственности, сами славяне сопротивлялись насаждению власти над собою. Уже развивались города (и Древняя Русь называлась Страной городов — Гардарикой), ремесла, оригинальная культура; уже бродили по славянским землям «жадные до веселия» дружины алчных князей, уже скрывались они в защищенных замках, сформировалась новая идеология силы — а государственность как единство нужно еще было создавать насильно и жестко. В противопоставлении «государство — общество» и сохранилось навсегда недоверие к государству, к власти, нежелание в ней участвовать, уйти от нее куда подальше. Русский анархизм как вера в возможность этого и русское казачество как практика этой веры — следы того. «Толки об „анархичности русского человека“... как о национальном или расовом свойстве — просто глупость» [Бицилли 1996: 53], это исторически созданный предел в стремлении освободиться от навязчивой власти.
Совсем иное — вера. Христианство все славяне приняли добровольно и по собственному выбору. Выбор был, и большой. Но пример «испытания вер» Владимиром-князем рисует нам общественное предпочтение. Ни иудаизм, ни мусульманство, ни чужеродное язычество — только христианство. Выбор верхушкой славянского общества именно христианства понятен: стать на уровень «великих европейских держав», создать единую идеологию для всего населения государства, разноплеменного и пестрого. Но, став религией государственной, христианство вызвало отчуждение у народа, к государству холодного: века отчуждения нанесли большой вред самому государству.
Ереси — все — учили: государство и освящающая его церковь суть творения дьявола, наряженного на род людской. Вера святая — вне понуждений церковных. Так и Христос велел: Богу — Богово, царю же — царево.
Что же касается самой мистической силы, о которой сказано, тут развитие идет от языческой магии через мистику зрелого христианства (с конца XIV в.) к логически строгому мышлению. Однако отмечаемая многими исследователями парадоксальная алогичность как основной принцип русского типа мышления остается в качестве родового признака русской ментальности. Алогичность вполне логична, но непонятна в других системах суждения. У русских суждение всегда предполагает наличие третьего лишнего, посредством которого и осуществляется связь между двумя членами логического суждения. Так, в Средние века идея познания Бога была основой всякой гносеологии. За всем стоит Бог, который и направляет движение — в том числе и движение мысли. По той же причине (и это также постоянно отмечают русские философы) русское сознание заполнено, а русское слово насыщено не строгим понятием, а внешне как будто расплывчатым образом или даже традиционным символом: русское мышление образно-понятийно.
На указанных «сходствах и различиях» возникала еще одна возможность роста и развития русской ментальности — в противоречиях, данных Богом и вместе с тем заданных собственной историей. Если антиномия «государство — общество» давала возможность расти вширь, раздвигая пределы государства, то в направлении веры рост шел вверх. «Если бы не было Бога, некуда и не к чему было бы расти», — заметил Бердяев. Так соблюдалась гармония между духовной Культурой и Природой — сохранением лада между идеей и миром по формуле реалиста:
Но если верна формула Бердяева, представляющая «христианство как снятие противоположности между имманентным и трансцендентным» [Бердяев 1991: 534], тогда, конечно, только русский реализм в самом полном виде отражает это единение вещного мира и мистики всеобъемлющей идеи, причем «свободное созерцание сердцем» открывает русскому человеку и «совершенную реальность» — трансцендентность сущего [Ильин 6, 2: 425], и возможность свободно фантазировать на эти мотивы.
Но мало расширять пределы государства, мало расти вверх по лествице благодати; нужно достигать известной глубины.
Чтобы развиться вглубь, должно было возникнуть новое противоречие, которое и не замедлило явиться.
Народ и нация
Можно подумать, что миф о народе есть производное от функции государства: это не племя — плод естественной жизни рода (само слово племя — архаическая форма того же корня, что и плод), а именно нарожденное в границах государства, урожденное здесь, ему прирожденное. Однако это не так.
Верно, русское государство в угоду своим, исторически понятным, интересам «ломало» русское общество в нужном ему духе. Лепило — каждый раз заново — как бы новую нацию. Сделать это в полицейском государстве нетрудно, да и обстоятельства помогают. Расширение территории, новые пространства незримо изменяют само государство, а населенные разными народами, эти территории требовали также видоизменения самого общества, его руководящих принципов. На недавних событиях советского общества видно, как это происходило. Происходило усреднение национального типа, и с каждым новым расширением границ русское в России уменьшалось в объеме и в содержании. Ясное дело: объем понятия, расширяясь, сужает его содержание, содержательность сущего. Да и язык за последние полвека изменился в сторону упрощения, он просто вульгаризирован. Не язык, а набор речевых формул, конторских штампов, удобных в целях формального общения, но разрушающих речемыслительный и художественно-образный потенциал языка. Примеров множество, приводить их не стоит: достаточно раскрыть любую книжку современного автора. По традиции русский писатель творит не идеи (идеи висят в воздухе) и не действительность вещи, а слово, новый язык для своих современников. Он пытается соединить идеи и вещи и в одной действительности, и в одной идеальности, но всё труднее совершать это тяжелое дело сегодня вне языка.
Становление нации
Мы вправе выделить по крайней мере четыре больших хронологических среза разных «наций», в своей последовательности одинаково русских, но в разной степени русских в «идее». Каждая последующая из наций впитывала в себя нечто от предыдущих, обогащая тем самым русский тип или, говоря точнее, род нации, потому что род этот существует только в идее как отвлеченность, как инвариант научного знания, а в жизни, сменяя друг друга, проходят исторически разные виды русской нации.
Периоды эти известны, еще не раз мы вернемся к ним.
Первый — древнерусский; украинцы правы, называя только себя «природными русскими», потому что на нынешней их территории, да еще по великим путям «из варяг в греки», начиная с Новгорода, и развивалась исторически жизнь русской нации первого времени.
Вторая нация — старорусская, оплотнившая уже не племена Восточной Европы в тяжелый для них момент, но народы. На Куликовом поле в 1380 г. вместе с русскими сражались полки «литовские» (западнорусские) и белорусские. С конца XIV в. и развивается новая русская нация, без ставших окраинными украинцев; однако втягивались уже в русскость, внося и свое природное, и северные чухонские, и западные «литовские» племена. При дворе последнего киевского князя Андрея Боголюбского, Киев покинувшего, были разных народов люди — вплоть до кавказцев, неверных ему.
Третий этап начался в XVII в., третья русская нация включила в себя народы тюркские, и много славных русских фамилий звучит по-татарски, иногда и не очень благозвучно.
Образовался великорусский народ.
А современный русский явился с конца XIX в., может быть даже позже, только в советское время, когда под именем русского мог быть любой, живущий в Союзе. Цвет великорусской нации изгнан, замучен в лагерях или уничтожен физически. «Человеческий материал», русский этнос потерпел ущерб, и значительный, но остались: 1 — язык, 2 — вера, 3 — национальный характер, выкованный веками в неволе (не-свободе), а сверх того еще и границы, пространства, Земля, ее рубежи. Как тут не вспомнить слов Ключевского, с горечью сказанных в 1905 г.: «России больше нет: остались только русские». Расплывание народа как цельности идеи связано не только с формированием нации — государственническом варианте народа, но и с параллельным тому размыванием собственно народа — как этноса, как природной среды: на народ и на «публику» (Константин Аксаков), на народ и на «массы». Реальность «народ», подмененная идеальностью «нация», сама по себе рассыпалась на осколки разного веса и достоинства, создавая вязкие, рыхлые, холодные «народные массы». «Между тем как англичанин, немец, француз, перестав быть англичанином, немцем или французом, сохраняет довольно нравственных начал, чтобы оставаться еще замечательною личностью в том или другом отношении, русский, перестав быть русским, обращается в ничто, в негодную тряпку» [Данилевский 1991: 197]. Сказано сурово, но совершенно верно. Перестав быть русским, русский утрачивает «идею» русскости, остается один на один со своим естеством, лишенный сущности. Его «реализм» становится половинчатым, ему не хватает энергии, которая крепит его к миру.
Субъектом и государства, и церкви является, конечно, народ. В основе этноса лежит биология, инстинкт, как говорил Иван Солоневич, но не только инстинкт. Культура сама социальна, производное от социального, «а социальное есть имманентное человеку качество, без которого его просто нет», — и то, что мы называем идеей народности, в своем историческом развитии «заставило проявиться ранее находившиеся в тени национальные черты — психологический склад, менталитет, национальный характер» [Еремеев 1996: 14—16]. Всё большая степень социализации общества приводит к полному устранению этнических корней, что и происходило в Западной Европе. Современный «западный мир» не национальное, а гражданственное общество: психологические особенности восприятия мира, нормативные и структурные характеристики государства, новые принципы межнациональных и межэтнических отношений становятся общими для всей Европы, их активно изучают социологи и историки, их хотели бы видеть и у нас строители «новой демократии». Но — «сущность народа, как и человека, — замечал по этому поводу Владимир Соловьев, — в том, во что он взаправду верит» [Соловьев VIII: 84], а русский народ взаправду верит совсем в иное. У русского человека (якобы страстного государственника) отношение к государству, к народу и прочему «почти религиозное» — верно, но потому, что это есть отношение к идее государства, народа и пр., а не к конкретным (в том числе и своим собственным) государству или народу. Русскому человеку ясно, что «безнациональность есть духовная беспочвенность и бесплодность; что интернационализм есть духовная болезнь и источник соблазнов и что сверхнационализм доступен только настоящему национализму... Истинное величие почвенно. Подлинный гений национален... Словом: у каждого народа иной и особый душевный уклад и духовно-творческий акт. И у каждого народа особая, национально-зарожденная, национально-выношенная и национально-выстраданная культура» [Ильин 1: 324, 327].
Русская идея народности
«Народность» как форма национальности вовсе не довесок «самодержавию» и «православию». Этика и метафизика национализма в трудах русского педагога прошлого века Н. Г. Дебольского полнее всего отражает русскую идею народности как корня, на котором строится вся социальная жизнь индивида, все социальные институты. Именно народность скрепляет их как органическое и типическое проявление национально понятого бытия и существования, духовного и социального в жизни. Это интуитивно сознавали все мыслители и реформаторы на ниве российской — от Достоевского и Соловьева (русский народ как орудие вселенской теократии) до большевиков (русский народ как материал для мировой революции) и современных либералов (русский народ как гумус для создания рыночной экономики). Конкретная нравственность не могла не быть национальной нравственностью, говорил Дебольский. Представители всех народов честны, но честны они по-разному; все они любят свободу — но различно, и т. д. «Честь», «свобода» — всего лишь символы схем, которые сами по себе не формируют убеждений. «Общечеловеческое не имеет собственной реальности... существует лишь в национальном», т. е., в соответствии с нашей формулой, общечеловеческий идеал реализуется лишь в национальном виде (идея оплотняется, оформляется в «вещи»). Это типичный для русского философа реализм с требованием овеществить, реализовать идеальное в действии, тем самым явив его как «свое» — в материи народного духа. «Народность есть человечество, индивидуализировавшееся или организовавшееся в общество», а «национальное есть ни что иное, как племенное, достигшее общечеловеческого значения» путем создания своего государства [Ильин 1995: 43, 23]. Многоуровневый характер целого в цепочке терминов-понятий идет от внешнего к внутреннему, последовательно снимая социальные формы проявления национального концепта и вскрывая самый концепт, хотя и данный здесь в неловкой форме, метафорически:
государство > нация > народность > народный дух
Таковы формы проявления национального духа в признаках образа (народность — а не реально народ—этнос), понятия (нация) и символа, замещающего это понятие в его проявлениях вовне (государство). Это — философское понимание развития народного духа, а не чисто эмпирических терминов типа семья—нация—государство (например, у Солоневича). В таком смысле понимают соотношение «государство — народность» современные последователи Дебольского: русский национализм есть русский человек, обладающий русским духом, плюс целостная нация, и империя как наш способ существования [Самосознание 1995: 4].
У Дебольского понятия «племя» и «этнос», «народ» и «нация» суть разные ипостаси в проявлении этнического и национального, т. е. эмпирически-конкретного и отвлеченно-идеального. Такое, в принципе свойственное реализму, удвоение сущности как явления и одновременно как идеальной сущности: племени через этнос и наоборот — помогает различить племя и народ (этнос и нацию). Язык становится лучшим признаком народности, даже «по сравнению с породой, поскольку с языком связано понятие духовного общения».
В формуле Дебольского интересно переосмысление роли нации и государства. Русское представление о нации выражено евразийцем Бицилли, который говорил, что в самом понятии «нация» много ошибок. Английское nation двусмысленно: и культурно-политическое единство, и государство одновременно; германское понимание Nation подчеркивает культурно-индивидуальное единство, а романское — политическое; русская нация есть прежде всего «некоторое переживание», известная форма жизни. Нация — объективация идеи — создает государство, без которого (формы) нации нет [Бицилли 1996: 67—68, 49]. Н. П. Ильин справедливо заключает по поводу формулы Дебольского: «Непонимание нравственной природы национализма было и остается главным препятствием на пути развития русского самосознания, потому что для русского человека самое ценное человеческое качество — это совесть», а смысл народности — не в борьбе с человечностью, а в борьбе с космополитичным искажением и обеднением человеческой природы, поскольку всякое «общечеловеческое», поданное в готовом виде, всегда есть чужое национальное [Ильин 1995: 59—60]. Развитие русской национальности Дебольский не ставит в связь с развитием государства или церкви.
Часто говорят о внутреннем противоречии русского человека в его суждении о государстве. С одной стороны, он — государственник, с другой — враждебен власти. Противоречия нет, поскольку в одном случае речь идет о понятии государства как оно исторически сложилось, о власти и о символе государственности как оно существует в идеале: народное государство, как это идет от славянофилов (у Самарина) через Дебольского до Солоневича. Противоречие существует в представлении о государстве, да и то потому лишь, что метонимически смешиваются часть и целое: власть с государством. Неприятие власти и поклонение государству вполне совмещаются в сознании русского человека. Можно напомнить, что государство как социальная данность отождествлялось у нас сначала с общностью территории (Русская земля), затем — с властью (государь — Московское государство), теперь — в идеале — с народом (но русское государство — термин запретный). Русское государство рождается в границах империи, в которых народу русскому было трудно: не привилегия, но обязанность, требующая самоотречения и жертвенности в держании на плечах своих многоплеменное, многомерное, многоименное государство.
Всё это видно и на изменениях в языке — одном из главных признаков как народа, так и нации. Давно уже Петр Бицилли заметил, что «что-то в русском народе есть, что для российской нации, в качестве элемента, явно непригодно и даже угрожает самому бытию "нации". И не видно, чтобы на поприще языка, как и на всяком другом, эта борьба двух начал могла окончиться без полного вытеснения одного из них другим» [Бицилли 1996: 606]. Это «что-то» — русский народный язык, сила его символов и яркая образность, обилие оттенков в словопроизводстве, в вариантах произношения, в интонационной и динамической энергии. «Обилие языка народного» подавляет, сила и простота его неподвластны времени и человеку; достаточно просмотреть словарь Даля — в формах его речений, уже достаточно архаичных. Этому языку противостоит усредненно-понятийно-рассудочный стиль с присущими ему однозначными гиперонимами, с гладкой фразой, а не то так и с руганью площадной, с неимоверным матом (якобы русским), скабрезным и даже глумливым. И уже читаешь с изумлением, что «современный русский язык — язык Пастернака, Мандельштама и Жванецкого» — российский язык. В этом, по мысли Бицилли, и вся проблема: «Там, где выпячивается только государство (т. е. российское. — В. К.), но нет общей [для всех] культуры, там нет нации» [Бицилли 1996: 102].
Нация и государство
Национальный вопрос в России всегда понимался как вопрос государственный. Вл. Соловьева он беспокоил: «Национальный вопрос в России — не вопрос о ее существовании (как для многих народов), поскольку Россия как единая, независимая и великая держава уже создалась. Дело идет не о материальном факте, а об идеальной цели. Национальный вопрос в России есть вопрос не о существовании, а о достойном существовании» [Соловьев V: 4]. Народ-собиратель, народ-строитель брал на себя непомерную ношу и ответственность, и потому «на самом деле Россия больше, чем народ, она есть народ, собравший вокруг себя другие народы, — империя, обнимающая семью народов» [Соловьев VIII: 83]. «Та "общечеловечность" русского человека, его "широкость", то отсутствие высокомерной брезгливости по отношению к подвластным, которые составляют сильную и вместе с тем слабую сторону русского национального характера, объясняется именно указанным ходом русского национального развития (империя создавала нацию из народов с отсутствием перегородок между отдельными народами)» [Бицилли, 1996: 37]. Нация — более отвлеченное понятие, чем народ, потому что на-род включает в себя и умерших членов рода, и тех, которые еще родятся, — «и русский человек как добрый отец семейства копит для потомства, отказывая самому себе»: ибо безнравственно грабить еще не родившихся [Солоневич 1997: 40]. Много нынче охотников до русских просторов и русской земли, всех богатств, накопленных предками для нас, для наших потомков. Да и способы «накопления» были разные. Черты национального характера, вынесенные русскими в многовековом строительстве, показывают их отличие от прочих «национальных империй». Отношение наций-строительниц к народам, втянутым в орбиту империи: в Элладе — неравноправные гости, в Риме — союзники, в Германии — рабы, в Великобритании — «ограбление всего, что плохо лежит», у Франции — «полная неспособность к какой бы то ни было колонизационной деятельности», также и Израиль в своих переселениях не сделал ни одной попытки заселить, «освоить», колонизовать тогда в изобилии пустовавшие земли, Испания, «полное истребление побежденных народов», Россия — «никаких следов эксплуатации национальных меньшинств в пользу русского народа» [Солоневич 1991: 18—19]. Следовательно, государственность как проявление народности не может быть единственным условием формирования нации.
Но и вера, «православие оказывается не столько причиной, сколько следствием этой самой "русскости" [Бицилли 1996: 74]. Признаки русскости как человеческого типа трудно возвести к православию столь уж прямо, ведь христианство вненационально, а в этом «соблазн упростить задачу, заменив народность церковностью, или наоборот» [Ильин 1995: 12, 14]; такое же внутреннее противоречие в суждениях евразийцев [Савицкий 1997: 35 и след.]. Публицисты нередко противоречат себе, вот как Иван Солоневич: «Я утверждаю, что хранителем православия является русский народ или, иначе — что православие является национальной религией русского народа» [Солоневич 1991: 385] — «Славянский характер ни в чем не изменился от принятия православия, как германский ни в чем не изменился от реформации» [Солоневич 1997: 162].
В интересах исторической правды было бы лучше не говорить о тождестве понятий «русскость» и «православие». Русские духовность и ментальность создало и воспитало то самое аскетически-цельное христианство, которое в XVII в. было задушено в пользу новой веры имперского окраса. Утверждение империи оказалось важнее национального достоинства, а желание наследовать византийской короне сопряжено было с отказом от этнической идентичности. И в последующие времена свободолюбивые северяне, не знавшие ни татарского бича, ни крепостнической плети, хранители русского слова и русской совести, становились то защитниками Руси, то ее строителями, то поэтами. Крепостнический Юг дал великих художников слова — из дворян, Север — из крестьян. Твердые в вере отцов мужики становились купцами и промышленниками, создавая «рыночное хозяйство», но на основе праведной.
И сегодня твердят нам о двойственности русского характера, о метаниях в крайностях и терпении русского человека в невзгодах и бедах. Ну что же, есть утратившие свой племенной характер, а есть его сохранившие. Есть убежденные в силе идеи, есть и прагматики дела. Всякие есть среди нас, если коснуться отдельного человека. Не раз говорили уже о трех древнерусских корнях в основе народности, а если считать племена — корешков десятки. Народ на севере отличался рассудительностью в созерцательной жизни, ему присуща мыслительная работа; на юге, в киевских пределах, преобладал волевой элемент, жили люди характера сильного; а посредине русской земли, между Новгородом и Киевом, как основное свойство характера в поведении возобладало чувство: буйство и страсти, безоглядная удаль и пределы святости — русская ширь [Прокофьев 1995: 155].
При распаде «империй» входившие в их состав народы сосредоточиваются в национальном эгоизме. Христианство как связующая крепь не «упраздняет национальность, нет, но сохраняет ее. Упраздняется не национальность, а национализм», — говорил Вл. Соловьев. При распаде культурная аура, цивилизационная форма государственности и общественности сжимается до биологического предела национального, с единственной задачей — выжить, переждать, сохраниться. Трагедия русского самосознания состоит в том, что выживание в национальных формах у русских не в традиции, да и сами по себе «русские» не единый народ, а всякое проявление русского национализма со стороны малых народов воспринимается как имперский шовинизм. Противнику всегда приписывают собственные пороки — так легче изживать их в себе самом. Свой шовинизм приписать русским, свой комплекс исторической неполноценности — им же. Пока «русская душа болеет мировыми проблемами» [Василенко 1999: 78], русских потихоньку обирают вчерашние друзья.
Однако существует и то «нечто», что собирает разные характеры в общий народ, о чем говорят постоянно русские мыслители. Нечто, что важно знать, что, объединяя всех, становится вдруг энергией действия, материальной силой, хотя и не «вещно» представленной.
Общество и личность
Общество родилось с государством вместе — как ответ на притязания власти. Именно потому они и в конфликте. Но «общество составляется из лиц», говорит Ключевский, а «лица, составляющие общество, сами по себе каждое — далеко не то, что все они вместе, в составе общества», и если общество — историческая сила, то личность есть его порождение. Общество формирует личность в условиях того, что Ключевский назвал народным темпераментом.
И точно так же, как культ порождает культуру, так и личность есть развитие общественного лица. Личность и общество соединяются в понятии как субъект и объект (они — «коррелятивные понятия», говорит Бицилли).
Личный интерес лица подавляется потребностями общества, и то или иное лицо становится личностью. Роль христианства в этом процессе значительна, именно церковь развивает идею личности, не сразу и с трудом воспринятую в низовой культуре. Государство делило людей по целям, церковь — по идеям, и в некоторые моменты нашей истории идеи сплачивали народ, создавая совершенно новые, прежде неведомые, общие цели.
Однако проблема личности оставалась проблемой личной. Уже с далеких времен мы встречаем в нашем быту изгоев, выброшенных из общего социального круга.
Между обществом и личностью нет противоположности, потому что из физического лица социально важная личность рождается в обществе в результате устремленности своей к идеальному лику. Не государство как власть, а общество как право рождает личность, в этом согласны русские философы. Не случайно существует в нашем языке выражение «коллективная личность», а Лев Карсавин говорил о «симфонической личности». Лицо вне общества и против общества — не личность, а личина, преследующая не общее благо, а личный интерес, изъятую из цельности частицу блага.
Давно замечено кардинальное различие между русским и западным отношением к проблеме «общество и личность». На Западе исходят из потребностей личности, сумма которых составляет общество, у нас «живет» общество, а личность есть часть общества. Пока живо целое — живы и его части. Направление мысли всеохватно. «Германские племена запустили руку в христианский сундук и вытащили оттуда личность, потому что она у них уже была. Русские опустили руку в сундук и выбрали смирение, потому что оно у них также было раньше»; германцы постоянно воевали и «спасение от опасности они нашли, выработав в себе структуру личности. Русских заел домашний быт. Семья. У них не было чувства опасности. Им не нужна была личность» [Гиренок: 1998: 125]. Странная логика суждения, противопоставление личности смирению нарушает строгость мысли. Смирение — производное от верности обществу-общине, говорить следует о противопоставлении личности обществу, потому что «русский отрекается от своей личности и подчиняет себя целому» [Гиренок 1998: 127]. Отсутствие личностей в русской истории — тезис сомнительный, его не стоит и обсуждать. Однако утверждение о подчинении личности обществу справедливо, только речь идет не о личности, а о личине — о противопоставленности лица общему.
Для западного человека личность предзадана: злодей неисправим, его тело носит в себе задатки (гены) злодейства (это идея), явленные в знаке (это слово). Чисто номиналистическая точка зрения, для которой Билль о правах или Всеобщая декларация прав человека абсолютны, поскольку выражены в слове. Выраженное в слове — реально в идее, и поэтому ей следует подчинить всякую «вещь».
Не то у русского человека. Он понимает, что никто не рождается злодеем, сорняк можно культивировать. Овсюг даст овес, а реки потекут вспять, и т. д.
Свобода — не воля; говоря о личной свободе, западный человек имеет в виду волю. Говоря о воле, русский подразумевает свободу — для всех одинаковую. Английская идея свободы личности привела к жестокостям работорговли, к колонизаторству, к угнетению других целостностей — народов, которым отказано в праве на свободу. Русский человек, живущий в тесных пределах общего, развивает терпимость, сочувствие и подлинную человечность к другим народам, очень часто за свой счет устраивая их благополучие.
Дело, конечно, не только в вероисповедании, но и в исторических условиях существования как человека, так и общества. А исторические условия были таковы, что русский человек должен был убедиться: не личность — макрокосм, концы и начала Вселенной, а — общество, частью которого человек является. А если человек — предел и вершина всего, значит, макрокосм — в нем, и он — пуп Земли. Но это Человек, а не Личность. Вид, а не инди-вид.
Развитие личностного начала есть движение от природного, а следовательно, от общего. Личной как лицо и личный как личина-маска, соединившись, порождают личность, амбивалентную, как всё в культуре. Одновременно и личность, и человек, но человек земной и телесный, а личность идеальна, она может отсутствовать в данном конкретном человеке.
Однако и общество столь же изменчивая категория, и когда говорим об общине, не следует думать об обществе. Логика осмысления этапов развития общего в частном и отдельного в общем типична для русской ментальности. Часть — и целое, и одновременно его часть; род — он же вид. Движение смысла в смене словесных форм община—общество—общественность коррелирует с представлением о человеке-лице — личности — и простом агенте деятельности безотносительно к общему — акторе [Кутырев 1999: 105]. Одновременно это и смена социальных паролей: у человека в общине есть имя, у личности в обществе — символ-знамя (включает и указание на сферу деятельности), у «представителя общественности» — пустой знак принадлежности к ней. Человек, удаляясь от природного мира в среду культурную, одновременно отчуждает от себя всё общее, что роднит его с миром природных ценностей. Формализует всё вокруг, а сам становится песчинкой в метели таких же атомов. «Современный человек не только не вписан в общество, но и враждебен по отношению к нему» [Марков 1999: 182]; «общественность» обеспредмечена как сверхрод, отчуждена от общества и тем самым противопоставлена государству. Это уже не свободная личность, а функция в структуре чистых (производственных) отношений, которые и определяют механически предсказуемые действия отдельного человека. Это естественное перерождение добровольно надетой маски (личины личности) в актерскую суть — в актора чужой пьесы. Русский мыслитель всегда предпочтет человека личности, потому что «личностью можно быть без души... но вот человеком без души быть нельзя»; «личность — вербальна... В человеке — заумь подлинного» [Гиренок 1998: 368, 407]. Иначе говоря, человек, в естестве природы, личность, в слове культуры.
Город и деревня
Противопоставленность города и деревни есть, конечно, типологически общая особенность. Все социальные противоречия, начиная со Средневековья, возникали в этой области жизни. Восставшие крестьяне брали города, городские власти брались за крестьян. Каждый жил в своем собственном времени и понимал его особо. Крестьянин — по солнышку, и время его — круглое, повторяется циклами; горожанин = мещанин = обыватель — по часам, и время его летит как стрела, из вчера и в завтра. Даже вера у них различная, хоть и одинаково христианская: в деревне ближе к Природе, к вещи; в городе больше вверх, по куполам да шпилям, мистичнее, что ли. Язычества больше в деревне; в тесноте и шуме городских кварталов не видишь творения, только — тварь, потому и рвется душа поближе к Богу.
Именно в городе рождается человек с иностранной кличкой: интеллигент. Как белая ворона в вороньем гнезде, изумляет всех, поскольку «интеллект глуп как солнце, он работает бескорыстно», — заметил, осуждая и восхищаясь, Горький.
Русский интеллигент от рождения внутренне противоречив. Он интеллектуал по определению, то есть воплощает идею в законченном ее виде, но одновременно он же — добрый человек, обращенный к тяготам жизни, желающий помочь людям. Он вовсе не рационалист, а реалист с раздвоенным сознанием — и к идее, и к вещи сразу, — весь в эмоциях и комплексах. Но идея для него превыше всего, за нее он умрет, хотя идея эта живет и действует в эмоциональных перегибах, в отрыве от вещности мира. Подчас она доводит догматика до фанатизма. На Западе нет деления на народ и интеллигенцию, там нет того «реализма», к которому искони так тянется русская душа.
Со стороны русский интеллигент двумерен: он интеллигентный, то есть хороший, умный, культурный — молодец; однако дело его, идеи, которыми он дорожит — интеллигентские, то есть дурные, путаные, темные — от них подальше! Интеллигент из народа (Василий Шукшин) говорит об интеллигенте по старой русской традиции — как о «добром человеке». Интеллигент потомственный понимает дело иначе (Александр Блок): интеллигент есть носитель Правды. Для мещанина же интеллигент всегда соперник. Послушать, например, Горького, так это исчадие ада — интеллигент.
Вот откуда все нравственные метания русского интеллигента-разночинца, его рефлексия связана с его происхождением:
- наш ранний интеллигент из дворян, «кающийся дворянин», — одно;
- интеллигент-народник из разночинцев, обиженных жизнью, — другое;
- интеллигент советский, неясная по замыслу «прослойка», большею частью технарь-умелец, — совсем третье;
- современный «интернационалист», самозванно присвоивший себе титул «русский интеллигент», — совершенное уклонение от русскости.
«Беспочвенная интеллигенция», «гнилая интеллигенция» совсем никуда не годится. «Лишние люди» — а лишних можно убрать. Стоит дать имя — и ярлык готов.
Повышение степени эмоционального фанатизма идет параллельно с понижением уровня интеллектуальной подготовки, профессиональной и культурной (знание языков, литературы, философии, искусства — современные «вожди» как раз эту вооруженность интеллигенции ни в грош не ставят в силу своего происхождения). Перспективы дальнейшего просто плачевны, и в результате на роль интеллигента всё чаще приходят деловитые иноземцы, и не обязательно зарубежные — «инородцы». Потому что русский интеллигент — интеллигент особый, на новый аршин его не натянешь. Как начинали в XVII в. при Алексее Михайловиче, так и теперь повелось: в университетах России русских не много.
В русской культуре есть текст, который ответил на эти вопросы задумчивым словом поэта.
Александр Блок в статье «Народ и интеллигенция» (1908) заметил: «Это — первейший вопрос, самый жизненный, самый реальный». На примере Ломоносова, Менделеева, Горького Блок показал трагедию русского интеллигента из народа, который «от вещи» вознесся «до идеи» и выносил в сердце своем правду, но «потомственной» интеллигенцией не принят, а народом — не понят. Вот антиномия жизни, страшнее которой нет. «Волю, сердце и ум положила она [интеллигенция] на изучение народа», а со стороны самого народа «та же всё легкая усмешка, то же молчание "себе на уме", та же благодарность за "учение" и извинение за свою "темноту", в которой чувствуется "до поры до времени". Страшная лень и страшный сон». И понимаешь ясно, что да, «есть действительно не только два понятия, но две реальности: народ и интеллигенция».
Перед нами — новое «разведение крайностей»: идеи, носителем которой является интеллигенция, и дела/вещи, творимых в «народе». Разрыв между ними временами ужасен, и тут является новый интеллигент, который верит, что пропасть можно засыпать словами, что словом, удачно найденным, можно соединить противоположности:
Сам Блок во власти такой иллюзии, он верит (ведь он поэт), что «не вечна пропасть между словами и делами... есть слово, которое переходит в дело».
А народ — безмолвствует.
Русский народ
Опять — о народе. Опорная категория нашей ментальности. Народ вообще субстанция непонятная. Все — народ. Собирательно много, все, кто народился. Нет, говорят нам, не все. Народ объективно — не нация и не класс, и не профессиональный цех, и не интеллигенция, и не... Что же?
Народ всегда понимают как темную, косную, неподвижную массу нерасчлененного множества лиц, как «вещь» во власти земли, без своей коренной идеи; идею несет интеллигент. Видимо, виновато слово в неясности смысла. Народ — нарожденное нечто, еще не вошедшее в разум (и нужен пастырь), лишенное слова (и нужен пророк и глашатай), от решения дел отстраненное (тут понятно, что требуются «власти»). Народ — не люди (совокупное множество: крепостных называли люди), не человеки (расчлененное множество: слуг называли человек!) и уж конечно не личность. Сам народ с подозрением относится к личности, потому что «всех умнее, что ли?» — признаёт вожака за личность, а вожак один, других нам не надо: управимся.
Народ и нация — понятия взаимообратимые. Когда говорят о нации, понятие «народ», как по преимуществу этническое, исчезает. Для номиналиста нация — образование государственно-экономическое, для концептуалиста — культурно-этническое, для русского реалиста — соборно-этическое («симфоническая личность» русских философов). В связи с этим и понятие «национализм» меняет свои краски, так что «желтый» номиналист никогда не поймет «красного» реалиста, как и «белый» концептуалист не согласен с ними обоими. Для каждого из них национализм не то же, что для другого. «Народность» — хорошо, «национализм» — плохо (если это, конечно, не мой национализм). Номиналист боится национализма как государственно-политической силы, и, чтобы устрашить своим термином (а для номиналиста наличие термина уже доказательное явление), он подменяет понятия: пугает идеей общности «земли и крови». Пугая сам себя, он возбуждает сонного реалиста на ответные меры, потому что реалист в подобной истерике видит покушение на свою соборную целостность, скорее культурно-историческую, чем государственно-экономическую. Однако всё это — одни слова. Этническая общность реально вещна, но давно уже не является определяющей в характеристике современной нации. Концептуалист Лев Копелев нацию определяет так: «Нация — это культурно-историческое единство людей, связанных между собой общностью языка, обычаев, культурной традицией и сознанием обшей судьбы». Государство «дичает» — нация же развивается на культурной основе, и тогда «неразрешимая антиномия государство и общество» получает возможность преодоления. Понятие «нация» подменяется понятием «общество» — и тогда, действительно, все оборачивается к лучшему. В данном определении нации единство понимается как духовное (и нас объединит православие) и как культурное (но тогда интеллигент становится в оппозицию к «народу»). Концептуалисту важна идея, концепт, концепция — а что из нее следует... покажет время.
И чего только время не показало!
Когда заговаривают о характере и ментальности русского человека, его душе, обобщают его через слово народ, мажут одной краской, обычно черной.
Горький о русском народе в своей статье 1922 г.: «Хочет как можно больше есть и возможно меньше работать, хочет иметь все права и не иметь никаких обязанностей... мечтает о каком-то государстве без права влияния на волю личности, на свободу ее действий... болеет „охотой к перемене мест“... нигде вокруг не видно прочных следов труда и творчества... множество суеверий и никаких идей... русскому народу исключительно... свойственно чувство особенной жестокости... реалист и хитрец, который — когда это выгодно ему — прекрасно умеет показать себя простаком... органическое, слепое недоверие к поискам мысли, к ее работе... умонастроение, которое следует назвать скептицизмом невежества... Это просто пассивное и бесплодное отрицание явлений и событий, связь и значение которых мысль, развитая слабо, не может понять... и он незлопамятен: он не помнит зла, творимого им самим, да, кстати, не помнит и добра, содеянного в его пользу другим... тяжелый русский народ, лениво, нерадиво и бесталанно лежавший на своей земле, — вся интеллигенция является жертвой истории прозябания народа, который ухитрился жить изумительно нищенски на земле, сказочно богатой... в своей практической деятельности они всё еще остаются зверями». Точка.
Сказано сурово и зло, и понимаешь, что несправедливо. Писано в годы разрухи, после войн и революций, принесенных со стороны чужеродными умниками, после веков господства чуждых сил. Для мещанина Горького народ — не интеллигент, не рабочий, не власть, а — крестьянин. «Теперь можно с уверенностью сказать, что ценою гибели интеллигенции и рабочего класса русское крестьянство ожило». Ненадолго ожило, как мы знаем. И писания вроде этого нравственно оправдывали коллективизацию и «борьбу с кулаком».
Слово сказано: русский народ — это крестьянство, хранившее культуру и быт предков, их язык и традиции. Глеб Успенский или Василий Белов сказали бы о нем иначе, тоже с болью, но справедливо и без раздражения.
Мысли о русском «народе» Карла Маркса лучше не читать: мажет черным всех вообще славян, ибо видит в них соперников на историческом пути. Национальная нетерпимость автора достигает пределов расизма, и легко понимаешь, кто именно нравственно оправдал бы грядущий в XX в. фашизм.
Даже славянофилы вроде Солженицына в своей характеристике русского народа хвалят его за такие черты характера, которые обратным образом связаны с многовековым его полурабским существованием на задворках Европы: терпелив в страдании, не заносчив, смирен, не выставляется, не...
Господа! стыдитесь: бить по больному — безнравственно.
Но обобщать, сгущая в народную массу все отталкивающе-ужасное, тоже не с руки. Так поступает номиналист, для которого принятый всеми термин скрывает за собой истинность идеи, по-разному, правда, понимаемой.
Антиномия «город — деревня» снимается в социальной жизни развитых стран, что происходило и в Советском Союзе.
Антиномия «народ — интеллигенция» как явление чисто русское, новое еще не снята в практической деятельности, как ни старались осуществить это в Советском Союзе. Но в данной противоположности нет ничего нового, она развивает постоянную несводимость в общее понятие «народ» от века известное на Руси противостояние «барина» и «мужика», вольнодумца и верного церкви крестьянина (в высоком стиле — христианина), личности и общины, своего и общего, государства и общества... В этой антиномии скрывается весь массив противоположностей, которые своей энергией движут всю социальную жизнь России, создавая новые оттенки ментальности и национального характера.
Авторы-иностранцы ([Горер 1962], [Рикман 1962]) всегда отмечают большой разрыв между элитой и основной массой русского народа: «Масса народа подавлена неопределенными чувствами вины и враждебности, но выказывает очень мало страха. Она мечется, непредсказуемо переходит от одного состояния к противоположному, особенно от ярости к кротости, от исключительной активности — к полной пассивности, от разнузданного потакания страстям — к аскетическому воздержанию. Они переносят физические страдания с высоким стоицизмом и равнодушны к физическим страданиям других. Они постоянно находятся между безосновательным страхом изоляции и одиночества и отсутствием индивидуалистических чувств, так как привыкли погружаться в общее с оглядкой на "коллективную душу". Они добры и симпатизируют всем, кого (в данное время) признают "теми же самыми", что и они; они направляют свою необоснованную враждебность на всех, кого считают отличающимися от них, обращая мало внимания на то, как быстро меняется вектор их враждебности. Они видят врага в каждом, кто "другой". Они полагают себя выше всех остальных в мире, потому что и их родина — это особое хранилище Правды, неизменной, единственной, и их обязанность — распространять эту Правду. У них наблюдается тенденция смешивать мысль и действие. Они обращают мало внимания на порядок, эффективность и пунктуальность и чрезвычайно озабочены исследованием и выражением в слове постоянно меняющихся чувств. Безвольно и покорно они подчиняются сильному авторитету, воздействующему на них сверху, и добровольно объединяются в угоду идеализированному образу Вождя.
Интеллигенция и элита, по всей видимости, разделяют с массами подобную враждебность и тоже видят вокруг себя потенциальных врагов, включая и те самые народные массы, которые они контролируют. Но в отличие от народных масс они ценят и развивают силу воли, противопоставляя ее эмоциям; они уделяют в своей деятельности должное внимание порядку, эффективности и пунктуальности в деле. Они согласны, что народ естественно уникален, но справедливость все же требует внимания и на мелкие детали сиюминутных дел. Единственной альтернативой такой ненадежной справедливости они признают полное подчинение собственной воле или совершенную подчиненность превосходству чужих правил и законов, хотя их и пугает возможность оказаться в положении подчиненного, в состоянии исключительной слабости. Они полагают себя обладателями Правды еще в большей степени, чем народ, и потому предъявляют ее эзотерические версии, которые небезопасно открывать перед чужими.
Все великороссы, кажется, ощущают психологическую потребность в необходимости минимально проявлять свою энергию, постоянным усилием воли возмещая траты, — как средство личного освобождения и создания хоть какого-то порядка в хаосе. Однако и в этом случае, как и всегда, элита понимает, что и напряжение усилий, и старания к их осуществлению подчинены воле, в то время как народные массы полагают, будто воля есть всего лишь проявление одной из эмоций, хотя и важной.
На основе подобных обобщений можно было бы представить следующие политические максимы, способные повлиять на действия в отношении русской элиты» (даются десять советов политикам — как следует себя вести с русскими) [Горер 1962: 189—191]. Рикман [1962: 79] добавил к этому, что в России («к счастью») эти две силы — народ и элита — никогда не смешиваются и не действуют вместе, поскольку они всегда говорили «на разных языках», и притом в России нет средних классов. Причина в том, что «русская элита» обладает силой «личных амбиций», а «народная масса» тянется к тем идеям, которые ведут «к объединению в единство (в группу)»: первая тенденция ярче всего проявляется в бюрократии, вторая — в крестьянстве.
Современное крестьянство, конечно, уже не то, а «элита» стала таковой в буквальном смысле (подмечено, что термин интеллигенция заменили словом элита в значении еврейского цимес).
Русские ученые также обсуждали вопрос о культурных «стратах» в русском социуме. Страты Н. И. Толстого, например, это именно культурные различия, но все-таки не различия в ментальности, понятой как духовность, т. е. как совокупность души, духа, воли и разума; у народа и его «элиты» они одни и те же, как раз благодаря общности идеологических установок (реализм) и общности русского языка. В них находим глубинное залегание ментальных концептов, представленных как генная память народа. Конечно, у русскоязычных имеются некоторые несводимые в общий фокус реакции на русские концепты, это часто совсем другая реакция на те же символы-знаки: слова те же, а понимаем иначе.
И это также проблема народной ментальности, которая хранится в глубинах подсознательного.
И в том, что крестьянин скажет об интеллигенте, истины столь же мало, как и в словах интеллигента о крестьянине.
Быть может, ограничиться определением, данным современным евразийцем?
«Русский народ — это историческая общность, имеющая все признаки полноценного и стабильного политического субъекта. Русский народ объединен этнически, культурно, психологически и религиозно... Русский народ, в отличие от многих других народов, сложился как носитель особой цивилизации, имеющей все черты самобытного и полноценного планетарно-исторического явления. Русский народ — та цивилизационная константа, которая служила осью в создании не одного, а многих государств... Русский народ безусловно принадлежит к числу мессианских народов... он никогда не ставил целью создание моноэтнического, расово однородного государства», расширение которого не преследовало безграничное расширение «жизненного пространства» русских, поскольку речь шла «об утверждении особого "русского" типа мировоззрения, который акцентирован эсхатологически и претендует на последнее слово в земной истории», и «лишить русских этой эсхатологической веры равнозначно их духовному оскоплению... Не кровь, не раса, не административный контроль и даже не религия сделали из части восточных славян особую, ни с чем не сравнимую общность — русский народ. Его сделали именно бескрайние евразийские просторы и предельная культурная, душевная открытость. Под знаком "пространства и культуры" были переосмыслены и этнические, и политические, и этические, и религиозные аспекты. Русские сложились, развились и вызрели как нация именно в Империи, в героике ее построения, в подвигах ее защиты, в походах за ее расширение» [Дугин 1997: 188—197].
Самое общее определение, но тоже включает в себя некоторые преувеличения, на этот раз скорее стилистического свойства.
Истина где-то посредине. Ее и ищем.
Интеллигенция как форма самоутверждения
Формирование русской интеллигенции есть способ перехода или, если угодно, развития от духовности к ментальности.
Жизнь и смерть русской интеллигенции как общественного явления в символических формах, то есть по-русски образно, описал Георгий Федотов; Федор Гиренок, признав, что «мышление Федотова не понятийно», изложил его мысли философски-интеллигентно [Федотов 1981; Гиренок 1998]. В этом всё дело: чтобы современный интеллигент что-то понял, ему нужно растолковать всё до тонкости, перевести в понятия. Национальных символов он не разумеет, собственную историю познает из популярных брошюр.
У Федотова символом каждого этапа является месторазвитие интеллигентского начала.
1. «Царское Село» — символ распада русской души, начало существования русской интеллигенции в реторте просвещенного масонства XVIII в.: «возникла новая порода людей» как определенная «партия общества» — не профессиональная и не политическая, а идеологическая.
2. «Арбат» — имитация гуманизма в той же дворянской среде: «поступки были, а целей и мотивов не было».
3. «Екатерининский канал» — беспочвенная идейность разночинцев: чужая идея прививается к русской действительности, и «мысль перестала быть делом личности». Разночинная «новая интеллигенция» «унаследовала у стародворянской всю ее требовательность в отношении прав личности, но не имела ни силы, ни самостоятельности, ни тонкости личности стародворянского времени. Элементов устойчивости в ней поэтому было меньше, элементов самоуверенности и требовательности стало еще больше» [Тихомиров 1992: 380] — росла самодостаточность интеллигенции, вызывавшая такое явление, как нигилизм. Именно на этом этапе появляется термин «интеллигенция» (1862), а «стародворянский» этап из этой истории исключается.
4. «Таврический дворец» — свобода недостойных свободы; в массе своей это интеллигенция «инородческая», она внедряется в тело русской интеллигенции под ее лозунгами: «Максимализм интеллигенции рожден примитивизмом ее мышления; возможно только одно действие: "Во мне что-то подумало". Возникает критическое отношение к интеллигентщине, и наследники русского пути предупреждают об опасности: «Сонмище больных, изолированное в родной стране, — вот что такое русская (?) интеллигенция». «Я определил бы "интеллигентщину" как крайнее человекобожие, сосредоточиваемое притом лишь на интеллигенции, т. е. на самих себе, в соединении с примитивной некультурностью, отсутствием воспитания к культуре, понимаемой как трудовой, созидательный процесс. И этот нигилизм, уменьшая практическую годность культурно руководящего класса, затрудняя и без того затрудненный общеисторическими и общеполитическими условиями процесс культурного воспитания страны, представляет собой прямо-таки нашу национальную болезнь» [Булгаков 1911, 1: XVIII—XIX].
5. «Кремль» — пафос американизма избранных интернационалистов: «любовь к социализму есть превращенная форма нелюбви к хозяйству».
Теперь можно описать и нынешний этап, но он у всех на глазах. А итог печален: «Гуманизм убил душу» — и «русская интеллигенция умерла».
Четыре параллельных процесса сопровождают развитие интеллигенции в России.
Расширялась социальная база носителей «интеллигенции» — превращенной формы духовности, из которой постепенно вытесняется идеально-«аристократическая» составляющая. Вовсе не властители дум, органически развивающие русскую традицию, признаются интеллигентами; да Пушкин и Толстой и обиделись бы на такое слово.
Всё усиливается и расширяется инородческая компонента интеллигенции, и термин «русская интеллигенция» утрачивает свой смысл. Это причина, почему и термин попадает во все зарубежные энциклопедии как «русское слово»; такого не случилось бы, останься заимствованный из польского термин в национальных наших границах.
Всё больше удаляется интеллигент от родной почвы, от русского дела и интереса в сторону «общечеловеческих ценностей», заимствованных со всего света и плохо переваренных даже теоретически.
Всё энергичнее заимствованные идеи навязываются обществу как единственно верные, абсолютные, то есть, следовательно, и праведные, и термин «русский реализм» утрачивает смысл: подобная «идея» уже не соответствует природной своей «вещи», хотя по-прежнему пробалтывается всухую в том же самом «слове».
Душа умирает в рассудке.
Народ ожидает доброго человека, а приходит фанатик чуждых идей. Михаил Пришвин в 1919 г. выразил ту же мысль лучше: «Мы ожидали пророков, а пришли экономисты».
Призывы к интеллигенции «эпохи Таврического дворца» прозвучали в знаменитом сборнике «Вехи» (1909), но их не услышали. А уже тогда сказали достаточно, определив родовые черты интеллигенции как идеологического класса.
Безрелигиозность и противогосударственный характер, социальное «отщепенство» (беспочвенность) и утилитаризм народнического миросозерцания («народное благо может быть достигнуто извне») — это философия социальных изгоев, утративших родные корни.
Духовные ценности традиционного общества подвергаются осквернению (во имя «творчества социальных идеалов»), утверждаются «уравнительная справедливость и безответственное равенство» (но — «свобода и равенство — вещи несовместимые!»); точно так же и в отношении самой интеллигенции: «деловитость и интеллигентность несовместимы!», — уничтожен интерес к истине в пользу свой правды («инертность мысли и консерватизм чувств»). Это философия рацио, несовместимая с потребностями души.
Антимещанская этическая сила интеллигенции, направленная к личному освобождению личности, в исторических условиях своего осуществления оборачивается нигилизмом, анархичностью и скептицизмом, поскольку в отрыве от социальной базы никакое общество не может одолеть государства. Это философия безволия, нивелирующая характеры.
И тогда возникает нетерпимость к инакомыслящим, фанатизм идеи, ради которой можно идти на всё. Но самое главное, со всем указанным сопряженное, заключается в том, что успех дела всегда оказывается губительным для самой интеллигенции. Ее идеи не согласованы с реальным и идеальным в жизни, а этические подмены разрушают и собственные идеи. Отщепенство, распад души, предпочтение воли — свободе, истины — правде, нетерпимость и агрессивность раскольничества показывают народу: нет, ты не тот, ты не добрый человек, не «внутренний человек», не русский. Да, «русская интеллигенция в сущности всегда была женственна: была способна на героические подвиги, на жертвы, на отдание своей жизни, но никогда не была способна на мужественную активность, никогда не имела внутреннего упора, она отдавалась стихии, не была носителем Логоса. Это, быть может, связано с тем, что в русской истории никогда не было рыцарства...» [Бердяев 1989: 416—417].
Добрый человек, человек «внутренний» живет надеждой в своих традициях, не замышляя губительных перемен, но думая о лучшем в деле. Это не интеллигент как личность, а просто душевный человек.
Интеллигента точит червь сомнения, но его душа отвердела в рассудке, «разрыв между "интеллигенцией" и "народом" прошел ведь именно в области веры» [Флоровский 1937: 503]; надежды интеллигента стали пустой мечтой, и парадокс его слов состоит в том, что и западного ratio он не достигнет никак: отягощен своею «душой». «Когда они переходят в европейство, — заметил Розанов, у русских русский мотив усиливается (жалость, сострадание)». Усиление «русского мотива» искажает личность и приводит к развитию скепсиса, нигилизма, к разрушению цельности взгляда, и тогда, как не раз замечено, интеллигенция становится «машиной разрушения».
Запад и Восток
Во всех расчетах сознания исходной категорией у славян является категория пространства.
Что касается чисто географических условий существования, судьбою для русских стало расположение их территории между Востоком и Западом— между рассудительным Западом и чувственным Востоком. Естественным условием снятия такой противоположности во взаимных контактах и стала Восточная Европа. Поскольку в древней нашей истории всё двоится в противоположностях, что требует обязательного преодоления в чем-то третьем, призванном расколотый надвое мир соединить в устойчивой гармонии Лада, — оказалось важным найти это третье, ширь и высь снять в проекции к глубине. Путь на Север исчерпал себя быстро, к XII в., оставалось — на Юг. В южные страны идут походами и Святослав, и Владимир, и позже все русские власти. Юг — заветные былинные степи, сладкий мир иреи — рая, заветная мечта: «На Константинополь!» Владимир и веру согласен принять, чтоб только попасть в избранники Юга. В конечном счете это движение в сторону цивилизации, к той самой «средиземноморской культуре», носителем и хранителем которой оставалась Византия.
О неиспользованной возможности культурного паломничества на Юг постоянно говорили на Руси и в России — вплоть до современных мистиков, мистическим своим опытом осознавших это [Андреев 1991: 162].
Тяготение к Западу — традиция нашего времени. Всегда оглядывались на Восток и заглядывались на Юг — туда, откуда солнышко встает и где оно жарче светит. Ибо только солнце и может измерять времена и сроки. И здесь различие тоже проходит по той же линии общество—государство, потому что в нашей истории «греческое влияние было церковное, западное — государственное. Греческое влияние захватывало все общество, не захватывая всего человека; западное захватывало всего человека, не захватывая всего общества» [Ключевский 1918, III: 244—245].
Восток и Запад не только границы пространства, но и прямое воплощение различных систем «человечности». Для Востока общество важнее личности, для Запада свобода личности — основной постулат свободы всего общества. Противоположность общество—личность сходится с противоположностью общество—государство, и невольно рождается убежденность, что именно «государство дает свободу личности». Однако это не так; такая свобода — свобода от общества — никогда не понималась русскими как свобода; это воля. Вдобавок, Запад—Восток есть граница сакральная, движение на Восток приближает к раю (русские двинулись туда в поисках счастливой страны), движение на Запад есть дорога в ад (на закат). Туда пути нет. За таким решением стоит и тысячелетний опыт «переселения народов», и дуализм сознания: направо пойдешь — землицы найдешь, налево свернешь — жар-птицу узришь.
Восток и Запад не только границы пространства, но грани времен. Время быстро протекает на Западе, тишина и покой — на Востоке. Бег секунд — и вечность в своей немоте. Вечность как отсутствие всякого времени в пространстве Вселенной.
Пространство, основная категория русской ментальности, при необходимости к пространству сводят и время, и движение, и все остальные категории. Именно так понимают дело русские философы и историки, тот же В. О. Ключевский.
Время всего лишь функция от пространства, простора без границ, простирающегося до горизонтов, пока охватит его уемистое око. Пространство измеряли днями пути или полетом стрелы, вообще — всем, что вещно определяет идею простора.
Варвары всегда шли с Востока, от встающего солнца, тенями страшными и неодолимыми, как татарские батуры в русских народных былинах. Русские шли на Восток, пробираясь к последнему океану, за которым солнце встает...
Итак, понятно: равноценно важны и вещь, и ее идея.
Потому-то у нас всегда две столицы и обязательно две власти. Князь и посадник, князь и тысяцкий, царь и митрополит... командир и комиссар. Вещь и идея персонифицированы, одинаково исходя из слова, воплощая тем самым конечную мудрость реализма.
И две столицы, в последовательности их замен: Киев и Новгород, Владимир и Киев, Москва и Киев, Новгород и Москва, Москва и Санкт-Петербург. Один град — стольный, здесь восседает власть, а другой чем-то мил для общества, воплощает потаенные его идеи, всё время стоит за спиной у стольного прямым ему упреком, напоминанием о том, что в каждый момент истории имеются рядом две силы — культура и цивилизация.
Говорим о том специально, потому что в последнее время и здесь стала возможной подмена понятий, искажающая историческую суть противостояния.
Один пример.
Евгений Барабанов [1992: 136] говорит, что оппозиция Россия — Запад «составляет неустранимый невротический конфликт, лежащий в основе культурного самосознания» русских. По его мнению, Запад в нашем представлении амбивалентен, предстает в восприятии русского человека в широком спектре эмоций, от враждебности до восхищения, — «эротический невроз перенесения». Подмена в тезисе. Исторически речь идет о противоположности Восток — Запад, в которой Россия играет роль, нейтрализующую крайности. Россия — «огромный ВостокоЗапад», такова «география русской души» (Бердяев); это вековечная «борьба с разъединяющим пространством, борьба с разъединением и препятствием к соединению есть первый шаг в борьбе с всепоглощающим временем...» [Федоров 1995: 34]. «Мы не принадлежим ни к Западу, ни к Востоку, и у нас нет традиций ни того, ни другого», — говорил Чаадаев, иногда и сам сомневаясь в этом. Так что нет здесь привативности оппозиции «мы — они» («Запад — всего лишь символ Другого», с которым конфликтуют [Барабанов 1992: 150]); здесь — эквиполентность равнозначных и равноценных (пора бы понять) энергий и сил: Запад — Восток. Россия сильна своей приобщенностью к ним обоим — как великая сила, смиряющая противоположности. Что же касается восторгов или враждебности... Пытаться выставить непротиворечивые «оценки тысячелетнему бытию и России, и Запада — занятие для идеологов, не доросших до зрелого мышления. Спор о том, что "лучше" — Россия или Запад, вполне подобен, скажем, спорам о том, где лучше жить — в лесной или в степной местности, и даже кем лучше быть — женщиной или мужчиной» [Кожинов 1994: 227] — и это ответ верный. Верный тем более, что критики, не понимая подобной удвоенности сущего, в силу собственной своей ментальности всё время норовят свести идею «Запад» к конкретной западной стране. Для одного это Англия, Франция, для другого — Германия, для третьего, быть может, Италия или Испания, а нынче так и вовсе чушевато: США. Соединенные Штаты есть точка соединения реальных Востока и Запада, но в противоположной России проекции. Не Восток наплывает на Запад, но Запад ширится до Востока. Антипод России представлен как снятие антиномии, но только с обратным знаком: это не синтез, а механическое смешение. Не символ восхода — заката, а понятие географическое.
Противостояние Восток — Запад есть проблема «обновления человечества», писал Франц Шубарт. Еще Лейбниц и Гёте высказывали предположение, что «только совмещение восточного и западного душевных типов могут создать цельного, совершенного человека». Удачно сказано, что Запад идет на Восток за восполнением, а «славянский Восток идет навстречу этому стремлению по совсем другим мотивам: его толкает на это не щемящее чувство собственной недостаточности, а пьянящее чувство избыточности» — «Проблема Востока и Запада — это прежде всего проблема души» [Шубарт 2003: 29—30]. Очень глубокие размышления автора о будущности России в союзе с
Европой одобряли русские философы: «Россия не стремится ни к завоеванию Запада, ни к обогащению за его счет, она хочет его спасти. Русская душа ощущает себя наиболее счастливой в состоянии самоотдачи и жертвенности. Она стремится ко всеобщей целостности, к живому воплощению идеи о всечеловечности. Она переливается через край — на Запад. Поскольку она хочет целостности, она хочет и его. Она не ищет в нем дополнения к себе, а расточает себя, она намерена не брать, а давать... добиться всеединства путем полной самоотдачи» [Там же]. Как это высказывание отличается от несправедливых определений современных западных «советологов», которые везде ищут врагов (отсюда приписывание этой черты русским). Русские на Западе всегда «подвергали злобным нападкам» то, «что тайно ненавидели в себе самих» (западному интеллектуалу это лучше знать по себе!), и вообще — отношение к Западу на Руси до настоящего времени остается «расщепленным — почти шизофреническим» [Биллингтон 2001: 128, 109]. Относительно последнего вспоминается прекрасное эссе Игоря Смирнова [1996] о шизоидности современной западной культуры. Очень трудно западному автору оценивать русскую ментальность иначе, как через призму собственных пороков.
Запад развивали западоиды, писал А. А. Зиновьев; основной их принцип: «Работай на себя, рассматривая всех прочих как среду и средства бытия». Для них характерно внутреннее упрощение проблем, поверхностный рационализм, это существа со средними способностями и контролируемой эмоциональностью, которые упорядочивают свою жизнь заботой о здоровье и стандартных удобствах, ради которых и работают, добросовестно, но без вдохновения. Они считают себя существами высшего порядка по отношению к незападным людям [Зиновьев 1981]. Философское осмысление достижений «западной цивилизации» показывает «абсолютную бесперспективность попыток стремительного утверждения в Восточной Европе ценностей Европы Западной, духовной альтернативой которой она была на протяжении более тысячи лет! Ее альтернативный характер сохраняется и сейчас и будет сохраняться в будущем», так что и у нас будут осуществлены не западные (например, не «западный марксизм»), а свои собственные мифы («вплоть до большевизма!»), и главным образом потому, что все, теперь происходящее, вовсе не отражает действительного перелома во внутреннем мире русского человека, поскольку «духовный мир — это мощнейший поток человеческого бытия», который «строит собственную логику» на основе неявно выраженной, но постоянно действующей «логики самоорганизации общества» [Моисеев 2000: 121]. Оптимизм специалиста по системным связям, озабоченного проблемой культурной экологии, внушает некоторые надежды. Надежды на то, что глубинные залежи народной ментальности будут воспроизведены в нужный момент в надлежащем месте.
Философия и литература Серебряного века пыталась достичь русского синтеза двух начал — Востока и Запада, но не получилось, как не получилось того и в социальных утопиях евразийцев, еще дальше разведших традиционный Восток и самодостаточный Запад, который (за ходом лет это все заметней) как раз и не желает подобного синтеза, ограничиваясь выкачиванием духовных и материальных средств в свою пользу.
Тем более здесь не может быть оценочной градации. Верно замечено, что проблема Восток — Запад стоит со времен Геродота, и степень «западности» или «восточности» весьма условна: всегда есть некто, кто еще восточнее тебя. Одно несомненно: Запад обязан Востоку идеями, Восток ожидает от Запада дела: «...нужно теперь стремиться к культурному синтезу через Россию» [Бицилли 1996: 31].
Культура и цивилизация
Возникает новая противоположность, и культура, развиваясь из культа, снова встречается с властью, которая насаждает цивилизацию, часто забывая о природной своей культуре.
Культ живет идеей, его действия регулируются идеалом, влекущим вверх; это жизнь по образам, т. е. по образцам. Культура же снимает идеалы в пользу ценностей, т. е. норм, которые организуют пространство существования, увлекая человека вперед. Предпочтение одного из них — либо культа, либо культуры — одинаково неудачное решение, потому что лишь совместно — и посредством идеалов, и посредством ценностей — человек способен ориентироваться в мире. Между прочим, причина некоторой, на взгляд западного наблюдателя, внешней «некультурности» русского человека в том, что идею он всегда предпочтет сомнительной ценности вещи. Да, такова точка зрения русского реалиста, ориентированного сознанием на «абсолютные ценности» — на идеалы. И только идея приводит к конкретному идеалу.
Ю. М. Лотман в статье «Культура как коллективный интеллект и проблемы искусственного разума» понимал культуру как коллективный разум, генерирующий новые тексты («спонтанность генерирования новых текстов»), но это — утверждение элитарной культуры, о которой нет здесь речи.
Лучше говорить о том, о чем толковали русские философы, выявляя наше представление о культуре духовности в ее противопоставлении ментальности. Эта противоположность осознается до сих пор; ср. яростную борьбу Александра Солженицына против «материалистической западной цивилизации» с ее «гонкой материальных благ». «Материалистическая» — потому что ориентирована на вещь (вещизм), а не на идею; «западная» — потому что восточная культура взывает к аскетизму и самоограничению; «цивилизация» — потому что не культура.
Культура есть прежде всего творчество нового, и потому оно предопределено и непредсказуемо [Федотов 1981: 77]. Георгий Федотов хорошо объяснил, почему так необходимо изучать национальную культуру вглубь, вглядываясь в века: «Взятая из большой дали, культура обнаруживает единство... направленности», а после революционных скачков нашего времени вполне возможны и «воскрешения старых и даже древних пластов русской культуры». Тем более, что сегодня Россию «гонят в цивилизацию машин», проводя «рационализацию русского сознания» [Там же: 78, 80].
Рациональное сознание можно направить в нужную сторону, «доказав» ему то, что следует, а вот чувству, с помощью которого чаще ориентируется русский человек, — «чувству не прикажешь!». Противопоставление «культура — цивилизация» коренится в антиномии «государство — общество». На Западе победило государство civilis, и западная цивилизация перемалывает культуру с ее моралью и утверждением совести как регулирующей социальные отношения силы. В России традиционно важна культура, поскольку «цивилизация есть изнанка культуры» [Зеньковский 1955: 222]; по-прежнему сильны неформальные общества, противящиеся государственной нивелировке. Здесь центр тяжести не «перемещается из духовной среды в материальную, из внутренней во внешнюю», когда «не церковь, а биржа стала господствующей и регулирующей силой жизни» [Бердяев 1991: 18]. «Бухгалтерская честность» заменила совесть — что и приводит к утрате чувства ответственности перед природой и грядущими поколениями, чувства, за которое так стыдит русского человека современный «евроцентрист», домогающийся своей миски чечевичной похлебки в обмен на природное первородство.
Европа полагает, что несет миру «общечеловеческие ценности» — тезис, постоянно оспариваемый русскими философами; это догмат «навязчивого и агрессивного культуртрегерства, которым так одержима Европа» [Зеньковский 1955: 133 и след.]. Без национальных культур «общечеловеческой цивилизации быть не может», потому что тогда была бы «нежелательная неполнота» мира. Универсализм христианской идеи постоянно наталкивает на подобные мысли, но их не приемлет славянская душа, которая «чует сердцем» фальшь подобных утверждений.
Нет общечеловеческой культуры, но можно говорить об общечеловеческой цивилизации, хотя это тоже «выражение крайне неточное и вызывает самые разные эмоции», писал Н. С. Трубецкой. Это своего рода шовинизм, но в космополитическом масштабе, и «разгадка кроется, конечно, в гипнозе слов», столь желанных для номиналиста. Например, социализм и коммунизм — порождения романо-германской цивилизации; романо-германцы «подсовывают нам свои "универсальные идеи"», и нам, в целях объективности, давно пора отказаться «от характерного для романо-германской нации способа мышления», которое вызывает «постоянное требование равняться на Запад и заимствовать оттуда западные "ценности"», те самые, отсутствие которых у нас вызывает идею «вечного отставания», отсутствие веры в себя, разрушает естественный рост национальных традиций: «скачущая эволюция еще больше растрачивает национальные силы» [Трубецкой 1995: 59, 64, 65, 94, 96, 100, 120, 299]. К идеалу мы «восходим», а не «сходим», как еще в XV в. говорил Нил Сорский; сложность в том, что собственный путь к общечеловеческой цивилизации следует найти в своей национальной культуре. Да и понятие «цивилизации» нам давно знакомо: оно так часто повторяется, что почти вытеснило из употребления слово просвещение: «Не оттого ли и понадобилось нам слово цивилизация, что мы сохранили какое-то бессознательное уважение к слову просвещение и что нам становилось как будто совестно употреблять его по мере того, как самое понятие мельчало, грубело и пошлело?» [Самарин 1996: 546]. Русское представление о соотношении национального и общечеловеческого неоднократно описано как взаимодействие национального «я» и человеческого «мы»: «Человек может найти общечеловеческое только так: углубить свое духовно-национальное лоно до того уровня, где живет духовность, внятная всем векам и народам» [Ильин 1: 215]. Культура — явление внутреннее и органическое. Согласно мнению русских мыслителей, культура — дух, а цивилизация — тело, культуре важны ценность и качество, она этична; цивилизацию привлекают цена и количество, она — экономика («цивилизация как культура промышленно-торговая», по слову Н. Федорова): «Дело всех — цивилизация, а дело избранных — культура»; сегодня же «вся энергия направлена вовне. Это и есть переход культуры в цивилизацию» [Бердяев 1991: 18].
Так мы снова приходим к формуле русского реалиста: в глубине, в сущности своей цивилизация и культура — одно, но разведены они как идея и как вещь. Всё слова, слова, слова... в словах всё дело, и это хорошо понимает реалист Самарин.
Высказываемые ныне мнения о том, что общность культуры создает нацию, столь же недостаточны, что и в отношении государства, крови и веры, которые тоже не составляют основной фермент нации. Подобное утверждение раскалывает народ изнутри почище классовой борьбы. Каждая культура обладает своими ценностями в различной степени их проявления, и разграничить, например, разнонациональную интеллигенцию с ее культурой и простой народ было бы неверно (хотя постоянно и разграничивается).
Понятие о культуре, кроме того, весьма расплывчато (по мнению Солоневича, вообще «путаный термин»). В границах данного государства, например русского, постоянно возникают споры о том, что именно полагать культурой. «Обойтись посредством носового платка» или исполнять предначертания совести? В традициях русского культурного пространства различное понимание культуры обозначилось рано и классово. Иван Солоневич полагал даже, что «миф о культурной отсталости России обязан своим существованием огромности, следовательно неустроенности наших пространств и разноплеменности населяющих их народов» [Солоневич 1997: 45]. Недоброе око всегда углядит мусор в каком-то дальнем углу. То же и в социальном отношении. За высшим классом, за интеллигенцией, которая «все-таки мыслит», закреплялось право культуры, тогда как простой народ как будто отдавался на милость культа, то есть чувства и веры (не всегда обязательно религиозной: темные народные массы — миф городской интеллигенции). Разведение веры и культуры сказалось трагично на нашей истории. Культ связан с идеей, а культура — с «вещью», то есть с воплощением другой идеи в конкретное «дело» (марксизм, либерализм и пр.). В обоих случаях естественно возникала необходимость — у народа восполнить идею до «вещи», получить результат готовой идеи праведной жизни, а у интеллигенции на основе «вещи» породить еще и свою идею, которая — по этой причине — всегда оказывается заимствованной извне, чужой и даже чуждой. Самый печальный результат подобного удвоения равнозначных идей, раздвоения мыслей и чувств — в том, что возникает нежелательный сплав народной веры и интеллигентского сомнения (скепсиса): вера—сомнение, порожденная не сведенным в единство народным разумом. И судьба любого интеллигента из народа — постоянно взывать: «Не отказываться от своего разума!» (А. Платонов). От своего собственного.
Речь и язык
«Мудрость языка шла впереди мудрости наук» — никто не выразил столь лаконично бытийную сущность языка, носителя человеческой мудрости, как Велимир Хлебников. Это его слова. Действительно, все антиномии, сколько бы их ни возникало, коренятся в особенностях языка, который представлен в речи. Еще одна антиномия. На первый взгляд она не находит разрешения. Речь материально вещна, явлена в звучании, конкретна — она в бытии. Язык — идеально-духовная сущность, он и есть сущность явленной речи, он абстрактен в инобытии. Язычник понимает язык верно — как субстанцию; так же он понимает и общего предка или общий дом. Язык, а не речь. Но и важный признак нации тоже язык. Язык, а не речь. Идеальное сплачивает и в язычестве, и в народе, вещное различает, а потому и раскалывает. Но одного без другого нет, потому что вещные варианты речи суть явленности идеального — инвариант языка.
Это не всё.
У каждого человека свои особенности речи, у близких людей — свои, у деревни этой в отличие от соседней — тоже. Но это особенности эмпирические, случайные, чисто «телесные», они обретаются на уровне чувства и могут исчезнуть бесследно — но могут и слиться в нерасторжимом единстве местного говора. Говора, даже не речи.
Между чувством своего говора и идеей общего языка проявляется воля речи. В основе она социальна и потому в общественной среде обладает определенными функциями.
Для русских всегда было важно разграничить три уровня общения. Первый, освященно-сакральный, обращен к идеальному, к Богу; такою речью «пристойно говорить с Богом», как заметил Ломоносов. Второй, профессионально-деловой, обращен к другим членам общества и связан с волевой деятельностью человека, отличает особенности характера; им пристойно разговаривать и с государем. Третий, профанно-бытовой, обращен, конечно, к самому себе и к близким людям, которым не нужно ничего объяснять (опыт общий, и ситуация речи ясна), достаточно намекнуть эмоционально заряженным словом. Три уровня существования языка в речи согласованностью своих действий создают три разных стиля, в рамках которых и овеществляется идея языка. Интересно, что канонизация стилей как достойных форм выражения мысли идет сверху, начиная с высокого. В роли высокого стиля долго выступал заимствованный у южных славян старославянский, затем искусственный церковнославянский, а с XVII в. все архаические, но освященные традицией употребления формы родного языка. Этот стиль, наследие Древней Руси, в XV в. развивался параллельно со стилем средним, который стал вкладом Московской Руси в национальную сокровищницу языка. На исходе XVII в. бытовой — «подлый» — стиль тоже входит в обращение на правах письменного. Не только в народной литературе, но и в неистово-чувственном вяканье протопопа Аввакума он обретает черты «достойного» стиля.
Сложилась система стилей, и в середине XVIII в. гений Ломоносова рачительно соединил их в цельность литературного языка, столь необходимого в новых условиях жизни. Тем самым он дал толчок развитию русской науки и культуры. Но еще и раньше, в XVI в., интуитивно было осознано, что по существу своему, по идее, стили несводимы в единство, поскольку различает их два признака: все слова языка разграничиваются стилистически, то есть вещно, но также и по семантике-смыслу — идеально:
Таким и было это вполне понятное соединение двух зквиполентных оппозиций в общую градуальную. Основная единица сакрального языка — символ, а бытовая речь образна; что же касается деловой, прагматически выдержанной, ее основная единица — понятие. В соревновании различных содержательных форм слова — образа, понятия и символа — победил средний стиль, как одинаково относящийся и к высокому (в оппозиции по стилю), и к низкому (в оппозиции по семантике), да к тому же и оперирующий не чувственным образом и не образным понятием (символом), а именно и только понятием; иногда и значение слова теперь толкуют как понятие, что неверно, но — облегчает работу мысли. В рядах слов вроде следующих: очи—глаза—зенки, супруга—жена— баба и т. д. — идеальность первых и избыточная «чувственность» (образность) последних снимаются усредненной нормой, которая как бы смиряет стихию профанного говорения, возвышая ее — постоянно развивающуюся в простом разговоре — до уровня тоже стиля.
Усреднение речи, этот культурный компромисс, т. е. создание культуры, неявным образом ориентировано на «средний» тип человеческой личности, вообще на всё «среднее», не выходящее за пределы среднего. А средний тип — не русский герой, и Константин Леонтьев говорил в горячности, что «средний человек» — буржуазный идеал Запада.
Но для очень многих людей средний стиль, норма, стал как бы тем эталоном сущности, который воспринимается на правах языка вообще. Великая ошибка, нивелирующая характер и упрощающая сознание в интеллектуальной деятельности современного человека.
Во французской традиции национальный язык — проблема политическая, он создан государством как политическая сила, как средство политического и культурного единения. У немцев-романтиков национальный язык развился раньше государства (этнические особенности раньше политических) и представляет собою сущность нации — это проблема культурная. Во французской истории литературный язык возникает позитивно-рассудочно, как «вещь» от «слова», в германской — идеально, как «идея» от «слова» же. Путь, которым развивался литературный (общенациональный) язык в России, как бы соединяет обе эти, номиналистически явленные, линии разного толка. Развитие литературного русского языка на национальной основе с XVIII в. идет от «слова» сразу и к «идее»-стилю, и к «вещи»-норме.
Очень точно это осмыслено Петром Бицилли. Он заметил, что смерть народно-разговорного языка есть его второе рождение в вечность: «Он становится фактором национальной культуры» в качестве литературного языка, что и приводит к естественному отмиранию местных диалектов. Строго говоря, только после образования такого языка через него «видят мир» — ментальность-духовность обретает бифокальную зоркость: народный язык, живой язык, имеет свою структуру, а литературный язык создает и стили; идеальное и реальное организуют гармонию сущего в полном согласии с тем, чего требует «реалист». И «только в Новое время, — заключает историк, — литературные языки становятся подлинно национальными языками, проникая постепенно во все слои населения и во все жизненные сферы» [Бицилли 1996: 142—143].
Двойственность и плюрализм
Двойственность сдвоенного, искусно удвоенного и сама по себе — остаток языческой старины с ее почитанием близнецов и всего парного. Первые русские святые — Борис и Глеб, первые стольные грады — по два, первые столкновения за власть над Русью велись каждый раз с одним противником (другие дожидались в сторонке). Даже Бог для славян одновременно и Творец, и Создатель, который в суете житейской обращается в Спасителя-Спаса.
Различение двойственного числа имен и глаголов наряду с единственным и множественным строго соблюдалось во всех текстах до XV в. Иначе невозможно подумать: две руки, две ноги, два ока и уха — всего по Божьей милости два, и как-то же объясняется это. Не знал средневековый книжник, что и мозг под черепом также раздвоен, и своей потаенной энергией различает в восприятии, в толковании и в знании вообще то — рационально-логическое, а это — образно-чувственное.
Такова именно диалектика развития Единого, таинственно обернувшаяся удвоением форм и раздвоением смысла. «Плюрализм» в таком понимании представляется пустошною множественностью демонских сил, что всегда претило русской ментальности. Множественность — бесовство, двоичность — гармония, устремленная к Всеединству как конечной точке развития. В Средние века все были согласны с Иоанном Дамаскином в том, что двоица — первое в ряду число, тогда как единица еще не счет.
Отсюда обязательное устремление к Единому как Благу, что бы ни понималось под Благом: единство в момент опасности, собранность как единение духа или иное что. Устремление к единству со стороны может показаться (и кажется) тяготением к тоталитаризму, хотя в действительности это тяга к определенности, ясности, если хотите — к точности. К завершенности, оформленности целого.
Таково оправдание того удвоения мира в сознании русского человека, которое его неприятели подчас именуют двоемыслием или даже двоедушием. А это всего лишь признание равноценности того и другого: и разума, и ощущения, но — разума, а не рассудка, и ощущения, а не чувства.
В такой вот развертке противоречивых сил и в таких формах отливается наша ментальность. Год за годом и век за веком, в труде и в борьбе. Таковы и объемы мира, которые своей завершенностью в сознании предстают как развороты мысли и чувства от себя и вовне. Есть и точки отсчета, которые также всегда на виду. Одни и те же в народной сказке и в зрелом философском труде. Развертка верх—низ определяет нормы этические: возвышенность дел одних и низменность им противоположных; право—лево — нормы логические, они построяют движение мысли в дискурсе; перед—зад — это нормы эстетические. Пространство не просто простор и не только страна. Пространство размещения творит всё вокруг, мир растет и ширится по мере того, как человек осваивает все его тонкости, все его признаки и движения. А тут уж кто и что предпочтет. Строгость логики, нравственность этики или одну красоту, в которой, быть может, как раз всё и сходится.
Специфическую особенность русского сознания видят в его «манихействе». Вернее было бы говорить о славянском богомильском дуализме, согласно которому в основе мира доброе и злое начала равноценны и равнозначны, и духовное и мирское одинаково построяют мир — одно без другого не в бытии и есть всего лишь идеи; только их слиянность в единстве порождает событие, а сокрушительная схватка их друг с другом движет миром. Говоря о православии как коренном признаке «русскости», не следует забывать о богомильстве как народном, в корне языческом субстрате христианских воззрений русского человека. Это своего рода славянский протестантизм, время от времени воспламенявший русские души в борьбе против закрепощения их тел. Свободолюбие — в отношении к власти, нестяжательство — в отношении к общине, аскетизм в личной жизни, терпимость — в отношении к другим — таковы национально-русские черты, восходящие к подобному дуализму. В обыденной жизни дуализм сознания носил черты почти религиозные и потому сохранился в действии, откликаясь на земные тяготы русских людей. А оценка его со стороны как «манихейства», якобы постоянно ищущего врага вне себя, есть оценка русского дуализма извне, и оценка лживая.
А лживость основана на «чистом» ratio.
Логика рационального видит поверхность сложившейся системы, не обращаясь к глубинам истории. Русский наблюдатель, напротив, ищет источник двоичности и без труда находит.
Менталитет как зло — это восточная точка зрения, менталитет как благо — западная. «Мысль создала понятие "менталитет" и занимается рассуждениями о самой себе» [Менталитет 1994: 6] — кружит на одном месте и осуждает всё, что в это понятие не входит. Исторически русская ментальность испытала воздействие древнегреческой — объективной, обращенной к внешнему миру, и христианско-семитской — субъективной, обращенной к душе [Разин 1994]. Внутреннее противоречие между языческим и христианским возникло в русском сознании потому, что противоречия двух движений — души и духа, сердца и головы — определялись особенностями языка, которым славяне владели в моменты особенно сильных таких влияний извне. Например, совмещение субъект-объектных отношений, категория одушевленности, синкретизм пространственно-временных связей. Не столь уж и ошибочно предположение, согласно которому в свое время «лишенная социального иммунитета» русская духовность стала «полем брани» между эллинской рациональностью и семитской иррациональностью. «Возможно, подсознание россиянина заполнено семитским содержанием, а сознание — эллинской рациональностью (благодаря просвещению). Таким образом два культурных начала пересекаются в каждом индивиде» и в разных условиях побеждает одно из них [Там же: 29]. Невольно возникает вопрос: а что у этого «россиянина» свое?
Видимо, то самое, что и является как единственное противоядие подобному «манихейству» — «языческая стихия», на которую неосторожно списывают все минусы русской ментальности: «беспредел русской власти», «русский нигилизм», «феномен вождизма» и даже стремление «жить идеей» — всё это «языческое ослепление» [Василенко 1999], которое, конечно, следует умерять христианским смирением. Однако в действительности, взятое само по себе, вне всякий влияний со стороны, всё это — присущее русской душе стремление к Природе, природному, своему. «Семитское» подсознание и «эллинское» сознание нейтрализуются чем-то третьим, природно высшим, неким сверхсознанием, т. е. своим коренным духом, который идеально противопоставлен вещности каждого внешнего влияния и часто перерабатывает в свою пользу его результаты.
Таково последнее раздвоение, рождавшее свойства русской ментальности. И оно, как все прочие, не органично присущее нам, но является благоприобретенным, пришедшим исстари и, в общем, как кажется, не зря.
Культ, христианство, а в конечном счете культура взывает к нравственной силе личности.
Языческая субстанция нашего рода, общества нашего, всё время возвращает нас к красоте как коренному свойству истинного и нравственного.
Цивилизация государства требует разобраться раз и навсегда, за левых ты или за правых, куда идешь и с кем обретаешься.
Логика жизни, нам говорят, «логика требует», «логика хочет», логика тянет в борьбу. Но логика только доказывает, она неспособна открыть нового. И логика жизни тоже — всего лишь быт, и вещность его не в силах сокрыть идеи.
А все-таки глубь-глубина важнее для нас, приемистей, слаще. Эти пространства мысли, эти просторы идеи — они в глубине.
Да и не нами сказано: «Не стану рубить я правой руки, не стану рубить и левой — обе сгодятся для дела».
Иерархия противоположностей
Чтобы яснее представить себе взаимное отношение только что рассмотренных категорий, представим их в общей схеме, так удобнее проследить динамику развития русских концептов во внутренней их противоположности и системную их иерархию, отложившуюся в подсознании русского человека (они постоянно изменяли свой статус, функцию и ценность).
Сегодня нам кажется, будто общее направление движения таково:
от Востока к Западу, т. е. из пространства во время (в историю);
от язычества к христианству (к идеологии);
от природы к культу (к культуре);
от общества к государству (к социальности);
от народа к личности (к свободе), и т. д.
Таким и должно быть наше представление о том, что было. Современная мысль находится во власти двоично-привативных оппозиций, члены которых определяются установкой на «маркированный» (отмеченный положительным признаком) член. Маркированы, разумеется, вторые члены противопоставлений, создающие как бы цель движения. Но это обманчивое впечатление, иллюзия с высоты сегодняшнего дня. Когда движение начиналось, никто не ставил перед собой подобных целей. Целей не было, как не было и причин — были у-слов-ия, определенные словом и направленные делом.
Само же движение проходило согласно принципу, присущему Средневековью, в иерархии градуальности, с постоянной заменой признаков различения, скольжением их по граням бытия и быта. Конечная цель не была ясна, как не ясна она и тогда, когда ее только ставят вполне сознательно. Следовательно, и в нашем случае происходило такое же пересечение самых разных принципов и направлений движения. Вполне возможно, что это были столь привычные для Средневековья триады типа язычество—христианство—культура (от культа к культуре) или общество—государство—личность (в развитии признака свободы). Трудно определить достоверно, какие волны накатывались друг на друга, исполняя свое дело и уходя в небытие. Но что достаточно ясно, так это следующее:
На структурном уровне соединяющим принципом является принцип единства народа (мир) — по существу этнический принцип, который становится фундаментом всех последующих усложнений в социальной организации общества.
На ценностном уровне ведущим является принцип «партии» (клана, группы и пр.), на прагматическом — вождь («харизматическая личность»), на личностном всё основывается на принципе свободы каждой данной личности.
Изменяются качества в зависимости от вхождения в свою степень. Органическая сторона жизни физического лица есть прежде всего живот живого человека, духовное существование его лика облагораживается жизнью (вечная жизнь), социальная функция (социальная роль) личины нацелена на житье-бытье (житие). То, что в природном физическом существовании — принадлежащее тебе имя собственное, в духовной своей ипостаси превращается в символический признак принадлежности к миру — знамя (с сакральным вариантом знамение), а в социальном плане оборачивается абстрактным всеобщим знаком. И так далее.
В сущности, наиболее глубокие исследователи именно в такой проекции и реконструировали исходные ментальные соотношения, характерные для народного сознания. Земледелец—воин—жрец — это архетипические фигуры древней иерархии. С точки зрения «прагматики интересов» В. Н. Топоров обсуждает три ключевые идеи (концепты) древнерусской культуры, «ставшие со временем нравственными императивами русской жизни, которые так или иначе учитывались в последующем развитии самосознания» [Топоров 1987: 187], а именно: единство в пространстве и в сфере власти (государство), единство во времени и в духе (общество), святость как высший нравственный идеал личного поведения (жертвенность ради народа).
Физически-вещное I и духовно-вечное II взаимным усилием создают необходимые им для деятельности структуры III уровня, которые в свою очередь разрушаются, если утрачены связь и гармония между уровнями I и II.
Динамика развития ментальности определялась расположением того или иного концепта в подобных ментальных структурах и в реальных событиях. Предварительно, до изложения примеров, их можно истолковать так.
Триединство сущности
На всех изломах истории государство в России есть основание всякой социальной системы. Этатизму подчинены и этноцентризм, и все идеологемы, и народ, и вера. В Европе, конечно же, всё русское называется иначе (в этом видят как бы объяснение сущности). Русская вера там — Slavia Orthodoxa, русская государственность — византинизм.
В формуле Георгия Федотова [1981: 176]: «Византинизм есть тоталитарная культура с сакральным характером государственной власти, крепко держащей церковь в своей не слишком мягкой опеке; византинизм исключает всякую возможность зарождения свободы в своих недрах» — отражены все три компонента средневековой культуры восточных славян. Это христианство, наложенное на славянское языческое мировоззрение (таково воплощение «духа» в триипостасности сущего), государственность как форма снятия родового строя (ипостась «тела»), входившая в противоречие с общественным, в том числе и с общественным мнением («мнением, да — мнением народным!»), и, наконец, культура (явленность народной «души»), в столкновении с народной культурной традицией создавшая новый синтез — собственную культуру восточных славян.
Историческая необходимость вызвала утроенное заимствование, создав тем самым динамическое противоречие в духовном и культурном развитии восточных славян, в широком смысле «русских». Однако последствия, а именно тоталитаризм, сакрализация культуры и несвобода, о которых говорит Федотов, есть результат давления со стороны более поздних идеологий и конфессий, иных культурных традиций: мусульманского Востока, католического Запада и постоянной, с X в., опасности со стороны иудаизма. Другими словами, русская ментальность во всех своих проявлениях не была заимствована в целом, а сложилась на протяжении длительного времени в постоянном отстаивании своей самобытности от враждебных ей духовных сил.
Формула «православие — самодержавие — народность» лукавит, православие — веру — помещая на первое место, но русский коммерческий флаг такое лукавство вскрывает: сверху символ белого царя, а не небесное полотнище веры и не красное — символ народа. Христианство с самого появления на Руси подавляло национальную идею, подчинило ее служению обоготворяемой государственной идее и обслуживало эту идею вплоть до устранения самих христианских идеологем в пользу «цивилизационных схем». В пользу цивилизации, которая и развивала ментальность «державников» в ущерб душевно-национальному и духовно-идеологическому (христианскому) чувству. Видимо, не случайно у русских мистиков эта формула как бы развернута и градуальный ряд начинается с корня — с народности; Даниил Андреев, говоря о русской «коллективной карме», представляет формулу как «национально-культурно-государственный» синкретизм [Андреев 1991: 161], т. е. как ряд III.
Осталось заметить, что каждый компонент триединой формулы по отдельности — не русского происхождения. И каждый термин заимствован — это кальки. «Православие» на Западе известно тоже, там оно называется «католичество»; самодержавие — слепок с греческого «автократия»; народность, калька с немецкого Volkstum (термин романтиков начала XIX в.). Выходит, что формула графа С. А. Уварова (1832) вовсе не формула «русской имперской идеи». Хотя объективно трехчастность внешней формы бытия сложилась исторически в такую именно формулу, очень удачную: она воспроизводит абсолютный принцип Троицы. В трехмерном пространстве формулы, утвердившей рождение формы, и происходило затем развитие всех релевантных признаков русской ментальности.
Принципы государственности, государство, преобразуются по мере того, как государство пожирает противопоставленные ему сущности, питающие его энергией: сначала национальные («земли»), затем христианские («веры») и наконец общественные, гражданские («мира»). Прикармливаясь ими, оно разрастается в то, что называют (не очень точно) империей, но при этом теряет в качестве. Оно слабеет. Зверь дремлет — и требует отдыха в остановке.
Естественно, что при этом происходит смена самоименований.
Древнерусская ментальность оперирует еще синкретично понимаемой оппозицией страна—земля (Иларион Киевский в середине XI в. и «Слово о полку Игореве» в конце XII в.). Старорусская мысль Московской Руси уже вполне определенно владеет формулой государство—народ, и данная оппозиция ярко проявилась на исходе Средневековья, в XVII в., особенно в эпоху безвременья, закончившуюся тем, что народ поставил на государство Михаила Романова (пока еще при опеке церкви в лице митрополита Филарета, отца Михаила). Переходя по моментам своего развития, государство завязывает узлы как точки отсчета нового качества государственности: царство—государство—империя. Царь — еще носитель власти, которая принадлежит не ему одному, но роду, классу, общине. Государь же — полный хозяин, а уж император — владыка, «отец народа». Сначала признаки власти отнимаются у народа, затем — у Бога. Но маркированность власти сразу по всем признакам при отсутствии их у противоположных ей социальных организмов и есть начало гибели власти, ее загнивания: ей не на что опереться. Она ветшает. Зверь притомился — и снова требует пищи.
Историки говорят о «религиозном характере русской идеологии», в какие бы формы она ни облекалась. И это наблюдение верно. Идеологема в глазах русского всегда сакральна, она носит статус русской идеи, которой на самом деле — вопреки расхожему мнению — не существует, потому что странным образом эта идея каждый раз иная. Системы вообще похожи на ящерицу, заметил Иван Тургенев: только тебе покажется, что ты ухватил ее за хвост, — ан она его сбросила, и готова новая «система».
Однако именно по причине сакрализации всякой идеи и русское государство осознается всегда как идео-кратия. Государство — сакральная ценность, представляющая интерес для всех своих членов.
Преобразуются и качества личности. Естественный результат развития от природно-физической к абстрактно-социальной сфере деятельности. Исторически происходит всё большее «овнешнение» сущности: явленность природного предстает как преобразование духовного. Личность развивается в поле между обществом и государством, потому что государство обещает личности свободу, но требует от нее сознательности (сознания закона), тогда как общество дает ей волю, но настаивает на совести в ее норме. В чем заключается правда, а что есть истина, связаны ли они с идеей блага или материализованной его ипостаси — добра — этого никто не знает. И никогда не узнает, ибо тогда прекратится развитие, иссякнет энергия натяжения между обществом и государством.
Однако центральное место в системе категорий, определявших становление и развитие русской ментальности, занимает культура, которая, в отличие от предшествующих категорий, имеет заглубление в традицию. Культ (совокупность признаков веры) развивается в идеологию и преобразуется в культуру, сохраняя при этом все три формы своей явленности. Раз явившись в мир, христианство—идеология—культура сосуществуют и взаимно влияют друг на друга. Свято место пусто не будет.
Таким образом, формирование русской ментальности происходит на пути к идеалу, обозначенному идеей и выраженному в слове. Реальное соотношение между «вещью» и словом или «вещью» и идеей во внимание не принимается, потому что вещь всегда результат, тогда как у-слов-ие — это слово, а цель — идеал в идее. «Начнем! — а там как выйдет». Причинно-следственные связи сознательно устранены потому, что государство поглотило все прежние компоненты общественной среды и трудно отыскать действительную причину в том, что скрыто от глаз государевой тайной. То ли это народ виноват, то ли идея слегка заветрелась... но прав всегда государь, который, если уж правду сказать, на самом деле и есть всему голова.
При истолковании всех антиномий важна семиотическая точка зрения, эпистемология, а не герменевтика. Антиномии — сущности идеальные, а не словесные. Все описанные антиномии вообще представляют диалектику удвоенных сущностей по формуле «реалиста»; они вовсе не в конфронтации и не в конфликте. Слишком умственно, а не реально: недосказанность, недомысленность противоречий — тление лучины, а не огонь костра. Вообще «антиномия есть проявление свободы воли в языке», а также в мысли [Налимов 1995: 34]. Можно сказать иначе, повторяя мысли философа: «Другими словами, истина есть антиномия, и не может не быть таковою», поскольку и сама по себе «антиномичность — от дробности самого бытия, — включая сюда и рассудок как часть бытия» [Флоренский 1985: 147, 160].
Парадоксальность антиномий развития в русской истории заключается в том, что все они возникают в сознании и потому в принципе обычно разрешимы в жизни. Маркирован, отмечен как идеальный всегда один из коррелятов, тогда как другой является его воплощением в действительности. Противопоставление «вещи» ее «идее» не может быть антиномичным, поскольку общим для них основанием всегда выступает слово:
Точка зрения «реалиста» сглаживает антиномичность, но одновременно и принижает значение идеально-реального в пользу действительного. Эквиполентная равноценность реального (идеального) и действительного, сущности и явления, оборачивается избирательностью одного из них, в данный момент и по каким-то причинам особо важного, и тогда гармоничное (в идеале) отношение раскалывается на две привативности, логически более точные и доказательные. И равноценность признаков, лежащих на обеих противоположностях, растягивается в бесконечную цепь градуальных признаков, вариантов, форм и т. п. Это настолько укоренено в русском сознании (как раз на основе «реалистической» точки зрения), что бороться с этим невозможно, хотя отдавать себе отчет в такой особенности «русской мысли» следует.
Развитие противоречий
Теперь обозначим несколько особенностей в тех противопоставлениях, которые исторически обнаруживаются в русской судьбе.
Во-первых, перед нами всё же не однозначно привативный способ видеть мир в его противоположностях, а отнесенная в реальность равноценность эквиполентных противопоставлений. Содержательно, а не формально антиномии всегда экви-полентны, оба оппозита равно-значны, выступая как знаки являемых ими сущностей. Поэтому исключается и вопрос о том, что ценнее, что лучше, что перспективнее в плане дальнейшего развития противоположности: Восток или Запад, культура или цивилизация, общество или государство и т. д. Каждая из несводимых к другой противоположностей имеет свою цену и значит не меньше, чем противопоставленная ей в сознании другая.
Во-вторых, эквиполентность может развиваться в градуальный ряд, в зависимости от того, какой признак различения мы положим в основу рассмотрения, то есть как отнесемся к делу с гносеологической точки зрения. Градуальные степени наполнения смыслом и есть те самые степени развития данного признака во времени и в пространстве. Культура, порождение культа, в свою очередь порождает цивилизацию и тем завершает развитие идеи, доведя до уничтожения принцип, согласно которому она возникла.
В-третьих, если взглянуть на выставленные антиномии со стороны их реального наполнения, окажется, что все они как бы входят друг в друга, исчезая в дали времен в виде нерасчлененно-синкретичных базовых концептов. Что такое поверхностно-внешняя антиномия «город—деревня», как не отражение другой: «горожанин—крестьянин» и далее «нация—народ», или «государство—общество», или «Запад—Восток», «культура—цивилизация» и т. д. и в конченом счете «Культура—Природа»? Природа как действительность и Культура как ее реальность. Антиномии не становятся противоположностями потому, что русский ум, воспитанный на суждении по типу Троицы, не видит здесь никакой борьбы противоположностей, а в суждении нет несводимости тезиса и антитезиса. Тут один из видов одновременно предстает как род, т. е. как бы порождает оба вида, не допуская противоречия между ними. Третье снимает антиномию, как это ясно и по символу Троицы: Бог Отец — и род, и вид одновременно. И закон исключенного третьего тут как бы не действует, о чем и докладывал миру логик Александр Введенский.
В-четвертых, диалектическое снятие признака различения в нейтрализации по сходству в чем-то происходит помимо воли людей; это и есть развитие культуры. Даже в логически «пустой» привативной оппозиции нет ничего нереального, поскольку и «отрицательное вместе с тем также и положительно, иначе говоря... противоречащее себе не переходит в нуль» (Гегель). Ничто не исчезает, не ничтожит никаких усилий, «не переходит в нуль», и только в высшем единстве общего рождаются антиномии.
Вот это и есть гармония, как говорил Константин Леонтьев, «гармония, примирение антитез, но не в смысле мирного и братского нравственного согласия, а в смысле поэтического и взаимного восполнения противоположностей и в жизни самой, и в искусстве» [Леонтьев 1912: 202]. Восполнение противоположностей возможно в будущем, и пока еще неясном будущем: общество и государство в общечеловеческой гражданственности? общество и церковь — в соборности? цивилизация и культура — в новом культе (техногенного века)? Кто знает, кто смеет сказать...
«Разводить антимонии» не будем, помня, что antimonium — это смесь сурьмы с другими элементами, которые «разводят» с определенной целью; впрочем, существует и другая этимология — будто в семинарском языке антимонии — те же антиномии, только чересчур запутанные и необъяснимые.
Может быть, по этой причине современные авторы так путаются в их определении?
Антиномии русской культуры представляют в образе кентавра, описывая их как амбивалентности, но при этом понимают их как простые противоположности типа «добро—зло», «свет—тьма» и т. д., а отсюда заключают о «бинарном строении русской культуры» [Кондаков 1997: 48 и след.]. Тем самым антиномии сущностей (концептов) редуцируются к амбивалентности в образном проявлении и к бинарности в понятийном осмыслении, тогда как они — символичны. Дихотомичность отношений видят почти во всех проявлениях русской антиномичности, описанной в этой главе (власть—народ, государство—общество, город—деревня и т. д.), а также в производных от них, например: «антиномии вольницы и покорности судьбе, готовности к сверхнапряженному труду, к чрезвычайным усилиям и отсутствие расчета и систематичности» [Вилков 1997: 46]. Антиномичность следует преодолеть, говорят современные авторы, и тогда все наладится, все образуется. Сделать хотя бы то, к чему призывал Георгий Федотов и многие другие: отказаться «от ложного монизма в изображении коллективной души как единства противоположностей».
Дело не в том, что антиномии рассудка подавляют инстинкты жизни. Прав был Павел Флоренский, сказавший, что антиномии — это отражение внутренних противоречий, возникших в реальной жизни. Преодоление их в действии является главным условием развития.
Есть антиномии — жизнь продолжается.
Антиномии-противоположности не приводят к трагическим взрывам потому, что воспитанный на суждении «по типу Троицы» русский ум не видит в них никакой «борьбы противоположностей», а в суждении о них нет ни тезиса, ни антитезиса: здесь один из видов есть одновременно и род, т. е. то, что порождает оба вида, и тот и другой, но уже идеально, как сущности, не допуская между ними противоречия, поскольку рожденный вид (противоположность) тот же самый вид, только апофатически усиленный. Бог Отец одновременно и род, и тут же один из видов (ипостасей Троицы). Наличие третьего снимает антиномию в каждом конкретном случае, а профессор Петербургского университета Александр Иванович Введенский настойчиво и громогласно отрицает действие логического «закона исключенного третьего». Третьего не дано, поскольку оно не борется с энергией первых двух.
По мнению некоторых историков средневековой Руси [Успенский 1994,1: 221], дуальная организация русской культуры (рай—ад без чистилища, отсутствие «нейтральной среды», срединности) создавала отличную от западной «ценностную ориентацию» — «новое мыслилось не как продолжение, а как эсхатологическая смена всего». Эта особенность русской ментальности отмечена верно, но объясняется неправильно. «Середина» не отсутствует — она представлена в ином, чем на Западе, качестве. Не как вид наряду с другими видами (наравне с раем и адом), а как род в отношении к ним обоим. Можно при этом вспомнить, что славянин-язычник не имел представления об аде вообще.
В сознании реалиста такой серединой между идеальным раем «верха» и реальным адом «низа» был Логос-слово, в котором противоположности нейтрализуются. Особенность слова как середины (средостения) в том, что оно — Слово — середина не только в противопоставлении «верх—низ», но и в равноценных оппозициях «право—лево» и «перед—зад». Середина—центр — сердцевина всего, и как таковое оно не участвует в динамике качественных превращений. Инвариант не разменивается на варианты, представляя законченность вечной идеи. Род — он же вид, но все-таки не равный всем прочим видам. Вот почему трудно согласиться и с утверждением, будто русской культуре свойственны моменты «отрицания отрицанием» («Мы наш, мы новый мир построим...»), «выворачивание наизнанку» старых форм и т. д.
Наоборот, «западная культура есть культура середины», западный человек «предпочитает путь золотой середины, и это обычно путь к золоту» [Шубарт 2003: 77]. Цель такой культуры — мещанство, эволюция — в сторону личности среднего качества. Для русских философов Серебряного века западный буржуа — это «средний тип», у него «порядок жизни совокупности представителей типа среднего, чисто рассудочного, благоденствующего и автономного человека, но не исторического, органически развивающегося на исторической почве и под руководством не чисто рациональных, но положительных авторитетов и начал народа» [Астафьев 2000: 117].
Русский же золотую середину воспринимает как компромисс, т. е. как предательство [Сикевич 1996: 47]. Середняк для него отрицательная характеристика, при том, что даже бездарь воспринимается как оценочно уважительное (например, в зависти или ненависти).
Да что там: русский просто страшится «среднего», даже в выборе пути. «Мы видим ясно среднюю линию, по которой должна пойти жизнь, и в то же время с ужасом и тоской мы видим, как неимоверно трудно поставить жизнь именно на эту линию. В силу этого нами более, чем когда-либо, владеет чувство жуткой неизвестности. Мы знаем, куда Россия придет, но как, какими путями и с какими жертвами, — это дело совершенно темное» [Струве 1997: 28—29].
Сказано о конкретном историческом моменте, но сказано обобщенно. И справедливо. «Дело совершенно темное» — ибо слово не сказано.
Глава четвертая. Система — норма — классификация
Общество на типах стоит и движется характерами.
Михаил ПришвинЯвленность характера
Рассмотрев классифицирующие ментальность признаки с точки зрения слова и идеи, теперь сравним полученные результаты со взглядом «от вещи», т. е. от реальных особенностей русского национального характера.
Русское сознание — это основное, исходное его свойство — рассматривает человека как органическое целое, в котором пересекаются разные связи и отношения, различные признаки характера и, как следствие, непредсказуемые/предсказуемые действия. Русский человек может пожалеть убийцу, но с гневом осудит добродетельного мещанина — каждый раз вполне разумно и справедливо. Момент явленности характера в конкретном деянии не имеет значения. Человек мог оступиться, ошибиться и потому согрешил. Но «он хотел как лучше», «он больше не будет». В такой ситуации всякое аналитическое дробление «ментальной карты» человека сразу же искажает реальные отношения между ключевыми точками ментальности. Чувство, разум и воля соотносятся друг с другом и определяют характер конкретного человека в его отношении к идеалу, в роли которого и выступает совокупность добродетелей и пороков. Люди смышленые говорят о неподвижности самих категорий — добродетелей и пороков, которые существуют как вечные ценности (и пороки не меньше, чем добродетели), но на их недвижном фоне видна и навязчиво развивается динамика рефлексии о них. Рефлексия расцвечивает добродетели и пороки сопутствующими признаками, отчего граница между ними размывается, исчезает. Вот как у Розанова, за подобную «размытость границ» не раз осужденного: «Дело в том, что таланты наши как-то связаны с пороками, а добродетели с бесцветностью». Вот и выбирай: добродетель или творчество... Не от отсутствия ли границ тонкое лицемерие, которым пробавляются властные люди из народа — но не народ: «Лицемерие — это дань, которую порок платит добродетели», — заметил Семен Франк.
Добродетели и пороки
И у Аристотеля добродетели и пороки взаимообратимы, добродетель предстает в золотой середине.
Это ведь как поглядеть: рассудительность то же, что и безрассудство, они — виды одного и того же рода; так же кротость и мужество сродни гневливости и трусости, а благоразумие как-то сходится с распущенностью и невоздержанием; справедливость, щедрость и величавость в крайних своих проявлениях ведут к несправедливости, скупости и малодушию. «Разумная часть души», соединяясь с другими проявлениями характера, с чувством и волей, дает добродетель души в целом (справедливость, щедрость и величавость) и пороки души в целом (несправедливость, скупость и малодушие). Таково номиналистическое толкование добродетелей и пороков: в конкретном своем явлении они всего лишь слова, которые необходимо осмыслить с точки зрения общей идеи — и устранить ненужные повторения, не соответствующие реальности добродетели и пороки. Такое отношение к последним сохранялось на Руси до XIV в. Каждый порок, поминаемый перед паствой в поучении, священник связывал с конкретным деянием, предостерегая от него прихожан.
Неоплатонизм XV в. возвращает Руси концепцию Платона. У Платона отсутствуют полутона, раздваивающие род на виды, поэтому он обо всем говорит в четко равноценной эквиполентности: умеренность—мужество и мудрость—справедливость как высшие добродетели человека. Он говорит о добродетелях, в его системе маркированы добродетели. Это идеалист идеала. Вот «анархист» Бакунин дело понимает именно так: «В мире интеллектуальном и моральном, так же как и в мире физическом, существует только положительное; отрицательное не существует, оно не составляет обособленное бытие, это лишь более или менее значительное уменьшение положительного», например «глупость является не чем иным, как слабостью ума, а в нравственности недоброжелательство, жадность, трусость являются лишь доброжелательством, великодушием и храбростью, доведенными не до нуля, а до очень малого количества... Иногда даже избыток зла может породить добро...» [Бакунин 1989: 114, 123]. Не потому ли и подозрителен так русский «анархизм», что по доброте душевной отрицает наличие зла в мире? Но это русская точка зрения на мир.
Остается вопрос: какого русского и в какое время? «Цивилизационные разломы» и смена «культурных парадигм» по крайней мере трижды потрясли русскую ментальность. Для греческой философии определяющие нравственность добродетели суть целомудрие, рассудительность, справедливость и мужество. Русский философ, говоря о «русской идее», утверждает, что «для постижения России нужно применить теологальные добродетели веры, надежды и любви» [Бердяев 1990: 43]. Значит ли это, что устойчивые добродетели классического язычества русскому человеку чужды, поскольку они отчасти противоречат добродетелям «теологальным»? Отнюдь. Еще Страбон на рубеже эр отмечал основные особенности славянских племен: любезность, простоту, справедливость. Так что совсем напротив: языческие добродетели укоренены в славянском духе, составляя под-со-знание христианизированного со-борного со-знания. Являются ли все такие признаки славянского духа добродетелями общечеловеческими? — и это тоже верно. Однако интенсивность их проявления во взаимных противоположностях и ритм предпочтений в известные исторические моменты составляют глубоко национальную особенность. Именно в этом несовмещении границ в действии добродетелей и в разных оттенках их качеств состоит отличие русской духовности от западного менталитета. Взаимное их неприятие известно издавна. Оно сильно и мало изменяется. Упреки в дикости и попытки привить, наконец, русским свой собственный взгляд на мир никогда не достигнут цели, даже при условии, что западный человек уверен в истинности только своей «правды».
А вот иная точка зрения — как бы о другом народе.
«Самый характер русских, и вообще славян, чуждый насильственности, исполненный мягкости, покорности, почтительности, имеет наибольшую соответственность с христианским идеалом. С другой стороны, религиозные уклонения, болезни русского народа — раскол старообрядства и секты — указывают: первый — на настойчивую охранительность, не допускающую ни малейших перемен в самой внешности, в оболочке святыни; вторые же, особенно духоборство, — на способность к религиозно-философскому мышлению» [Данилевский 1991: 480].
И что же такое тогда добродетель?
Добродетель — гармония чувства, разума и воли, — говорит философ права [Чичерин 1998: 158]. При этом чувство — частное влечение, а разум — общий закон идеального свойства; чувство и разум входят в согласие движением воли.
Возникает двуединое действие: право — в отношении к другим и обязанность — в отношении себя самого.
Власть человека над собой есть воля, которой питается мужество (у Платона это добродетель воина).
Сознание закона в разуме человека есть мудрость (добродетель правителя).
Влечения чувств согласуются в добром деле умеренности (добродетель «промышленника»).
Все три совместно в отношении лица к другому — это Правда и справедливость — высшая из добродетелей, потому что включает и справедливость в отношении к себе самому (это — достоинство). Любовь и счастье также одно и то же, но любовь к другому — это самоотверженность и уважение, а любовь к себе самому и есть ощущение счастья.
А теперь основное в «философии права» Чичерина. Он согласует платоновские добродетели с христианскими, не находя между ними противоречий [Чичерин 1998: 11]: вера — выражение мудрости, надежда — мужества, любовь — умеренности (добродетель чувства), а «закон любви есть закон свободы».
Такова точка зрения русского «реалиста» на добродетели в их взаимном соответствии.
Такие же «реалисты» — славянофилы замечают ту степень зла, с которой борются. Для них маркированы пороки, и эти пороки у «тех», у оппонентов: эгоизм, коммунизм, рационализм, чувственность, гордыня, аффектация, поверхностность, лживость, жадность, вероломство, распутство, коррумпированность и гниение — «все эти грехи выводились из простого постулата: история Запада была не чем иным, как развитием извращенных духовных принципов, которые сформировали их (грехов) основание» [Рязановский 1952: 91].
Почти все такие грехи можно найти и у русского человека, но у конкретного лица и притом не все разом. Однако как род, как идея все они отнесены к другой культуре. Особенности русского человека просто поименованы другим словом — и вот уже они достоинства. Не коллективизм, но соборность, не рационализм, но мудрость, не чувственность, но просто чувство, не аффектация, но чувствительность, не вероломство, но хитрость и т. д. Такая позиция и есть реализм, для которого родово идея выше своих проявлений в виде и в «вещи». Русский мыслит родово — идеей, а не конкретно — видово. Идея же может облекаться в различные слова, получая ту или иную окраску, становясь пороком или добродетелью. Ради справедливости заметим одно: в отношении грехов западного человека славянофилы отмечают только деяния, связанные с проявлением воли (т. е. своеволия), и не касаются особенностей менталитета, связанных с чувством и разумом.
Эквиполентность «добродетели — пороки» есть дуалистический мир в сфере сознания, мир, равнозначный миру действительному. Необходимой четкости в противопоставлении он достигает в Новое время, при господстве рационалистически-привативных оппозиций, в принципе чуждых русскому сознанию. Только привативное противопоставление с заданной маркировкой как положительное лишь одной стороны порождает бескомпромиссность пуританства (положительно — добродетельное) или безудержность современной западной антикультуры (положительно — порочное).
Идеал русской нравственности — конкретная нравственность. Гармоничное, ладное соединение идеала и личности. Однако «конкретная нравственность не может не быть национальной», какое бы качество мы ни взяли: честность, правдивость, трудолюбие, доброжелательность, — всё это общие схемы нравственной деятельности, они не формируют убеждений, их содержание всегда наполняется национально.
Чувство—разум—воля
Удобнее всего рассуждать об идее, исходя из самой идеи, в данном случае — из идеи «добродетель» или «порок».
Тогда мы приходим к необходимости рассмотреть соотношение между знаком-словом и обозначаемой им «вещью», проявлением добродетели. Что же касается «идеи», она сохраняется в качестве наводящей сетки различий (дифференциальных признаков), данных в формальной схеме.
Скажем, можно по традиции исходить из опорных признаков: из чувства, разума и воли или, в других терминах, из их идеальных воплощений: из тела, души и духа.
Чувство определяет совокупность ощущений, эмоций, аффектов, в числе которых такие категории, как страх, гнев или смех, любовь. Разум определяет логику суждений и явленность самих категорий, таких, например, как время, пространство, причина, цель и т. п. Воля определяет характер и поведение, т. е. действие в конкретном деле, которое всегда предстает как деяние социальное (проблема вождя, соборности, мира и проч.). В трехмерном пространстве бытия диалектика трех координат позволяет гибко оперировать всеми явлениями и признаками реального мира, т. е. «вещами», посредством именования, т. е. «слова». Перенося внимание с одного компонента семантического треугольника на другой и не упуская из виду третьего, мы можем установить, что ценности определяются вектором на вещь—тело—мир, тогда как идеалы очерчивает идея. Идея пребывает в явленных своих идеалах, тогда как ценности всегда в становлении. Идея культуры вечна, ценности цивилизации становятся. И тогда оказывается: всё дело в том, на что направлен взгляд. Направлен он на ценности мира — это пороки, грех; направлен на высшие идеалы — это добродетели. Добродетель абсолютна, пороки видоизменяются, не изменяясь в роде, постоянно рождаясь в явленности предметного мира. Средневековый мыслитель прав: грех настигает в пути, в деянии. Не суетись, не лезь, не высовывайся — вот советы, которые слышит человек на Руси постоянно. Слышит издавна, так что привык: всякое деяние наказуемо, ибо это проявление власти бесовской силы.
Но вернемся к исходным антиномиям общего плана. Заметна между ними некая связь — связь преображения, каждый раз в новую форму. Говоря о характере поведения в действии, о воле, мы тем самым захватываем поле
социальной деятельности человека, антиномии общество—государство. Обращаясь к духовной стороне жизни, освященной высоким чувством веры, мы погружаемся в сферу психологического, и тут же возникает антиномия духа: язычество—христианство. Вдумываясь в типичные особенности мышления, явленные в разуме, мы неизбежно затронем антиномию ratio — logos (Запад—Восток). Таким образом, характер формируется согласно воле, духовность определяется согласно чувству, а менталитет согласно разуму. Иными словами, это разные обозначения одного и того же в явлении. Все три (назовем их категории) — и характер, и духовность, и менталитет — нерасторжимо сплавлены в нечто, что условно и обозначают словом ментальность. Это — нравственное чувство, данное как «единица принципиального знаменателя личности» [Касьянова 1994: 43], образуется в силовом поле натяжения всех линий отвлеченно-идеального свойства. Именно тогда и только тогда идея явлена в вещи и именована в слове. Материально только лицо, личность же идеальна. Личность — лицо, устремленное к идеальному лику. Личность — внешняя форма (в ней «растет человек»), социальный знак лица и воплощение сущности — лика.
Поэтому, говоря о достоинствах русского человека (вообще о достоинствах всякого человека, вне его национальной принадлежности), указывают прежде всего те признаки его характера, которые определяют социальную ценность данного типа, данной личности. Например, у А. Солженицына [Солженицын 1994: 175]: «Сам русский характер народный... наша открытость, прямодушие, повышенная простоватость, естественная непринужденность, уживчивость, доверчивое смирение с судьбой, долготерпение, долговыносливость, непогоня за внешним успехом, готовность к самоосуждению, к раскаянию, скромность в совершении подвига, сострадательность и великодушие».
Слеза прошибает... И — всё?
В неразрешимой антиномии «народный характер» и «народный идеал», полюса реального — характера — и идеального — идеи, — имеется просвет, намеченный в слове, которое способно соединить противоположности:
«Слово сказано», когда идеал и характер соединены незримой связью поколений, и если о ментальности судить не по отдельным, нам известным, лицам и даже не по типам, а обобщенно, соборно, то так оно и есть. Да и что такое ментальность, как не единство всего: и слова, и характера, и идеала? Величина неизвестная, но вполне реальная. Как реальна, например, Троица в трехмерности мира сего.
Классификация "от чувства"
Схема Владимира Соловьева принципиально отличается от приведенных перечней пороков и добродетелей. В системе русского философа даны только чувства, градуированные по отношению к самому себе, к другому, к Богу. Именно чувства и есть первичное, задающее импульсы к действию — в воле — и к рефлексии — в разуме. Это и есть определяющая всё духовность, о которой так много сказано русскими философами и богословами [Соловьев 1988, 1].
Эта система складывалась в течение нескольких веков и в принципе является открытой, способной к расширению системой «основоположений
нравственности». Схема поможет ориентироваться в коренных понятиях традиционной русской этики. Мы просто оглядываем прошлое с видами на то, как такая система сложилась органически. Во многом она не является специально и природно русской, в том или ином виде присутствует у других христианских народов, но в данном случае это неважно. Общая цепь отношений рисуется следующим образом:
Такова гармония справедливости, которая порождает основные мирские добродетели: кроме терпения, великодушия и искренности (правдивости) еще бескорыстие и щедрость с присоединением самой справедливости.
Нужно помнить, что представленные в системе термины необязательно исконны в русской традиции. В частности, польза всегда соотносилась с добром как материализованной формой блага. Польза — своего рода «облегчение» в каком-то деле (корень слова тот же, что и в слове легкий). В этом смысле добро и красота как бы соединяются друг с другом, что ясно и из народных эпитетов, употребленных в сходных сочетаниях: добрый молодец и красна девица — качественные характеристики молодых и здоровых людей. Красота направлена на самое себя, а доброта — на другого. Красота, по мнению русского человека, есть признак чистоты, «красота — приветливость и щедрость» — говорил Алексей Ремизов. Красота в сиянии света, яркости огня и солнца, в радуге — всё, что связано со светом, а светить — значит смотреть и видеть (древние корни слов совмещают признаки света, идущего извне, и зрачка, который отражает этот луч).
Напротив, мудрость состоит в том, чтобы уметь думать, т. е. вслушиваться в окружающий мир. Мыслить можно и самому, вне диалога, за пределами соборности, но всякая мысль остается всего лишь мнением, которое потому и может быть со-мнительным, тогда как думать призваны все вместе. Думать — значит слушать и слышать — речь и слово.
Системность указанных в схеме отношений проявляется в возможности последовательных переходов от эмоции чувства через отношения к правилам личного поведения и идеальным категориям бытия. Что перед нами выношенное мудростью веков объективное соотношение этических ценностей, доказывает историческая последовательность сложения системы, а также различительные признаки, на основе которых она явлена как цельность.
Система явлена и в терминах, которые предстают (у Соловьева) как научные, т. е. родовые по смыслу. Но за каждым из них стоит долгая традиция постепенного насыщения гиперонима смыслом, и это не следует забывать.
Каждый из них в полной мере раскрыть можно только в исторической перспективе. Например, за славянизмом надежда кроются многие оттенки символов чаяние и упование; за славянизмом мудрость — столь же символичные по содержанию ум и разум (их символика раскрывается, в частности, в славянском переводе «Ареопагитик» в конце XIV в.); за славянизмом мужество (это церковная калька с греческого слова) мы видим целый ряд символических обозначений, идущих с древних времен и выражающих развитие идеи, от доблий и дерзый через храбрый и смелый до отважный. Логика развития новой терминологии определялась включением смысла всех однородных слов символического значения в окончательно выделенный как единственный термин-гипероним, который, как таковой, становился стилистически нейтральным и потому вошел в состав литературного языка.
В исходную точку развития нравственного чувства Вл. Соловьев ставит стыд; это внутреннее, психологическое обоснование необходимости («человек — животное стыдящееся» [Соловьев 1988, 1: 225]). Отношение к другому (жалость) и к Богу (благоговение) только развитие исходного чувства стыда, так что и жалость, развиваясь в совесть, предстает как «социальный стыд». Логика развития коренного чувства стыда являет собой в этом триединстве последовательность усилений: стыдно > совестно > страшно [Там же: 233, 236], страшно пребывание в страхе Божием.
Страх снимается в следующем ряду, уже явленных духовных чувств. Личная надежда сопрягается с любовью к ближнему и с верой в Спасителя. Благодаря этому возникает множество производных качеств. Стыд развивается в совесть, в чувство собственного достоинства («нравственное достоинство»), в аскетизм, в смирение и пр.; жалость развивается в альтруизм, в справедливость, в милосердие, в сострадание и т. д. Углубление коренного чувства позволяет создать объемное поле нравственно ориентированного сознания со многими производными качествами (ибо вся нравственность «вырастает из чувства стыда» [Там же: 234]). Стыду присуще формальное начало долга и столь же важное начало цельности человеческой личности (целомудрие) — такова та норма, у которой есть цель в осознавании «недолжного, или греха» [Там же: 232].
Таким образом, внутренняя выводимость добродетелей у Вл. Соловьева определяется концептом в национальном восприятии нравственной нормы (образца) быта и бытия, т. е. одновременно и предметностью «вещи», и идеальностью идеала. Было бы неверно говорить о том, что русская ментальность ориентирована на «идею», которой и служит вопреки всему, забывая о вещи и деле. Это упрощение. Русская ментальность двуедина, и цельность ее — в «двоемыслии». Одинаково сущностны и идеал идеи, и воспринимающие его чувства. Субъекта нет без объекта, но и обратное верно. Ни стыда ни совести — если их нет в наличии, значит, нет и моральной идеи.
Классификация "от разума"
Классификация Соловьева носит вполне «русский» характер. Она исходит из чувства как из опорной точки развития нравственности. Нравственность — нрав человека, его норов — в основе своей психологична, определяется конкретным ощущением известной вещи, если понимать под «вещью» все проявления мира. Тут, в этом явленном мире, конкретное лицо проживает живот свой — существует осязаемо-материально как физическое лицо, как частная единица человеческой массы. Такая форма существования определена мерой душевности — тем проявлением души человеческой, которое характерно как раз для русского человека (прежде всего в интерпретации славянофилов).
Павел Флоренский отнесся к той же проблеме иначе и представил, хотя и не столь полно, классификацию некоторых черт русской духовности как ментальность, исходя из разума, т. е. логически определяя устойчивые признаки русского самосознания. Истолкование нравственности со стороны, извне, с точки зрения нашего времени и должно опираться на некоторые общие формулы человеческого прогресса, которые устанавливаются на разумных основаниях. Не случайно в основу своей схемы Павел Флоренский положил категорию истина и первым заявил, что основой нравственности является идеал (для него — христианский идеал) духовной жизни, который представлен не физическим лицом, но духовным ликом.
Как для Соловьева исходный концепт — стыд, так для Флоренского — истина. «Истина есть интуиция, которая доказуема, т. е. дискурсивна», но «истина есть единая сущность о трех...» — отсюда классификация на фоне других проявлений ментальности [Флоренский 1914: 17—21]:
Концептуальные основания терминов определяют смысл национальных предпочтений. Славянский термин имеет в виду «все живущее, живое, существующее» (Флоренский связывает слово истина со связкой есть); греческий — «незабвенное» (здесь важна память, «памятование» о «чистой правде»); еврейский — «надежность в вере («верное слово»); латинский — «верность клятве», т. е. религиозно-юридическое представление об истине. Русский и еврейский термины близки к «божественному содержанию» Истины, тогда как греческий и латинский «слишком человечны» по своей форме.
Современные культурологи еще раз переворачивают систему нравственных соответствий, предлагая оценивать их с точки зрения действия, деяния, дела. Они говорят уже не о «животе» лица как чувственном нраве человека и не о «жизни» лика как идеальной нравственности, а о «житии» (житье-бытье) личности как ценностном признаке современном морали. Ту же категорию «истина» они объясняют иначе, чем Флоренский; истина для них теперь всего лишь мера соответствия действительности, а не абсолютный закон правды (справедливости). То же относится и к прочим категориям русской ментальности, которые сегодня пытаются перетолковать с позиций западноевропейского ratio — и совершают ошибку, потому что по традиции для русской ментальности духовный идеал всегда предпочтительнее прагматической ценности. Однако явленность воли постоянно формирует характер человека. Особенности русского характера также станут предметом нашего рассмотрения.
В своей нацеленности на идеал должного русский характер выделяется свойством: он в постоянном развитии, он в становлении, отчего и воспринимается со стороны как «слабохарактерный», «неоформленный», «невыработанный» и даже так: «Незавершенное становление русского характера, как и России, в целом было прервано в 1917 году» [Сагатовский 1994: 181].
Обобщая суждения на сей счет, С. А. Аскольдов (Алексеев) в 1922 г. наметил «четыре вида оформленности душевной жизни» в ее последовательно конкретном развитии, «по степени выраженности и стойкости индивидуального начала»: темперамент > тип > характер > личность. С точки зрения интерпретации это восхождение от конкретного к абстрактному по известным нам основаниям: вещь > предмет > объект. Всё большее отчуждение личности от собственных органических черт, отказ от своего лица.
Личность есть лично состоявшаяся судьба, прошедшая внутреннее развитие от чувства через рефлексию «типа» в характер. Скольжение признаков качества в индивидууме совершается постоянно, в том числе и после Семнадцатого года, и ни один реальный человек не может быть образцом народного типа. Но одновременно на каждом этапе своего преосуществления он же и воплощает такой тип.
Отсюда проистекают многие «переходные» свойства русской личности: максимализм (нетерпение сердца) и слабохарактерность («Да жалко же!»), нежелание отделывать мелочи, но «жить по-крупному» (ибо всегда ясно, что идеал недостижим) или, как говорил не раз Бердяев, «безответственность, необязательность, вечная надежда на авось» — «энергия раздражения», объясняемая тем, что идеал ускользает, а жизнь уже на излете.
Классификация "от воли"
Социальная классификации от «вещи» и дела, а не от идеальной сферы духовного и душевного — достояние нашего времени. Собственно, в артельной жизни русского народа такая классификация и уемистее, лучше выражает распределение социально важных действий, деяний и поступков, через последствия которых видны характер, ментальность и все остальное.
Совместное знание, со-знание, определяя социальные ценности, одновременно, совместным же усилием, погружается в нормативное и всеобщее (универсальное) сверх-сознание (нравственные нормы организуют «нормальное» сознание) и в общественное под-сознание, которое руководствуется соборными идеалами. Все возможности интуиции, опыта и разума осуществляют процесс становления личности, и ценности на поверхностном уровне бытия через традиции нормы регулируют воплощение реального идеала в действительность.
С позиций европейского ratio, наследующего идеи Аристотеля, именно воля является основой всякого характера. В «Никомаховой этике» Аристотель дал иерархию «воль»: мнение (свобода выбора) — вожделение (пожелание) — страсть (аффект) — и собственно воля (справедливость предпочтения). Нрав как характер — это прежде всего воля к действию; нравственность активна, мораль пассивна. «Читать мораль» — не значит поступать нравственно. Во всех европейских языках понятие «нравственность» восходит к словам со значением ‘нрав’ — по примеру греческого прототипа; но у Аристотеля нрав — это ήϑος, т. е. характер. Русское слово норов обозначает упорство неподконтрольной силы духа, так что здесь мы видим уже столкновение воли с чувством (нрав — норов), т. е. обычное для реалиста соединение идеального и телесного в общем словесном корне. В корне, который раздваивается.
Но личная воля — норов — осуществляется в общественной среде и тем самым обретает черты социального явления. «Этос» — «настроение духа, вызываемое тесным общением» — говорит о текстах Аристотеля историк этики (Вильгельм Вундт). Так и мы естественно переходим от личного норова к социально важному нраву.
Исходя из ценностей традиционного русского общества, социологи представляют схему развития личности в социальной среде [Бороноев, Смирнов 1992:57]:
Мир (Община)—Справедливость—Человек соотносятся постоянно. Мир обуславливает выживание человека и формирует Общество (равенство материальное и неравенство возможностей), но работает не на рынок, а на себя, то есть не стимулирует хозяйственную деятельность. Справедливость предполагает, что «земля — Божья» и «земля — по тяглу»; частной собственности на землю нет, она принадлежит тому, кто и насколько интенсивно на ней работает. Жизнь индивида рассматривается как судьба работника, сила, которую необходимо возобновлять (кормления, идти «в кусочки» и пр.). В такой системе, замечают авторы, не в чести Хозяйство (оно не соединено ни с «характером», ни с нормой), а следовательно, и Богатство, Мастерство, Слава, поскольку (такова традиция) «варварство и христианство склонны были отрицать богатство как позитивную ценность» [Там же: 71] ([Тульчинский 1996: 348] и вообще многие исследователи). В такой вот «норме» и уважалось страдание за всех, жертва, подвиг во имя Мира, талант воспринимался как домовитость, сила, удача, счастье, однако свобода хозяйствования возможна только вне общины: личность, вызрев в теле общины, шла на разбой, грабеж, отправлялась в чужедальние земли, в казаки. В традиционном обществе человеку отказано в свободе и в личном достоинстве.
С этим-то традиционным набором средств и формировался национальный характер, сжато описанный в книге А. О. Бороноева и П. И. Смирнова [Смирнова 1992: 88—89]:
Мир с переделом земли — неритмичность, страда, штурмовщина, которые воспитали в характере импульсивность (приливы лени и трудолюбия).
Человек как труженик в нерациональном хозяйстве («Будет день — будет пища») — отсюда отсутствие методичности и тщательности в работе.
Знание дела — коллективная мудрость («На миру и смерть красна») развивает беспечность у отдельного человека.
Труд как обязанность («божественное предписание») с круговою порукой и взаимопомощью развивает иррациональность в смысле заботы о ресурсах и завтрашнем дне.
Справедливость народной демократии (на сходках: «Вперед не суйся, сзади не оставайся») развивает чувство сострадания и милосердия.
Богатство в условиях социального контроля в принципе невозможно — отсюда личная скромность.
Мастерство совершенствуется в опыте под наблюдением старших — отсюда почтительность.
Хозяйство и Дело при власти Мира гуманны, хотя постоянно ясно, что «от трудов праведных не наживешь палат каменных», — отсюда общественная пассивность, но и бескорыстие тоже.
Природа остается единственной ценностью рода и Мира и, при отсутствии личной свободы, оберегается как подательница жизни — отсюда утрачиваемая ныне коренная способность русского человека: совестливость.
Издержки социальной жизни, условия существования воспитывают недостатки — но это не пороки, органически присущие целому народу. Очень часто это — прикрытие лица социально оправданной личиной.
В такой общественной среде вообще нет пороков, которыми грешат ныне многие; нет ни волокиты с делами (бюрократизм), насилия и воровства, потому что все эти черты характера приносит с собою «казенное управление». Поэтому (не говоря уж о прочем) утверждать, будто русский человек вороват, чинуша или насильник (хулиган, как говорил Николай Лосский), — значит смешивать в общую кучу пороки органически свои и чужие, благоприобретенные в нынешние времена и отнюдь не с Божьей помощью. Что же касается «общечеловеческих» пороков, то многие из них приписывать только русскому народу вообще грешно: за них в ответе всё человечество в целом.
Закон и норма
Наконец о законе и норме. Они также определяются характером языка, что для нас немаловажно. На каждом шагу встречаешь неопределенность исторического опыта (вещи), связанного с неясностью термина (слова). И тогда возникает затруднение в восприятии самой идеи. Вот о законе.
Старинное слово праведность — перевод греческого δικαιόσυνη (ср. δικάτος; ‘чтущий закон’), а это — ‘правосудие, судопроизводство, законность’ и потому, конечно, ‘справедливость’. Никакого сходства с русской праведностью, потому что русское слово сохранило значение того же греческого, но в смысле, усвоенном ему в Новом Завете: ‘благодеяние благодати’, данное как ‘справедливость’. Не закон и законность, но идеальная праведность правит разумом русского человека.
И так на каждом шагу. «Проект» заложен в духовности Нового Завета и через «реализм» ментальности вошел в подсознание народа как неистребимый инстинкт идеально-нравственного. И не надо говорить, что это ужасно — безразмерность нравственности. Речь идет о законе и норме — о жизни речь. А «явления человеческого общежития, — заметил один очень русский человек, — регулируются законом достаточного основания, допускающим ход дел и так и эдак, и по-третьему, то есть случайно» [Ключевский IX: 325].
Жить в атмосфере тысячелетней случайности — не всякий народ выдюжит. Русский — выдюжил.
Закон, то есть возможность безгреховного существования, не переходя за кон на конец допустимого (приличный человек) или принятого (достойный человек) в обществе (община), не воспринимается русским как норма. Норма репрессивна, она над тобою, давит и гнетет. Она в незакрытом пространстве сверху, отсекает земные твои дела («вещи») от непосредственного оправдания их идеей (связью с Богом). Лишает возможности проверить вещь идеей и идею — вещью, а тем самым и поверить в истинность (справедливость) происходящего, его соответствия идеалу. Норма заставляет, норма — модальность принуждения и несвободы, и в этом кроется объяснение тому, казалось бы, непонятному факту, что всякая реальная власть в России начинает с того, что попирает свои же собственные законы, ставя себя выше всяческих норм: «Закон что дышло — куда повернешь, туда и вышло». Дело не в личных качествах правителей, ухвативших власть, дело в том отношении, каким окружено понятие «закон». И только пренебрегающий таким законом человек — свободен, потому что и вообще «дуракам закон не писан». Справедливо замечено, что даже «категорический императив Канта — не нравственная норма, а метапринцип любой морали и нравственности» [Тульчинский 1996: 115], в том числе и безнравственной: все зависит от маркированности по ключевому признаку.
Даже психоаналитики, озабоченные не идеальностью идеи, а проблемами пола (низменностью телесной «вещи»), постоянно толкуют, что понятие «норма» связано с «репрессией половых влечений человека». Подсознательные импульсы воли, конечно, участвуют в подавлении чувства и мысли, отсюда и «параноидальность» средневекового человека, который постоянно (и справедливо) подозревает мир в том, что тот подавляет его волю, и «шизоидность» современной западной культуры (Игорь Смирнов), и даже «эпилептоидность» современного русского человека (Ксения Касьянова), раздираемого естественным стремлением к воле и воспитанным ощущением ее греховности.
Для русского человека закон не норма, но образец. Образец существует в традиции как рекомендация к действиям.
И еще. Закон как норма вызрел в недрах латинского мира, и Древний Рим справедливо гордится своею Justitia — особым пониманием справедливости, усредняющей всех и вся. Свобода личности скована свободой физического лица. Правовое пространство обуживает человека, так что в сравнении с европейцем, как заметил Тургенев в письме французским друзьям, «в нас меньше условности, в нас больше человечного».
Предмет и идея
Аристотелевский номинализм очертил нам вещь, данную как предмет наших наблюдений, как объект наших усилий, конечную цель человеческих устремлений. Вещь существует в пространстве, и пространственные ориентиры стали основной характеристикой ранней русской христианской идеологии и мировоззрения. В текстах этого времени — времени нет: все уложено, вделано, вписано в границы пространства. Однако, замечает историк, «смотря на вещи свысока, с высших точек зрения, мы видим только геометрические очертания вещей и не замечаем самих вещей» [Ключевский IX: 370]. Мы отвлеклись от предметного мира вещей и мыслим их отвлеченно, как объекты.
Сами «вещи» непонятны без проникновения в сущность их, и энергия идеации, привнесенная в нашу культуру неоплатонизмом в XV в., наполнила эти «вещи» содержанием, а слова — смыслом. Точка зрения «реализма» вернула вещам движение, мир вещей стронулся с места — и время потекло. Историческое время. Как говорит современная нам философия языка, случилось преображение вещи в факт, а факта — в событие. Вещь вознеслась в отвлеченность разума и стала предметом самого разума — рассудка, а не жизни.
«Каждая вещь есть то, что она есть», — утверждает номиналистический эмпиризм.
«Каждая вещь есть то, чем она кажется», — отвечает на это реализм в напряженном духовном искании.
«Каждая вещь есть то, как она именуется», — замечает концептуализм, который и без того всё знает.
Первому важны различия и противоположности, второму — сходства и подобия, третьему — связи и отношения.
Русская гносеология реалистична во втором смысле уравнения. Всё, что вокруг, существует действительно, но существует постольку, поскольку реальна сущность его; а тождества кажутся, т. е. кажут себя — но не полностью, не абсолютно. То, что необходимо познать, есть «объективная предметная сущность бытия, к которому человек должен приникнуть, — каждый человек, каждый из нас»; «предметное и верное суждение связано с чувством ответственности, компетентности, сосредоточенности», и это «искусство — во всем схватывать существенное»: «только при соблюдении этого требования есть надежда на удачу: человек сможет попытаться выразить воспринятое в словах. Это не легко» [Ильин 3: 434, 438, 441].
Одно замещает другое, вещь — идею, идея — вещь, но не вытесняет, не уничтожает, ибо «каждая тряпочка к месту».
Русская философия мыслит в режиме символа. У Флоренского основной предмет размышлений — «пространство вещества», а основной инструмент познания — слово; Сергей Булгаков размышляет о «времени движения», поверяя свою мысль суждением (предложением); у Алексея Лосева диалектика замещений пространства-времени — и вещь исчезает абсолютно. Вещь оказывается относительной и к пространству, и ко времени. Мы не увидим спиц колеса, когда телега помчится.
Ускорение вещи, исчезновение вещи есть примета времени, и вещь исчезает в пространстве мысли. Но только у философов; слава богу, у русского мужика исчезло еще не всё.
В средневековом сознании, опиравшемся на языковую структуру («исходит из слова» средневековая вербальная культура), вещь оглядывается со всех сторон, заметно ее основание, но чтобы увидеть верх, нужно подняться на цыпочки. Вещи огромны, мир велик, человеческий взгляд не видит перспективы. С одной стороны: сторона, бок, края — справа и слева, перед и зад, низ и под (некоторые из слов одновременно имена и предлоги), но нет столь же синкретичного по смыслу древнего слова, которое бы означало верхнюю грань вещи. Верх? — но это неопределенное указание на высоту; макушка? — но это просто мак (метафорически — ‘маковая головка’); потолок?.. Всё весьма конкретно. Вещь открыта кверху, всякая вещь может расти, но расти только вверх. Как дерево, как растение — как живое. И не только. Огромные чаши, чары, столы, дома — человек затерялся в мире вещей и не видит выхода. Он обязан был вещь покорить — хотя бы своим рассудком.
Непонятно утверждение Георгия Гачева, что замкнутость сверху — русская модель предметного мира. Зато он прав в отношении «переливания людей, вещей, пространств друг в друга, на взаимопереходах по их краям, тогда как болгарское сознание глядит на центры, ядра вещей» [Гачев 1988: 127]. Средневековое представление о пространственных замещениях действительно таково: матрешечным образом вещи входят друг в друга, нарастая в своей массе, но никогда не рассыпаясь по воле человека. Культура накапливает ценности в метонимическом перебросе словесных смыслов. Все перебрасывается в слово, становясь Словом. Язык опредмечивает всё, что попадает ему в оборот. Категории рода, числа, падежа построяют предметность в нашем сознании. Академик Ф. И. Буслаев говорил, что «отвлеченное и неясно представляемое язык отмечает большею частью средним родом», потом об этом писали многие. Что? — это... оно... такое... самое... Отвлеченный смысл имени в среднем роде определяется суффиксом: с одной стороны ушко, дельце, солнышко с эмотивным значением, а с другой — умение, свойство и прочие — с отвлеченным.
Также и род, мужской и женский, стал условным обозначением мира конкретного и собирательно отвлеченного. Когда появились у нас сразу три (из разных языков) заимствования: зал, зала, зало, — то, перебрав варианты, язык оставил слово мужского рода, поскольку именно такие слова в русском представлении с незапамятных времен связаны с конкретным предметным значением. Такое предпочтение имен мужского рода находим всегда рельса—рельс, занавеса—занавес и пр.). Но среди отвлеченных по смыслу слов-символов, которые мы постоянно рассматриваем здесь, почти все слова женского рода: вера, надежда, любовь... даже стыд обернулся совестью, и все остальные тоже изменили грамматически родовую свою характеристику. Возносясь в абстрактность идеи, изменяли природу своей предметности, становились именем «женского» рода.
Падеж приспособлен для размещения слов в пространстве пред-ложения. Контекстно формульная метонимическая смежность выражена посредством ряда формальных удвоений. Сначала фонемы соединяются в слоги-морфемы (ж-е = же), затем морфемы — в слова (жен-а — жен-е), потом слова слепляются в предложно-падежные сочетания (к жене, о жене) или возникают сочетания двух корней (жено-люб, жено-подобен). О соединении подлежащего со сказуемым нет и речи, обычное дело.
Род одевает слова платьем, число наставляет в разуме, падеж расставляет их по местам.
Так опредмечено в нашем сознании всё, что подвластно сознанию.
И только тогда сознание действует. В пространстве своей ментальности.
Просторы пространства
Не раз описана русская природа, ее просторы и пространства. Простор и есть основной образ русской ментальности, в отличие, например, от болгарина, у которого в его горах нет простора и пространство занято телом, предметом; у русского пространство — это круг, мир окрест тебя [Гачев 1988: 162].
Метонимическое расширение пространства типа матрешечного (это синекдоха) определяется отношением частей к целому.
Цельность целого — это Всё, весь Божий мир: Мир—страна—деревня—дом—я — и в обратном порядке, вкладываясь друг в друга, с расширением до космоса (уселеная: Вселенная).
Таким этот мир предстает и в Голубиной (глубинной) книге, народном поэтическом творении, которое описывает Мир как Целое и потому Живое. Организм, а не механизм. От Леонтьева до Бердяева звучит эта нота отвращения к мертвой технике, к «машине».
Мир дышит сгущениями и разжижениями пространств.
Язык всегда подсказывал подобное представление о пространстве через четкие двоичные противоположности эквиполентного типа, которые сегодня описываются посредством дихотомических привативных, переосмысляя тем самым исходные представления с точки зрения современной.
И беспредельность пространств, из которых рождается время, заданное движением, становится исходной точкой развития как метафор речи, так и самых разных чувств, ощущений, переживаний русского человека. Они и в песнях воспеты, и в стихах, и в сказках. «Русский дух не видит бесконечности в образе шара, — говорит болгарин, — лишь в прорыве замкнутости, всякой грани, можно ее обнаружить: в отлете вдаль» [Гачев 1988: 203]. Да, это символ русского духа.
И еще: «Кому при взгляде на эти пустынные, доселе не заселенные и бесприютные пространства не чувствуется тоска, кому в заунывных звуках нашей песни не слышатся болезненные упреки ему самому — именно ему самому, — тот или уже весь исполнил свой долг как следует, или же он нерусский в душе» [Гоголь VI: 243].
Нерусский в душе.
А теперь обобщим всё сказанное о признаках, классифицирующих ментальность. Они укладываются в отмеченное распределение трех сущностей пространственного размещения: слово—идея—вещь. Более того, все три непостижимым образом соотносятся с некоторыми идеями, традиционными для русского христианства, всегда принимавшего справедливость слов Христа: «Азъ есмь путь и истина и живот» (в современном переводе — жизнь). Истина — это идея. Жизнь — пребывание в вещи, но Путь — это слово, которое их соединяет таким образом, что в каждый данный момент может оказаться, что слово равно идее, идея равна вещи, а вещь как проявление воли уподобляется слову. Круговорот этих сущностей в пространстве ментальности и создает не поддающийся точной классификации перебор тех качеств и свойств характера, о которых речь впереди.
Глава пятая. Становление русской ментальности
Это философия — простая, тихая, доступная каждому, рожденная главным органом православного христианства — созерцающим сердцем... Евангельская совесть — вот ее источник.
Иван ИльинИдеология
Средневековый этап сложения русской духовности-ментальности описан в других книгах автора [Колесов 1989, 2000, 2001, 2003, 2007]; здесь обозначим основные результаты, повлекшие важные следствия для русской ментальности.
Основное культурное событие Древней Руси известно, это принятие христианства.
Христианство принесло трансцендентальное объяснение всех событий в терминах надисторических и потому внеисторических признаков. Это был типологический взгляд на вещи, на события и на людей, и в полной мере он проявился уже на первых листах «Повести временных лет». Разорванные вневременные признаки, сумма которых составляет неведомое целое, постулируемое как образец и вместе с тем как цель развития общества. Модель, созданная таким набором признаков, казавшихся сущностными, усложняет понятие об объекте, поскольку сконструирован не адекватный действительности, но идеальный объект, своим существованием как бы замещающий реальность. Идея вещи подавляет саму вещь, с которой имел дело язычник. Провиденциализм разрывает системные связи между признаками, обескровливая объект, тогда как для прежней логики казалось верным, что, наоборот, в своем постижении объекта положительное знание идет от целого к его частям, не разрушая этого целого. Потому что целое — значит живое, а коли живет — то и существует в бытии.
В результате все основные категории бытия в Средние века мыслились как параллельные, представая в двух измерениях: как христианские и как языческие. Сакральные — движение, пространство, время — и профанные — движение, пространство, время... В первом случае движется мир, а субъект неподвижен; во втором, напротив, перемещается именно субъект; в одном случае вещи наплывают на субъекта, подавляя его своей телесностью, а в другом, напротив, взгляд субъекта строго устанавливает распределение вещей в пространстве, упорядочивает их согласно своей воле (прямая и обратная перспектива); в одном случае время векторно направлено на будущее, к своей конечной цели (эсхатологическая концепция мира), в другом, напротив, время (воз)вращается кругами, повторяясь в своих циклах, как это действительно и происходит в природе вещей.
Такое философское осмысление мира присуще и самой теологии, которая допускает подобный параллелизм как отражение божеской и сатанинской стихий.
В сознании средневекового человека религиозно-мистический и рационально-прагматический аспекты сосуществовали, взаимно дополняя друг друга и создавая особый духовный контекст земного существования. Мирянин-простец тоскливо выстаивает долгую службу, выцарапывая на белоснежной стене храма грешные свои мысли или мирское имя; чернец Феодосий Печерский воспринимает как чудо неведомо откуда появившиеся в дальнем углу пещеры золотую монету или бочонок меду — а это кто-то принес и оставил голодающей братии, не желая себя показывать добрым христианином. Так и Аввакуму кажется, будто ему в темнице, явившись с небес, ангел подносит миску щей: «Зело вкусны!» Вообще все чудеса древних наших житий имеют вполне правдоподобное объяснение — если в эти события вдуматься. Нужно только восполнить контекст повествования вещными подробностями, опущенными за ненадобностью церковным писателем. Импрессионизм повествования в том заключается, что бытовые детали и реалии из него устранены, причинно-следственные связи оказываются сдвинутыми, и возникает необходимость в сверхтекстовом содержании, чтобы объяснить суть дела — современным понятием истолковать средневековый символ.
Историки подчеркивают, что постоянно ощущаемый мистический страх средневекового человека перед всем окружающим, в сущности, не делал разницы между языческим или христианским чудом, чудом как таковым. Христианское чудо и языческое диво — две стороны одного и того же, с какой стороны поглядеть; но и достойное у-див-ления диво тоже от Бога: латинское слово deus, как и литовское dievas и многие родственные диву слова означают ‘бог’, а древнерусское восклицание дивья бы! полностью соответствует нынешнему дай Бог!
В расхождении между смыслами книжных слов учудить, чудной и разговорных русских удивить и дивный скрывается заповедная разница между тем, что божественно дивно, и тем, что внушает сомнение как простое чудачество. Только народная речь в благоговейном чувстве сохраняет удивление перед чудом.
Традиционно-народные формы социальной жизни сурово преследовались церковью именно потому, что церковь осуществляла интернациональные идеи и связи своего времени. Ее стремление привести к единообразию всю сферу социальных отношений постоянно встречало сопротивление со стороны низовых слоев общества; хорошо известно, что средневековые социальные движения проходили под знаком религиозных конфликтов. «Двоеверие» в форме богомильства — народная форма христианства — широко распространено и в Древней Руси. Даже церковные писатели и проповедники хорошо знакомы с «еретическими» книгами, апокрифами, знают народную литературу и используют такие тексты в своих проповедях. Они не заигрывают с простецами, они пытаются говорить с народом при помощи понятных ему образов. Между тем приучая тот же народ к символам христианской культуры.
Идея и вещь
Не забудем о философском содержании язычества и в перекрестье христианства. Христианское миропознание видит мир и человека универсально-родово, а прагматически-народному мировосприятию они же предстают конкретно-видово. И то и другое явлены как отвлеченная идея, потому что в обоих случаях нет речи о конкретной вещи (индивидууме), это всегда именно идея. Но идея, воплощенная двояко, так что обе формы мысли идут параллельно, не мешая друг другу и еще не пересекаясь в логике умозаключения. По верному слову Николая Бердяева, как всегда «исторический процесс двоится, и его результаты можно двояко оценивать» [Бердяев 1952: 231].
Однако исторически именно язык сохранил возможность синтеза мысли, когда наступило для этого время.
При всем том важно, что идея развития в эпоху Средневековья не сложилась, — следовательно, не возникало и интереса к различающему, дифференцирующему признаку. Только сходство и подобие кажутся важными, находятся в центре внимания. Замечаются и используются лишь центростремительные энергии, и это находит свое оправдание даже в теории. Знаменитый славянский перевод «Ареопагитик» (конец XIV в.) толкует дело так, что добро лучевидно, в отличие от зла, которое есть самозло, сосредоточенное в самом себе.
Всё это оказывается важным. В подобных условиях всё, что кажется не противоречащим основам идеологии и культуры, поглощается этой культурой, воспринимается ею и преобразует саму христианскую доктрину в новое ее качество. Сами воззрения людей Средневековья и в принципе не допускали возможности отвергнуть что-либо, хотя бы однажды по какой-то причине отвергнутое или ославленное — т. е. замеченное. «Не пойман — не вор», — поговорка родилась в те времена. А многое из языческого быта не просто было «поймано», т. е. понято, оно по-прежнему составляло основу жизни. Конфронтации нет до XV в., когда наступает время «зрелого Средневековья». Зрелое Средневековье выставляет свой счет и язычеству.
Заметно, как средневековое православие постепенно, одну за другой, допускало в сферу «знания» науки «внешние»: сначала риторику (практически с XI в.), затем лексиконы (с XIII в.), потом грамматики (известны с конца XIV в.), после этого и на их волне еще логику (с конца XV в.), правда с некоторым сомнением, и наконец философию, хотя с философией дело обстояло сложнее. Выдержки-афоризмы из античных философов во множестве содержатся уже в переводе Пчелы (XII в.) и в других средневековых компиляциях, однако серьезное изучение «внешней мудрости» как системы начинается не ранее середины XVI в. Видно: все новые и новые сферы интеллектуальной деятельности человека проникают в официальный церковный канон, каждый раз с невероятным сопротивлением и с борьбою против новаторов. Риторики обучались по устной традиции у особых учителей (свидетельство митрополита Климента Смолятича — XII в.). Первая грамматика «О осми частех слова» (Псевдо-Дамаскина) переведена не до конца, как будто переводчика увели на допрос с пристрастием, с которого он не вернулся. За чтение «Логики» Маймонида, переведенной в еретических кругах Новгорода — тогдашней культурной столицы, — сжигали в Москве на кострах.
У народа долго сохраняется своя национальная культура (например, скоморохи или песни), с которой борются особенно жестоко; отрешенность от мира заставляет монаха преследовать все мирское, в каких бы формах оно ни являлось в мир. Тем не менее «мы лучше всех культурных народов сохранили природные, дохристианские основы народной души», — заметил Георгий Федотов. Так потому, что сумели уберечь «первобытную материю русского язычества» — столь ценимую русским человеком тягу к природе. Для него природа не просто пейзаж и вовсе не объект покорения, «он погружен в нее, как в материнское лоно, ощущает ее всем своим существом, без нее засыхает, не может жить» [Федотов 1981: 93]. Природа — это жизнь на фоне христианской веры в загробное возмездие. И рассудительный евангелист Лука нам ближе мистических откровений Отцов Церкви: «Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы» (Лк. 20, 38).
Дуализм средневекового сознания на Руси постоянно развивался в своих формах. Несводимость Природы и Идеи (слова) вызывала творческий импульс, ведущий к выходу из противоречия. Христианство первых веков на Руси — это постоянный поиск новых форм воздействия на простецов, прилаживание, а не догма. Важная «особенность русского национального credo» есть постоянное соревнование точек зрения, и как только наступает момент, когда вероучение перестает изменяться в формах, — развивается догматизм; в этом ключ для объяснения многих загадок русской духовности, например разгадка «нашего религиозного пессимизма и религиозной антикультурности» [Никольский 1913: 5].
Внутреннее противоречие, возникавшее между христианским устремлением к идее и язычески оправданным желанием твердо стоять на земной «вещи», постоянно перетягивало силы то в одну, то в другую сторону. В Западной Европе происходило то же, но идеологически (церковно) оформлялось в иной последовательности. Лев Карсавин показал смену «религиозной идеи» на Западе (как раз в момент принятия христианства на Руси) [Карсавин 1997].
До IX в. это «религиозная идея потенциального единства» в идеале Единого Бога: государство понимается как идея единого народа под властью государя; происходит обособление общинно-родового хозяйства, используется один, общий для всех, народно-разговорный язык.
После IX в. возникает «религиозная идея упорядоченного множества»; в идеале Бог как владыка всех сил иерархии, вплоть до святых; государство понимается как феодальная иерархия, хозяйство строится по тем же принципам градуального перехода собственности снизу вверх; язык расходится на множество вариантов, связанных и с различием в функции, создаются прагматически обусловленные уровни общения, социальные по характеру (даже местные диалекты).
Перевернем эту схему, и мы получим последовательность в развитии русской версии христианства. Русь вошла в семью христианских стран в момент, когда Европа пошла согласно идее «упорядоченного множества»; ту же идею приняла и Русь, но в силу исторических обстоятельств: внешнее завоевание большинства ее территорий и внутренняя дробность согласно этой же «идее» — на исходе XIV в. Московская Русь вернулась к первоначальной идее потенциального единства, но единства в упорядоченном множестве: символ Троицы в области духа и империя — в области земли.
Синтез двух разнонаправленных идей: к единству и ко множеству — и стал исходной точкой в развитии русской ментальности. В этом слиянии неслиянного вся сила и великая слабость ментальности, потому что рождается убеждение, что Единство — в упорядочивании множества, личность — в соборности, народ — в государстве, разные мысли — в едином сердце... Единство Идеи и Вещи через Слово сформировало реализм как типично русский принцип сознания и познания, а в конечном счете и знания тоже.
Хронология
До рассмотрения русской ментальности и моментов ее постижения нелишне было бы наметить некие хронологические рубежи, которые определяли смену основных понятий и концептов русской ментальности.
Эпохи эти хорошо известны, поскольку характеризуются изменением и преобразованием русского государства, народа и христианской веры. Мы уже о них говорили: те самые православие—самодержавие—народность.
Древнерусский период нашей истории — время существования Киевской Руси и формирования восточнославянской народности, еще в единстве всех ее ветвей: и великороссов, и белорусов, и украинцев (малороссов).
Старорусский период — время Московской Руси, впоследствии и России, и развитие русского народа в нацию.
Новое время начнется с Петра I; это петербургский период нашей истории и позже, а также развитие русской нации до уровня самосознания. Рефлексия о себе, о своем месте в мире и в истории.
Что же касается конфессии, то на всех этапах русской истории она оставалась христианской, хотя и изменялась качественно, т. е. она развивалась тоже.
В Древней Руси христианство было «жизнерадостным и светлым», с уклоном в языческую стихию жизни и верою «токмо во Христа», новозаветное христианство, отрицавшее Ветхий Завет; возникали конфликты и с католичеством. Народная культура переосмысляет многие сюжеты Священной истории и создает «народную библию» — стих о Голубиной (глубинной) книге; появляется много апокрифов, на свой лад излагающих евангельские тексты, а также противоиудейские сочинения (вроде Толковой Палеи).
В старорусский период изменилась тональность веры. Язычество искоренено или вошло составным элементом в православную догму; тяжелые условия жизни вызвали развитие аскетических и ригористических направлений в религиозной мысли, авторитетны стали монашеские формы христианства. Является полный перевод Библии (1499) с новыми для восточных славян текстами Ветхого Завета, они ярко передают ощущение горя и бед при конце света — те переживания, которые испытывали славяне под гнетом нового, уже не хазарского, ига. Основной духовный противник теперь мусульманство (безбожные агаряне, измаилтяне) и по-прежнему католицизм.
Новое время ознаменовано тем, что «вера поисшаталась» — и следуют церковные реформы митрополита Никона (1666), поддержанные государством в лице Алексея Михайловича. Единство государственной веры расколото, старообрядцы остаются при «ветхой» вере, потому что это вера их отцов. Они не могут согласиться с тем, что на Страшном суде их предки будут осуждены — как еретики, не знавшие истинной якобы веры. Затем государство вообще оттесняет церковь от власти, низводя ее до уровня министерства (Синод), и постепенно отделяет от себя. Основной противник церкви в это время — все более крепнущий атеизм, а также указанные конфессии, кроме, быть может, пока протестантизма (по традиции русские государи входят в сношения с протестантскими странами, обмениваются послами, Иван Грозный не прочь был жениться на Елизавете Английской и пр.). Рассматривая изменения в сознании, происходившие от эпохи к эпохе, мы не можем утверждать, что все такие изменения собирались в один момент и тут же порождали новое качество жизни. Нет, признаки, которые сейчас назовем, развивались исподволь и накладывались один на другой постепенно. Друг от друга периоды их накопления отделены полосами «перехода» — с накоплением новых отличий, связанных, конечно, причинно-следственными отношениями, которые не осознавались в суете жизни, как слишком еще отвлеченные.
Древнерусское мироощущение в идее «упорядоченного множества» вещного мира определялось умеренным аристотелизмом, попавшим на Русь через сочинения Отцов Церкви (особо чтимый из них — Иоанн Дамаскин) и Шестоднев другого Иоанна, Экзарха Болгарского (эту книгу академик Д. С. Лихачев назвал «эстетическим кодексом Средневековья»). В целом такой взгляд на мир — это номинализм, учение, исходящее из «вещи» и толкующее таинственную связь между идеей и словом, которые выражают и означают эту вещь.
Позднее, старорусское миросозерцание определяется уже как неоплатонизм, который развивался постепенно под влиянием перевода «Ареопагитик» и связанных с ними духовных исканий; это средневековый реализм с его идеей «потенциального единства», который глубоко проник в сознание (и подсознание) русских, тем самым став философской основой русской ментальности — потому, что именно с конца XIV в. и сформировался как законченный тип великорусский народ — в отличие, прежде всего, от «малорусского племени», которое выделилось из единства восточных славян, сохранив при этом пристрастие к умеренному номинализму.
XVIII в. принес в Россию типично западный концептуализм, который, в отличие от номинализма и реализма, исходит из уже известной идеи, с тем чтобы подвергнуть изучению связи, существующие между словом и вещью. Однако коренного изменения в русское миросозерцание эта, чисто рационалистическая, философская позиция не внесла, сохраняясь лишь на поверхности общественного интереса и время от времени возникая как явный след пресловутого западничества.
С середины XIX в. у нас утвердился неореализм («новый русский реализм»). Особое отношение к идее, которая ценится выше вещи, выше «натуры», вызвало развитие художественно-образной культуры, и художественный русский реализм XIX в. является прямым его порождением (не натуральная, а именно реальная школа русского искусства).
Различия между номинализмом, реализмом и концептуализмом (в Западной Европе платонизм предшествовал аристотелизму, и смена идеологических вех там происходила в другом порядке) обусловили многие особенности в восприятии и толковании самых разных явлений. Даже образ понимался по-разному; так, древнерусская и отчасти старорусская культура строилась на метонимическом принципе смежности и подобия форм и смыслов, тогда как в поздней старорусской и в новой традиции развивался принцип метафорический — по сходствам и различиям. Эстетики называют метонимию художественным средством классической литературы, а метафору — романтическим. Но значение метафоры и метонимии шире: это способ выявлять сущностные признаки явлений прежде, чем осмысленно их толковать. Метонимический перенос значения выражает изменения в объеме понятия, он имеет дело с отдельной вещью, которую нужно понять (схватить в понятии). Метафорический перенос имеет дело с содержанием понятия, т. е. с признаками сходства или различия (о различиях прежде и речи не было). Тут вступала в силу более субъективная сторона творчества, потому что отвлеченные от конкретной вещи признаки, конечно, могли вступать в самые неожиданные сочетания друг с другом, образуя новые вещи. Характерно, что метонимические переносы словесных значений отражаются в словарях русского языка, а метафорические — очень редко (авторские метафоры). Это верный знак того, что метонимия развилась до конца и дана объективно как устойчивая в вещественности слова, тогда как метафора — нет: она по-прежнему обретается в сознании как отвлеченность общего признака.
Если в Древней Руси всякое слово представлено как имя, которое слышат, то в старорусский период ему на смену явился термин как знамя, которым знаменуют; выделяя нечто, его видят. Развитие письменной формы речи (литературного языка) по-новому расставило все акценты на при-сущем идее и вещи имени, явив его в качестве внешнего знака — знамени (знамения). Новому времени уже недостаточно слышать известное и видеть ясное — ему хочется по-знатъ и новое, явленное как тайна. На смену язычески-вещному имени и средневековому образу-знамени в той же функции является знак, теперь уже совершенно отчужденный от той вещи, какую он замещает, и весьма условно соединенный с идеей, которую воплощает. То, что было конкретно-вещно в Древней Руси — собственное имя, что было отвлеченно-прекрасно в средневековой Руси — общее знамя, обернулось теперь абстрактной значимостью знака, на котором выстроен ценностный мир современного человека. Знак отчужден от личности.
Изменяется также принцип, согласно которому можно было классифицировать входящие в сознание представления о мире. Древний, еще языческий, но вместе с тем и древнерусский принцип двоичного выделения объектов — эквиполентный (равно-значный) — ставил знак равенства между сравниваемыми объектами. Низ столь же ценен, что и верх, зад важен не менее переда. Равноценны все вообще пары: мужское и женское, левое и правое, холодное и горячее — все. Равноценны в своем бытии и Бог и дьявол, и зло и добро (древнерусские ереси богомилов); каждая сторона обладает своей сущностью, данной как вещное нечто, и потому не может быть устранена насильно из ряда себе подобных ценностей.
Мир богат и прекрасен, и не нам его разрушать.
Средневековая Русь исповедует христианский принцип градуальности, согласно которому признаки «восходят» или «нисходят» в степенях своей иерархии, а в природе существует только положительно маркированный признак. В иерархии Блага, например, понижение степеней (через добро и т. п.) доходит до самого зла, у которого нет ничего, кроме отсутствия признака блага; зло — всего лишь отсутствие добра, зла не станет, если будем творить добро.
Современное представление о том же в корне отличается от средневекового. Оно основано на строгом логическом принципе, который называется привативным. Согласно ему все противопоставлено так же двоично, как и в языческом мире, но по известным признакам различения (различия важнее сходств), которые устанавливают, что именно в оппозиции двух является положительным, а что отрицательным. Если исходить из того, что то, что маркировано, т. е. отмечено знаком внимания, это — зло, то с ним нужно бороться, чтобы снять противоположность между ним и добром; если маркировано добро, нужно закрыть глаза на зло. Оба решения странны. Борьба со злом увеличивает энергию зла; устранение зла из мысли не избавляет от зла в деянии.
Таковы основные различия между тремя, друг с другом связанными, моментами в развитии русской ментальности. Для русской ментальности как типа особенно важен момент второй, эпоха Московского царства — момент духовного возмужания русской ментальности. Заложенные в это время концепты легли на сохраненные от язычества принципы, тем самым породив новое, общее для них качество. Важным в преобразовании русской ментальности стал и XVII в.; это был перелом общественного сознания в самом его качестве, в свою очередь — напряжением соборной воли — вызвавший новый прорыв в духовном постижении сущего. Даниил Андреев чутко уловил «колебание эфира», сопровождавшее этот прорыв в неизвестность, и описал его «как распад первичной цельности душевного строя», «как диалектически неизбежное прохождение через длительный этап внутренней дисгармонии», «как развитие способности к одновременному созерцанию противоположных духовных глубин», «как культурное и трансфизическое расширение границ личности» и «как борьбу мысли за осмысление метаисторического опыта» [Андреев 1991: 149]. Раздвоение сущего на идеальную и вещную составляющие, длительная несводимость их и независимость друг от друга — вот что стало конечным результатом в развитии русского (под)сознания.
Ментализация
Было бы очень трудно в кратком изложении пересказать известные науке типы и способы ментализации, т. е. механизм укоренения символов и категорий христианской культуры в категориях и формах славянского языка: наложение нового смысла на существующее слово или создание нового слова для закрепления этого смысла. При этом роль понятия о вещи, явлении, действии и пр., данного в словесном знаке, исполняло либо другое слово, либо другое значение того же самого слова. Особенно хорошо подобная «двузначность» коренного славянского слова заметна в известном (хотя бы по названию) Слове о полку Игореве, древнерусском памятнике XII в. Ученые до сих пор спорят, выражает «Слово» языческие представления о мире и человеке или же в нем больше христианских понятий и символов. Положительно вопрос не решить, потому что в слове «Слова» представлено символически организованное соединение смыслов обеих культур. В каждой словесной формуле текста искусно сплетены христианский символ и языческий образ. Этот текст отражает духовность древнерусского человека в том смысле, какой мы уже обсуждали.
Ментализация — процесс взаимный, он изменяет и культуру дающего, но он развивает, обогащая, культуру принимающего народа, каким и был славянский в момент принятия христианства (и долго еще после этого). Отсылая к специальным исследованиям вопроса, указанным и описанным мною в книге «Философия русского слова» [Колесов 2002], попробуем на нескольких примерах показать, как всё это происходило, как осуществлялся длительный и противоречивый процесс «погружения» значений славянских корней и слов в символические смыслы христианской культуры. До сих пор мы больше рассуждали теоретически, собирая под один переплет суждения многих знающих людей. Но теперь без примеров не обойтись, так легче представить суть дела.
Это влияние, как понятно, шло через греческий язык.
В принципе, переводить можно каждую морфему — часть слова — отдельно (это — калькирование по составу слова), пословно или учитывая смысл целой формулы текста (словосочетания). Всё зависит от сходства культур. Пословный перевод применяют при общности культур, поморфемный — при их расхождении. Формулу целиком переводят в тексте, который особенно важен как священный. Здесь нельзя упустить ничего, а общий смысл речений скрывается часто во фразе — целиком. Целое больше своих частей — эта мысль не нова, вот и первые переводы евангельских изречений таковы. Переводится формула текста.
Когда поступают так, уже не важно, что в переводе окажется много слов, незнакомых славянину. Тут делать нечего, у славян еще не было многих слов, например таких: лепта, талант, легион и пр. Так и дошли до нас в переносном смысле греческие слова: зарыть свой талант, имя им легион, внести свою лепту. И теперь не существенно, что прямое значение слова талант — мера веса, легион — большое число, лепта — мелкая медная монетка. Теперь существенно, что выражение полностью сохранило свой символический смысл, такой, какой и был в Евангелии. Такого рода формул речи в первых переводах множество. Именно так остались в нашем употреблении слова буква, крест, мзда, алтарь, поп, пост, церковь, цесарь = царь, идол и сотни других. Но тонкость дела состоит в том, что при обозначении отвлеченных понятий и символов первые славянские переводчики использовали свои коренные слова, не прибегая к греческим. Удивительно, но мы встречаем мир, а не космос, бес, а не демон, сердце, а не кардиа, ум, а не нус, подвиг, а не агония, образ, а не морфе, слово, а не эпос, суд, а не кризис, закон, а не номос и т. д. Приведенные здесь греческие слова нам пригодились вторично, в современной научной терминологии почти все они используются; мы можем употреблять их теперь в прямом смысле, потому что некогда наши предки переносное значение «сняли с них» в символическом тексте.
Наращивание символических смыслов происходило с помощью собственных словесных образов.
Ветхий Завет использует древнее слово — символ смерти: άδης, врата ада как место смерти; в Новом Завете образ (символ) иной: γέεννα как место мучений. В первом случае символ врат, во втором — огня. Оба слова попали в славянские тексты в тех формулах, в каких и должны быть. Но развитие образа-символа продолжалось, оно выразилось в уточнении эпитетом, который, по общему правилу старинного мышления, выделял типичный признак имени. Ясно, почему ад — кромешный, а геенна — огненная. То, что осталось вовне, кроме, за воротами ада, конечно же, кромешно; огненность геенны также понятна. Но символ ада для славянского сознания вторичен, славянин знал лишь о рае. Двойственность функций символа также выразительна — вот причина, почему в XVII в. является новый образ, замещающий разом и ад, и геенну и названный русским словом пекло.
Старинная формула воинской битвы переведена буквально и звучит так: въдати хрьбьть, что точно повторяет греческое выражение δίδονα τα νωτα. Так говорят о противнике, бежавшем с поля боя. Смысл ясен, но образ темен, и в славянских текстах мы находим следы работы на формулой. Сначала метонимически она понимается как показати хребет (все-таки не дать: поди догони), затем всё больше уточняется и предстает как показати плечи, а теперь и проще: показать спину. Враг показал спину — удрал.
Но вот все больше общего становится у славян и у греков, давно христиан, у которых славяне учатся. Все чаще происходит переосмысление христианских символов с точки зрения славянского представления о том же— на основе общности вещи, которая одна и была соединяющим обе культуры мостиком. Это ведь эпоха господства в сознании аристотелевского номинализма, который в своих исканиях опирается на вещь (без сходства в вещи невозможна была бы и ментализация: необходимо было иметь что-то общее).
Теперь становится возможным пословный перевод, и количество заимствований в текстах резко уменьшается. Более того, возникает множество калек, т. е. поморфемно переведенных ключевых терминов христианства. Например, калькировано такое важное слово из Посланий апостола Павла, как совесть; появляются кальки, до того привычные нам, что кажется — они искони наши: въс-токъ при греческом ανα-τολή, и пр. «В лесу бежит поток проворный...» — куда как русское слово, но и оно было сочинено Иоанном Экзархом по примеру греческого, только чтобы не исказить символический смысл текста при передаче греческого слова «река» — в греческом это слово мужского рода.
Коренные славянские слова наполняются несвойственным им смыслом, извлеченным из переведенных и чем-то существенных текстов; происходит транспозиция, перенос значений в сторону их укрупнения. Полновеснее и значительней стали слова типа вина, вѣра, грѣхь и пр. Символическое значение греческого слова переносилось на славянский его эквивалент, так и стала у нас голова символом ума и власти, а рука — символом владычества.
Происходило и много иных, все более усложнявшихся изменений в языке и в тексте, но всё, что можно было в этом смысле сделать, к XIV в. было уже исполнено. Процесс ментализации завершился успешно. Символы христианской культуры включены в языковую систему на правах новой «культурной парадигмы».
Вот почему мы и говорим об исключительной важности этого момента в истории нашей ментальности.
Ментальность сложилась.
Идеация
Культурный переворот, происходивший в Московской Руси с конца XIV в., углубил полученные результаты ментализации: христианские символы сознанием славян стали восприниматься именно как символы культуры, а не как образы не познанной до конца веры. Результаты ментализации обогащались тем самым духовным смыслом, которого ментальному пространству русского сознания еще не хватало. Пока обогащение образно-понятийной структуры сознания посредством семантики ключевых слов опиралось на действительность вещи, это был во многом связанный с материальностью слова процесс. Неоплатонизм «Ареопагитик» и основанное на нем новое метафизическое миросозерцание, которое все более распространялось в культурной среде, заставили пересмотреть чересчур вещную, телесно-земную форму обогащения ментальности. Перенимание христианских символов шло в свойственной номинализму проекции: перенимался, выражаясь терминами формальной логики, только объем понятия, осмыслялся денотат христианского символа, то материальное нечто, которое и осознавалось в первую очередь на основе общности вещи. Десигнат, содержание понятия, те существенные признаки, на основе которых строился символ, замещая действительность идеальной реальностью, оставался в стороне. Поскольку же ментальность с этой стороны есть духовность, тут и пригодилось представление о реальности идеи.
На втором этапе развития христианского сознания осуществлялась идеация, происходил процесс наполнения полученных символов специфически идеальными, освященными традицией смыслами, раскрывавшими общее содержание христианских символов; тем самым происходило осмысление таких символов, из чужеродных и дивных они становились символами своей культуры. Вот пример.
Еще на этапе ментализации было калькировано греческое слово συν-ειδ-ός, его справедливо воссоздали посредством равнозначных греческим славянских морфем: съ-вѣсть = совесть (правда, с другим окончанием, и это тоже не только вопрос грамматики: у славян термин сакрального смысла не мог предстать в форме мужского рода, слова мужского рода до сих имеют преимущественно конкретное значение). По общему смыслу славянских морфем слово и понимали буквально как ‘(совместное) знание’, как общее для всех со-знание. Это перевод денотата (= объем понятия), а не символического значения слова, переносного смысла, который возникает именно в новозаветных текстах, в Посланиях апостола Павла. В процессе идеации происходило всё большее отстранение от конкретно-вещных значений слова, постоянно увеличивавшихся числом путем метонимических переносов по смежности (например, возникли значения ‘извещение, сообщение, известие’ и пр.), и в конце концов слово стало тем, чем сегодня и является: этически важным для славян термином, обозначающим личную совесть как чувство личной ответственности человека за свои слова, мысли и поступки. Идеация происходила на фоне новозаветных текстов, обогащенных комментариями Отцов Церкви и даже философскими аргументами богословского содержания. В основе идеации лежит уже не вещь, как в момент ментализации (общность вещи), а слово (общность слова) [Колесов 2004: 537—550]. Так происходило с каждым термином-символом, и говорить о них следует не торопясь и особо.
Этот момент в развитии ментализации — идеация — играет особую роль в становлении русской духовности. На протяжении XV—XVI вв., самых «темных» по мнению многих, происходили важнейшие изменения в сознании, которые закреплялись в изменениях языка, не только в значениях слов, но и в грамматических формах. С этого времени неожиданным образом в языковых формах всё удваивается в соответствии с формулой побеждающего реализма. Духовная высота содержания символа и рассудочная приземленность вещи как бы раздваиваются и показаны одновременно, мыслятся сосуществующими, влияют друг на друга, по крайней мере в сознании человека.
Однокоренные слова выстраиваются в четко противопоставленные по этому признаку ряды: голова—глава, сторона—страна, порох—прах, город—град, болого—благо, молод—млад и десятки других показывают соотношение между конкретно-вещным (город, огород) и отвлеченно-идеальным (град небесный, ограда).
На основе метонимических соединений создавались многочисленные парные формулы, до сих пор поражающие иностранца, который хотел бы уяснить, чем, например, отличается правда от истины, а стыд от срама в выражениях правда-истина или стыд и срам; ср. еще горе не беда, честь и слава, любовь и ласка и многие другие. К чему подобная дублетность равнозначных слов, вам объяснит любой русский, способный вдуматься не в значение выражений, а в их смысл. Во всех случаях здесь соединены вместе и одновременно противопоставлены друг другу символ идеи и образ вещи: идеальная истина — и житейская правда, возвышенность любви — и конкретность ласки, обобщенность беды — и личное переживание горя... Только совместно, в соборном единении два слова воплощают цельность «идеи» и «вещи», мира горнего и мира земного, тем самым достигая присущей концепту смысловой глубины. Символ как бы разложен на свои составляющие: тут и отвлеченность понятия, и конкретность образа — а их совмещенность и есть символ (образное понятие). Двоичные формулы, сохраненные для нас не только текстами (в текстах их больше), но и живым употреблением, показывают наглядно, как шла работа по идеации ментального образа в слове.
Выделение сущностного признака в символе происходило и с помощью прилагательных, средством, ныне известным как «постоянный эпитет»: в метонимическом соединении возникали формулы вроде белый свет, черный ворон, серый волк, красна девица, добрый молодец, в которых прилагательное — развернутое в признак имя — выделяет сущностный признак содержания понятия. В прямом своем значении добрый значит ‘здоровый, крепкий’, но вместе с именем определение создавало совершенно другой смысл, символический; красная значит ‘красивая’, но в исторических преобразованиях слова, его значений, смысл всего выражения изменился, тоже стал символическим. Как и удвоенные формулы типа правда-истина, такие выражения отвлеченное понятие (о красоте) передают одновременно с конкретным указанием на объект самой красоты (девица).
Процесс идеации в этих видах, да и многих других, происходил долго, с осложнениями, в тяжелой идеологической борьбе между сторонниками «древлего благочестия», остававшимися на старорусских позициях «метонимического мышления», и новаторами, которые стремились к «метафорически»-творческому мышлению, которое и способствовало созданию новых символов христианской культуры. На любой странице раскройте объемистые мемуары Андрея Болотова, писателя и ученого XVIII в., и вы сразу найдете два-три примера подобных сдвоенных формул, очень часто им самим сочиненных. Он как бы сохраняет старинный способ составления общих символов, необходимых для того, чтобы передать то новое, что до него еще не имело никаких обозначений.
Но в XVIII в. мы сталкиваемся уже с новым типом ментализации. Еще в Петровские времена, в начале века, развернулся процесс, который до сих пор не завершился: идентификация слова в вещи.
Идентификация
Когда ментализация и идеация завершены, а славянское слово до предела насыщено и значением, и смыслом, наступает время соотнести понятийное значение («идентифицирующее значение» слова) и символический смысл слова с вещным миром, тем самым проверив крепость его, истинность и красоту. Эпоха Просвещения, затем позитивистский XIX в. и так называемая научно-техническая революция XX в. только и делали, что проверяли ценность и смысл доставшихся нам от предков слов. Стоит только почитать, как, кто и что именно толкует ныне о чести и совести, о достоинстве и свободе, о любви и дружбе, истине и правде — да обо всем, что оставлено нам в наследство как воплощение символов культуры, — как сразу же видишь, в чем заключаются неистребимые протори и прорехи рассудочно-понятийной мысли. Жалкие попытки публицистов истолковать традиционный символ, «дав понять» остальным о собственной точке зрения на него, иногда совершенно затемняют смысл символа. Примеров много. Не в силах совладать с богатством, полученным из прошлого, часто упрощают себе задачу, заменяя однозначным иностранным словом-термином славянский символ. Вообще современная рассудочная мысль хотела бы символ представить как понятие, столь понятное ей. Оскопить символ в угоду «общечеловеческим ценностям» и тем самым концепты национальной ментальности всех народов, обладающих такими ценностями, свести к чужеродным терминам-знакам, однозначным и плоским, только бы не трудиться духовно над выявлением понятия из самого концепта, скрытого в символе. В своей гордыне современный человек способен только к само-идентификации и не может вскрыть творческую энергию столь легко доставшегося ему слова.
Читатель уже заметил, что три тесно связанных процесса ментализации: собственно ментализация—идеация—идентификация — буквально соответствуют исторической смене точек зрения на познание. Они известны нам как номинализм—реализм—концептуализм. А если заметил, то и понимает, что истинно русской позицией, отражающей ее духовность, остается всё же второй момент — идеация реализма. Такова же и русская философия, основная задача которой в XX в. заключалась в выявлении, экспликации сущностных признаков в ключевых словах русского языка, в истолковании символов русской культуры, в создании «философии имени». Ничего иного философское знание XX в. не принесло. И не только в России. Вся мировая философия века есть философия языка. Мир очарован тайной Логоса-слова. В практической деятельности сознания и научной рефлексии это и есть идентификация.
На этом этапе главный элемент языка уже не слово с заключенным в нем понятием («идентифицирующим значением»!), образом или символом, а предложение, с помощью которого, в суждении, извлекаются из слова те или иные его признаки как понятия, образа или символа. Не случайна и такая особенность в развитии нашего языка: когда начался процесс идеации и потребовалось множество однозначных форм для передачи разноценных идей, в русском языке бурно разрастались словообразовательные модели: появились десятки новых суффиксов, эти суффиксы усложнялись, соединялись, именно тогда возникло множество суффиксальных образований от общего корня, так что сегодня мы имеем ряды вариантов для передачи личного впечатления о вещи посредством слова. Сравните словесные ряды типа дева—девка—девица—девочка—девчушка—девонька—девушка... муж—мужик—мужчина—мужичок—мужчинка... и т. д. Именно корневые формы оставались словами высокого стиля, сохраняя в себе исходный синкретизм символа (муж, в битвах поседелый... отцы пустынники и жены непорочны... в избушке распевая, дева прядет...). Наоборот, с развитием процесса идентификации бурно развиваются синтаксические средства языка. У нас никогда не было такого количества союзов, союзных слов и других средств связи слов в предложении, как в XVII в., когда процесс идентификации только-только начинался. Создавались различные типы сложных и усложненных предложений, формировались и вырабатывались модели предложений, более точно выражающих уже готовую, законченную мысль. Расхожие речевые формы мысли и устойчивые типы словосочетаний — все из того времени, разве что в XIX в. некоторые из них были отшлифованы по образцу более гибкой и изящной французской фразы.
Идентифицируются, то есть соотносятся друг с другом в высказывании, не просто слова, а субъект и предикат суждения. Ведь не с конкретностью вещи сравнивается слово, а с ее тенью — с предикатом. Предикат заменяет вещь. Если в Средние века Слово (Логос) создавало дискретный мир слов и гармония мира не зависела от их относительной ценности, то теперь непрерывность (недискретность) земного существования как бы включена в высказывание (в дискурс), заменяясь последним, но одновременно и дробясь на дискретные единицы текста. Мир оказывается вовлеченным в словесную массу созданного человеком подобия мира, во вторую сущность, третий мир, ноосферу, а субъективная точка зрения субъекта распространяется на предикат суждения, делая и его весьма субъективным. В великом самомнении человек попустил явлению заместить собою сущность — а символ он оставил одной поэзии, той самой «сказки для бабья», которая по определению «должна быть глуповата».
Перспективы
Со-твор-ение мифов стало специальностью многих, их называют почтительно: идео-логи. Вдуматься в смысл сочетания двух эллинских корней, и станет ясно: перед нами номиналист-теоретик (вроде Маркса, но в реальности всякий «маркс»), который, опираясь на действительность мира (на вещи) и постоянно ссылаясь на явления жизни как на факт, якобы удостоверяющий его истины, тем и занят, что соединяет идею (идео-) со словом (лог-ос), в слове формулируя любезную его сердцу идею. Субъективно-свою идею, на фоне других и в противоположность многим. При этом исходные мифы сознания остаются всё теми же, они от века являются общими для всех идеологов: «общество всеобщего процветания», «свобода личности», «правовое государство», «молочные реки, кисельные берега», «добрый царь — он наш батюшка», «поди туда — не знаю куда»... Мифы созданы в те времена, когда люди верили в символы, и для тех людей, которые знали, что понятие символу не сродни, ведали, всякий раз приступая к делу, что именно они творят.
Мы говорили о совести. Сначала понятое как простое знание, совместное знание, со-знание, в процессе идеации этот символ достиг уровня идеальной сущности, но в рационалистический век подверстывания символа под понятие мир вернулся к старому представлению о совести как о сознании (об этом см.: [Тульчинский 1996: 47, 154]). Здесь отражается вторичное калькирование того же греческого слова из Посланий апостола Павла, но уже перенесенного на латинский язык: con-scient-ia — ‘сознание’ как сознательность. Духовность совести и менталитет сознательности еще раз удвоили мир несводимыми друг с другом ценностями духовного и рационального плана.
Да и носители их, как оказалось, разные: интеллигент и интеллектуал.
В течение всего Средневековья русская ментальность осмысляла себя через заимствованную культуру, но как только это было завершено, немедленно состоялся первый синтез разнородных источников русской ментальности. Это были в XVI в. тексты типа «Домостроя». Однако их «синтез» язычески-природного и христиански-идеального был чисто внешним и основывался на механическом соединении традиционных текстов. Тем самым завершалась эпоха развития номинализма с его обращенностью на вещь, на землю, на лицо человека.
Второй синтез случился только в XIX в. — это славянофильство, а «славянофильство есть самое вкусное блюдо в России», говорил Василий Розанов. Именно тут, в рефлексии о собственном духовном разуме, и сошлись интеллектуал и интеллигент — западник и славянофил.
Историческая задача
Известно, что историческая задача сплотить нацию на основе национальных традиций, верований и языка всегда выпадает на долю интеллигенции. Она должна сформулировать основные принципы деятельности и самые признаки национального характера, поставить перед согражданами проблему сохранения национальной целостности и приумножения народных ценностей.
Из трех составляющих такой задачи: из реально существующих народных представлений о национальной идентичности, из их постижения в становлении регулирующих общественное сознание норм и из исполнителя этого действия — третья, интеллигенция, является у нас только в 1830-е годы. Разумеется, это дворянская интеллигенция, другой тогда не было, но интеллигенция, помыслами своими обращенная к народу и верная ему. Необходимо было восчувствовать мировоззренческие представления народа, к которому принадлежишь в силу исторической судьбы, и сделать это на основе научных знаний.
В словари всех языков слово интеллигенция попало из русского. Это латинское слово, в Новое время залетевшее к нам из Польши в XIX в., неожиданно обрело несвойственное ему значение, и в эпоху Великих реформ 60-х годов развернулось в слово-символ.
Потому что ключевые слова русской культуры все — символы.
Чисто рассудочной, в европейском смысле интеллектуальной формы деятельности русское сознание не приемлет. «Ума холодных наблюдений» недостаточно для русского доброго человека. Вот на это-то определение «добрый» и легло заимствованное слово, и угнездилось в нем, и вызрело в русское слово интеллигенция.
Добрый тоже мог быть разным. Представление о добром человеке не раз изменялось. В Древней Руси это был богатый или знатный (княгиня Ольга встречала почтенных мужей-древлян: «Добри люди придоша»), в Средние века — сильный, здоровый (добрый молодец народных русских песен или богатырь — зело добр муж — старинных летописей), в Новое время уже чисто христиански — совестливый. Достаточно заглянуть в Словарь Владимира Даля и там увидеть, каким серпантином вьется значение слова добрый, в веках оставляя потомкам след памятью о видном — дородном — сведущем — жалостливом — благородном и прочих. Вот на долю таких, благородных да жалостливых, и выпала честь свести в сознании воедино далеко разбежавшиеся за века дуги «идеи» и «вещи», или, образно говоря, перезапрячь приуставшую нашу кобылку для долгой и трудной дороги вновь.
Научной основой, методом гуманитарного исследования интеллигенция уже овладела; в начале XIX века это был сравнительно-исторический метод исследования языка, текста, этноса, вообще — культуры. Первый в истории действительно научный подход, позволивший за явлениями угадать некие сущности, но сущности, которые — были. Этот метод, ретроспективный по характеру своему, во многом определил точку зрения славянофилов: идеал — в прошлом, его можно воссоздать. Основной своей целью метод и полагал реконструкцию древнейшего состояния своих объектов: и славянского пра-языка, и пра-родину славян, и самих пра-славян. То же и здесь. Работая сравнительно-историческим методом, сравнивая особенности ныне живущих славян (именно всех славян, не русских только) и по дошедшим историческим документам прослеживая развитие их общих особенностей в глубь времен, русские интеллигенты середины XIX в. неизбежно погружались в пра-историю, восстанавливали истоки своей государственности, своего общества, своей духовности (по формуле министра народного просвещения: православие, самодержавие, народность).
В процессе познания подобные сущности сгущаются в категории, и вот уже очерчены некие горизонты как будто достоверного знания: Алексей Хомяков говорит о соборности, Константин Аксаков — об общине, и т. д. В отдаленных истоках существующего стремились узреть сущность, потому что и сущность явлена в конкретных своих формах: для славянофилов — в облике русского крестьянина, вообще — русского человека в широком, историческом тоже, смысле (разницы между русским, украинцем и белорусом не делали; все они русские Древней Руси). Идеал прошлого застит горизонт будущего и перечеркивает ценность настоящего. «Современную Россию мы видим, — говорил Хомяков, — старую Русь надобно угадать». И хотя эти интеллигенты обобщали особенности русской ментальности, их по справедливости стали называть славянофилами. Они изучали не конкретно и вещно «русское», они оформляли идею славянства в его истоках и духовных корнях.
В то же время завершается непродолжительный период романтизма, во всех европейских странах вдохновившего национальную интеллигенцию на поиски духовных эквивалентов своей национальной идентичности. Некоторые даже переборщили, говоря о своей национальной исключительности. Россия чуть-чуть отстала в этом процессе явленности своего национального культурного ядра и потому дала повод для разного подхода к самой проблеме. Можно было говорить о своеобразии своего исторического пути, о своеобразии характера и заслугах перед историей (что и делали славянофилы), но можно было и равняться на уже сформированные принципы, господствующие на Западе, вести отсчет от культурных завоеваний тамошней интеллигенции. Это стали делать наши «западники», исходившие из мысли, что «Россия всегда, начиная с принятия христианства, лишь заимствовала всё у "передовых" народов Европы», — следовательно (такова логика), и сейчас происходит то же самое.
Тем не менее период романтизма завершался и в самой России. Возвышенно-идеологические установки постепенно сменялись трезвым перебором вариантов и возможностей, которые могли быть заложены в «основу единства представлений» народа. Упрекать славянофилов в запоздалом романтизме националистического толка безосновательно. Ни славянофилы, ни западники не были романтиками, они были реалистами. Похожие на романтизм действия, высказывания или тексты тех и других всего лишь примета времени, язык эпохи, которым они вынуждены были говорить. Даже преувеличения в использовании научного метода и историко-лингвистических данных или мистически окрашенная терминология (например, у Хомякова), на которые указывают в связи с этим, всего лишь преувеличения неофитов, не владеющих формой, но сердцем чувствующих глубокое содержание объектов своего исследования.
Обстановка исследованиям благоприятствовала. В России окончательно сложился новый литературный язык на национальной основе, писатели отказались от архаических и семантически пустых форм. Теперь уже категории и формы родного языка, ставшего языком научного исследования, языком интеллектуального действия, как бы наталкивали на формулирование «народных представлений» о мире и о себе самом. Развитие языка дошло до той черты, когда системная ясность категорий и форм (парадигм) гармонировала с богатством стилей и гибкостью логически выстроенной фразы. Накоплены важнейшие термины, иные из числа богословских и философских терминов идут от XI в. Сложились понятия о многих концептах сознания, и теперь уже оказывается возможным излагать свои идеи не только образно, на художественном, но и на понятийном, научном уровне.
Историческое наследие в философском осмыслении бытия и сущности толкало русских философов к естественному их союзнику, действующему в тех же философских традициях: к немецкому (классическому) идеализму начала XIX в. Иоанново христианство русских (по меткому слову В. Соловьева и Н. Бердяева) исходило из убеждения в том, что «в начале было Слово», что «слово — это знамя человека на земле» (К. Аксаков). Помимо всяких желаний такая позиция автоматически делала славянофилов «реалистами» и потому сближала их способ философствования, например, с философией Шеллинга, отталкивая от философии логически-рассудочной, в частности от Канта.
Всякое столкновение русского ума со сложившимся ходом жизни на Западе, влияние ratio на такой домашний и привычный logos давало пищу ненасытному и свежему уму, но и вызывало бурную реакцию отторжения. На Запад ехали не ума набраться (и своего хватало), а, оглядевшись «окрест себя», наполнившись свежими впечатлениями и чувствами, осознать до конца самого себя, оценить в этом мире и море житейском — положительно ли, как славянофилы, отрицательно, как западники, неважно, но — оценить собственные традиции. А следовательно, подумать о будущем.
Как и теперь, многие московские молодые люди учились в немецких университетах, слушали лекции Шеллинга и Гегеля, были замечены ими. Восторг перед философией великих немцев через них широко разливался по России, захватывая и тех, кто никогда, как Белинский, не держал в руках объемистых немецких книг.
Всё это и привело к тому, что в Москве сложилось деятельное сообщество молодых дворян, называвших себя славянофилами.
Выбор предпочтений
С XVIII в. начинается литературная проработка предпочтений «русской идеи» через образную систему художественных текстов, достаточно понятных простому человеку, но уже направленных на формирование национальной ментальности. Поэты XVIII—начала XIX в., публицисты и критики середины XIX в., романисты второй его половины подвели к концу века к «сгущению» русского сознания, и на основе собранных художественных форм уже можно было создать философию русской ментальности.
В развитии сознания неизбежно, диалектически оправданно, наступает момент поляризации противоположностей. Происходит это обычно в момент столкновения с внешним миром, но не отталкивания от него, а в попытке понять и сблизиться. Отсюда идет природное уважение русского человека к иноземцу. Он осмеет костюм и носовой платок чужестранца, но присмотрится к его деловым и умственным качествам: «Немец молодец — обезьяну выдумал»; русский человек не ксенофоб и тем более не расист (может быть, в этом его слабость, слабость сильного человека — доверчивость). Подобная поляризация противоположностей, явленных в мысли, позволяла обогащать содержание философской мысли через обновление ее форм. Отсюда, уже в Новое время, проистекает заметная продуктивность только тех ученых, действующих в области конкретных наук, которые понимают необходимость и неизбежность новых синтезов. Например, «чистые» славянофилы, как и «чистые» западники, оказались творчески бесплодными, оставаясь на уровне критики и публицистики: либо позитивизм — у одних, либо феноменологизм — у других.
С точки зрения развития русской научной рефлексии формирование противоположностей (например, славянофилы versus западники) всего лишь проявление внутренних противоречий собственной, русской, философской мысли под стимулирующим влиянием западных идей и методов: Шеллинг или Гегель, католицизм или православие, католицизм или протестантизм, община или государство — слово или дело. В России так было всегда, чуть не с XV в., когда разошлись в осмыслении русского пути иосифляне и нестяжатели (Иосиф Волоцкий и Нил Сорский), затем никониане и старообрядцы (Петр и царевич Алексей) и уже в Новое время, как подготовка к противостоянию славянофилов и западников: традиция или новаторство (Александр Шишков или Николай Карамзин), реализм или номинализм (московские «любомудры» или петербургские кантианцы), логическое или духовное — ratio или logos. Реальность такова, что никогда и ни в один из моментов истории они не вступали в противостояние как силы враждебные; наоборот, только их совместность составляет цельность русской философской мысли на всем протяжении ее развития. Только выбор пути: своеобразие собственной ментальности или заемный менталитет — связан с предпочтением того или иного; как небанально обозначил это словами Михаил Пришвин: или путь от мира (общества) к церкви, или путь от церкви к миру. И в том и в другом случае направление в движении идеи одно и то же: оно предуказано сверху вниз, от высших слоев культурного общества к народу. Идея национального самосознания вызревает в голове, а не в сердце. Это продукт не духа, а мысли.
Да и то сказать, и чувство подсказывает: плохую погоду тучи наносят с Запада, и солнышко там закатывается, а еще там живет «немец». «О, запад, запад! О, язва гниющая! Всё от тебя идет» — ирония Николая Лескова.
Таким образом, силовое поле развития национального сознания создается в раздвоении его на противоположности, которые не противопоставлены друг другу. Это две равновеликие духовные силы, которые как бы вглядываются друг в друга с тем, чтобы уяснить себе смысл и назначение составляющего их общего. Одна из примет русской ментальности: измыслив, создать себе супротивника, которому приписываются, иногда и собственные, признаки и качества, требующие внимательного изучения и борьбы с ними для изживания их в себе самом. Поэтому трудно согласиться с мнением, будто русской чертой является «неспособность провести трезвое, опирающееся на факты сравнение себя с другим» [Ладов 1978: 25]. Такая способность есть, но осуществляется она своеобычно, не по западным «правилам»: не противоположностями к враждебному, а противопоставленностью к подобному, к «другому я». Именно так происходит и современное состязательство между различными слоями интеллигенции, у которой не поймешь подчас, кто левый, а кто правый (знаки отмеченности меняются), кто «западник», а кто «славянофил».
Еще евразийцы заметили, что тяга русской интеллигенции к Западу основана «на созданном русскими подражательными усилиями тождестве или сходстве ,,быта“» [Савицкий 1997: 116]. Действительно, «культурный мир русского западника» начинается от «вещи» и устремлен к «идее», в которой он хочет видеть оправдание и зачин такой пышной цивилизации. В перечне добродетелей, ценимых западниками, именно деловые качества личности: добросовестность, педантизм, сознательность рефлексии, а не эмоции по каждому поводу, уважение к праву и закону как основе личной свободы, терпимость к другим, эстетика быта в мелочах и пр. [Щукин 1992]. В пределах «русского реализма» движение мысли славянофила прямо противоположное, он идет «от идеи к вещи», полагая, что построение нового мира возможно на основе идеи, восстановленной в ее чистоте.
Кроме разнонаправленного движения в общих границах реализма для взаимно противоположных позиций славянофилов и западников характерно, следовательно, вот что: «восходим» от вещи к идее — формулируем понятие в суждении, а «нисходим» от идеи к вещи — оплодотворяем мир идеею; но для тех и других общим становится одинаковое отношение к исходной точке — к слову. «Что у них было, — говорил с уважением Герцен о славянофилах, — это — живая душа, способная понимать Слово». Напротив, западники чувством слова не обладали, и это заметил Ключевский: «Указывают на любовь западников к иноземным словам. Наши западники всё еще заучивают западные учебники слово в слово и не умеют передавать их своими словами». И в этом отношении, в отношении к языку, также происходит восполнение Слова до цельности. Славянофилы знают язык (и описали систему его грамматических категорий), западники чувствуют стиль (и совершенствовали его, как Тургенев и Герцен). «Слова не до такой степени вбирают в себя все содержание мысли, весь ход достижения, чтоб в сжатом состоянии конечного вывода навязать каждому истинный и верный смысл свой; до него надобно дойти; процесс развития снят, скрыт в конечном выводе; в нем высказывается только, в чем главное дело, это своего рода заглавие, поставленное в конце: оно в своем отчуждении от целого организма бесполезно или вредно», — полагал Герцен. «Целый организм» движения мысли — это, конечно, суждение. Язык явлен в слове, стиль — во фразе.
Склонный к номинализму западник не просто «восходит» к идее от вещи, тем самым вид он подводит под род, составляя суждение, и одновременно с тем он хочет охватить все движение мысли словом: поставить точку «заглавием» слова-понятия. При этом внутренняя форма слова, его первосмысл исключительно важен для славянофила и западника. Они всегда обратят внимание на те ассоциации смыслов, которые возникают в слове, независимо от суждения, но суждения порождая. Например, с точки зрения современного философа внутренняя форма слов: «Славянофильство — образ русских березок и хлебного кваса, светится изнутри; западничество — что-то упадническое, грозящее падением, чужое, не наше» [Володин 1996: 190].
«Сладость» славянофильства не в том, что тешит оно народное самолюбие, да еще без достаточных на то оснований, И не в каком-нибудь комплексе (любимый аргумент современного фрейдиста). Суть такого взгляда — в особенностях славянского типа рефлексии, это взгляд на себя самого через Другого, то есть одновременно и от вещи (у западника) и от слова (у славянофила) и притом через посредство другой идеи, в данном случае в зеркале немецкой классической философии (Гегель, Шеллинг):
Бифокальное такое зрение объемно, выпукло, в подробностях и деталях помогает видеть суть, и видеть не односторонне идеально, но совмещая при том идею с реальностью мира, с вещным ее субстратом.
Отсюда берет начало неизбежная зеркальная обращенность точек зрения на один и тот же предмет. По мнению Николая Федорова, «славянофилов от западников отделить решительно невозможно, и те и другие грешили одним грехом неискренности: западничество, отрицая отечество, заменяет братство гражданством; славянофильство признаёт мнимое отечество и недействительное братство» [Федоров 1995: 192]. Та же оценка и у символистов: «Самосознание русского — в соединении природной стихии с сознанием Запада; в трагедии оно крепнет: предполагая стихийное расширение подсознания до групповой души Руси, переживает оно расширенье это, как провал в подсознание, потому что самосознание русского предполагает рост личности и чеканку сознания; самосознание русского начинает рождаться в трагедии разрывания себя пополам меж стихийным Востоком и умственным Западом; его рост в преодоленье разрыва. Мы конкретны в стихийном; абстрактны в сознании; самосознание наше в духовной конкретности.
Может быть. Хомяков, Данилевский, Аксаков и русские — в подсознании; в идеологии — нет; идеология их искусственна: она — вытяжка из конкретно возникших западноевропейских идей — вытяжка для России; в идеологии западника более конкретны русские; славянофилы суть западники в дурном смысле слова» [Белый 1922: 31]. Точнее суть дела не обрисовал никто. И когда чуть дальше Андрей Белый парадоксально утверждает, что «славянофилы — мутанты России», он просто хочет сказать, что всякая односторонность опасна, вредна и чревата бедой.
Развитие славянофильства
В развитии русского самосознания Нового времени выделяют несколько этапов. Для советской историографии традиционно выделение трех: 1830—1850 гг. — противостояние славянофилов и западников; 1860—1890 гг. — вовлечение в процесс национального самосознания всё более широких, разночинных масс; затем идет развитие «интеллигентской стихии» — вплоть до появления сборников «Вехи» и «Из глубины» [Касьянова 1994: 41 и след.].
Типично буржуазным дроблением единого процесса на этапы является периодизация П. Н. Милюкова. Развитие национального самосознания он именует становлением «национализма», а формирование менталитета по западным образцам — «европеизмом». Двойной стандарт в оценках тоже примета «европеизма».
Бытовой («этнографический») национализм и европеизм из XVII в. переходят в следующий и, по мнению Милюкова, развиваются до середины XVIII в. (Татищев — Новиков), давая начало «политическому» европеизму с реакцией на него «национализма» (1770—1825: Радищев — Шишков). Таков «инкубационный» период формирования русской идеи.
Религиозно-философский национализм (славянофилы) сталкивается с западничеством социалистической окраски (до конца 1850-х гг.), вызывая расцвет национального русского творчества. Славянофилы предпочитают позднего Шеллинга, западники — Гегеля. Первый фиксирует «неподвижность глубины», в том числе и народного духа, тогда как Гегелю важна динамика развития, которая поверхностна («рябь на прибрежном песке»). Причина этих предпочтений понятна: система Шеллинга — это углубление в себя, в тайники чувств и мистики, это — неподвижность. Система Гегеля — это движение, эволюция, развертывание „духа“ в логической последовательности. «Шеллинг искал гармонии с религией, Гегель подводил к современной науке», — говорит Милюков. С точки зрения семиотической теории содержательных форм это значит, что Гегель прослеживал движение Понятия в его преобразованиях до Символа, тогда как Шеллинг пытался проникнуть в тайну Символа, скрывающего в себе Миф. Понятие, конечно, ближе науке, но поклонение ему привело к излишествам позитивизма, расцветшего в середине XIX в.; конечно, символ слишком мистичен, но следование ему дает возможность приблизиться к духовному.
Следующие этапы Милюков определяет так: социальный национализм и европеизм (до конца 1870-х гг.) — народничество как факт расширения культурной среды; затем научный национализм (неославянофильство) и «эволюционный» европеизм — с конца XIX в. (называются Н. Данилевский и К. Леонтьев, противопоставленные либералам-западникам Д. Кавелину и Б. Чичерину). Каждое новое поколение качественно преобразует свою линию развития мысли, и в целом эта конфронтация подводит, по мнению Милюкова, к «цивилизации», т. е. к идеалам западного мира.
Сам Милюков — западник, поэтому в светлом поле сознания у него «европеизм» с характерным подбором имен тех лиц, которые близки ему по убеждениям. Маркирован в оппозиции всегда европеизм, он словно убегает от наступающего на него активного «национализма». Победив в лице либералов, европеизм сразу же введет страну в число цивилизованных государств, полагает Милюков. Что это не так, мы сейчас увидим. Невозможно культуру, названную «национализмом», подменять цивилизацией, даже если это и «европеизм».
Уже в характеристике самого Милюкова особое внимание уделяется совершенствованию русского литературного языка на национальной основе («стабилизация русского языка») как «самого чувствительного барометра» общественного состояния. «Установился ли окончательно этот язык? Приходится, по-видимому, признать, что нет. Конечно, непрерывность языка, свидетельствующая об установившейся непрерывности культурной традиции (эти слова нужно подчеркнуть. — В. К.), уже не может исчезнуть... Но все же новое расширение сферы культурного общения на более широкие круги... заметно сказалось на языке... язык сохранил значение самого чувствительного показателя этих социальных процессов» [Милюков 1994: 66—67]. Замечательна эта отсылка к языку, который стал основным доказательством наличия русской ментальности в «национализме» славянофилов. Если язык — основной источник и он постоянно изменяется под давлением обстоятельств (в том числе и благодаря включению в культурный процесс все более широких масс, «низов»), то ясно, что борьба за язык против его разрушения является ответом славянофилов на духовную агрессию со стороны западников.
Как бы то ни было, но приведенные мнения дают повод для верного вывода: «расхождение в средних показывает, во-первых, огромную устойчивость наших этнических архетипов: несмотря на постоянное „отклонение“ интеллигентской рефлексии силовыми линиями западноевропейской культуры, на уровне модели поведения та же интеллигенция... реализует в полном объеме свои „социальные архетипы“, а вовсе не западноевропейские» [Касьянова 1994: 102]. Это относится как к способу доказательств своей идеи, так и к предпочтительности самой идеи. Потому что мысль неотступно возвращается к идее национальной идентичности, даже тогда, когда никаких западников нет еще и в помине; Юрия Крижанича, мыслителя XVII в., Николай Федоров называл «родоначальником нашего псевдославянофильства».
Самый результат предопределен. Сформулировать единство народных представлений (а в том и состояла задача) можно, лишь исходя из этих «этнических архетипов» как объективно данных. Все прочее было бы не реконструкцией, а искусственной конструкцией, которые во множестве создаются как раз сегодня — с оглядкой на «общемировые ценности». Родоначальники русской идеи углядели в прошлом отнюдь не ценности, но идеалы.
Ибо идеалист в идее видит идеал.
Но именно таков славянофил.
«Славянофильство не есть только истина выражаемая, но и некоторое нравственное требование; это — не только доктрина, но и некоторый принцип жизни, закон и норма наших суждений и практических требований» [Розанов 1990: 192].
Культурно-исторические корни
В хронологии развития русского самосознания будем исходить из маркированности славянофильства: именно славянофилы в свое время и в своих условиях первыми четко выразили духовную сущность русской культуры, «с них начинается перелом русской жизни» (Герцен).
Славянофильство есть неоплатонический реализм в христианском облачении и одновременно это взгляд на себя со стороны — со стороны немецкого идеализма.
Прежде всего заметим, что явление славянофильства не этническое, а культурно-историческое; они не русофилы, а славянофилы. В России никогда не было русофилов, их создает воспаленное воображение русофобов для утверждения справедливости своих идей. Славянофилы — противники всякого национального эгоизма, что навсегда снимает надуманную проблему «великорусского шовинизма». Славянофилы видели славянство не узко видово, а широко родово; последнее объясняет и постоянное видоизменение самого славянофильства, что следует помнить.
Характерны высказывания на этот счет. «Русский народ не есть народ. Это человечество» (К. Аксаков), что в историческом плане справедливо, если под «русским» понимать не нацию, а государство (как теперь и понимают). «История человечества совершается через народности, а не помимо их» (Ю. Самарин), что также верно: любые общечеловеческие ценности по необходимости приобретают национальную форму. «Роль славян не племенная, а международная» (М. Бакунин) — и разве история не показывает справедливость этих слов? Один из парадоксов Константина Леонтьева: национализм космополитичен, он разъединяет. Он разъединяет всех, в том числе и самих националистов, русская национальная идея всегда была за единение, и уже по этой причине она не националистична.
Сегодня, говоря о шовинизме, первым делом приплетают вопрос об антисемитизме, якобы присущем русским искони. На этом примере удобно показать действительную меру истины в отношении к «национализму» русских.
Н. Рязановский в гарвардской монографии 1952 г. специально коснулся «вопроса о евреях» [Рязановский 1952: 114—117]. Славянофилы не антисемиты, какими их выставляют их политические противники, но они жалеют евреев за то, что, отрицая Христа, те зачеркивают творческий период своей собственной национальной истории. У поздних славянофилов можно найти отдельные выступления против евреев; например, Ю. Самарин в письме 1875 г. вполне определенно высказывается против евреев, но только в связи с их претензией на мировое господство через революции и радикальные идеи. Талмуд учит угнетать другие народы посредством ростовщичества и иных осуждаемых в христианстве средств — и это неприемлемо по нравственным соображениям. Если подобное столкновение разных моральных систем является указанием на антисемитизм, то... не становится ли подобный упрек самопризнанием в справедливости сказанного славянофилом и от имени русской духовности осужденного им?
Да и нет никакой «борьбы». Есть выступление против, спор с противником о нежелательных чертах характера, в просторечии с давних пор именуемых «жидовством», в их проявлении у представителя любого народа, и прежде всего у русского человека. Схватка не с конкретной личностью (тут скорее наоборот — симпатия к евреям), а с абстрактно понимаемой, но явственно осознаваемой вредоносной идеей. Необходимый ответ на агрессивный вызов. Непонятна всякий раз нервная реакция на это, типично русское, явление (сражаться с отвлеченной идеей, а не с «предметными» ее носителями, не с телесной «вещью»). Реакция всегда была неадекватной и русскому всегда оставалась непонятной. «Теперь все дела русские, все отношения русские осложнились „евреем“, — заметил Василий Розанов. — Нет вопроса русской жизни, где "запятой" не стоял бы вопрос: "как справиться с евреем", "куда его девать", "как бы он не обиделся"».
В утешение людям, озабоченным этим вопросом, скажем: самый «протестантизм» Хомякова (да и других ранних славянофилов) просматривается прежде всего в его тяге к Ветхому Завету, а следовательно, и к еврейству в его самом специфическом — религиозном — проявлении. Почти всё новое, что ранние славянофилы особенно рьяно выставляли как чисто русское наследство, есть видоизменение, переоформление иудейских представлений. Теократическое единение общества, соборность как Kahal (Новый Израиль, Израиль духовный), мессионизм народа-богоносца и пресловутая «русская идея», так никогда и не сформулированная в законченном виде, — всё это и многое другое есть полное замещение соответствующих иудейских идей в отношении к России и к русским, что хорошо показано, например, Львом Карсавиным [1928], который тоже говорил о «близости еврейской религиозности к русскому Православию». Не случайно и вовсе не напрасно еврейские публицисты постоянно издеваются над всеми такими категориями «русского сознания», за своим интеллигентским стебом пытаясь одновременно скрыть источник самих идей, навязываемых обществу по общей схеме «реализма»: идея влияет на мир — заимствованная идея, — а не сам этот мир (эта страна) создает свои идеи.
Динамика славянофильской идеи
Теперь мы можем рассмотреть последовательность в развитии славянофильской идеи.
Раннее славянофильство выделяется романтическим отношением к жизни, в основу своих программ кладет религиозные вопросы (вера); первые славянофилы все поэты, и в поэтическом тексте они пытаются воссоздать «народный дух»; они поэты даже когда занимаются наукой — Хомяков, Аксаков или Киреевский. У всех них заметны идеальные признаки национального характера, образ его, так что описывать русскую ментальность им не надо; она в них самих.
Зрелое славянофильство имеет связи с «почвенничеством»: с одной стороны Ф. Достоевский, с другой — Н. Данилевский, К. Леонтьев. Сам Достоевский полагал, что «почвенничество» есть синтез западников и славянофилов на реальной основе. На первый план выходит наука или, скорее, научная проза, которой не избегает и писатель, как правило, в конце жизни. Теперь мало показывать образ явленного, необходимо доказать его явленность понятием, и многие делают это весьма искусно. Не идеальные признаки ментальности следует показывать в образцах, как полагали прежде, но реальные признаки в их связи с действительностью. Русский реализм становится художественным методом исследования такой действительности, свое происхождение ведя из философского реализма русских славянофилов. Это русский художественный метод, который требует изображения не только положительных, но и отрицательных свойств и качеств; они демонстрируются и в жизненных ситуациях (судьба отступников типа Льва Тихомирова), и в романе.
Позднее славянофильство весьма разнообразно и начинает свой ход довольно рано. Это и ранний Владимир Соловьев, и поздний Владимир Эрн. Основная установка действий перемещается в сферу философии, которая впервые становится профессиональным занятием. Ведущая фигура размышлений — символ, своего рода синтез образа и понятия: образное понятие.
Последовательная смена социальных типов и психологических установок происходит под давлением извне, постоянная конфронтация с западниками требует изменения форм борьбы, не изменяя сути движения. По мере наращения содержательной плоти системы происходит некоторое уклонение в этатизм и, как следствие, в монархизм, в лице Эрна даже в ура-патриотизм. Первоначально конфессиональная идея через идею общественную оборачивается в конце концов идеей государственнической. Характерно преобразование ключевых терминов; так, Земля ранних славянофилов у славянофилов зрелых становится Почвой, для поздних оборачиваясь просто земной Поверхностью. От глубинной сущности до зримой явленности. Почти все первые славянофилы умерли нелепо, случайно и многие — рано [Гиренок 1998: 49, 88, 114, 139, 155].
Это приводит к преобразованию самой идеи на новых основаниях. В послереволюционном зарубежье возникает почти сразу же, в 20-е годы, движение евразийства. Европейский дух — вне Азии: Россия как высший этап развития Европы, потому что она представляет собою синтез духовных сил Европы и Азии. Среди первых евразийцев много философов и филологов (Н. Трубецкой, Л. Карсавин, Г. Вернадский, Г. Флоровский и др.), вообще гуманитариев русского дворянского класса. Пока евразийство существовало в русской национальной доминанте, оно отчасти восполняло исчезновение «настоящего» славянофильства (не политических его подделок), но как только во второй половине XX в. (у Льва Гумилева и его последователей) оно обрело мусульманскую доминанту, оно немедленно стало отрицанием русской идеи и потому неинтересно ни для развития самой идеи, ни для нашей темы. Вообще сам термин «евразийство» неудачен, географическое место-развитие и больше ничего. «Судьба евразийства — история духовной неудачи» — заметил один из основоположников учения, Г. В. Флоренский. Действительно, в развитии мысли сначала исказили понятие (в том числе и о ментальности, об истории и т. д.), а после этого стали придираться к слову (термину), перенося внимание на вторую его часть (-фильство). «Евразийство — это старость русской философии», — говорит современный исследователь проблемы [Гиренок 1998: 270].
Мы еще вернемся к основным положениям теории евразийства, потому что в его ядре содержатся всё же и справедливые мысли.
Исходная программа
Научные и политические программы ранних славянофилов и западников находились в дополнительном распределении, они не пересекались одна с другою по принципиальным установкам. Рассмотрим эти программы.
Славянофилы, по верному слову позднего их сторонника Михаила Пришвина, в основе своего учения полагали веру, тогда как западники вере предпочитали науку. Первые всегда оставались традиционно русскими реалистами, в то время как западники в своей философской ориентации постоянно отходили от реализма и колебались между английским номинализмом и французским концептуализмом. Эклектизм и есть результат заимствованных идей.
Так постепенно возникало расхождение между основным направлением исследовательских задач и прагматических интересов. Славянофилы особое внимание уделяли этике и эстетике, западники — экономике и социологии, т. е., в конечном счете, политике. Исходя из культа, славянофилы признавали ценности культуры; исходя из науки своего времени (преобладал или развивался позитивизм), западники особое значение придавали цене цивилизации.
Мы видим, что троичное по составу содержательное пространство «Домостроя» логически разбилось между славянофилами и западниками на два попарно организованных поля. Этика и эстетика двух первых частей «Домостроя» остались за славянофилами, а экономика преобразовалась в экономику и политику, одновременно превращая этику в социологию, которая подчинена экономике (такова сфера интересов западников). Именно этика — вторая часть «Домостроя» — разошлась надвое, в зависимости от предпочтения той или иной крайности: этика личной совести как бы отходит от этики профессиональной чести. Противопоставление только намечается, оно еще не внутренняя противоположность, но противостояние заметно.
Определяются и программы действия.
Славянофилы настаивают на необходимости своего, собственного пути в истории, западники указывают на более высокий уровень цивилизации в Европе и призывают одномоментным скачком преодолеть разрыв и взять на Западе то, что представляет общую ценность и уже готово. Никто не призывает к застою. Славянофилы также за развитие, но развитие эволюционное, органически продолжающее сложившиеся в России отношения и связи. Западники рьяны в призыве равняться на готовые образцы, они — за социальную революцию, которая, по мнению славянофилов, не всегда гарантирует успех, потому что исходит из большой посылки силлогизма очередной абсолютной догмы, также заимствованной с Запада. И идея с Запада, и образцы оттуда же — что может случиться с Россией после их применения? Ни славянофилы, ни западники этого еще не знали, зато знаем мы, их потомки, не один раз испытавшие последствия подобных действий.
Общие установки и программы действий определялись идеологическими программами обеих сторон.
По мнению славянофилов, живительным источником государственности является на-род в своей при-род-е. Душа народная, т. е. род, а не вид, поскольку для реалиста идея (идея рода, родового, родного) важнее воплощающей идею «вещи», индивида. Для западников же государство никак не продолжение развития общества, оно есть форма, скрепляющая все социально-экономические функции того же общества; это тело, а не душа. Поэтому западник ориентируется на индивида, он позитивист с предпочтением конкретного, он имеет дело с «вещью». Вид, а не род. Религиозный неоплатонизм славянофила предпочитает старинную идею родной земли (Ю. Самарин), тогда как рациональный концептуализм западника толкует об этой стране.
Зрелое славянофильство соединит расходящиеся эти части и синтезирует единство личного и общественного сознания в понятии духовность.
Идеальной общественной формой славянофил признаёт общину с коллективным способом производства и правления; западник предпочитает активность автономной личности, выделенной из общины и ей противопоставленной. Русская история на примере изгоев и разбойников показывает, насколько отрицательно активна подобная личность на Руси. Противопоставление общей думы индивидуальной мысли всегда осознавалось. Только думе присуща вдумчивость, только Дума всерьез задумывается; индивидуальная мысль создает то ли мышле́ние, то ли мы́шление, потому что, в отличие от думы, мысль связана с судьбою-промыслом как зловредным помышлением.
Зрелое славянофильство соединит расходящиеся эти грани и синтезирует единство личного и общественного бытия в понятии Всеединство. Личность в своем развитии оставляет след в вертикали (сан, чин), а община создает горизонтальный ряд; символически Всеединство организует «крест жизни», кладя меру положенной человеку глубины духа.
Для славянофила особую ценность имеет соединяющее людей сходство, подобие, единение — не зависимость, а связь; западник всюду ищет различия, расхождения, противоположности, потому что именно различительные признаки формируют индивидуальные признаки личности, создают конкретность вещи на фоне других вещей. Традиционный для русского сознания духовный logos с его предпочтением символа понятию западник желает подавить холодным мерцанием ratio — понятия, сминая культурный символ в пользу прагматически важного по-яти-я различий в по-нят-ии. Логически четкие конструкции, определенные силлогизмы, порождающие всё новые и новые, всё больше отходящие от жизни идеи — вот идеал западника, полагающего, что суждение дает нам новую информацию. Славянофил же кротко признаёт, что не всякое суждение ценно и «Жучка есть собака» — не тот тип мышления, который стоит отказа от «профетической фразы» русского коренного обычая: убедить, а не доказать — тот самый «аристократизм мысли», о котором не раз говорил классик такого рода фразы — Николай Бердяев.
Зрелое славянофильство соединит эти расходящиеся линии мысли и синтезирует единство мыслительного пространства в понятии Софийность.
Софийность — «жена, облаченная в сияние» (С. Булгаков): единство идеи и вещи через вхождение их в слово.
Естественной формой существования общей думы в ее развитии является слово — язык. Для славянофила нет границы между церковнославянским и русским — одно продолжение другого, результат развития, осложнения смыслами по традиционным канонам, и канон этот метонимичен. А. Шишков и В. Даль по-разному понимают такое единство, но объединяет их, в частности, неприятие чуждого русской речи, непонятного и ненужного иностранного слова, варваризма. Западник, напротив, лишь в иностранном слове видит возможность однозначно сказать о деле; заимствованный термин выгодно отличается от символической многозначности русского слова. Словарь под редакцией Я. Грота, ставший ответом на словарь В. Даля и словари, составленные по программам А. Шишкова, бесконечными столбцами нанизывает слова, все больше включая в текст иностранных и новых, и никогда не будет закончен, лишь через тридцать лет замрет где-то на букве «н». «Толковый словарь живого великорусского языка» Даля в начале XX в. также переделают на западный лад, включив в него неподобные и непотребные слова, и тем нарушат не только волю, но и идею автора словаря.
Лингвистические программы славянофилов долгое время создавали творческое напряжение в исследовании народной культуры. С «Мыслей об истории русского языка» академика И. И. Срезневского (1849) целое столетие отечественная филология собирала, изучала и обобщала материалы русской духовной культуры, сохранив их до нас [Колесов 1984; Лексикография: 146—207]. В принципе «славянофильство было исключительно научной исторической, философской и теософической доктриной, без всякого политического характера, и не имело почти ничего общего с фанатиками, обскурантами, квасными патриотами и дикими людьми, готовыми видеть в насилии и кулаке оригинальное выражение русского народного духа» [Кавелин 1989: 346].
Идеал служения различается также. Для славянофила это духовное подвижничество святого в миру, для западника это герой-одиночка, свершающий подвиг во имя идеи и дела. Впоследствии русские философы (Н. Лосский, П. Флоренский) по-разному соединят в идее две ипостаси русской героической личности, но святость останется более важным признаком героического. Святость учит. Святость убеждает — не примером, а образцом, не идеей, а идеалом.
Рост идеи
Итак, различия между славянофилом и западником, действительно, не разводят их по разные стороны баррикады.
Они и не враждовали. И. те и другие мыслили в традициях русских, но в разном направлении от исходной точки. Поэтому и стало возможным впоследствии на таких расхождениях подойти к новым синтезам (пока еще не по всем признакам различения — искусственным давлением процесс прервался на полвека). Важно отметить, как исторически развивается, отталкиваясь от обстоятельств жизни (от телесности «вещи»), идея славянофильская; именно она и сводит в новые синтезы все идеологические расхождения века девятнадцатого. Западничество статично. Оно не имеет собственной традиции, укорененной в реальности идеи и рода. Оно — плагиат.
Таким образом, «взрыв отвлеченной мысли», явленный Чаадаевым в 1839 г., стал толчком для аналитического раздвоения собственной, русской мысли, и тем самым для ее материализации в дискурсе и в текстах. Толчок сознания породил процесс познания. Образовалось интеллектуальное пространство мысли, которое образно можно представить как расходящиеся из общей точки векторные линии: вверх — эволюция слова в росте качеств (представлено в идеалах славянофилов); в стороны — накопление количеств (представлено ценностями идей западников), ведущих к революционным смещениям самого пространства; в глубину — как выражение фона, на котором две идеологемы действуют, — российская действительность, вещь и дело, отзывающиеся на метания интеллигентов и жертвенно их встречающие.
Сформировано объемное пространство русской идеологии, и только в этом смысле, как русская идеология в своей цельности, она понимается как единство и славянофильской, и западнической программы.
Теперь представим себе конкретного человека, далекого от рефлексии обоих типов — и славянофильской, и западнической. Простой человек, но живущий в традициях своего времени. Как в нем преломляются описанные противопоставления, создавая этическую модель поведения в общественной среде? Каковы нравственные установки его сознания? Ведь именно он и есть субъект, ради которого предприняты все поиски, он становится личностью в перекрестье всех тенденций своего времени (или — не становится личностью по тем же векторам). Ответ понятен: человек живет в силовом поле этих векторов, одновременно и зная цену настоящему, и понимая ценности прошлого, и рассчитывая на идеалы будущего. Аналитическое раздвоение русской мысли в определенный исторический момент есть отражение русских потенций в точке их осмысления, так что объективно это свидетельствует и о раздвоении черт характера, о двойственности морали и внутренней пока что несобранности русской ментальности.
Сами славянофилы тоже простые люди. Они ничем не отличаются от западников. Все они москвичи, все дворяне разного достоинства, многие друг другу родственники, получили одинаковое образование и при этом мыслят от совокупности мы, не от личного я. «Славянофильство — история двух-трех гостиных в Москве и двух-трех дел в московской полиции», — ехидно заметил Ключевский. Все они одинаково любят Запад, ценят его достижения и готовы к дружбе с ним. Может быть, то, что будущие западники не учились на Западе (как Герцен или Белинский), до времени делает этот Запад притягательной силой? Не было антизападничества у славянофилов (это особо подчеркнул В. Зеньковский), а по строю мысли было внезападничество («правда в понимании собственного пути»), объясняемое отсутствием сервилизма даже перед самодержавием («внутренняя свобода и правдивость»). Религиозно понять Европу, к чему стремились славянофилы, оказалось невозможным — отсюда необходимость восполнения мысли в виде западничества.
Воплощая собою особый культурный тип национально русского достоинства, славянофил порицает идею личности, потому что европейский «буржуазный идеал — средний человек» (К. Леонтьев); он подчеркивает глубочайший аморализм «иной человеческой природы», влекущий к социализму (Ф. Достоевский); в типично русской форме нравственности — панморализме Льва Толстого (В. Зеньковский) — славянофил протестует против всего условного, искусственного, против обожествления власти («душа убывает»); даже Герцен высказывается против буржуазной бухгалтерской честности, предпочитая ей русскую совесть. Не борьба с Европой, но уход от нее, временное отчуждение во имя спасения идеалов.
Зато все они — и славянофилы, и западники — одинаково критически относятся к Петербургу, а этот город — единственный на Руси — в то время почти как Запад. Больше того, переезжая в Петербург, вчерашний москвич забывает о том, был ли он там славянофилом или западником (Д. Кавелин, Вл. Соловьев): Петербург ведь «город умышленный», тут формы нету (что выразил Андрей Белый в романе «Петербург»). Прежде казавшиеся существенными черты различия размываются, нейтрализуются, сходят на нет в стылом петербургском тумане. Традиционное расхождение между московским и питерским подавляет домашние споры о путях, возникает проблема методов и средств. Для москвича искони понятно, что форма созидает смысл, что форма предшествует содержанию, потому что неоформленного просто нет, оно не существует. Отсюда все трогательные заботы о сохранении старой формы или поиски формы новой: стоит заимствовать западную форму жизни — она и наполнит нашу жизнь новым смыслом. Петербургский мыслитель исходит из смысла и понимает, что, напротив, смысл оформляется, обретая присущую ему форму, смысл задает процессы, он и есть тот алгоритм, который ведет к постоянному развитию, т. е. к движению. Москвич озабочен моментом истины — это момент и точка, ее динамика статична, это преломленная сознанием вечность, а вечность не изменяется. Сравните московских и петербургских поэтов равного уровня: Цветаева — Ахматова или Блок — Белый. У них даже общее — различается. Москвич обязательно покажет все этапы трудной своей работы, строительные леса своего гения; каждая строчка точно датируется, каждый шаг описывается мемуарно, личное чувство оформляет текст, подавляя даже его смысл. У Блока или Ахматовой даты проставляют издатели (если найдут достоверные), поэты убирают «строительные леса» своих текстов («О, если б знали, из какого сора растут стихи!..»), они загадочно молчат о самих себе — и потому остаются в легенде, творимой теми же говорливыми москвичами.
Вот такие в своей конкретности люди, и вот психологическая причина зарождения споров о Москве как столице русского духа.
Заслуги западников перед русской культурой значительны. Благодаря им Россия была включена в контекст европейской истории как держава культурная, они настаивали на приоритете личности, ее освобождении от традиционных патриархальных пут — на ее самодеятельности, поставив при этом проблему правового обеспечения свободы личности [Володин 1996: 195—199]. Западники ранние — патриоты, и они в свое время критиковали Запад за то, что сегодня стало прямым бедствием: развитие массовой дешевой культуры в условиях навязываемого потребительства; стандартизация общественного мнения, которое также навязывается человеку под видом свободы выбора; отсюда — власть большинства над личностью [Там же: 210—211].
Смысл славянофильства
«Можно сказать, что славянофильство не изобретено, не с придумано, но философски открыто: до такой степени оно соответствует нашей действительности и истории — так оно оригинально, настолько преобладают в нем начала научного объяснения над догматическими требованиями... В том и заключается сила славянофильства, что, будучи идеей немногих избранных умов и имея против себя огромную массу образованного общества, оно всегда критически относилось к своему содержанию, постоянно пополняло его и очищало. Отсюда такая органичность в развитии этого учения, постоянный преемственный рост, какого и тени мы не находим в учении „западников“, и до сих пор всё повторяющих общие места» [Розанов 1990: 148, 146].
Органичность славянофильства на русской почве удостоверяет справедливость многих утверждений самих славянофилов. Только органически живое не исчезает, но лишь преобразуется в формах. Так развивается растение — от прорастания до цветения. Основная заслуга славянофилов — они отстояли русскую честь в момент, когда западничество пересиливало. С тех пор прошло много времени, и часто обращались к славянофилам за мыслями и идеями даже люди, славянофилам не сочувствующие. Может быть, потому, что слишком «сладкое блюдо». Вот как обобщил в своих дневниках славянофильство один из участников совместных обсуждений проблемы в Ленинградском университете 1920-х гг.:
«Славянофилы были запретным течением русской культуры; и они перекликались друг с другом от Шишкова до Розанова. Их всегда одолевал карамзинизм и европеизм — проникнутый преданностью России европеизм Карамзина, Пушкина, Белинского, Тургенева.
Славянофилы отличались от прочих тем, что всегда настаивали на невозможном (этой традиции положила начало абсурдная и трогательная деятельность Шишкова). Вечная оппозиция победоносному русскому европеизму... оппозиция умная, с оттенком безответственности и экспериментаторства...
У славянофилов же был пафос вечного монолога, то есть пафос, который может быть искренним для актера, но остается России — ни правительство, ни народ, ни общество — их не слушал, по крайней мере не слушал серьезно. Монолог отчасти бредовая форма; у славянофилов было необыкновенно много визионерства политического, религиозного и литературного.
Славянофильство было запасом русской культуры, к которому прибегали каждый раз, как оскудевали победители. Брал оттуда Толстой, брал Герцен, брали символисты. Запрещенные к практическому употреблению, эти люди могли культивировать такую роскошь мысли, такую остроту вкуса и восприятия, которая оказалась бы просто недопустимой в руках победоносного направления: власть имущие (духовную власть) не могут расточать силу на тонкости — это одно; другое — власть имущие не должны соблазнять публику...» [Гинзбург 1989: 57—58].
В этих строках содержательность мысли, собранной из разных источников, отчего и внутреннее противоречие в тексте ощущается: восхищение вечными диссидентами, — и упреки в их адрес за то, что «не те» идеи вели их.
«Пафос вечного монолога» явлен в проповеди, но именно проповеди не слушают, отдавая должное их неизбежности. Но право на монолог имеет знающий и достойный, и, кроме того, презирающий сущность во всей объемности жизненных реалий. В нашей культурной истории только славянофилы имели право на монолог, потому что они в своей профетической речи дали синтез старорусской народной традиции, как до них «Домострой» дал синтез древнерусской культурной традиции. Аналитическая дробность мысли, идей, понятий требует диалога, но в реальной жизни нет диалога — есть хор, нестройное многоголосие с участием всякого, кто «знает»... Но знает только свое, лишенное цельности и полноты всеобщего знания.
Славянофильство — «запас русской культуры» на долгие времена, потому что нового синтеза пока еще нет. Облачение в новые формы идущих от давности традиций не состоялось, паразитирование на русской культуре продолжается.
О славянофилах, об их понимании русской ментальности мы не раз будем говорить. Обратимся к программе евразийцев, которых ошибочно признают продолжателями славянофилов. На самом деле, в отличие от синтезов, предпринятых поздними славянофилами, евразийцы попытались произвести новый культурный синтез с позиции западников. Парадоксально, но факт: уясняя свою связь со славянофилами, евразийцы действовали как западники, но прямо наоборот, в противоположном направлении поисков. Они говорили о зависимости русской культуры от инородных культур, но не западных, а восточных. Не удивительно, что затрудняются в определении политической платформы евразийцев: левые они или правые? [Евразийство: 12—13].
Евразийство
Как славянофильство возникло в России на правах идеи чуть ли не в XVII веке, как западничество явилось к нам на основе «общности быта», так и евразийство свои начала проявило давно: первым евразийцем по справедливости называли Николая Погодина, историка, современника ранних славянофилов, сказавшего, между прочим, о них: «чувствует систему Шеллингову, хотя не понимает ее».
Евразийцы 1920-х годов — это славянофилы и западники, хлебнувшие Запада через край.
Основные принципы классического евразийства можно изложить кратко на основе высказываний авторов в сборниках [Мир 1995; Евразийство].
Антизападничество, которое всегда усиливается, когда Запад делает очередную попытку стравить славянский и мусульманский мир (это проявление «романо-германского шовинизма»). «Антиевропеизм евразийцев можно понять и как стремление напомнить о достоинстве России, когда за рубежом была в моде ее травля». Ответ на усложняющуюся ситуацию отличает позицию евразийцев от установок первых славянофилов: те были внеевропейской ориентации.
Суперэтатизм, утверждение духа «дисциплинирующей государственности», которая может отстоять национальные приоритеты перед лицом ложных «общечеловеческих ценностей — всеядного космополитизма». Его сторонники называют суперэтатизм евразийцев «государственным насилием и фашизмом» — ибо жесткость позиции против мешает продвижению «ценностей»; однако на Западе все государства твердые. Всеобщность аскезы как высокой жертвенности всех членов общества предполагается подобным пониманием государственности: этатизм — коллективизм; «функция государства есть функция целого как такового» [Карсавин 1995: 117, 134]. Эта позиция уязвима. Бердяев заметил, что «пафос организованности и социальности у евразийцев скорее римский, латинский, чем русский», в своей державной идее они ближе к Иосифу Волоцкому или Данилевскому, чем к Нилу Сорскому или Достоевскому.
Культуроцентричность общей позиции против технической цивилизации Запада «с ее неоязыческими культами Машины и Тела» в ущерб Духу; против потребительства и вещизма, обуявших Запад [Трубецкой 1995: 30—31]. Культура исчезает, если беззащитна перед инокультурными влияниями: это тема современного постмодернизма. Лев Карсавин представляет себе культуру как основание, соединяющее индивидуумов в соборной личности, которая оформляется государственностью: «Без своего огосударствления общество вообще не может быть, а тем более — быть свободным» [Карсавин 1995: 120]. Культура каждого народа — своя, «нет общечеловеческой культуры», и даже свобода народа определяется не суверенитетами, а построением своей уникальной культуры [Трубецкой 1995: 49, 52]. «Всякая культура есть исторически непрерывно меняющийся продукт коллективного творчества прошлых и современных поколений данной социальной среды» [Там же: 77], отсюда важность общего языка, необходимость создания языковых союзов, иначе новая Вавилонская башня разрушит все достижения цивилизации. «Культура не простая сумма ценностей и даже не система их, но их органическое единство» и «развивает (их), и сама в них и только в них развивается», «культуро-субъект» и есть основной субъект истории [Карсавин 1995: 116] (он говорит о «примате культуры» [Там же: 127]).
Универсальность прогресса отрицается [Савицкий 1997: 87] — прогресс как становление нового и лучшего имеет свои степени и оттенки в протекании; у него различные цели в зависимости от истории народа.
Реализм евразийцев состоит в стремлении к синтезу. Это движение хотело бы сочетать мысль с действием [Савицкий 1997: 93] — идею с делом, то есть идеально осмыслить «вещь» (реальность).
Патриотизм, а не национализм по формуле, уже введенной К. Леонтьевым: русский патриотизм — патриотизм православия, а не земли, не этноса; патриотизм не земли или крови, а идеи. Трубецкой говорит о подлинном и ложном национализме, а шовинизм вообще присущ только малым народам, «лидеры которых хотят стать вровень с великими» [Трубецкой 1995: 24]. Сергей Левицкий подчеркивал наднациональный характер русскости в его стремлении «к всечеловечности», ибо «русский дух вообще имеет свойство вбирать в себя чужеродные элементы, ассимилируя их в духе русскости». «Евразийцы глубоко ценят коренное своеобразие каждого народа» [Савицкий 1997: 110].
Идеологоцентризм (идеалоправство): признается основополагающая роль идеи-правительницы, исходящей от симфонической личности. «Идея воспитывает личность, питает ее соками, дает силу, ведет в действе» [Савицкий 1997: 127]. Полнее эту мысль разработал Лев Карсавин: «Идеология может быть определена как органическая система идей, постоянно развивающаяся», однако в любом случае в целостном обществе и в твердом государстве «правят идеи». «Идея культуры определяет ее государственность», но государство должно быть идео-кратией, тогда как в «демократиях она — редкая птица». Национальный идеал невозможно выразить, ибо он постоянно развивается, и, кроме того, «всякий идеал эмпирически неосуществим» [Карсавин 1995: 236, 71, 136, 144, 146], хотя в процессе «действования», — например, «философия евразийства есть именно философия организационной идеи» [Савицкий 1997: 111].
Месторазвитие важнее генетической близости народов — такова эта геософия [Мир 1995: 222, 226 и след.]. Евразийцы подчеркивают близость славянских и восточных народов по условиям и месту длительного пребывания. Внимание к объективным, прежде всего к природным и этнографическим, условиям («голос земли») предопределяет исторический процесс. Так, продолжительное влияние язычества связано с природными условиями существования. Этот тезис важен. Достаточно указать на общий метод исследований, например в области языка, текста и культуры вообще: структурализм создан виднейшими представителями евразийства; это логика пространства вместо логики времени.
Просопология как учение о личности становится противовесом старому тезису о соборности [Мир: 241]. Народ — это симфоническая личность, и «народ не должен желать "быть как другие"». Он должен желать быть самим собой. Сократовский завет о познании себя остается в силе и тут. Каждый народ должен быть личностью, а личность единственна и неповторима. И как раз единственностью и неповторимостью своей ценна и для других» [Савицкий 1997: 102].
Историософия евразийства своеобразна, пришлось пересматривать многие факты отечественной истории; например, утверждать, что «без татарщины не было бы России». Правильно говорят, что евразийцы «перечеркнули национальные святыни и предания», одобрив Иго, поскольку «именно внешняя мощь, а не духовное развитие, не рост благосостояния людей первенствуют в концепции евразийцев» [Кантор 1994: 38 и след.].
Мало внимания уделяется теоретическому методу евразийцев. Их структурализм вовсе не того формального пошиба, каким он стал известен после его перелицовки в типологической мастерской «тартуско-московской школы». У евразийцев структурализм — это опрокинутые на категории и формы языка содержательные идеи русских реалистов о цельности целого и развитии живого смысла. Федор Гиренок совершенно точно обозначил самое главное достижение евразийцев в области методологии: «Евразийцы ввели нулевой зазор между бинарными структурами. В центре, посредине, они поместили ноль», а «центрированный мир — это мир силы», да и «судьба России немыслима вне собранности ее вокруг центра»; евразийцы завершили работу славянофилов, приведя к единству разрозненные знания, создали теорию, «она же нулевой синтез» [Гиренок 1998: 268, 269, 273]. Выражаясь яснее, евразийцы на всех уровнях своего исследования ввели понятие нулевой точки, которая снимает противоречие между эквиполентно разведенными членами антиномий, уже рассмотренными нами антиномиями русского сознания. Нуль как нейтрализация любого признака различения сводит к единству всякое противоречие, эквиполентность превращая в градуальность различительных и сходных признаков. И формирует законченные содержательные парадигмы (можно представить на примере русского склонения имен: форма именительного падежа нулевая, ибо не имеет флексии, ср. стол — стол-а — стол-у...). Но на самом деле это всего лишь развитие одной из философских идей, впервые представших изумленным очам русских мыслителей еще в «Ареопагитиках» [Колесов 2002: 333]. Это развитие славянофильской традиции, о том же толковал, например, Константин Аксаков, когда подавал царю записку о создании гармонии в обществе путем согласования «государства» и «общества» через «народ» (1855).
Итак: «Евразийство понимается нами как особая симфонически-личная индивидуация Православной Церкви и культуры... По существу, религия создает и определяет культуру». Вместо православной идеи хозяйства (наследие Византийской империи) с XVII в. «выдвинулась европейская позитивно-политическая идея империи и империализма; культурная задача формулировалась обедненно и чисто эмпирически — как рост государственной территории и государственной мощи», что обессиливало внутренние силы народа [Савицкий 1997: 36—37].
Вывод, достойный запоминания. Все те обвинения, которые сегодня мы слышим со всех сторон о русском империализме, об агрессивности русских, бумерангом возвращаются к своим истокам: в Европу, где им и место. Да, все темные пятна нашей недавней истории — след европейской идеи. Но интересная деталь: говоря о евразийстве как государственной силе народов Европы и Азии, сплотившихся против агрессий со всех сторон, евразийцы хотели бы объединить всех под знаменем Православия (даже иудеев, как Лев Карсавин). Сражаясь с идеей империи, они за сильную власть. Противоречий много, как во всяком деле, которое ищет выхода в тот момент, когда у порога опасность.
Продолжение традиции
«Продолжает культурное преемство только тот, кто его обновляет» — утверждают евразийцы [Мир 1995: 33], но собственное их обновление идеи оказалось не совсем удачным. Современники почувствовали это и отозвались критически. Даже православие, верностью которому евразийцы сближались со славянофилами, они понимали иначе: лучше язычество и восточная мистика, чем католицизм, поскольку и само «язычество есть потенциальное православие» [Там же: 246]. Для объективной оценки евразийства интересно, кто именно осудил его построения, но затем воспользовался его методом — структуральным. Вопрос, требующий особого исследования. Некоторый материал можно найти и в цитированном здесь сборнике «Мир России: евразийцы».
Отметим особо те черты евразийства, которыми это движение не совпадало со славянофилами. Одно уже указано: внеевропеизм славянофилов сменился более жесткой формой неприятия Европы — антизападничеством.
По мнению евразийцев, экономическое будущее России может быть и «западническим», т. е. оно не связано с развитием только общины как формы хозяйственной жизни. Проблему евразийцы переносили в другую плоскость, тем самым развивая идеи славянофилов: проблема производства должна замениться проблемой распределения и обмена.
Основа русского быта (а славянофилы еще смешивали культуру с бытом) вовсе не узко понимаемое православие, а именно культура, при «спасающей силе религии» как части такой культуры.
Упование на творческую личность, а не на соборность («становимся на точку зрения последовательного индивидуализма»), однако это не эгоцентрическая личность типа романо-германской, нет: по мысли евразийцев, индивидуум последовательно растет в личность «через культуру в самом себе» [Трубецкой 1995: 43, 48].
«Настроение национализма» теперь еще шире, чем у славянофилов (но и евразийцы вовсе не русофилы), хотя это не шовинизм победителей, а скромное требование достойного места в истории. По мнению Трубецкого, у славянофилов вовсе не было истинного национализма как осознания национальной идентичности. Время того не требовало.
Славянофилы — «философы прогресса», и потому ориентируются на прошлое; между тем «будущее есть однозначная функция прошлого» [Мир 1995: 35], а в настоящее прошлое упирается как в свой тупик. Все народы проходят один и тот же путь, и важен при этом «темп и ритм» прохождения. В силу второго закона термодинамики («мир стремится к покою») и народы, выстояв в борьбе, постепенно сходят с исторической сцены. Тут мы видим зародыш идей самого позднего евразийца — Льва Гумилева, нашего современника. Пассионарные народы развивают свою культуру, обогащая мировую цивилизацию.
Важная подробность такой программы в том, что, призывая к синтезу культур параллельно с культурами азийскими (не путать с азиатскими — говорят евразийцы), она навязывает свое понимание Западу, считая его гнилым; с семиотической точки зрения это тоже влияние западной мысли, построенное на той же методологии: привативность вместо градуальности (а термины эти в науку ввел именно Н. С. Трубецкой). Привативность предполагает четкую логическую связь, которую русский мужик обозначил точно: «Ты начальник — я дурак, я начальник — ты дурак!» Если Запад страна обетованная — мы никуда не годимся; Запад гнилой — и мы тут как тут, готовы спасти мир. Внутренняя противоречивость идеи евразийцев именно в этом: утверждая всемирность идеи, они не хотят согласовать ее с идеей самого Запада. Тот факт, что и Запад агрессивно отторгает самобытность нашей идеи, не извиняет евразийцев. В отличие от них Запад и не утверждает, что он единственный (маркированный, как то и требует привативный принцип), — он просто «лучший»!
К тому же известно: «устойчивая русофобия Запада в XX веке имеет не столько идеологический, сколько геополитический характер», а «геополитические термины легко переводятся в термины идеологические» — для прикрытия непотребных дел [Дугин 1997: 48].
Итоги
Мы заметили между прочим, что ранние славянофилы охвачены энтузиазмом по поводу новооткрытого метода — сравнительно-исторического. Этот метод повел их за собою в поисках исторических прецедентов: идеал ре-конструкции (они — «археологические либералы», по слову Владимира Соловьева).
То же можно сказать и о западниках (но им более свойствен позитивизм), вообще о каждом конкретном моменте в развитии славянофильской идеи. Зрелое славянофильство тяготеет к позитивизму, а позднее — к символизму, также отражая ведущие методы своего времени в исследовании культурных явлений.
Евразийцы работали в другое время и в новых условиях. Они явные феноменологи и потому использовали ими же открытый и созданный структуральный метод. Основная задача структурализма — не реконструкция прошлых систем, а конструирование сущности (инвариант исследуемой системы). Этим они и занимались в своей кабинетной социологии.
Однако есть одна подробность, которая ставит евразийцев на особое место в отношении к нашей теме. Расхождение славянофилов и западников определялось коренным различием как раз в установке на традиционную русскую духовность (славянофилы) или на новообретенную ментальность (западники). Развитие внутреннего конфликта между ними и есть процесс развития ментальности, то есть осознания своей духовности и определения ее в научных понятиях. Совсем иное дело — евразийцы. Это ведь разочарованные западники, которые уже постигли сущность ментальности (почти все они изучали опыт европейской духовной истории), но вовремя вспомнили призыв Константина Аксакова: «Пора домой!»
Таким образом, рефлексия интеллигенции по поводу своей ментальности развивалась («живое дело»), каждый раз вырабатывая новые методы и привлекая другие источники, то удваивая сущности, то приводя их к синтезу. В результате каждый раз, на новом витке рефлексии, мы имеем новый взгляд на коренные антиномии русской жизни, с выделением в качестве маркированной то одной, то другой противоположности. Это значит, что происходит вполне научное изучение проблемы, хотя оно и облечено в публицистические и идеологические тона.
Современные философы не продолжают русской линии философствования, не развивают в новых условиях сложившихся к началу XX в. положений русской религиозной философии, а только излагают ее и комментируют. Духовность описана, на очереди ментальность. Причина приостановки в философском творчестве может быть и та, что изменились состав, интересы и качество современной интеллигенции. Но причина может быть связана и с незнанием языка, который репродуцирует концепты, пре-образ-уя их форму.
Кроме того, оценивая исторические этапы в развитии русского самосознания, приходится учитывать и такой немаловажный аспект, как методологическая установка тех или иных авторов (реализм — нереализм) и научный метод, использованный в их суждениях. А это обстоятельство меняет всю картину, вписывает динамику проблемы в исторически изменяющийся фон интеллектуальной и художественной русской жизни, делает ее отражением русской ментальности. Ни одна из концепций, изложенных здесь, не абсолютна, у каждой есть свои сильные и слабые стороны, все они находятся (снова термин структуралистов) в дополнительном распределении по сумме признаков, которые в свою очередь тоже отражают особенности русской духовной культуры.
Но...
Разбор приведенных концепций и мнений убеждает в одном: составить представление о русской ментальности на их основании невозможно, поскольку направленность национальной рефлексии многовекторна. Противоположность характеристик сбивает с толку, однако позволяет выявить закономерность, состоящую в том, что несмотря на противоречивость результатов и выводов, концепций и понятий, все русские мыслители совпадают в форме и способе мышления, в чувстве и в отношении к делу.
Тем самым они отражают русскую ментальность.
Глава шестая. Лики, лица и личины
Лицо должно отражать личность...
Василий КлючевскийЛицо и лик
В книге Б. А. Романова «Люди и нравы Древней Руси» (Л., 1947) дана своеобразная реконструкция жизни средневекового человека с точки зрения «вещи»; люди представлены телесно «по классам», в социальных своих градациях как купцы, ремесленники, священники, воины, миряне.
Но есть и другая сторона дела, сторона самого Логоса, то есть слова-духа. Интуиция Павла Флоренского первая разглядела в дали времен три ипостаси духовного облика человека.
Это разные проявления общей сущности, которую весьма условно можно именовать личностью (о ней — потом), в зависимости от того, что и как проживается: живот, житие или жизнь (градуальность этих качеств оформилась уже в «Домострое»), — и как представлена личность: овеществленно об-ликом, в признаках различий, или как духовность лика.
За последнее столетие сделано многое, чтобы неосторожным или преступным словом смазать накопленные веками тонкие смыслы народного, подсознательно, «подспудно» вызревшего чувства личности, какою должна она быть. Сначала символ «лица» подменили понятием «физиономия» или «индивидуальность», затем символ «личина» — рекламным понятием имидж; теперь пытаются ввести в оборот и фейсизм (англ. face — и лицо, и лик). Тем не менее символический смысл славянского ряда однокоренных слов всё еще ощущается нашими современниками; время от времени появляются статьи и книги, которые используют их потаенный смысл, осознавая их верно как символы.
Типы характеров
Достойными почитания признаются два типа русского человека, две крайности героического как воплощение чувства и мысли. Они существуют и действуют не как средний тип лица и вне его общих норм. Эти личности — герой и святой. Герой воплощает идею дела, вещности и телесности языческой стихии в русской жизни; святой выражает идеалы христианской, духовно возвышающей идеи. Между ними располагаются образы, переходные от святости идеи — до фанатизма — к осуществленности дела — до героического. «Главное дело — подвиг, а жизнь становится делом второстепенным», — говорил Константин Аксаков.
Древнерусская литература посвящена изображению таких героев. Она создала непрерывность традиции в увековечении их памяти. Герои предстают как символы, даны на память «предыдущим родам» в качестве «образных понятий», необходимых для утверждения традиции:
У героя и святого различные функции, они учат разному, но главное в их деяниях совпадает: разделить у-часть всех, но при этом остаться выше, сохраниться в качестве идеала. Герой есть «точка вскипания жизни», и если готов отдать даже жизнь, тогда — подвиг, но подвиг не по принуждению, нет, должно быть «внутреннее согласие на героический подвиг», говорил Михаил Пришвин.
У Георгия Федотова можно найти описание «двух типов русскости» [Федотов 1981: 86—90]. Ни тот ни другой тип не универсален, но они дают возможность развития, обогащения личности, так что и схема самой личности предстает как двоецентричная. Удвоенность типа отражает раздвоенность душевного склада в его одновременном стремлении к идеальному и к прагматически-деятельному.
Левый портрет — это вечный искатель с жертвенными порывами души, он часто меняет своих богов и кумиров в поисках личного идеала, в поступках — максималист, выступающий против всяческих компромиссов, символически это огонь на службе Земле; творчество для него важнее самого творения, искание важнее истины — он в процессе, в действии, в деле. Из древности такие люди — «бегуны, искатели, странники» — и потому в известной мере оторваны от почвы, породившей их энергию; они даны в кенотическом типе русской святости (например, Нил Сорский), но в современной России «тип этот вымер» — что и дает измельчание личностного начала в народе. Таков первый образ — символ пассионарной идеи. Он смел дерзать, посягал на поступок, имел дерзновение цели, для многих еще неясной.
Правый портрет — это «московский человек, каким его выковало время», «он держал на своем хребте Россию», русскости в нем гораздо больше (по мнению самого Федотова). Для этого типа характерно «глубокое спокойствие, скорее молчаливость, на поверхности — даже флегма. Органическое отвращение ко всему приподнятому, экзальтированному, к "нервам". Простота, даже утрированная, доходящая до неприятия жеста, слова. "Молчание — золото". Спокойная, уверенная в себе сила. За молчанием чувствуется глубокий, отстоявшийся в крови опыт Востока. Отсюда налет фатализма. Отсюда и юмор, как усмешка над передним планом бытия, над вечно суетящимся, вечно озабоченным разумом. Юмор и сдержанность сближают этот тип русскости всего более с англо-саксонским. Кстати, юмор, говорят, свойствен в настоящем смысле только англичанам и нам... [и потому русские люди] только в англо-саксонской стихии чувствуют себя дома. Только ее они способны уважать. Но, конечно, за внешней близостью скрывается очень разный опыт. Активизм Запада — фатализм Востока, но и там и здесь буйство стихийных сил, укрощенных вековой дисциплиной» [Федотов 1981: 88]. Это, разумеется, символ дела, герой, а не святой.
Обобщенные портреты идеализированы, второй тип в чистом виде сегодня также не существует. Федотов объясняет разрушение идеалов русскости вторжением инородного элемента. В частности, бессознательная игра «религиозной глубины», по его мнению, есть результат еврейского влияния, который сказывается и на исступленной вере в идеологические идеи, прежде никогда не достигавшей такого накала в русской истории («талмудизм» русской интеллигенции). Соотнося исторически две разные схемы — древнерусскую и описанную Федотовым, — мы не видим полного совпадения контуров. У философа дана идеальная картина типов, сложившихся до революций и даже раньше. В частности, противостояние славянофилов и западников не укладывается в схему: славянофил предстает как «московский человек» дела, тогда как западник оказывается «русским европейцем» идеи. Нет ли в таком парадоксе несовмещенности образа (типа) и идеи ответа на все сомнения современного интеллигента, ни в какую не способного понять, что чужая идея всегда враждебна, потому что она не взросла на корне собственной жизни?
Мистик тоже говорит о двух русских типах [Прокофьев 1995: 176]: в Московском царстве это душа рассудочная (Годунов) и душа чувства (Лжедмитрий), а сверх того типы промежуточные: «душа, пользующаяся услугами мышления» (это все Романовы) или, наоборот, рассудок, пользующийся душой (Никон). (Заметим, что всё это этнически не русские люди). XVII в. создает переход «от души чувствующей к душе рассудочной». Отсюда же возникают великие искушения русской истории: души чувствующие, души рассудочные или души сознающие: Иван IV — Петр I — большевики. О трех искушениях в русской истории говорит и Тульчинский, у которого это представлено как искушение верой («Москва— третий Рим»), рассудком (век Рационализма) и словом (XX в.).
Уже у Николая Бердяева мы обнаруживаем троичную схему русских идеальных типов, причем на первое место он ставит третий тип, совершенно новый: это образ творца культурных ценностей. Достаточно четко этот тип прописан у Даниила Андреева, он называет третьего героя русской истории — это вестник, гений науки и особенно искусства, культурный герой Нового времени, художественная гениальность которого выше других проявлений личности, потому что такой герой — творит. «Всякое творчество, кроме демонического, совершаемого во имя свое и для себя, есть боготворчество; им человек поднимает себя над собой, обоживая и собственное сердце, и сердца других» [Андреев 1991: 21, 136, 173—174].
Герой — святой — вестник лишь совместными усилиями могут построить новый духовный мир, в единстве воли, чувства и разума. Так утверждают философы в отвлеченной своей рефлексии. Согласиться с ними трудно. Для русской ментальности «третий герой» и не герой вовсе. Действуя вопреки, он совершает зло — какие бы благие цели ни ставил перед собою. Иван Солоневич, отражая сугубо народную точку зрения, вообще полагал, что гений разрушителен, поскольку ломает установившийся лад жизни. Но вестник также вносит разлад в гармонию идеала, не вещи, но идеи.
И герой и святой разрушают тоже. Типологически все данные типы оправданы, они выражают позиции (точки зрения на мир и идею) от вещи (герой), от идеи (святой) и от слова (вестник). Если за вестником оставить функции разума, его вполне можно отождествить с традиционным типом русскости — с мудрецом.
Однако, странным образом, подобное неслиянно-троичное распадение идеальных ликов выражается в форме действия и постоянно окутано неким мистическим туманом, погружено в глубины подсознания. И только в моменты рефлексии как бы всплывает в сознании с помощью привычных символов-слов, будто бы объясняющих нечто посредством неясных понятий. Философ и мистик вообще над этим не задумываются, триединство чувства, разума и воли воспринимая как данность. Единство их, правда, создает законченность личности, идеалом которой является в их представлении праведник — высшая степень нравственного совершенствования человека; у него «воля освобождена от импульсов себялюбия, разум — от захваченности материальными интересами, а сердце — от кипения случайных, мутных, принижающих душу эмоций», соединяет же их воедино любовь — долженствование личности [Андреев 1991: 13].
Тем не менее святость не действие, как действие — подвиг героя; святость — состояние души, для которой, согласно данной точке зрения, главное в том, чтобы стремиться к мученичеству, к страданию за идею, ради которой даже любовь отходит на второй план, а эмоции и воля подчиняются основному — служению идее. Инстинктивный разум обращается в духовную мудрость, выше которой ничего быть не может.
С таким распределением усилий между чувством, разумом и волей согласится, пожалуй, любой. Иногда совокупная собирательность типов дана словно в родовом гнезде. Так, В. Н. Сагатовский [Сагатовский 1994: 169] в братьях Карамазовых видит как бы наш коллективный портрет: «бескорыстная любовь Алеши — эмоциональные порывы Мити — до конца идущая рефлексия Ивана — подлая маргинальность Смердякова». Четыре варианта тех же двух типов.
Просматривая подобные высказывания, невольно начинаешь сознавать, что всё это не типы, а всего лишь различительные признаки чего-то общего, в идеале совместно воспринимаемого как целый тип. Все особенности, здесь указанные, органически одна из другой вытекают, как образуются они друг от друга исторически, по мере формирования русской ментальности в образцах-ликах.
Классификации
Классификаций характеров и типов известно множество, по разным источникам и с разными целями изложенных. Некоторые уже описаны здесь. Рассмотрим еще несколько описаний с тем, чтобы определить основные свойства русского характера в его собирательном отношении. Это позволит нам убедиться, что все классификации основаны на определенной сумме эмпирических черт и весьма субъективны. Инварианта нет — и в этом, быть может, заключается сила русской ментальности. Не существует общего знаменателя отвлеченно мыслимых черт мысли, воли и чувства, в полной мере относимых к русскому народу. Собирательная множественность «народ» вовсе не то «живое целое», которое мы ищем через описание его духовности.
«Удивительно: история вся развертывается в два, собственно, ряда людей — истинных зиждителей всего ее узора: юродивых и полководцев» [Розанов 1990: 343]. Интуиции философов многократно множат словесные обозначения ключевых русских типов — святого и героя, реальное и действительное в их слиянности. Двоение идеального на ипостаси заложено было еще на заре великорусской народности. На Куликовом поле победили Дмитрий и Сергий как бы в единстве двух сил.
Двоение сущностей в явлении могло видоизменяться, приобретать свой оттенок, присущий каждому времени. Но только в про-явлении действительного, т. е. земного. Как случилось это в XX в.: «В России есть смешение двух стилей — аскетического и империалистического, монашеского и купеческого, отрекающегося от благ мира и обделывающего мирские дела и делишки. Такое смешение не может дольше продолжаться» [Бердяев 1918: 240]. «Судьба России» — так называется книга, из которой взята цитата. Видоизменения героического возникают и часто, и по-разному. Герой нашего времени изменчив. Взятый как тип, герой рас-траивается. В качестве примера русских образов Иван Ильин [6, 2: 445—447] давал описание трех типов: жестокий человек, дурачок и пилигрим (странник). Первый кончает раскаянием и уходит из мира, второй становится симулянтом (юродивые, блаженные), третий пытается создать в душе уголок мира, спасения от повседневности. Таким образом, у всех трех есть и положительные, и отрицательные черты, но для всех них характерно это требование душевного покоя, освобождения совести хотя бы на время. Мало сказать, что эти типы описаны как воплощения одного и того же признака, данного в разной степени интенсивности; сам признак знаменателен: героическое желает упокоиться в святости.
Или вот еще вариант. Федор Степун писал о Владимире Соловьеве, символически соединившем в себе образы святого, пророка и ученого, т. е. святого, вестника и мудреца одновременно. Интуиция Степуна в аналитическом ряду терминов раскрывает мыслимую ипостась русского характера, в котором сошлись все функции, соединенные некогда в значении древнерусского слова вещь: мысль > слово > деяние. Выходит, что чем рельефнее очерчен какой-то человеческий тип, тем ближе он к синкретизму древнерусского характера, тем больше в нем черт собственно славянских.
Рас-тройство одного из исходных проявлений народного идеала-характера возможно и в отношении святости. Такую возможность описал недавно Федор Гиренок, говоря о степенях сгущения души: «И что-то в мире связывается душой. Связалось, и вот есть святой. А он антикультурен. Связалось, и вот юродивый. А он несоциален. Связалось, а где-то подает голос Иванушка-дурачок. А он нерационален. И это три состояния русской философии» [Гиренок 1998: 236—237].
Русской философии как осмысления сущего. Впадение в грех односторонности мстит за себя. Эквиполентная равноценность «святой — герой» не допускает отчуждения одного от другого. Реальность святого и действительность героя — это две стороны одного и того же. Они гармоничны в ладе. Пересвет и Ослябя — и святые, и герои; их жизнь и цельна, и осмысленна. Подвиг и подвижничество равнозначны. Отчуждение их друг от друга приводит к скольжению различительных признаков с дроблением человеческих типов. Человек духовно мельчает, его духовность преобразуется в рационализм ментальности. Дробление вообще осуществляется по признаку, в данный исторический момент признанному нерелевантным, т. е. несущественным в оппозиции типов. В начале XX в. цельность святости как идеала еще сохранялась, тогда дробился тип «героя нашего времени» (Бердяев). В конце века дробятся и типы святости (Гиренок). Второе опасней, потому что релевантным, смыслозначимым становится мирская, телесная, вещная ипостась идеала. «Ничего святого» и никаких идеалов.
Но исходно языческая эквиполентность (равноценность) святости и героизма, как и христианская градуальность (иерархичность) их коренных признаков сами по себе еще не разрушают традиционно русского взгляда на характер и волю национальных типов. Потому что это — вглядывание в них изнутри.
Совсем иное дело, когда в те же типы всматриваются извне. Западноевропейский рационализм предлагает логически строгие оппозиции по парным признакам различения (привативные оппозиции), согласно которым и на основе которых у одной из противоположностей данный признак отсутствует вовсе. Сходит к нулю или, в полном соответствии с католическим толкованием символа Троицы, нейтрализуется. «И тогда исчезает Троица» — как вздох мы слышим слово философа [Гиренок 1998: 237].
Карл Юнг описал функционально-личностные типы, которых четыре: эмоциональный, ситуативно-сенсорный, мыслительный и интуитивный. Первый ориентирован на прошлое как воспоминание, характерен сильными переживаниями, всю ответственность берет на себя. Второй как деятельностный ориентирован на настоящее, он активен, нетерпелив, не способен ждать. Третий предпочитает жить в соответствии с известными принципами, рационально планирует свои действия, время мыслит как идущее из прошлого в будущее. Четвертый ориентирован на будущее, живет в условиях постоянного расширения свободы и творчества, всегда устремлен к горизонту, за которым мерещится рай земной. Конечно, каждый из этих типов человека известен в любом народе, определяясь темпераментом и воспитанием. Но доминантой членения по типам выступает категория «время», а время объективно. И тогда оказывается, что обобщенно русским типом можно, скорее всего, признать четвертый. Не потому, что к нему относится большинство великорусов, но по той причине, что историческая установка, установка категории «время» у русских согласуется с этим, четвертым, типом.
Эрих Фромм определяет характеры, а не типы. По его суждению, существуют социабельные, альтруистические, авторитарные и иррационально-деструктивные характеры (обсуждение см.: [Сержантов 1994: 381 и след., 391 и след.]). Характеры еще меньше можно обобщить как усредненно народные. Они ориентированы на этические нормы поведения в социальной среде, охватывают такие категории, как любовь, власть, сила, соборность и пр. В разной степени проявлений они возможны у каждого народа. Именно в данном отношении ненаучны определения народа как «авторитарного», или «адаптивно-конформистского», или какого-то еще.
Столь же сомнительны обобщения, в свое время принятые Иваном Ильиным [Ильин 7: 380 и след.] на основе классификации Вальтера Шубарта, который выделял в человеческой истории четыре человеческих типа и уклада: гармонический человек, героический человек, аскетический человек и мессианский человек. Аскетический и гармонический уклады статичны, они предполагают завершенность мира. Два других уклада динамичны, но героический человек говорит: без меня мир погиб — и бросается его спасать, тогда как мессианский человек полагает, что «без Бога мир погиб» — и бросается служить Божьей воле. Ильин, как и Шубарт, полагал, что мессианский тип характерен для славян, и для русских в том числе. Видимо, это ощущение, идущее от Достоевского и его «русской идеи», проникло на Запад и стало классифицирующим признаком русскости. Принимая мир, русский человек чувствует свое призвание осуществить в нем высший божественный порядок, ту таинственную гармонию, которая основана не на воле к власти, а на примирительном настроении любви. Не ненависть и разделение, но любовь и воссоединение. И так будет, говорят наши авторы, как бы забывая, что в основе такой цели лежит и условие осуществления ее (гармонический человек), и действие (героический человек), и средство (аскетический человек). Дробление цельного типа на составляющие его части становится принципом анализа, предпринятого то ли с этической, то ли с «социабельной» точки зрения.
Аналитический подход к классификациям позволяет, правда, выделить характерные черты русской ментальности; Иван Ильин перечисляет их, используя описания немецкого историка. Особенно подчеркиваются: свободолюбие русских («русская душа хранит свою духовную свободу»), их непримиримость к чуждой культуре («нигилизм»), но вместе с тем «способность прощать обиды и неправды» и смирение. Русский человек — «метафизический оптимист», «он внутренно веселый человек», антирационалист, который «никуда не ломится, не торопится, не мучает себя затеями и планами мирообладания». «Русский человек не любит государства», он добр не из чувства долга, а потому что «это ему присуще», он думает о целом, о мире, укоренен в вечности и движим чувством братства: «Россия — родина души». И вот еще какая черта: «европейца тянет к специализации. Русского — к целостному созерцанию. Европеец — расчленяющий аналитик. Русский — всепримиряющий синтетик» [Ильин 7: 390]. «Вот откуда русская национальная идея: спасение человечества придет из России» [Там же: 394]. Таков мессианизм русской идеи, которая уже испортила не одно благое дело. Да и перечень характерных черт как-то не полностью подходит только к данному «укладу». Что-то остается и за его пределами, больше напоминая тип героического человека.
Но главное, что следует выделить в этих характеристиках и что соответствует действительному положению дел: русская ментальность синтетична.
Быть может, полезно обратиться к схеме («кругу») Айзенка, известного психолога, и также основанной на фундаментальных биологических характеристиках человека, в частности на темпераменте. Содержательное описание типологически важных ментальных признаков, на этом «круге», проведенное Андреем Вассоевичем [1998], помогает собрать разрозненные черты, представив их как бы в форме психоглосс, в пределах которых те или иные, противопоставленные попарно (привативность!) особенности коррелируют друг другу во множестве сочетаний, общим синтезом представляя максимально близкие к народной ментальности типы.
В противопоставлении положительных и отрицательных (верхних и нижних) энергий при четком различении правостороннего и левостороннего качества признаков (относительно деятельности полушарий головного мозга) выделяются четыре сектора, все признаки которых коррелируют относительно признаков, им противоположных. Русский тип выделяется довольно определенно: это положительно верхний образно-символический правосторонний тип. Этот тип коррелирует с сангвинически-холерическим темпераментом и обладает признаками, из которых важнейшие таковы: стремление к равенству (понимается как справедливость), ориентация на одновременность (метонимический тип мышления, исключающий интерес к причинным связям — скорее связи у-слов-ные), на естественность цельного (живого), на деятельность в непрерывности (не дискретность, а континуальность), с маркировкой будущего (а не прошедшего), с положительной энергией созидания и с развитой иррациональностью мышления; это сопровождается экономией речевых усилий с эмоциональными и этическими предпочтениями перед прочими (например, прагматически-экономическими).
Социальные характеристики данного типа также выразительны. Это экстраверты, склонные к коллективизму, альтруизму и «сберегающей ориентации» в действиях; в целом это пассионарии с высокой энергетикой. Им присущи чувство независимости, искренность, доверчивость, это люди веры, верные и в жизни, иногда с завышенной самооценкой. Им свойственна ориентация на имя, а не на мысль или «вещь» («реальность»); другими словами, они «реалисты», которые исходят из слова во всех суждениях о реальности мысли и действительности вещи. Среди многочисленных частных признаков следует упомянуть «опьянение». Имеется в виду не вульгарный запой, а общее состояние опьяненности, которое возникает в любом деле, являясь вдруг как азарт свершения, близость победы, как лихое гусарство, которое если кому и вредит, то лишь самому субъекту. Полнота жизненных сил, которые рвутся на волю, переливаясь через край.
Таков этот общий портрет, составленный из случайных по видимости черт; портрет, который рисуется еще не сам по себе, а на фоне трех других, противоположных ему, среди черт которых встречаются и такие, которые русскому характеру и русской ментальности как-то не с руки (например, бисексуальность, некрофилия или самодовольство) — и слава Богу.
Раздвоение сущего
Персонифицированные «общечеловеческие ценности» [Бороноев, Смирнов 1992: 26] можно представить как опреде ленные идеальные типы в виде личностей, воплощающих характерную доминанту известного качества. Тогда перед нами являются следующие персонажи русской истории:
святость-духовность — Святой,
знание-информация — Мудрец,
мастерство-искусность — Мастер,
дело-предприятие — Простец,
хозяйство-богатство — Государь-хозяин,
слава-популярность — Герой,
власть-могущество — Царь.
Но в нашей традиции всякая идеальная сущность непременно двоится в противоположностях, в результате возникают чисто русские («национальные») образы, внешне противопоставленные «общечеловеческим», но на самом деле воплощающие коренные свойства того же типа в его преувеличенных формах; в таких типах проявляется русское «бесстрашие», которое противоположно «бесстрастности» холодного наблюдателя со стороны. Вот эти типы в предварительном перечне:
Святому противопоставлен Юродивый как отелесненный святой, избегающий серьезности состояния в бесстрашном слове;
Мудрецу противопоставлен Дурак как умный без мудрствования и умствований;
Мастеру противопоставлено сразу несколько типов, собирательно воплощающих принцип не-делания;
Простецу противопоставлен Простак, в своем деле попадающий в различные переплеты;
Государю-хозяину противопоставлен Скаред, доводящий «хозяйство» до крайности своим искаженным пониманием «богатства»;
Герою противопоставлен Странник, оторванный от родной почвы, а также Заступник как воплощение защиты в мирских бедствиях, но избегающий мирской славы;
Царю противопоставлен Самозванец, роль которого понятна.
Как и все личины, Простак, Самозванец, Дурак и прочие всего лишь социальные роли. Простец живет — в простака играют, Мудрец творит — дурака валяют, царствует Царь — Самозванец делает вид, и т. п.
В подобном распределении лиц, по-видимому, и следует понимать набросок Г. Федотова о двух типах: левый портрет представляет ценности общечеловеческие (иудео-христианские?), правый — самобытно-русские, изнаночно вывернутые в насмешливости своей над типологией вообще, и над этой типологией в частности. Второй тип сформировался как ответ на несообразности жизни и противоречия жизненных ситуаций. «Правый портрет» — искажение сущности в явлении ее, в оплотнении вещного мира, но искажение не до каженности («каженик» — евнух), не до оскопления. Наоборот, эти типы сохраняют жизненную энергию под видом убогой слабости, хилости, немощи; лукавое переиначивание смысла идеи в приземленный, но зато надежный в поступках своих и ясный идеал, доступный пониманию любого члена общества.
После рассмотрения конкретных типов мы вернемся к обобщению их свойств.
Идея и вещь
Рассматривая перечни образов как модели (образцы) поведения, мы замечаем некоторую неравномерность их проявления и несинхронность их складывания. Одни отлились в законченные формы нравственного идеала раньше, другие позже. Однако наблюдается все же некоторая закономерность в их отношении к составным частям Логоса: к вещи, к идее, к слову.
Древнерусские эпические времена, когда действуют люди дела (взгляд от вещи), порождают князя Владимира, митрополита Илариона, Илью Муромца. Старорусские люди слова являются в XV в. в лице Епифания Премудрого, Нила Сорского, других деятелей культуры. Как в древнерусскую эпоху были и люди не-дела, так и теперь оставались люди не-слова; например, мы совершенно не слышим слов Сергия Радонежского, и даже в описаниях его «Жития» он молчит, по-русски делая дело. Новое время поставляет людей идеи, а также их инверсии — «беспонятных» потребителей этих идей.
Царь, Государь, Герой переходят в ранги ликов из язычества. Люди дела — их призвание вещно. Власть, Богатство и Подвиг окрыляют их действия.
Святой, Мудрец и Простец, продолжая некую неоформленную прежде идею (заимствованную из Византии), в законченность типа складываются к XV в., и только теперь становятся участниками истории, способными действовать как силы Духа, Разума и Души. Люди слова — их призвание вечность.
Мастер же просто идея, только идея, чистая идея, которая и оформлена-то заемным (латинским!) словом. Мастер проявляет себя и в слове, и в деле, его становление — XVIII в.: Данила Мастер выходит на сцену, когда возникает идея личного авторства; совмещая в себе и Силу и Славу, образ Мастера шире прежних, как шире слова любая идея.
Это, конечно, не значит, что только слова или идеи, а дела нет; это значит, что каждый данный тип, рожденный временем, исходит из чего-то одного, но одновременно занят двумя другими сторонами Логоса. В противном случае не было бы и цельности Логоса, осмыслить его и понять невозможно во фрагментарном виде только «из своего угла».
Например, три выдающихся церковных писателя эпохи Средневековья, имена и тексты которых нам известны: Иларион Киевский, Кирилл Туровский, Епифаний Премудрый.
Иларион — человек дела, организатор церкви (первый митрополит из русских), сподвижник Ярослава Мудрого. Он живет мирскими заботами, в его тексте даже слов своих почти нет, все заемные — цитаты из Писания, да и идеи — тоже в полном соответствиями с традицией: Слово — о Законе — и Благодати. Но в интересах дела, признавая важность вещного мира, пламень слов своих обращал Иларион против Закона во имя Благодати, и на целое тысячелетие стало это «проектом» русской жизни, вошло в плоть и кровь народа, в его подсознание, одновременно плавно приводя к развитию идеалов русского «реализма».
И Кирилл человек «дела», но у него другая уже задача. Он, пользуясь тем же расхожим текстом, насыщает его смыслом, важным и существенным именно для русской действительности того времени. Раскрывая идею Закона на фоне идеала Благодати — не от слова к идее, как Иларион, но от идеи — к слову, он создавал для русских новые символы.
Епифаний живет не в XI и не в XII в., он творит на рубеже XIV и XV вв., когда уже кончилась Древняя Русь под плетью кочевника и строится Московское царство. Он — человек слова, его задача: от дела, от вещи, от мира земного поднять человека до идеи, которая может одухотворить, осветляя тяжкую поступь строительства новой державы. Та же задача, что и у Сергия, которого он восславил в своем «Житии Сергия Радонежского».
Этот мир — русское Средневековье — завершается пламенным словом Аввакума Петрова, который пытался защищать эту — старую — Русь от посягательств официального «чужебесия». Но время уже другое, и, делая то же, что Епифаний, Аввакум идет теперь от идеи, вызревшей до идеала, к вещи, к делу, пытаясь идеей сохранить, в нужном направлении развивая, общее русское дело.
Если принять во внимание то, на чем настаивают сегодня наши братья славяне, то есть исключить из рассмотрения духовно-временную константу, учтя только вещность пространственную, окажется, что Иларион — украинец, Кирилл — белорус, Сергий — русский в узком смысле старинного этого слова, а Аввакум, русский по духу, по крови (утверждают, путая с Никоном), — вовсе мордвин. Выходит, что не время, изменяясь, порождает духовные типы-характеры, а место рождения диктует определенную точку зрения на составы Логоса. Тогда и правы окажутся не славянофилы, соединившие всех славян родово, а евразийцы, при-соединявшие племена видово, согласно их местопребыванию. Следовательно, если судить так, качества Илариона сохранились у украинцев, особенности Кирилла остались за белорусами, а свойства Сергия кристаллизовались у русских. Иларион — эклектик духа и мысли, идущий от вещи и претворяющий идею в слове; Кирилл — углубленный в тайны духа, сопрягающий идею и вещь в явленном слове; одухотворенный высокой идеей Епифаний, соединяющий дело с идеей по велению слова; «огнепальный» Аввакум, сожженный огнем в срубе, испепеленный пламенем изнутри, духом и словом яростно защищающий идею вопреки телесности вещи, — всё это разные характеры, но корень у них один, общий. Их нельзя разорвать на части, разнести по разным классификациям. Они воплощают общую линию развития восточнославянского духа на основе одного концепта. Не вещь, которая ценится в древности, не слово, которому молились позже, не идея, которой поклонялись потом, но — концепт славянской культуры. Постоянно возобновляясь в новых условиях, он всегда и тот — и не тот же самый. Нам же кажется, что концепты национальной ментальности изменились, что теперь они качественно иные, не те, что правили чувством и мыслью наших предков.
Символ и понятие
Употребляя принятые в науке термины, в понятиях истолковывающие русские символы, мы можем обобщить сказанное таким образом.
Каждый тип характера символически представлен как лик; Вера Панова в изящном повествовании рисует такие типы в образах-лицах Феодосия Печерского и беспутного епископа Феодорца («Лики на заре»). Но святые различаются по своим функциям; помощники, заступники, безмолвники — святые имеют множество предикатов, представлены в вариантах святости [Федотов 1989; Карсавин 1997: 98—105]. Получается, что общая идея святости, Лик, есть инвариант, представляющий сущностные признаки типа. То же самое у Царя, который представлен в вариантах от вождя-вожака до председателя Мао, у Героя, варианты которого многочисленны и постоянно изменяются (сегодня Слава — предикат даже и не бойца, а скорее борца, не витязя, но закованного в металлические бляхи рокера).
Лик как символ — инвариант в понятии.
Заземление ликов в лицах — в телесном проявлении лика — и их инверсия в личинах есть явления от своей сущности. При этом заметно: все инверсии оказываются как бы ослаблением одного лишь качества инвариантов — степени интеллектуального напряжения. И странник, и юродивый, и простак, и самозванец, не говоря уж о дураке, — все словно нарочно представляют себя не с казовой стороны, тушуются по части рассудительности. А это и есть верный признак того, что в противопоставлении инварианта и инверсии маркирован ум как главный признак действительной личности (разум — единство интеллектуальных и душевных качеств), потому что инверсия представляет собою всего лишь бескорыстность души, нравственный антипод рассудка.
Когда идеальный лик в социальной форме личины связан с известным человеком, мы говорим о лице и, может быть, о его лице-действе. Так, Иван Грозный — Царь в лике, опричник в личине (играл Самозванца — и накликал на Русь самозванцев), Иван Васильевич — в лице. Сергий Радонежский — святой в лике, Варфоломей Кириллович — в лице, как литературный образ и он предстает в личине, наброшенной на него Епифанием. Похожая история и с Петром, который менял личины-маски, желая успеть в проживании многих жизней, но всегда оставался в лике Царя.
Идеальность лика и вещность личины конкретно соединялись в лице. И тогда возникала личность.
Петр, безусловно, личность, и Сергий, и Иван, и многие, кого сегодня хотели бы позабыть в суете и гаме пустословия.
Вот и опять проявляется свойство русского «реалиста» — видеть одновременно идею (святости, могущества, мудрости и других качеств) — и личность, конкретно ее воплощающую. Прозревать ин-вариант в варианте, идею — в вещи. Узрение сущности не всегда облекается в слово, потому что именно слово соединяет идею с вещью, создавая символ, столь нужный динамическому обществу для его жизнедеятельности в культуре.
Налицо различие между символом и понятием, идеей прошлых времен и «значением» в нашем времени. Изменяются формулы, знаки, приметы — сущность неизменна. Лики по-прежнему с нами и в нас. Но что предпочесть в описании — символ или понятие... Что лучше — решать читателю, что точнее — времени, а что удобнее в изложении — автору.
Святой
«Любой другой в качестве образца — герой, мудрец, святой — идеал только самого себя, и то не вполне» — он всегда самозванец, поскольку «эти сущности ненаблюдаемы. Они не рациональны — инорациональны» [Тульчинский 1996: 240, 243]. Думаю, что это можно понимать и так: сам святой, герой и пр. — одновременно и сам как личность, и воплощение части самого себя как идеальный тип «святого», «героя» и пр. То есть и вещь, и идея в их совместности.
Святость как идея — достояние христианства, сам термин является переводом греческого слова кенозис: самоограничение, самоистощение, «самовольное мученичество» как форма выхода из самого себя, духовно — вовне; одновременно и отказ от мира — телесно, и страдание «за други своя» — духовно. «Смысловое содержание идеи святости» философы понимают как истощание в творчестве, со своими движениями и сложным оборотом духовных ценностей, в последовательности, обозначенной едва ли еще не Нилом Сорским в XV в.: творческое начало поднимает человека, который проходит испытание адом, что вызывает безразличие к самым коренным «людским» чувствам (прежде всего — амбивалентность стыда и бесстыдства в отношении к телу), — и так является некий морок, «творящее ничто», оплодотворяемое духовной любовью, данной как жалость и сострадание — неотмирность и житейская бесполезность, своевольное поведение, детская непосредственность, несистематичность, разбросанность образа мысли и жизни, нищета, убогость, сиротство... [Горичева, Мамлеев 1989]. Не юродство, нет, а вхождение в тайну ничто, отторжение мира явлений в попытках познать конечную тайну Абсолюта — концепта. Неверно полагать, будто «христианская религиозность и святость изначально юродивы» [Тульчинский 1996: 229], поскольку проявления святости есть отрицание верою нравственности. За внешней формой — свои глубины духовности, которые следует разглядеть. Да и русский святой во многом святой русский, в нем явные следы языческой борьбы со злыми силами, которые он видит не вокруг себя, а в себе самом. Обычный ход мысли: персонифицировать зло в ком-то и с ним бороться, истребляя собственный грех, и совсем иное — отважиться на такую борьбу с самим собою. Тут нет объекта страсти, и страдание замыкается на субъекте, перегорает в нем самом, превращая личность в лик.
Но святость индивидуальна. Святой и посредник, и заступник, дело его — увеличить градус Добра, а на такой подвиг не всякий способен, не любой решится. Простой человек боится святости, потому что желать ее — гордыня и грех. И хорошо, что так. Представить святым весь народ невозможно, это «коллективное самоубийство», однако «святость всегда где-то вне личности» [Там же: 221, 232]. Это святая Русь в собирательной энергии идеи.
«Русь называет Хомяков святой не потому, что она свята, а потому, что она живет идеалом святости, потому что русский идеал есть идеал святого прежде всего» [Бердяев 1996: 137]. У святой Руси нет никаких особенных признаков, ее не сыщешь на карте, она вне времен; «Святая Русь — понятие не этническое» [Аверинцев 1988: 219], а этическое.
Вот и тут, как всегда, когда речь о русскости, сразу же всё вплывает в сферу нравственности.
Лев Карсавин [1997] выделял три уровня святости: праведность—святость—священство. Интересно отличие русского святого от святых в иных землях.
Византийская святость суховата, автономна, самодостаточна, русская же — эмоциональна и чувствительна, обнаженно непосредственна [Аверинцев 1988: 230—231]; это противоположность по поведению, и византийская святость ближе к священству.
У евреев святому противопоставлен предатель, у русских — деспот, тиран [Померанц 1994: 96] — это противоположность по деянию. На Западе, говорит Карсавин, святость есть торжественное высоконравственное деяние — овеществленное дело, социально-общественное действие, перед которым преклоняются.
Это ближе к пониманию святости, но святости личной, поэтому и наука изучает «психологию святости» — индивидуальность в святом. Святость у русских есть религиозное чувство поклонения перед тем, что дает избавление, спасает, защищает (молитва, пост, покаяние), не обязательно торжественное, подчас обыденное и почти незаметное служение осуществленной идее, то есть не личная, а соборная святость, которую чтят. Это, конечно, праведность, кенотическая святость, с установкой на непротивление, самоотверженность, жертвенность, очищение в духе и аскезу — «стремление святых как бы изнутри переделать мир» [Клибанов 1996: 97]. Переделать мир идеально — согласно идее. Действительно, для отдельного человека святость есть признание личной причастности к духовной всеобщности — сознательный выбор добра в напряженный момент жизни: Бог или мир.
Поэтому даже в монашестве «почти не видим жестокой аскезы, практики самоистязаний. Господствующая аскеза русских святых — пост и труд. Оттого постничество и трудничество, наряду с подвижничеством, суть русские переводы не привившегося у нас слова "аскеза". Труд чаще всего встречается в виде телесного труда в тяжелых монастырских послушаниях... или на огороде, в поле, расчистке лесной чащи для земледелия. Отсюда, от трудовой аскезы, один шаг для аскезы хозяйственной, объясняющей огромное значение русских (как и западных средневековых) монастырей в системе народного хозяйства... Но хозяйственная жизнь монастыря получает свое религиозное оправдание лишь в его социальном служении миру» [Федотов 1989: 231]. Добавим, что и значение слова труд в своих идеациях сформировалось именно в монастырях, первоначально обозначая «работу» в духовном смысле, труд как духовный подвиг самоотречения.
Исторически русская святость прошла как бы рост — и затухание. Сначала святые — словно натужно рожденные, настойчиво внедряемые в русскую душу, святые официально: Борис и Глеб, Феодосий и прочие. Народ создавал своих святых, и «сонм святых генетически был связан с политеизмом народных верований» [Клибанов 1996: 56]. Происходило заполнение конкретными лицами идеально святостных позиций: святой как целитель, святой как заступник, святой как покровитель земледелия... Почитание первообраза в святости, потому что святость в религий почиталась как гениальность в культуре (слова Георгия Федотова).
«Возрастание русской святости идет особенно к веку XV-му, это век расцвета, а затем — падение святости в силе и энергии, с завершением в XVII в.» [Федотов 1989: 230].
Процесс развития святости совпадает по времени с процессом идеации в слове; в обоих случаях речь идет о насыщении символов смыслом на основе созданного ментализацией словесного знака. Но идеация осуществляется в слове, а сгущение святости — в деле.
Также и «мистика, как в смысле созерцательности, так и особых методов "умной молитвы", не является характерной для русской святости. Быть может, она менее свойственна ей, чем святости греческой или католической. Но нельзя забывать, что величайшее столетие русской святости (XV в.) проходит под знаком мистической жизни и что у истоков ее стоит не кто другой, как преподобный Сергий. Вместе с тем, иссякание этого потока означало вообще обмеление святости. Однако это мистическое направление сказалось у нас весьма прикровенно — настолько, что, если бы нашелся критик, пожелавший начисто отрицать существование русской мистической школы, его трудно было бы опровергнуть: настолько тонки, почти неуловимы следы ее» [Федотов 1989: 231] — столь «прикровенно» ушла традиция эта в подсознание русского, воспитанного в атмосфере всеобщей идеации жизни когда-то, не в былинные, но в песенные времена.
Так что русская святость — символ совести, это «путь к свету» (Семен Франк), «внутренний путь духа в душевном труде совести», поэтому русский народный идеал — личная святость, а не общественная справедливость (Владимир Соловьев), и «мало быть честным, мало быть добрым, нужно быть чистым, нужно быть святым» (Николай Страхов). Необходимы столь высокие порывы духа, что становятся ненужными мирские страсти и страдания («она — уже не человеческое состояние» — Николай Бердяев). Святость не может стать «внутренней энергией» личности, поскольку святость — знак совести, которая и есть такая энергия: «Гении творили, но недостаточно были; святые были, но недостаточно творили» (Бердяев).
Русская святость — это святое. Этот «идеал веками питал народную жизнь; у их огня вся Русь зажигала свои лампадки. Если мы не обманываемся в убеждении, что вся культура народа, в последнем счете, определяется его религией, то в русской святости найдем ключ, объясняющий многое в явлениях и современной, секуляризированной русской культуры» [Федотов 1989: 5].
Русская святость — инверсия греховности: самые святые считают себя особенно греховными в мире людей; так «морализм преодолевался святостью» [Горичева 1991: 37]. Как и в других случаях, завышенность требований к себе здесь определяется тем, что на Руси нормой искупления почитают не грех, а именно святость — маркирована она, и поэтому к ней стремятся. Не просто одолеть греховность, но достичь святости. Это инверсия личного чувства в отсветах соборной идеи. Но так и разум понимает себя в безумии, так красота высвечивает в юродстве, так истина предстает в разноцветье личностных и субъективных правд.
О русских святых написано много книг. О каждом святом и обо всех вместе. Но есть формулы русской святости, которые заключают в себе суть лика; имеются проникновенные истолкования метафизической сущности русского святого.
«Святое есть непорочное; святое есть полная правда; святое — оно всегда прямо. Я не умею иначе выразить, как сказав, что святое есть настоящее» — формула Василия Розанова. Метафизическую сущность святости выразила Татьяна Горичева: святые указывают пропасть между идеалом и действительностью — и пытаются преодолеть эту пропасть. Именно так. Настоящая святость реально-реалистична. Она исходит из слова-Логоса с тем, чтобы преодолеть эту пропасть между идеей и миром.
Герой
Иван Солоневич [1997: 149] выразил народное представление, выступая против проявлений «геройства», поскольку героическое чаще всего есть средство исправить ошибки и разгильдяйство, допущенные при подготовке к делу. Воспевать героя — значит восхвалять случайность. Однако войны — часть нашей истории, а тут без геройства не управиться. Да и случайности тоже случаются.
В русском сознании каждое слово, передающее смысл, с войнами связанный, отмечено отрицательным оттенком: война — ошибка (корень вина), битва — битье, рать — нападение (реть — яростное стремление), сражение — страсть падения (по-ражения), драка — раздирание и раздор — и десятки иных, уже позабытых; даже сладкое слово победа дышит горестью, потому что случается по беде, после большой беды.
«Наши войны, — продолжает Солоневич, — по крайней мере большие войны, всегда имели характер химически чистой обороны. Так же, как германские — завоевания и английские — рынка. Не потому ли на трех языках термин война так близок терминам: добычи — в немецком (der Krieg — kriegen), торговли — в английском (the war and the ware) и бедствия — в русском (вой и война)! Все великие завоевания кончались на нашей территории — и нашей кровью. Завоеватели выигрывали мало — но не так много выигрывали и мы. Однако все-таки больше» [Солоневич 1991: 151]. Мы побеждали в своем героизме. Поразительно для иноземца то, что «русские любят возводить своих героев в сонм святых» (Кюстин), но это как раз понятно. Святому противопоставлен герой (С. Булгаков), который свят вспышкой подвига — но не упорным подвигом самодисциплины, который покоится на вечном служении идеалу. Возводя героя и гения в ранг святого (а русская святость есть праведность), русское сознание продлевает миг их подвига в вечность, подвиг превращает в подвижничество. «Подвиг есть творчески свободный акт» (Николай Лосский), и признаки его совпадают с признаками подвижничества, не противоречат тому, что долженствует, сверхнормальны в избыточности добродетельности и добровольны (Питирим Сорокин). Различия между ними имеются: «Героизм как общераспространенное мироотношение есть начало не собирающее, но разъединяющее, он создает не сотрудников, но соперников» (Булгаков), в отличие от святости — силы соборной и духовной. Герой всегда мыслится в единичности, это индивидуум; святость же соборна, она создает личность. Святой воплощает совесть, герой — честь.
Совесть, в отличие от чести, духовно личностна. Это приобщение к со-зна-нию, к идеальному. Честь материализована в части-участи как возможность разделить участь всех, и честь выступает как материальная награда. Только совместно герой и святой воплощают единство идеи и мира — чести и совести, что также согласуется с русским «реализмом».
Восходящие и нисходящие линии от идеальной (категориальной) схемы философского реализма породили два важных для русской ментальности Нового времени понятия. Движение вверх, к идеально главному, от святого и героя как личностей, в диалектическом соединении их (в синтезе) дало категорию Всеединство, а движение вниз, к основному, от идеальных чести и совести, в диалектическом их единстве дало категорию Соборность. Всеединство человеческого идеала и соборность в его проявлении и предстают: личная совесть как выражение всеобщей чести.
В отличие от святого герой существует не в со-стоянии, а в со-бытии. Мы говорим о со-бытии сущему в явленности предметно-вещного. И тут другое отличие от святого, который самодостаточен. Герой действует на каком-то фоне, предметном или идеальном.
Другой субъект, иные предметы, явления и всё остальное в телесности вещи составляют собою тот фон, на котором представлен герой.
Например, в народном мифе о герое пространство повествования заполнено вещами, и через вещи само пространство ощутимо, зримо, явлено. В народном тексте герой недвижим, поскольку именно он и есть в контексте единственный идеал. Динамика героя передается через изменения фона. Сам герой застыл, но всё, что вокруг, изменяется, движется, разрастается. Былинный герой застыл — но как бы летит на борзом коне, пропуская «меж ног» горы, долины и реки. Также и путник в древнерусском «Хождении» невидим стоит, но вокруг него, сменяя друг друга, проходят святыни, люди, предметы и города.
Описывая последние дни своего учителя, игумена Пафнутия Боровского, монах Иннокентий дает образ умирающего старца недвижным, сосредоточенным на молитве, радостным перед кончиной — но мир вокруг в движении: приходят и уходят люди, купцы, князья, совершаются события, имеющие отношение к игумену, но он безучастен к ним, хотя движением внешнего мира описываются состояния героя и видно, как развивается в нем внутренняя его жизнь.
Совсем иначе в современном тексте. В повести Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича» герой умирал «и потому постоянно испытывал страдание», которое автор описывает через самого Ивана Ильича, с его точки зрения оцениваются и все события вокруг. Здесь не «вещи играют» героя, сам герой «проигрывает» все вещи, субъективным ощущением угасающего рассудка воссоздавая мир, каким он, быть может, и не был. Так изменилось отношение к «герою». «Герой нашего времени» не героичен — в русском понимании геройства. Только «любовь к отечеству родит героев» (Чаадаев), и «трагичен только сильный герой» (Горичева), только (еще раз «только») святой и герой создают идеал, их отмена в жизни трагична, поскольку может «уничтожить личность и духовность как высшую ступень в иерархии ценностей» (Вышеславцев). Но самое главное даже не в этих признаках героического. «Велик и благороден подвиг всякого человека на земле: подвиг русского исполнен надежды» (Хомяков).
Надежды на то, что был не напрасен.
Основные концепты, связанные с героем как типом русской жизни, описаны в понятиях судьбы, свободы, долга и воли, аскезы и славы: «герой всегда человек судьбы» [Сопронов 1997: 467].
Не следует путаться в значениях смежных терминов. Богатырь и рыцарь вовсе не герои, вернее — не всегда героичны. «В России теперь на всяком шагу можно сделаться богатырем, — говорил Николай Гоголь. — Всякое званье и место требует богатырства». Речь о силе и мощи, но не всегда — о судьбе и свободе.
Тоска по отсутствию рыцарства на Руси стала сквозной темой у Бердяева, Ильина и других. Иван Ильин [7: 486 и след.] заклинает нас: «Спасение России — в воспитании и укреплении русского национального рыцарства». Признаки рыцарства, перечисленные Ильиным, совмещают в себе две крайности русского идеального типа: героя и святого, которые даны как воплощение деловитого профессионализма на службе у заземленной идеи. Рыцарь больших дорог тоже рыцарь в этом смысле. Дон Кихот, Робин Гуд, рэкетир... Измельчание типа происходит оттого, что сам тип уже огрузнел в самодовольной телесности, стал практичным, осмотрительным и коварным; он «служит добру» только если это не входит в противоречие с нуждами собственного его «добра».
Впрочем, понятия о рыцарстве тоже глубоко своеобразны. И «русская нация — рыцарская нация — только ее рыцарство не показное и не для показа, а внутреннее, духовное. Не для награды из рук красавицы они совершают свои рыцарские подвиги... а во имя наказания наглеца и зверя» [Ковалевский 1915: 47].
Константин Аксаков выразил мысль справедливо: «русский народ не любит становиться в красивые позы», и не крестовый поход составляет высшую цель русского героя; его влечет не мир условностей, не Зло на службе у Добра. Так и случилось, что «в России разбойник оставался разбойником. В Европе разбойник стал рыцарем» [Гиренок 1998: 91]. Да, «очень часто и русский герой хитер, но опять же по-детски хитер», — говорил Иван Ильин; хитер, возможно, как же без хитрости, ведь это и есть «профессионализм», — но не жесток, не злобен, не коварен, не алчен. Стоит ли продолжать перечень признаков, которых нет у героя русского?
Мудрец
Три степени разума: рассудок—ум—мудрость — в древнерусском представлении являлись в ином порядке и в другой степени нарастания интеллектуального напряжения личности: ум — розум (церковнославянское разум) — мудрость. Слово рассудок еще не известно. Рациональность рассудка — приобретение XVIII в.
Исконно этимологические значения слов долго сохраняли внутреннее соотношение между ними: ум как проявление чувства в со-знании, первая степень всякого действия мыслительной способности человека, или, как говорит Владимир Даль, ‘способность мыслить’, противопоставленная другой способности человека — воле (в просторечии и слово ум довольно часто используется в значении ‘воля’). Раз-ум, то есть сверх-ум, уже не способность, а ‘духовная сила, могущая помнить (постигать, познавать), судить (соображать, применять, сравнивать) и заключать (решать, выводить следствие)’. Это не просто рациональность здравого смысла, но intellectus, сила более возвышенная, поскольку и разум есть соединение ума и воли. Ум и разум близки друг другу как способность и как сила такой способности и одинаково противопоставлены мудрости как чисто интеллектуальная, рациональная особенность души. В славянском переводе «Ареопагитик» конца XIV в. «ум за разум» заходит, как солнце за луну; «умное око» взирает чрез «око телесное» [Колесов 1991: 211]. Еще Аввакум Петров три века спустя почитал это «умное око» как проницательный зрак божества.
Мудрый, по определению Даля, есть ‘основанный на добре и истине; праведный, соединяющий в себе любовь и правду; в высшей степени разумный и благонамеренный’. Если мудрость основана на истине, благе и любви, то Премудрость (София) есть со-едннение истины, блага и любви, слияние их в высшем состоянии умственного и нравственного совершенства, недоступного человеку. «Несть мудр, иже много умеет, но иже много блага творит» — читали наши предки в тексте, переведенном с греческого в XI в.
Понятие о рассудке позднее дало представление о разуме, который ближе к уму, чем к мудрости, — этот пресловутый здравый смысл, потому что рассудительный человек — здравомыслящий, не более того.
Итак, что же у нас получилось?
Получилось усиление степеней качества, одного и того же, но на каждом повороте обогащенного оттенками, поэтому можно видеть такую последовательность: способность физического чувства (ум) > интеллектуальная сила (разум) > этически окрашенное интеллектуальное действие, ведущее к праведности (мудрость). Или иначе: простое восприятие и способность обнаружить образ мира (во-образ-ить его) > заключать на его основе в понятии (понять, ухватить его смысл) > способность истолковать глубину символа. Последнее доступно мудрому. Такова последовательность в напряжении мысли — оперативный, тактический и стратегический ее уровни. Восхождение от вещи к идее, потому что (если воспользоваться словами Нила Сорского) «восходим» в мысли (строим «схваченное» в понятии), «нисходим» в чувстве (образ-уем образ).
Мудрость — высшая степень человеческого разума, способного разгадать, изложить и сохранить символ. Хранитель культуры, но только данной культуры, системы ее символов как они заданы традицией. Новая идея никогда не достигнет степени мудрой.
А Мудрец — это жизненная проницательность, гениально-умные идеи, которые «всегда удивительно просты, живы, конкретны и трезвы», потому что Мудрецу присуща «благородная простота», этот вечный спутник истины [Франк 1996: 252—253].
Осталось добавить, что слово мудрец в древних текстах встречается редко, обычно сказано просто: мудрый муж. Определение мудрый долго остается предикатом не абсолютного смысла, потому что и народный тип мудреца еще не сложился. Это скорее понятие, выраженное аналитически: содержание — прилагательным, объем — существительным. Тип не сложился потому, что символа пока нет.
Но образ его имеется, он выражен Далем: «Мудрец — человек, достигший ученьем, размышлением и опытностью до сознания высших житейских и духовных истин». Другими словами, только мудрец способен соединить постоянно разбегающиеся векторы идеи и дела, соединив их в слове.
Царь
Основной принцип символа Царь состоит в том, что это высший авторитет власти. Каждый высший чиновник в России прежде всего стремится захватить себе пост «царя», претендуя на такой вот авторитет. Но лидерство мы принимаем только от «своих», говорил Бердяев; «можно жить среди русских и не принимая их веру», но тогда не следует претендовать и на лидерство [Бердяев 1996: 48].
Без всяких комментариев покажем отношение к идее «царя» в некоторых классических текстах, постоянно помня слова Бердяева о том, что «идея царя не государственная, а народная».
Конечно, вера в царя — «это бред, которого не поймет и не простит мне интеллигенция, но это было стихийное чувство русского народа, на котором строилась русская государственность», — писал Сергей Булгаков. «Можно понаблюдать за своеобразным духовным процессом обмена между царем и народом: образ царя формировал и укреплял правосознание народа, а образ народа облагораживал и формировал правосознание царя. Так проявлялись обоюдно любовь и доверие, диктуемые инстинктом самосохранения нации, укорененные в общей христианско-православной вере и совести» [Ильин 6, 2: 582].
«Русский царь, по народным понятиям, не начальник войска, не избранник народа, не глава государства или представитель административной власти, даже не сентиментальный Landesvater или bon pere du реирlе, хотя в двух последних типах и есть кое-что напоминающее великорусский идеал царя. Царь есть само государство — идеальное, благотворное, но вместе и грозное его выражение... Царь должен быть безгрешен; если народу плохо, виноват не он, а его слуги... Девиз царя: «не боюсь смерти, боюсь греха», и горе народу, когда согрешит царь, потому что если «народ согрешит — царь замолит, а царь согрешит — народ не замолит» [Кавелин 1989: 221].
«Огромное значение для душевной дисциплины русского народа имела идея царя. Царь был духовной скрепой русского народа, он органически вошел в религиозное воспитание народа. Без царя не мыслил народ никакого государства, никакого закона, никакого порядка, никакого подчинения общему и целому. Без царя для огромной массы русского народа распалась Россия и превратилась в груду мусора. Царь предотвращал атомизацию России, он сдерживал анархию. Царь же охранял культурный слой от напора народной тьмы, не нуждавшейся в высшей культуре. Или царь, или полная анархия — между этими полюсами колеблется мысль народная. С царем была связана и народная церковная дисциплина. Когда была вынута идея царя из души народа, душа рассыпалась, исчезла всякая дисциплина, всякая скрепа, все показалось дозволенным» [Бердяев 1991: 21].
Именно Царь как идея вождя, способного возглавить общество в тяжелые времена, и нужен был в русской истории, поскольку к индивидуализму русские не очень уж привержены, в своей соборности даны как единое целое. Идеальность Царя в том, что он единит народ, а уж если и царь подгадил — все летит кувырком. И в начале прошедшего века (XIX. — В. К.), и в его конце. Так что это — беда, и «русские цари были очень плохими поставщиками какого бы то ни было материала для легенд. И даже для тех исторических лозунгов и афоризмов, которые обычно редактируются новейшими летописцами и историками. Это был очень длинный ряд высокого качества средних людей...» [Солоневич 1991: 421].
Но речь идет не о лицах, а о концепте культуры, о типе, в конце концов — об идее царя, потому что только идея для русского реалиста является и душой, и «скрепой», и всем остальным, о чем так тревожно писали русские мыслители прошлого.
Когда осуждают русского человека за мечты о «хорошем царе», не следует забывать, что это мечта — мистическая идея, а не чахоточно-декоративные европейские государи.
Неприятие власти как неугодного и грязного дела подтверждалось многими священными текстами. Об этом вспоминает А. А. Потебня [Потебня 1894: 5—6], приводя басню из Книги Судей. Ни маслина, ни смоковница, ни виноградная лоза не пожелали царствовать над «деревами», ссылаясь на занятость делами, более полезными «для людей и богов», и «царскую власть принимает самое негодное из растений, именно терновник», который (и в этом ирония) призывает всех идти «покоиться» под его чахлой тенью.
Вообще «идея царственного достоинства во вселенной... является глубоко семитской» [Шпидлик 2000: 74] и на Руси явилась в исторически определенный момент, совпавший с построением Московского царства и сакрализацией Ветхого Завета (конец XV в.), до того не принимаемого русским православием. Религиозная и политическая устремленность власти совпали в конструировании символа Царя. В обилии достоверных цитат Б. А. Успенский [1994: 110—218] приводит исторические свидетельства сакрализации царя, и она «становится фактом церковной жизни и религиозного быта русского народа» [Там же: 173], поскольку на царя были перенесены и функции главы церкви.
Символ царя наложился на образ вождя и породил понятие о высшей земной власти, к которой можно апеллировать только непосредственно (на ты), и тогда она откликнется.
В. В. Шульгин [1994: 149—150] указал достоверную причину этого: «Взаимоотталкивание русских (как отдельных лиц. — В. К.) при явно выраженной их же любви к русскости (как общей идее лика. — В. К.) требует видимого и осязаемого вожака, чтобы они шли не для себя „вбок“, а для „русскости“ — „вверх“. Без вожачества на Руси воцаряется хаос, именуемый некоторыми „русской общественностью“, а другими — „российской демократией“». И то и другое пагубно, полагал публицист и историк Шульгин, особенно в нынешние времена «фашизма», потому что «государь, который хотел бы выполнить царево служение былых времен (то есть выловить из народа все творческое, отринув разрушительное), должен быть персонально на высоте положения», т. е. и лично на уровне лица, а не только идеально как царь. История показывает, что таковых случилось не много.
Постоянное несовпадение провиденциального Лика и убогости конкретного лица создавало неустойчивость самого символа. «В Царе есть кусочек Провидения. — Этого кусочка бойся», — в «сумерках просвещения» бормотал Розанов. Другие кусочки можно и обгрызать...
Психоаналитик в соотношении «царь—народ» высматривает проявления патернализма («связь с отцом»), царь идеализируется в официальной иерархии как носитель высшей власти, намерения и идеи которой народу непонятны: японец, американец и другие знают волю вождя и исполняют ее, даже не советуясь с ним; русский не знает воли своего вождя, пока тот ее не объявит [Горер 1962: 168]. Разведенность сакральной и мирской власти в ее представителях (царь—чиновник) приводит к постоянным метаниям между полюсами оппозиции «царь—народ», и куда бы ты ни метнулся, тебя ждет чиновник с вороватым взглядом и оттопыренным карманом. Не случайно среди многих «типов» русской жизни нет «ответственных лиц» — чиновников, исполняющих роль посредников власти. Это тоже не русский тип, но к тому же и, безусловно, враждебный тип.
«Чиновник съел всё вдохновение на Руси. Всё вдохновение на Руси.
Чиновник дьявол.
Дьявол бессилья.
Он к тому же и техник. Техника в жизни? — Умерщвление жизни» [Розанов 2000: 122].
Христианский символ царя абсолютен — языческая суть вождя относительна. Это — «неформальный лидер» современного социума: эквивалент царя-государя в обществе. Царь и вождь в одном лице совпадают редко.
«И феномен вождизма в политической культуре также сформирован языческими импульсами, требующими безусловного утверждения культа силы — культа политического вождя», — это, конечно, «языческое ослепление» [Василенко 1999: 77]. Но феномен царя-символа, внедренного в русскую ментальность, служит свою службу государственным интересам, и сегодня «власть может обновляться, не меняясь по существу» [Василенко 1999: 79], чему примеров приводить не надо.
Что же касается вождя, то «вождем можно быть лишь тогда, когда-либо „толпа“ покорно следует за тобой, либо ты сам приспособляешься к толпе. Но абсолютно покорной толпы не существует, и потому вести других всегда значит идти с другими, приспособляясь к ним. Без приспособления нет „вожаков“» [Струве 1997: 235]. Представитель другого направления русской мысли думает так же: «Никто не может быть вождем на необитаемом острове... Раньше всего нужна масса. Наличие вождя зависит от наличия массы. И качества вождя зависят от качества массы — с некоторыми поправками на „исторические случайности“» [Солоневич 1997: 159]. Любопытно это соединение вождя с толпой и массой — или это случайности выражения?
Вождь ведет толпы в телесной их массе — идеальный царь соединяет народ.
В этом и вера в «царя», которого — «доброго» — ждут столетиями.
«Царствование Царя трагично. И — всякого Царя. Это сплошь великое и ответственное. Ничего нет труднее и должности Царя. Это — пост, на котором невозможно не трепетать» [Розанов 2000: 135].
Мастер
Мастер своего дела — идеал трудовой. Иногда говорят, что это идеал профессии, и с этим можно согласиться. Идеал, одинаково свойственный и ученому (магистр), и художнику (маэстро). И латинское, и итальянское слово одинаково передает впечатление о хорошо, красиво выполненном деле.
Но «Домострой», в котором слово мастер впервые встречается в современном значении, понимает смысл его как ремесло, а не как профессию, это
"рукоделье, рукомесло, ремесло; уменье, искусство", как говорит Даль с полным знанием дела. Прежде в том же значении использовали слово хитрость — книжная хитрость, конная хитрость ратных людей и т. п. Идея ловкости, ладности, идеальной «схваченности» в законченной работе присутствует в древнейших определениях слова хитрец: умный делатель, по смыслу корня — хваткий, способный к делу. Когда особо ценилось дело, а не мысли о нем, и слово было другое, и всё вообще понимали иначе.
И совсем не важно, кто по профессии: и писатель Епифаний, и иконный мастер Андрей Рублев, и златокузнец, — все мастера, если в деле своем достигли высокого искусства, если каждый из них — мастерый, искусный в своем рукоделье, прошел все искусы опыта и искушения дела.
В присущем насмешливому русскому уму стиле может явиться и мастак — ‘дошлый делец’, дока не в самом хорошем и надежном смысле слова, но тоже при деле. Мастеровитость скорее ремесленничество, чем мастерство.
Часто пишут об особой лени русского человека, о том, что дело у него всегда где-то на пятом месте. Вот и в литературе, мол, не воспет светлый облик мастера, настолько неприятен он русским. Это всё неправда. И воспет, и ценится. Но вот беда: посредством слова вещи не передать: как описать конкретное дело? Пробовали — скучно. Да и «вещь» в противопоставлении к «идее» (вспомним формулу русского реализма) все-таки не индивидуальность конкретной вещи, а тоже вид, и, следовательно идея. Воспевать конкретно связистов или хирургов не задача художественной литературы, которая описывает мир человека, а не мастерство специалиста. И трудовая его деятельность при этом выступает как фон, как точка отсчета. В быту присутствует не идеал бытия, а именно идея. Да и святой — разве он вне дела? Другая плоскость бытия — не отсутствие бытия.
Мастер непременно и трудник. Трудник, по определению Даля, — это обреченный или сам обрекшийся на тяжкие труды, подвижник, мученик, трудящийся неутомимо.
«Трудящийся неутомимо» — ленив ли?
Государь-хозяин
Как тип русской жизни государь описан уже в текстах «Домостроя». Это тип, который имеет ранг «господина» (господарь одновременно и господин, и государь) и от которого ведут свою родословную как титул русского государя, так и сокращенное в бытовом разговоре обращение к равному: сударь! Слово полузабытое, сохраненное только в женском варианте сударыня, да и то лишь в насмешливом тоне.
Когда тоскуют о русском хозяине, в самый раз припомнить и это слово.
«Хозяйское ценение хозяйства» есть этика, а не экономика, поскольку «хозяйское ценение проникнуто мощным импульсом к Абсолюту» [Савицкий 1997: 233], устремлено к идее Блага во всех его компонентах — истины, добра и красоты. Добрый хозяин, хозяйская воля, хозяйский глаз — расхожие выражения, передающие смысл русского отношения к «хозяйнодержавию»: не корысть, а сохранение во времени природно-родового.
«В крестьянском быту эта истина еще видней, чем в нашем; у них богатый хозяин и хороший человек — синонимы», — настаивал Николай Гоголь.
В русском представлении еще и XIX в., согласно Далю, хозяин — владетель чего-либо, т. е. собственник, и властный распорядитель в доме, в семье — относительно слуг, жены и детей. Хозяин — авторитетный представитель Дома, а «по хозяину и собаке честь». Татарское слово хозяин вытесняло в быту коренное славянское государь, специализируясь в обозначении властных прав в сфере производства, а не политики. В конце XV в. Афанасий Никитин слово хозя употреблял в прямом значении ‘господин’ (то же, что и ходжа), а в русский быт попадает оно поздно. Тем не менее тип хозяина, как он сложился в русском обществе исторически, от уточнения новым термином не изменился никак. Целиком русский тип, и Владимир Соловьев [1988, 1: 412] определил его очень точно: «В силе остается общее требование разума и совести, чтобы и эта область („действующие экономические законы“. — В. К.) подчинялась высшему нравственному началу, чтобы и в хозяйственной своей жизни общество было организованным осуществлением добра». Добрый человек и хороший хозяин — синонимы. Слиянность смысла в концепте «человек-хозяин» старообрядцы сохранили в веках и вынесли в строительство «экономического общества» России XIX в.
В. О. Ключевский в своих трудах показал, что в хозяйственной страде «складывался великорусский характер». Этой направленностью своего исследования Ключевский отличался от историков советского периода, для которых «экономический базис» оказывается оторванным от человека. Человек и хозяин представлены как отдельные типы. Такими же разграничениями грешили и русские эмигранты. Георгий Федотов полагал, что в пространстве существует «две России»: «Что разделяет людей, так это два типа, два идеала жизни: меньшинство живет запросами духа, большинство — хозяйственными злобами дня». Есть добрый человек, и есть хороший хозяин, который «сидит на хозяйстве». Какие последствия из этого вытекали — мы знаем.
Публицистические перегибы в известной мере исправлены в глубоких обобщениях «философии хозяйства» «русской цивилизации» [Булгаков 1990; Франк 1991; Платонов 1994]. В сжатом изложении русский концепт «хозяин» («хозяйство», «хозяйничать») можно представить так (в кавычках приведены некоторые высказывания названных авторов; их точка зрения на проблему совпадает, поскольку раскрывает концепт объективно).
Представление о хозяйстве исходит из принципа жизни. «Есть только жизнь, и все, что существует, существует лишь в свете жизни», тогда как вещи суть «минус жизни». Хозяйство направлено «на целое жизни», ведется борьба за жизнь с враждебными силами Природы — это и есть хозяйство.
Хозяйство как жизнь.
«Путем хозяйства Природа опознает себя в человеке», «хозяйство есть творческая деятельность человека над природой», ибо требует замысла (свобода изволения) и мощи (свобода исполнения). В этом проявляется софийность хозяйства — «оно насквозь пропитано духовными энергиями человека». Исполняя волю Божью, человек в со-творчестве с Богом не творит новой жизни в мире (жизнь дана уже), а сохраняет ее.
Хозяйство как творчество.
Всеобщее предположение хозяйства — родовой, или исторический, принцип этой деятельности. Субъектом творчества является не индивид, а род, и творит не в данный только момент, а во времени. Вообще «человек существует лишь как вид или род», и потому «знает один, познают многие»; хозяйство же и есть «знание в действии, а знание есть хозяйство в идее». Русский «реализм» в полном виде: человек как тело — Человек как идея, в единстве их проявлений, данном в общем слове. К тому же «хозяйство есть иерархическая система, — уточнял Франк. — Его нельзя мыслить себе атомистически. Оно не может быть ареной борьбы всех против всех. Всякое хозяйство есть организованный труд, есть регуляция стихийных сил. Хозяйство есть взаимодействие рациональных и иррациональных сил».
Хозяйство — средство видеть мир родово.
«Хозяйство есть трудовая деятельность», и «мир как хозяйство — это мир как объект труда, а постольку и как продукт труда». «Труд, и притом подневольный, отличает хозяйство» — но только тот и живет, кто трудится. Иллюзия несвободы — не от собственности, а оттого, что часто «надо» и нельзя освободиться через «не хочу».
Хозяйство — труд, от которого невозможно освободиться.
Основные функции хозяйства — потребление и производство: «жизнь есть способность потреблять мир».
Хозяйство — причащение миру.
Постоянное моделирование или проектирование действительности дает возможность объективировать свои идеи, и мир возникает для нас лишь как объект нашего действия. Труд как действие-предикат соединяет субъекта и объект, человек становится в отношении к миру.
Хозяйство — свершение идеи в мире объективного.
Дух хозяйства — свобода во времени; это организм, а не механизм. Живое невозможно разъять научным анализом, наука омертвляет жизнь, если не исходит из жизни.
Не «мой» и «мое», а высшая правда, объект справедливости в хозяйстве. Личная жадность, алчность нарушают цельность человека, который есть «воплощенный дух»; целое логически существует прежде своих частей. «Для хозяйства имеет значение аскетическая дисциплина личности, и известного рода аскетика необходима для хозяйственного труда. При полной распущенности личности разрушается и хозяйство».
Хозяйство формирует цельность личности.
И тогда наступает победа: «победа хозяйства выражается в космической победе красоты».
Такова основная установка: жизнь и свобода в красоте труда.
Так что сказано справедливо: «Русская модель экономики существовала как определенный национальный стереотип хозяйственного поведения... устойчивая система представлений, опирающихся на традиционные народные взгляды» [Платонов 1994: 75]. Народные взгляды сформировались как представление о том, что хозяйство — духовно-нравственная категория (Дом), что для него характерен замкнутый цикл работ («беззаботность» — спокойствие трудового человека, рассчитывающего на собственные свои руки), что только трудом достижимо благосостояние. Нестяжательство (способность к самоограничению), трудовая и производственная демократия, преобладание моральных форм понуждения к труду над материальными, отношение к собственности как к функции труда, а не капитала («презрение к процентщику») — таковы основные качества русского представления о настоящем хозяйстве. Способствовали тому и черты характера: чувство меры, практический расчет, самообладание, трезвость характера и сила воли. Богатство — средство делать добро, да и не богатство делает добродетельным.
Добродетель — это труд.
Простец и простак
Самый неопределенный по характеру тип, тип классически «простого человека», который не является ни героем, ни святым, а предстает скорее как обычный житель, пребывающий в земных заботах; тем не менее он чувствует недостаточность своей практической деятельности — но не знает как восполнить ее идеальным, в котором он нуждается и которое ощущает в своей душе.
Простой по коренному смыслу слова — ‘открытый’ навстречу всем влияниям и зависимый от обстоятельств жизни. Обыкновенный — потому что живет по сложившейся привычке, при-обвык-ся и ни на что не претендует. Он, как толкует исходное слово Владимир Даль, ‘ничем не занятый, сам по себе’, не сложный по натуре, но и не слишком прям, чтобы сгибаться дальше. Не царь, не Бог и не герой, не святой, не юродивый, и не странник перекати-поле. «У русских ярко выражено пристрастие к тому, что просто. Мы скупы на словах» [Гиренок 1998: 152].
Короче, это тот простой человек, тот народ, о котором Иван Солоневич [1997: 229] сказал: «Я видел в России простой народ, но я не видел простонародья». Это человек из массы, который не имеет своих отличительных признаков, и всего удобнее было бы показать его в сравнении со столь же неопределенным по наличным признакам представителем другого народа, ключевые признаки национальной ментальности которого фиксированы внятно и описаны исчерпывающе.
Анекдоты и жизненные факты сравнивают русского простеца с немцем, французом, англичанином и т. д., но где мы возьмем немца, француза, англичанина, живущих среди нас? Необходимо ведь сравнить два типа простеца в общем контексте жизни, сравнивать не идеи (которые идеальны), а действительность, которая у всех на глазах.
С обобщенными разнонациональными типами мы потом и сравним простеца.
А сейчас важно заметить, что бывает простота сердца и простота ума. Простец не так прост: кроме простеца есть и тип простака. Простота ума — откровенное сумасшествие, это «простец по природе» — он умственно пуст, его описание в компетенции психиатров. Простота же сердца — это о простаке.
Простак отличается прямотой, искренностью, откровенностью.
Разница между простецом и простаком не такая уж и большая. Доверчивый и простодушный простак, как ясно по смыслу слова, в еще большей степени простая, открытая душа, но и он совсем не дурак, не юродивый, не самозванец, не... В том-то и дело, что всюду он «не», а потому незаметен в толпе, теряется в массе, его черты ускользают из внимания тех, кто «создает характеры» и говорит о них.
«Первою их добродетелью считается, совершенно по-восточному, устраниться от зла и соблазна, по возможности ни во что не мешаться, не участвовать ни в каких общественных делах. „Человек смирный“, „простяк“ — это человек всеми уважаемый за чистоту нравов, за глубокую честность, правдивость и благочестие, но который именно потому всегда держит себя в стороне и только занимается своим личным делом: в общественных делах или в общественную должность он никуда не годится, потому что всегда молчит и всем во всем уступает. Дельцами бывают потому одни люди бойкие, смышленые, оборотливые, почти всегда нравственности сомнительной или прямо нечестные» [Кавелин 1989: 474].
Но русский простец — это часто маска, под которой скрывается брезгливый к суетности мирской человек. Не желает привлекать к себе суетного внимания. «А что взять с нас, простецов?» — вопрошал Михаил Пришвин, в своих дневниках описавший тип русского простеца. К символике слова простой он возвращался постоянно. Это слово обсуждается в разных контекстах как исключительно важное, с помощью этого слова Пришвин постепенно выясняет признаки Единого и Цельного концепта «простого русского человека». «Я скорей всего прост и глуп, как Иван Дурак», — а Иван Дурак — открытая душа, жизнерадостный, «качественный», спокойный и твердый в своих понятиях человек. Такой простец — не мещанин, не обыватель он именно потому, что каждый шаг поверяет «высоким» (идеей блага), оправдывая свое поведение общей идеей ценности. Конечно, со стороны это «средние люди», которые и живы-то тем, что имеют смелость жить вопреки всему, всем бедам и горестям, что преисполнены «простотой чувства радости жизни».
Конечно, у Пришвина русский простец далеко не простяк либерала Кавелина. Это тип, укорененный в жизни; человек, который вприщурку вглядывался в своих героев, святых и царей, назначая им цену в соответствии с тем, насколько они оправдали на деле возвышающую их идею.
И в таком случае, может быть, прав В. Н. Топоров со своей этимологией слова прост-ъ как pro-st, с приставкой про- ‘вперед’ и глагольным корнем ст-оять. Прост — прямен, открытен, непринужденен, т. е. свободен в своем выборе. Простота — самостояние вопреки всему. Воля и мудрость, слитые воедино, всем бедам назло.
Самозванец
«Самозванство — чисто русское явление», — говорил Бердяев. Словечко «сам» находилось в центре внимания славянофилов, о «самости» русского человека пишет и современный философ [Гиренок 1998: 133—134]. Самозванство — проявление русского политического радикализма, и самозванец не просто добивается власти, он стремится утвердить ее законность в глазах народа, именно потому, что существует вера в магическую сакральность законной царской власти [Василенко 1999: 80].
Исходный смысл слова понятен, но требует осмысления. Сам по исконному смыслу — ‘тот же самый’, так что и самозванец, хоть и по собственной воле заступает чужое место, но объективно, по стороннему взгляду извне, является «тем же самым», за кого себя выдает. «Было бы корыто — а свиньи найдутся!»
«Тихие думы» навеяли Сергею Булгакову мысль о слабом месте самозванца: дело не в том, что кто-то верит в него, а кто-то и нет; хуже, что самозванец себе самому не верит. «Ибо самозванец знает эту свою тайну, как знает про себя и сам отец лжи, что он бездарен и пошл, — но не хочет знать этого, старается забыть и забыться. И не может. Отсюда надрыв и тоска — вечный его удел» [Булгаков 1918: 55].
Тут сказано всё и добавить нечего. Пошлость самозванства — в подмене лика личиной. В абсолютности телесного, вне его соответствия с идеальным.
Русское представление о самозванстве идет издревле, оцениваясь как проявление личностного начала, как выламывание из общего ряда с единственной целью — стать над всеми и всем. «Интриган и ловкач не на своем месте» — так понимает самозванца Александр Панченко.
Однако всегда в русских типах скрыта тайна двойничества, амбивалентность их качеств, не только плохих или только хороших. Тайна, символически данная в самом этом слове — сам.
О самозванце содержательно и исчерпывающе написал Г. Л. Тульчинский [1996]; в докторской диссертации А. М. Панченко хорошо показано зарождение русского самозванства как практики жизни. «Самозванство просыпается со свободой», а разгульной воли в XVII в. было столько, что самозванцев ни счесть — ни собрать.
Самозванство понимают как безосновательные притязания человека, народа или государства на социальный ранг, которого тот недостоин. Примеры, приведенные нашими авторами, можно толковать по-разному. Например, Тульчинский с сочувствием цитирует С. Аверинцева, который писал, что византиец верен государству, а не царю, а русский — наоборот; поэтому в Византии власть самозванцы брали без комплексов («в политике Бог — за победителей» — знакомая песня), а у нас все будто стеснялись своего самозванства [Аверинцев 1988: 220]. Можно подумать, что после Феодора Иоанновича, с конца XVI в., четыре столетия в России законная власть! Сплошные самозванцы... и даже Петр с его соправителями. Искривление нормы, «проявление вируса зла», как заметил Тульчинский, искажает весь ход истории, нарушает законы духовные, высшие, суду неподвластные и потому становится непоправимо. Философ показывает всю глубину падения в самозванство — от непрофессионализма политиков до халтуры известного дяди Васи, водопроводчика. Многовековое блуждание по грани Добра и Зла («призвание и самозванство») довело нас до того, что даже люди принципиальные и справедливые — самозванцы тоже [Тульчинский 1996: 50].
Самозванцы XVII в., авантюристы века XVIII, фигуры цельные и сильные, ушли, оставив устойчивый признак самозванчества, который в различной степени свойствен сегодня всем. По языческому соображению — нужны тут жертвы, нужно отмыть всенародный грех, не просто покаяться, но пожертвовать самым ценным, а самое ценное у народа — его символы. В том числе символ самозванства — неистребимое нечто, что Тульчинский вслед за психологами именует немецким словом man: «Самозванство — всегда растворение, распускание личности в этом тап» [Тульчинский 1996: 63].
Самозванец не только инверсия царю — это лишь наиболее яркая форма самозванства. Самозванец — неистинный, ложный. Тот, например, не по воле божьей принявший чин. Народное сознание не признавало за царицу Екатерину II, и «народная культура попыталась выработать собственный ответ... в рамках наивного монархизма» [Мыльников 1987: 141]. Был нарушен закон о престолонаследии, Екатерина — императрица «не по роду», самозванка в народном сознании, дворянская царица. В народном сознании Богом данная власть не соотнесена полностью с властью земной, не «спущена на царя», и дается не всякому. Русская история показывает, что в XVIII—XIX вв. все цари были узурпаторами и вели борьбу с реальными претендентами [Кондаков 1997: 205].
И самозванец не чисто русский тип, он явился с Запада в XVII в., формы самозванства стали возможными и в культуре (например, ложные святые противопоставлены «богоданным»). По авторитетному мнению Б. А. Успенского [1994, 1: 82], в самозванстве происходило мифологическое отождествление: «самозванцы воспринимаются как ряженые» (часто у Ивана Грозного и у Петра I), т. е. фальшивые. Личины, а не лики, на роль которых претендуют.
Русский реализм — неистребимая тяга к идеалу — постоянно воссоздает этот миф о «добром царе» при наличном «самозванце»; русский человек ждет чуда, прекрасно понимая, что всякая власть по существу самозванна. Идея Соборности требует царя как вождя, способного объединить народ, а является представитель какой-то алчной группы, и все начинается снова.
Заступник
Характерная черта русской ментальности состоит в том, что русский человек не желает никакого посредничества ни в одном деле. Он не хочет живых посредников и потому в посредники выделяет идею заступника, защитника чести своей и достоинства на земле. Не посредник, но заступник — тоже исконный тип, из которого ироническое зубоскальство нынешней интеллигенции сделало и паханство, и патернализм. Каждый по-своему понимает в принципе сходные идеи. В меру своей выгоды.
Нежелание иметь посредников видно и в неприятии поповства в духовной сфере, и администраторов или наемных истолкователей в культуре и социальной сфере. Прежде всего — из среды интеллигенции. «Еврейство создало народ, сплошь состоящий из „правящего слоя“, из буржуазии и интеллигенции, в котором совершенно нет пролетариата или крестьянства», с давних пор «еврейский народ и остался народом-комиссионером — сближающим другие нации, облюбовавшим торговлю, биржу, прессу, всякое посредничество» [Солоневич 1991: 169, 199]. Русские монархисты часто использовали этот аргумент в своем единоборстве с «еврейским социализмом». Говоря о «природном паразитизме евреев», Лев Тихомиров полагал, что особенно опасны евреи, когда они деятельны; они считают себя избранными «не для простой эксплуатации других народов, а для руководства ими» [Тихомиров 1997: 345]. Именно по этой причине евреи видят «еврейский плен» всюду, где они не у власти.
Поскольку же заступник — человек, из мира ушедший, то и помощь его ободряюще духовна, всякий вопрос о корысти с его стороны снимается; любые поползновения в этой области (включая «финансовый капитал», как нежно именуют теперь ростовщиков) признаются здесь недопустимыми. Особость заступника как типа-символа уясняется из представлений русского человека о справедливости. «Нельзя говорить о справедливости, потому что всё делается принципиально», — обозначал этот момент Михаил Пришвин [1994: 64]. Заступник справедлив принципиально, то есть может защитить и от неправедной принципиальности.
Заступник обязательно нравственно чист, возможно даже — безусловно невинная жертва чьей-то жестокости и крутости. В средневековых битвах на поле боя над русскими воинами непременно проплывали белым облаком ангельские лики святых заступников на поле брани — Бориса и Глеба, младших сыновей князя Владимира, злодейски умерщвленных старшими братьями. Заступником в праведном деле на общее благо, в конфликтах и тяготах жизни, единящим, сплачивающим и надежным стал Сергий Радонежский. В Новое время народная вера в заступники от мирских бед, огорчений и суетности поставила трогательно детский лик Серафима Саровского, нежно любящего Божий мир и живое в нем. Паллиативы нашего времени не оказались устойчивыми, хотя жертвенность юных героев ценилась как подвиг, но подвижничеством не была. Постоянная попытка очернить Александра Матросова, Зою Космодемьянскую, краснодонцев и многих других — свидетельство того, что «идеологи» хорошо понимают силу русских пристрастий к светлому облику невинной жертвы. Но попытки новых властей создать другие образы заступников не удались вообще — за отстутствием нравственной силы в прообразах. Да и то сказать, в христианской традиции русских идеальный тип заступника-Спаса сам Христос, так можно ли довольствоваться телесной его заменой, простым посредником?
Посредником как превращенной формой Другого, который ничем не лучше тебя самого. «Как много стало посредников, — вздыхает философ, — как мало непосредственного, то есть чувств» [Гиренок 1998: 389]. Личных чувств и собственных представлений. И верно, говорили славянофилы, «нам посредники не нужны»; в национальном характере народа лежит призвание «вдохнуть душу живу, а не работать над формами и элементами человеческого существования». И каждый — сам носитель божественной потенции, и только в ней заключена истинная цельность жизни. Вот почему только заступник свят для него как идеал возвышающий.
Скаред
Идеалу хозяйственного Государя противоположен Скаред — устойчивое именование скряги. У Даля «скряга — скупец, скаред, жидомор», а также скупердяй и прочие эмоциональные оттенки тех же слов. В русской литературе есть впечатляющий образ скареда, это одна из мертвых душ — Плюшкин.
По исконному смыслу слова, между прочим книжного, старославянского, скаредь — гадкое, отвратительное существо, мерзкое и грязное пугало или, как толкует это слово Даль, мерзавец, грязный негодяй, омерзительный скупец, готовый удавиться за копейку. Тут три ключевых слова: мерзкий—негодяй—пугало. Омерзительность негодного и есть пугающее нормального хозяина состояние, в котором при видимости дела разрушают всякое дело. Подделка под дело. Потому что исконный смысл слова скаредь — кал, навоз, отбросы и грязь.
Исконное значение корня скуп родственно глаголам ущемлять, защемлять, скряга же обозначает человека, который накапливает кучи добра (скры, скра — груда). Рачительный хозяин добро не накапливает, а пускает в дело. В дело, но — не в рост.
Особого разговора заслуживает жидомор. К сожалению, из советских изданий словаря Даля слово выброшено как неприемлемое, по причинам неизвестным, но понятным. Греческого происхождения слова стали терминами: еврей обозначает национальную, иудей — религиозную принадлежность человека; латинского происхождения слово жид, в Новое время пришедшее к нам из Польши, обозначало социальный статус человека. И не вина русского, что статус этот был не из благородных: жид корчмарь, жид ростовщик, жид скупщик краденого, — и слово это распространилось на любого представителя подобных «профессий», не обязательно еврея; и о русском жидовстве написано много горьких слов. В северных русских деревнях детей пугают «жидом» как чертом, но это не значит — евреем. Вообще «не следует смешивать с антисемитизмом дурную привычку русского человека позубоскалить над евреем или поругать ,,жидов“» [Карсавин 1928: 47], себя он поносит и круче; впрочем, и его самого — тоже. Заметим, что у Карсавина одно слово дано вразрядку, а другое стоит в кавычках.
Кличи черносотенцев, которыми пугают уже не детей, а нынешних обывателей, возникли на Юге России, потому что в украинском языке, по примеру польского, слово жид означает еврея. Путаница в словах, языках и странах не должна давать повода для упрека русского человека в том, в чем вины его нет. Из католической Польши проникали к нам идеи антисемитизма, но уже не как общественное настроение (антисемитизм со времен фараонов предстает «как известное общественное настроение» [Солоневич 1991: 58]), а именно как идея.
Стилистически слово жид, в отличие от двух других, было словом низкого стиля и, как слово простонародное, впитало в себя все семантические отходы от соответственных слов высших стилей. В русском представлении жид — не обязательно еврей и не всегда иудей: это скряга, ростовщик, жадность и алчность которого утесняют других людей, эксплуатируя их. С давних времен для русского мужика иудей— это нехристь, еврей — умный человек, жид же... о нем уже сказано. Главное — не быть им, и дело сладится. А уж охотников стравить еврея и русского сколько угодно.
В соответствии с общим характером русского умонастроения неприязнь к жиду существует на уровне только «идеи» и не распространяется на конкретные личности («вещи»), которые, как и всякое другое лицо, оцениваются по личным своим качествам по известной формуле Пушкина. Когда герой его трагедии говорит «Презренный жид, почтенный Соломон», он выражает эту мысль несводимости лица к идее, порицая «жида», но с почтением обращаясь к Соломону. У многих русских писателей эта мысль повторяется.
Странник
«Странник — непременный персонаж русского мира, сопряженный с дорогой, далью, порогом и родимой сторонкой» [Гачев 1988: 257]. Странник странен своей отстраненностью, он не хочет раствориться во внешних связях с другими, стать частью общего, общины, перед ним лежит путь-дорога... Неукорененность в жизни, оторванность от быта, но существование в бытии, которое «коренится в сердце человеческом» [Тульчинский 1996: 242]. Странник — Дон Кихот, который не может стать героем, потому что некого ему защищать, но все-таки он человек дела, как и герой. Есть вещи, для него ценные, и первая из них — воля; воля, а не свобода.
Странник всегда одинок. Агасфер и Демон, изгой и бродяга, в одно и то же время он странен как ино-странец и всем по-сторонний и всегда блуждает по различным странам. По общему смыслу приведенных слов тут мысль и о чуждости, нездешности (нетутошний — говорит Даль), и о чудности, необычности странника. Посох, жезл, нищета и дорога — его символы.
«Странник, вечный странник и везде только странник... — говорит Розанов. — Иду. Иду. Иду. Иду... И где кончится мой путь — не знаю». И это странно в смиренности отступления, потому что «бунт и мятежность не менее характерны для нас, чем смирение и покорность. Русские своего града не имеют. Град Грядущего взыскуют, в природе русского народа есть вечное странничество» [Бердяев 1912: 245].
Как и герой, странник прям и прост; страннику, говорит старорусская мудрость, чуждо лукавство.
Роль странствующих в древней истории неоднократно описана (ср., например [Шеллинг 1989: 292]), средневековые странники также известны. До создания государств все народы ходили свободно по европейским просторам, и головная боль современных историков — решить, где была «прародина» славян, германцев и прочих варваров. Целые народы странствовали по земле и позже. И русские люди ходили по свету, дойдя до Калифорнии, заселив Сибирь и проникая во все места, куда не ступала прежде нога человека.
Были секты, до предела развившие идею бродяжничества отрицанием мира и власти, в своем анархизме отрицавшие всё. Идеальные типы странных странников, всем посторонних, измельчали до нынешних бичей, бомжей и безродных бродяг. Однако тип «скитальца, чуждого родной стране, до сих пор жив в нашей крови», писал Владимир Эрн [1912], говоря о Григории Сковороде как типичном представителе типа.
А ведь скиталец вовсе не умудренный просторами странник, он совершенно иной тип. Так и перед Достоевским «стоит пугающий призрак духовного отщепенца, — роковой образ скитальца, скорее даже чем странника... В беспочвенности Достоевский открывает духовную опасность. В одиночестве и обособлении угрожает разрыв с действительностью. „Скиталец“ способен только мечтать, он не может выйти из мира призраков, в котором роковым образом его своевольное воображение как-то мистически обращает мир живой. Мечтатель становится „подпольным человеком“, начинается жуткое разложение личности. Одинокая свобода оборачивается одержимостью, мечтатель в плену у своей мечты» [Флоровский 1937: 299, 296].
Скиталец оторван от второй составляющей — от земли, от почвы, от телесного мира действительности — и тем отличается от странника, который знает, куда увлекает его путь.
Самобытность русского странничества не только в странности его личной позиции. «Мы же, русские, всегда были, в значительной нашей части, бегунами. Нас подмывает бежать, бежать без оглядки» — Георгий Иванов так говорил в годы постреволюционной разрухи. И вторил ему эмигрант Бердяев: «Русские — бегуны и разбойники. И русские — странники, ищущие Божьей правды. Странники отказываются повиноваться властям. Путь земной представлялся русскому народу путем бегства и странничества» [Бердяев 1990: 47].
Уйти, убежать, отстраниться от неприемлемого духовно, выпасть из времени своего с тем, чтобы ощутить другую форму переживания — не во времени, а в пространстве, в движении, которое может хоть отчасти заменить косную материю быта. Самый свободный человек на земле, духом он выше земного. Странник живет в разлуках, а идею разлуки представляют как одну «из самых освоенных в русской культуре эмоциональных областей», ведь «это идея независимости от человеческой воли. Это весьма характерная русская идея» [Анализ 1999: 61—62].
Современный философ тонко подметил эту связь странничества с простором земли, с избытком: «повсеместное пьянство — это тоже путешествие и странничество» человека, насильно привязанного к этому месту [Горичева 1996: 254]. Для России утрата пространств — трагична, и бегство ее — в скорости восполнить утрату простора. Странник идет по наитию души — спасаясь. Скиталец скитается в поисках утраченного, поскольку русскому скитальцу необходимо именно всемирное счастье, чтобы успокоиться; дешевле он не примириться, — конечно, пока все дело только в идее-теории. Это всё тот же русский человек, как мы его ни назовем. Но только странник уходит от,.. тогда как скиталец идет к...
И где сходятся их дороги?
Сирота
Сирота казанская тоже русский тип. Это символ покинутости и одиночества, сложившихся в силу судьбы, не по воли твоей; единственно что твое — ощущение покинутости, и народ припечатал такое крепким словом: брошенка.
Беспомощный, бесприютный, брошенный... но казанская сирота совсем не такова. Это «плут, прикидывающийся бедняком», как говорит нам Даль; бывшие татарские князья, переходя на службу к русскому государю, прикидывались бедняками, чтобы крупней получить удел. Так и побирушки-нищенки притворяются сиротами, отложив на черный день хороший куш. Здесь мы встречаем ту же амбивалентность всякого символа, какая присуща любому русскому типу. Словом можно назвать и это и то, одним и тем же словом; но чтобы идея проросла в реальности смысла, необходимо ее соотнести с действительностью конкретного лица или вещи. Идею проверяют вещью, и только после этого станет ясно, о какой такой сироте заводится речь.
Исторически этот тип как социальный связан с распадом феодального строя, с выходом из неволи, с прочими явлениями жизни в миру. Это пример того, как термины семейного права становились терминами для обозначения социальных отношений.
Хорошо сиротство в исконном его смысле понимают женщины. «Сиротство — это парадоксальная изнанка сыновства... Сиротство — лишь ступень к лучшему осознанию своей непокинутости» [Горичева 1996: 131—132]. Непокинутость — еще не одинокость. А русские мыслители всегда различали одиночество и одинокость. Одиночество человека, говорили они, в том, что у него слишком мало отношений с другими людьми, мало общения, мало взаимного понимания и связанных с этим симпатии, дружбы, любви. Такой человек не формирует свою личность в общении, ибо не обращен вовне, не растет душевно. Одиночеству противостоит не-одиночество. Одинокость же — та самая покинутость, о которой здесь речь. Одиночество человек выбирает сам, одинокость ему достается судьбой. Особенно важна отрицательная ценность одинокости в обществе, которое основано на идее соборности, на единстве, на общине.
Юродивый
Русское юродство — восстание против идеи, возвращение в теплую плоть земли, из которой восходит колос новой идеи. Вхождение в тайну концепта, который выше и глубже всякой земной идеи. Освобождая свое подсознание, юродивый отчужден от сознания рядом толкущихся лиц. Потому так бесстрашен юродивый, что он — инверсия святости.
Он ничего не боится, ибо уже вернулся к исходной точке своего бытия, у которой что жизнь что смерть — всё едино. Он ничего не страшится, ибо познал суть жизни, на фоне которой всё прочее только подмена и тлен. Он свободен «от необходимости соблюдать логическую связь» между идеей и вещью: для него реализм абсолютен: идея и есть вещь. И находясь в этой точке разлома между бытом и бытием, между миром и небом, между идеей и вещью, он вне времени и пространства. Пространства нет, потому что точка разве пространство? Времени тоже нет, поскольку вечность постигнутой истины исключает ее привязку к надуманным человеком границам времен. В точке настоящего сошлись прошедшее и будущее, и всё это вместе — время настоящее, действительное, истинное; юродивый прорицает, ибо находится в этой точке, невидимой никому, но доступной его взгляду. Идея и вещь для него — одно, и потому он обычно бос и гол: в дождь и в снег, и в палящий зной — он отверг вещность быта; он не нищенствует, не просит, он отвергает деньги и всё, что «от бесов».
Но юродивый — человек, плоть его жаждет пространства и времени. Свою «идею», свой взгляд поверх плоти и жизни он хочет открыть и означить смыслом. И тогда пространством его становится широкий простор, обретенный в пути; его временем — перемещение предметов и лиц на его пути. Это — время встреч и событий, его создает ритм движения. Юродивый не по воле пополняет ряды «мятущихся меж двор», как выражается о юродивых старинное житие; это его призвание, и с жезлом-посохом идет он по миру как неотмирный человек. Справедливо сказано, что «уход в идею — это то же затворничество, оно синонимично странничеству» [Иванов 1993: 22].
Интересно сравнить юродивого с близкими к нему по проявлениям духа типами. Такое сравнение часто делали ([Лихачев, Панченко 1976; Иванов 1993]).
Пытаясь аналогией объяснить тип юродивого, его представляли как человека со странностями, сумасшедшего, слабоумного, дурака, блаженного, бесноватого, опьяненного, шута, но также сравнивали со святым, подвижником, нищенствующим во Христе, со скоморохом, с ребенком...
Точки сближения со всеми ними имеются. Как и подвижник-святой, юродивый соединяет культуру народную и церковную, тем самым возвращая к жизни образ языческого волхва. Как и ребенок, юродивый отличается искренностью и достоинством. И так далее. Но любая попытка описать символический тип посредством логических предикатов обречена на провал. Конечно, юродивый странен, блажит (Василий Блаженный), «не в себе», он смешит и словом и телом. Он точно похож на Ивана Дурака, но дурак из сказки себе на уме, а юродивый ум отверг — сознательно: его протест против всего людского включает и протест против «здравого рассудка».
И кто же в здравом уме берет на себя ответственность за чужие грехи и болеет за всех, в страдании духа и плоти вынашивает в сердце своем спасающую идею, столь близкую к тайне концепта, что кружится голова (странный, пьяный)! Самоуничижение, смех над самим собой, полное горе от ума, ибо главное для юродивого — скрыть свой ум в потаенном символе — в слове, поскольку слово, заметил Бахтин, «стремится к юродству», да и само юродство фактом своего бытия есть слово, сказанное вещно и, главное, веско.
Да, отличительные признаки странности в юродивом есть, но существуют они в нем все вместе и потому соединены как целое совершенно в другом их качестве, они оборачиваются своей изнанкой. Юродивый — носитель идеи, инвариант того странного мира, который и в жизни переполнен «странными». Он идея такой странности, идея, воплощенная в них всех.
На это указывает уже само слово.
Церковнославянское юрод = русскому произношению урод: таков уродился. Духовный изгой, изгой добровольный. Как слово изгой общего корня со словами жизнь, житие, живот (древнее чередование звуков в корне goi: гой ecu, добрый молодец!), так и наше слово восходит к корню род. Юродивый живет вне рода как особый его вид, имеющий его личины.
«В русском языке существует три понятия для определения таких людей... убогий, юродивый и блаженный» [Ильин 6, 3: 83]. Три ступени в проявлении христианской нравственности отрекшихся на деле от мира сего. Лишенный мирского в теле (убогий убог), в слове (юродивый гугнив), в мысли-разуме (блаженный блажит). «Озорство это или своенравность? Легкомысленное расположение духа или глубокомысленное символическое поведение? Простое человеческое коварство или погружение в животное скудоумие? Игра это или всерьез? Всечеловеческое это или божественное? Запрещать это или воспринимать с благоговением? Мирская ли это болезнь или божественный знак?» [Там же: 85] — вопросы все риторические, тем более, что сам Ильин на них отвечает тут же: всё это проявление свободы духа по-русски, в доступных общественных формах.
«У этой свободы есть два аспекта: во-первых, беспрепятственная, ничем не ограничиваемая гибкость внутренней, чувственно-созерцательной жизни; во-вторых, изначально твердое убеждение, что верить можно только свободно и непроизвольно и что эту непроизвольную свободу нельзя ограничить, нельзя отнять.
Что касается душевной гибкости... она имеет два источника своего происхождения: непосредственно проистекающую, чувственно-созерцательную структуру акта и раскрепощающее дух влияние пространства и равнины. Благодаря им русская душа стала мягкой, пластичной, податливой, подвижной и, так сказать, предприимчивой в творческом созерцании. Такой она и осталась» [Там же].
Юродивый добровольно исключает себя из иерархии — изгоя исключают. В древнерусском «Молении Даниила Заточника» печальная судьба такого человека описывается в тональности, напоминающей скоморошество, но по достоинству слов перед нами всё же шут. Изгой из социальной иерархии, он сохраняет себя в потоке здравого смысла, он — не юродивый во Христе.
Юродивый — не-род, но он же и «род в своем роде». Каждый отдельный как личность плюс все видовые его качества вместе, и «вещь», и «идея» слиты, меж ними нет никакого зазора — вот перед нами настоящий юродивый Христа ради, который в земном своем существовании хотел бы стать копией истинного Христа, напоминая людям о том, что жив Господь.
Типичный юродивый — протопоп Аввакум. «Мы уроди Христа ради: вы славни, мы же безчестни, вы силны, мы же немощни!» — пишет он в своем «Житии». Специальное исследование [Никадзава 1988] показало, что текст «Жития» Аввакума являет все признаки речи юродивого в четырех аспектах. Здесь представлено юродство идеологизированное (мотив «блудного сына», припадающего к духовному отцу) — в отношении к сподвижникам; юродство как литературный мотив (сюжеты житий юродивых с использованием традиционных формул в описании собственных подвигов) — в отношении к себе самому; юродство как стиль поведения в поступках, жестах, мимике и словах — в отношении к окружающим, врагам и противникам; юродство-беснование, которое сам Аввакум в описаниях решительно отвергает (это — сумасшествие). Юродство как идея, как слово и как поступок (дело) — вот что такое для протопопа принятие данного «чина» — но не беснование кликуш в беспамятстве. Юродство с этой точки зрения есть протест против духовного понуждения; сам — в поступках — Аввакум юродствовал лишь перед противниками, тем самым низводил их «серьезность» до ничтожества.
Запад не понимает юродства, потому что не признаёт необходимость сбросить маски-личины; имидж вместо лица там обычная вещь. Восстание против роскоши, против обыденной лжи и ханжества буржуазной морали — вот что такое юродство сегодня.
Юродивый и юродство не одно и то же. Лицо, проявляющее идею, не всегда соответствует самой идее. В. О. Ключевский говорил о Льве Толстом как о «поздней пародии древнерусского юродивого, ходившего нагишом по городским улицам, не стыдясь того» [Ключевский IX: 434]. Это — юродство. То же различие Петр Бицилли показал на другом писателе: манера поведения и письма у Андрея Белого — юродство. Он косноязычно вещает, все слова его наполовину выдуманы, но — всё понятно. Всё понятно потому, что корни слов все русские, их внутренний смысл известен, ощущается сразу, принимается без обсуждения. Но словесная масса, поступая во всеобщее пользование, кажется насыщенной тем потаенным смыслом, которого, может быть, в ней и нет — потому что символ бесконечен по смыслу и каждый находит в символе свой, лично ему понятный, смысл.
Юродство делом или словом — разное юродство. Но важно, что исторически цельный тип юродивого оставляет за собою идею юродства в качестве признака, который становится характерной чертой органически русского человека. Приходилось читать, что интеллигенция русская — светский вариант юродства, тех его признаков, которые сгустились в этом типе особенно выразительно.
Возможно.
Русскому интеллигенту тоже всегда приходится делать вид, что он глупее своей власти.
Умный дурак
Специфически русский тип, потому что, вероятно, только русский человек способен подсмеиваться над своими недостатками, не видя в том никакого ущемления своему достоинству. Но русский дурак — не дурак вовсе, поскольку на самом деле он — инверсия мудрецу.
История русской глупости — чрезвычайно привлекательная тема для современных исследований по истории русской духовной культуры. А. М. Панченко пишет о русском юродстве, Андрей Синявский — об Иванушке-дурачке, Ю. М. Лотман — о дураке и сумасшедшем.
Лотман утверждал: «Бинарное противопоставление дурака и сумасшедшего может рассматриваться как обобщение двух: дурак — умный и умный — сумасшедший. Вместе они образуют одну тернарную структуру: дурак — умный — сумасшедший. Дурак и сумасшедший в таком построении не синонимы, а антонимы, предельные полюса. Дурак лишен гибкой реакции на окружающую его ситуацию. Его поведение полностью предсказуемо. Единственная доступная ему форма активности — это нарушение правильных соотношений между ситуацией и действием. Действия его стереотипны, но он применяет их не к месту — плачет на свадьбе, танцует на похоронах. Ничего нового он придумать не может... Поведение умного тоже предсказуемо — но это норма, а сумасшедший свободен в нарушении запретов, и он непредсказуем». Норма противопоставлена взрыву: «Норма не имеет признаков. Это лишенная пространства точка между сумасшедшим и дураком». Что же касается «взрыва», то он — нарушение нормы. Индивидуально оно проявляется как безумие, коллективно — как глупость [Лотман 1992: 64—65, 76, 77].
Так сказано. Что ж, «часто смешивают умных людей, которые любят бывать глупыми, с глупыми людьми, которые стараются быть умными» [Ключевский IX: 414]. И это верно.
Лотман, по справедливому определению А. Ф. Лосева, номиналист, поэтому для его восприятия существенна «вещь» (человеческий тип), из нее он исходит, толкуя соотношение слова-термина и идеи-концепта. Попробуем с тем же разобраться с помощью «русского реализма».
Сначала о семиотической оппозиции.
Смешение градуальности степеней с эквиполентностью бинарной равнозначностью странно, это ведь совершенно различные принципы исчисления сущностей. Эквиполентная равноценность дурак—сумасшедший несводима к градуальности дурак—умный—сумасшедший, потому что в такой пропорции нет градуальности (степеней) признаков различения. Вводя сущность «умный», автор должен строить обычный — в синекдохе — ряд соответствий типа род—виды, то есть так:
Дурость и сумасшествие — «виды» ума. Это логично по-русски и потому еще, что соответствует символу Троицы: Бог Отец одновременно и вид, и род. Тогда, согласно русскому обыкновению, умный может быть рядоположен дураку и сумасшедшему тоже как один из видов «умного» (по тому же правилу: «род — он же один из видов»). Вполне возможно, что так оно и есть, сейчас важно уяснить, что это — исходная посылка дальнейших наших рассуждений.
Малая посылка низводит оппозицию на уровень дела, деяния, действия. Наступает действо.
Норма нормального — фон, немаркированный по признаку различения. Умный нормален — но для кого? для дурака? Вовсе нет, и русская сказка показывает, что «дурак» умнее всех прочих, но умен он особенным образом — по-русски, то есть вовсе не дурак.
«Однако ни русский мужик, ни русский рабочий дураками никогда не были» [Солоневич 1997: 200]. И верно: «Мужик-то не дурак!»
«Дурак русских сказок обладает нравственными достоинствами, и это важнее наличия внешнего ума», — уточняет Владимир Пропп [1976: 90], подчеркивая эти слова в своем классическом тексте. «Его поведение полностью предсказуемо» только с нашей точки зрения, сегодня, в нашей ментальности. А как быть в те поры, когда дурак совершал не-дурацкие свои деяния? Самомнение нынешних мыслителей поразительно; всё-то они знают, всему дадут свое место, прошлого не спросясь. Дон Кихот — сумасшедший? Князь Мышкин — Идиот? Обломов — дурак? Не скажите. Лотман сам говорит, что только «безумный может осуществить высшие правила» [Лотман 1992: 81]. И мы узнаем, наконец, о ком речь: не сумасшедший вовсе, а — юродивый во Христе. Даже Илья Эренбург [1963: 38] видел (и справедливо) в русском юродстве «древнюю русскую форму самозащиты», а более тонкий наблюдатель полагал, что юродство — для того, чтобы охранить себя от «глупцов», почему и «необходимо создать личину» [Пришвин 1986: 190]. Не множа других высказываний, давайте уберем сумасшедшего со сцены, здесь он ни к чему. Да и смешивать безумного с сумасшедшим не следует; это всё результат сведения градуальных оппозиций к излюбленным структуралистами привативным. Исследования концептов показывают, что безумный в русском сознании характеризуется отсутствием рационального восприятия, неуправляем, неконструктивен, весь находится в стихии ненормальности («пугающая иррациональная бездна»), тогда как сумасшедший имеет лишь определенные внешние проявления ненормальности (неумение управлять телом, шумливость, повышенная активность: «шумная и бестолковая сцена») [Действия 1993: 120—126]. А для тех, кто... но откроем тайну: и в России есть душевнобольные, но заметьте — душевно. Душевнобольной — не сошедший с ума. Для полноты картины не мешает и его вплести в градуальную нашу цепь. Не станем этого делать по причинам, хорошо известным из сатир Салтыкова-Щедрина: «Идиоты вообще очень опасны, и даже не потому, что они непременно злы (в идиоте злоба или доброта — совершенно безразличные качества), а потому, что они чужды всяким соображениям и всегда идут напролом».
Так что заменим сумасшедшего юродивым. Говорим мы не о конкретных индивидуумах, а о типах, о русских типах, да и к подстановкам не привыкать: они на каждом шагу у наших культурологов-структуралистов. Тогда и система — градуальная система — будет как-то оправдана общим признаком ‘ума различного качества’:
Предсказуемо то, что неизменно и повторяется с абсолютной последовательностью. Такова норма. Всё течет по заданному кругу, сменяясь оттенками, как времена года. В безмолвии субъектов, как от дедов пошло. Потому что (опять Ключевский) «гораздо легче стать умным, чем перестать быть дураком».
Не-норма, по Лотману, это — взрыв. Традиции исчезают, мир изменяется, все в изумлении: как, почему и что?!
Дурак повернулся не тем боком — и все вышло боком.
Открыл глаза и вгляделся. (Тут важно — открыл! проснулся.)
И сплюнул. (Тут можно поговорить о магической функции слюны.) И всё пошло кувырком: и печь поехала, и ведра побежали быстро, и прекрасная царевна раскрыла встречь дураку свои нежные объятия.
С чего бы это?
А у него была интуиция — вовремя он проснулся!
Верно, правильно: ну не думал он как все вокруг, он вообще не мыслил (настаивает Лотман — и справедливо). Он доверился — и получилось.
Дурак всегда на последнем месте: на запечье, на залавке, в сенях. Умственный капитал семейства — на тяжелые времена. «Старший умный был детина, средний сын и так и сяк, младший вовсе был дурак». Дурак в конце, но концы — они же и начала. Начала нового.
Дурак — это умный наоборот. Но умный... решимся сказать: очень умный. Не исполнитель он, а творец. Он начинает действовать, но действует поначалу словом: «По щучьему веленью, по моему хотенью...»
Юродивый тоже дурак и тоже себе на уме. Для дурней он дурак, для умных — умница.
Дурак ведь, по смыслу корня, — пустое место, ничто, дыра в пространстве. Дурака и нет, его не видно. Юродивый же — урод, искаженная ипостась умного, чем-то чуть поврежденного, но существующий реально.
Заметим себе: умный—дурак—юродивый вовсе не лица, а типы. Это не персоны (люди, как у Лотмана), а степени состояния личности. Один и тот же человек в разные моменты своей жизни может испытать все три состояния: какой ты умница! с ума сошел! дурак-дураком... Перед нами явленность всех трех типов интуиции, показанных в образах. Чувственная— у дурака (инстинкт), мистическая — у юродивого (инспирация-вдохновение) и интеллектуальная — у умного (интуиция в собственном смысле слова [Лосский 1995; Лапшин 1999]. Кто выше? Пустой вопрос...
И ум может быть неумным: «Неумный ум. Не умеют быть добрыми и умными», — замечал Ключевский об умниках. В этом всё дело: дурак, он — добрый. Задача-то в том, чтобы «показать добро как правду» (это слова Соловьева).
Одновременно все они — личины-маски в социальном обиходе, скрывающие то ли истинное качество ума, то ли полное его отсутствие. В любом случае выставлены они в намерении представить дело в ложном свете. Глагол, образованный от имени-понятия, не станет скрывать отношение общества к подобным признакам, а глаголы выразительны.
Дурачить(ся) — прикидываться дурачком, забавляться дурачеством, озорничать — обычно в каком-то поступке, в деле.
Юродствовать — напускать на себя дурь, прикидываться дурачком, дурить — обычно в мысли, так или иначе выраженной.
Умничать — стараться выказать свой ум в рассуждениях или разговорах или поступать по-своему, считая себя умнее других, — это и в слове, и в деле через слово.
И разве не верно, что «русский ум всего ярче сказывается в глупостях»? (Ключевский).
Первые два совершенно недвусмысленно скрывают свой ум, умничает же лишенный чувства юмора, недалекий и самонадеянный педант, упрямец, не желающий считаться с мнением остальных членов общества. Именно этот тип осуждается, а дурачество и юродство рассматриваются как своего рода интеллектуальная игра, в символическом пространстве мифа и ритуала позволяющая самому наблюдателю понять и оценить реальные качества лжедурака и квазиюродивого через сокровенные их дела и мысли, не выговоренные в слове или сказанные посредством другого слова. «Наблюдатель» должен участвовать в такой игре, он обязан сам разгадать суть своего собеседника, и притом не через прямое его слово. Средства раскрытия маски-личины разные. Диалог собеседников допускает нейтрализацию в смехе — в случае с дурачеством — или в сочувствии — в случае с юродством. Но и тут и там наблюдателя располагает к себе человек внешне незавидного ума, которого — первое движение чувства — стоит и следует пожалеть.
Личные маски в эпохи великих социальных разломов становятся социальной приметой времени. Следует вспомнить о юродстве Ивана Грозного с его опричниками (опричь — вне принятых правил и норм) или о дурачестве Петра Великого с его Всепьянейшим Собором. За такими личинами скрывались не шутейные социальные сдвиги в сознании людей, но поднесены они как непредвиденный вывих сознания, как простые «шутки». Аналогичные примеры можно привести и из Нового времени. Юродивый — урод, он может говорить правду всем («и истину царям с улыбкой говорил...»), он неуязвим; дурак может делать всё, что душа пожелает, а над ним только потешаются. Не замечая, не видя (глаза закрыты), что он созидает новое.
Коренной смысл их идей и дел становится ясным лишь потом.
А пока царит надутая важность серьезного. Умного. И полагает умный, что Иванушка-дурачок «дьявольски изворотлив, совершенно бессовестный, непоэтичный и малопривлекательный тип, олицетворяющий тайное торжество коварства над силой и могуществом: Иванушка-дурачок, сын своего народа, переживший столько несчастий, что с лихвой хватило бы на десяток других народов». Этот вопль разоренного аристократа (Владимир Набоков) намеренно пересекается с обобщенным по русским пословицам портретом Дурака, тоже составленным весьма пристрастно, как «безжалостный автопортрет русского „смысловатого“ дурака, познающего себя» [Айрапетян 1992: 112—124].
Справедливо иное суждение: «Иван-дурачок сидит в каждом русском, и нельзя его ни спрятать, ни извести. Да было бы и глупо отказываться от глупости, если мы в ней умнее умного» [Гиренок 1998: 381].
«Дурак — одна из ключевых категорий русской духовной культуры» — утверждает историк и рассматривает два характерных вида: слабоумные и безумные [Фархутдинова 2000: 146, 174]. И здесь, как у Лотмана, духовная категория дурости сводится к физической неполноценности и смешивается с глупостью. Описывая русского «дурака», автор перечисляет типичные особенности примитивного деревенского дурачка: смешлив, постоянно радостен, любопытен, любит яркое, все время в движении... Но в русском представлении ум вовсе не противопоставлен дурачеству, ум соседствует с глупостью, и данный ряд имеет в русском языке очень мало слов и идиом. Глуп — человек, тогда как дурным может быть все вокруг, и даже сочинения некоторых критиков русской ментальности (глупыми их не назовешь, они пишутся с определенными целями). Глупость — черта интеллекта, дурость — этична. В старинных приговорах, записанных в XIX в., «дураки суть: бранится, а не бьется; обещает, а не делает; много говорит, а ничего не ведает». Если дурак представлен воином — сие непристойность (дурак не герой); дурак в совете что козел в саду или свинья в огороде. Где же здесь отсутствие интеллекта? Сколько таких в «советах»... Только отсутствие стыда. Дурак — комический антипод героя, который обязан местом и временем подвига; у дурака же три приметы: он всегда счастлив, не знает времени и свободен в своих поступках. Перед нами не более как мечта.
Счастье, судьба и свобода — вот предикаты дурня как идеальной фигуры баловня всех этих «С».
Русское сознание — в массе — не понимает, что такое «ум», потому что служит Софии — Премудрости Божией. В уме он ощущает оттенки чего-то негодного, нечистого, он знает, что Бог — благ, а бес — умен, и не хочет уподобляться бесу. Мирской, телесный ум неподвластен божественному разуму и от него зависим.
Ум прежде всего хитрость, ловкость и пр., то есть вещные проявления разума: умение словчить и похитить (корни у слов те же). «Хитрость не есть ум, а только усиленная работа инстинктов, вызванная отсутствием ума». Ум — отсутствие разума («ум за разум зашел»). Вот почему русские «глупеют от сознания своего ума», как говаривал Ключевский; они не могут выдержать свой успех, свою удачу — теряются. Это нарушение принятых правил. Так нельзя, невозможно. Ум скрывают. «И москаль, и хохол хитрые люди, и хитрость обоих выражается в притворстве. Но тот и другой притворяются по-своему: первый любит притворяться дураком, а второй умным» [Ключевский IX: 394, 315, 385].
Еще раз.
У дурака «искривление» в деле-вещи. Он ничего не думает — он делает, и делает, как всем кажется, невпопад. Всё новое является «невпопад», всё новое кажется дурачеством. Так дурачились Иван и Петр, перестраивая Русь в Россию.
У юродивого смещения в области идеи, он и делает, и говорит, но ни в том ни в другом непредсказуем. Он и сам не знает, что будет через минуту, какой осенит его Дух.
А умный «просто» живет в своем слове, живет настоящим во всех смыслах этого слова, т. е. в настоящем времени, обычной жизнью, с действительно трезвой мыслью. В этом всё дело: умный говорит хорошо и верно, но только — говорит.
Но ведь все говорят.
По-разному говорят. Один от души — душевно, другой по велению Духа — духовно, а третий в гордыни своей полагает, что говорит он — разумно. Самый страшный тип, особливо во власти, отмечал таких не раз Иван Солоневич.
Дурак изрекает прописные истины, банальные формулы слетают с его уст. За словом своим он скрывает свое дело (изречь в исконном значении корня — ‘напомнить известное’).
Юродивый скажет так скажет! — он раскрывает тайное, те идеи, которые, может быть, в обычном слове не передать, недоступны они разумению, но их необходимо высказать (сказати — раскрыть потаенный смысл).
Умный же просто говорит, т. е. шум издает, бормочет, болобонит своим языком. (Говорити — сотрясение воздуха: в «Слове о полку Игореве» говорят только галки — самые болтливые птицы.)
И если бы действительно приведенные глаголы речи были увязаны таким вот образом с интеллектуально-духовным уровнем говорящих, тогда мы могли бы утверждать, что в поступательном ходе нашей культуры победили умный и юродивый, потому что только их речевые формулы сохранились у нас в активном употреблении: всё говорить, чтобы нечто сказать.
И еще одна мысль Ключевского, итог его исторических наблюдений над русским типом: «Великорус — историк от природы: он лучше понимает свое прошедшее, чем будущее; он не всегда догадается, что нужно предусмотреть, но всегда поймет, что он не догадался. Он умнее, когда обсуждает, что сделал, чем когда соображает, что нужно сделать. В нем больше оглядки, чем предусмотрительности, больше смирения, чем нахальства» [Ключевский IX: 401].
Так что...
... дурак по старинке сидит в запечье, лузгает семечки да изрекает невнятное нечто, являя собою «выжидающий характер русского народа» [Франк 1996: 200].
А что изрекает — неслышно. До поры до времени.
Ждет, чтобы напомнить нам о собственном нашем уме.
Русская женщина
Мы говорим о типах, а слово «тип» — имя мужского рода. Есть и героини, и святые, и странницы, но представлены они как бы женскими ипостасями тех же самых типов.
А в русской судьбе тип женщины — совершенно особый тип, о котором следует сказать отдельно. Хотя и говорят иногда о «вечно женственном в русской душе», но это так, к слову: слово «душа» — имя женского рода.
Могут быть женские ипостаси мужских характеров, а вот обратное — невозможно. Собирательность признаков, явленных и описанных нами в различных типах, также невозможно встретить в характере женском. Такие характеры цельны, нивелировке не подлежат, сохраняют свою инаковость.
Женский тип вообще маркирован в отношении всей совокупной множественности типов мужских.
И любопытно видеть, что идеальные типы народного сознания всегда женские. Елена Прекрасная выражает высшие степени красоты, Василиса Премудрая — мудрости. Красота или мудрость, выходящие за пределы видимого. Если вспомнить, что Елена буквально значит ‘светлая’, а Василиса — ‘царственная’, станет ясно, насколько возвышенным должны были представляться древним славянам красота и мудрость, если в свои сказы они включили значимые признаки этих лиц. Вера, Надежда, Любовь и мать их София также наводят на размышления, связанные, быть может, с остатками матриархата в позднеязыческой славянской среде. Не случайно, надо думать, славянофилы говорили о восстановлении язычества в связи с распространением культа Богородицы, соотносимого с культом Матери-Земли.
А. С. Дёмин [1998: 102 и след.] заметил и на многих примерах показал, что с древнейших времен русские женщины выделялись особым интересом к слову, к речи, «изобилие их речевой деятельности» как-то коррелирует с их же догадливостью. В отличие от мужчин, в загадках и образных сравнениях они оперируют не предметами вещного мира, а языком, в тонкой словесной игре создавая образ вещи. «Языковые тонкости» русской женщины (а это, «как правило, молодые женщины») давали им возможность создавать тонкую лирику русских песен, осветлявших тот быт, в котором они пребывали. Когда говорят о великих русских поэтах, возрождавших слово, также обращают внимание на женщин, которых эти поэты слушали в детстве. Возрождение слова, затухавшего в текучке быта, есть самое таинственное явление духовной жизни, и оно подчеркивает значение женской интуиции в сохранении слова предков. Женщинам в высшей степени свойственно проникновение в словесный образ, который и сохраняет природный смысл слова. В образ, а не в понятие — достояние трезвого мужского ума.
Иван Ильин [6, 3: 170—189]точно и исчерпывающе описал тип русской женщины в ее идеальном обличии — на фоне мужского типа русского характера.
Вечноженственное в принципе склонно к беспредельному; это существо открытое, принимающее, «всевидящее». Оно не форма жизни, а ее смысл и сущность. Оно стремится к пассивному пребыванию в ожидании, состояние предпочитая пустой деятельности. Составом оно подобно воде, экстенсивно и безгранично, не имеет собственных пределов: драгоценный камень, нуждающийся в подобающей оправе. Центростремительность характера обуславливает обращенность к середине, к центру — к сердцу: «чувствительное сердце — ее центральный орган». Женщина сама к себе и взывает, и лишь на себя полагается, себя саму делает центром жизни — и по полному на то праву. Пламя домашнего очага ей милее огней там, за ускользающим горизонтом, а «чувство и созерцание суть женские регистры» вообще.
«Если судить об отличительных качествах женщины в целом, сложившихся в ходе истории, то ей присущи интимность чувств, тончайшая способность прислушиваться (к самой себе, к возлюбленному, к миру, к зародышу), ведь чтобы зачать, выносить, родить, выкормить, выходить, выстрадать, самоотрешиться, воздержаться, — она должна любить... И чувство ее по своей направленности связано с конкретно-созерцаемыми предметами.
Вот почему мысль женщины конкретна, образна, интуитивна. А воля женщины определяется ее сердцем и отмечена страстотерпением... Женская аудитория очень ответственна, отзывчива, скромна, интуитивно-образно восприимчива, податлива доводам сердца и совести, но гораздо пассивнее и авторитарнее в мышлении». Интуитивный синтез — это женственное; он творит поэзию. Да и в отношении к преступлению и греху: «удел вечноженственного — прощать неправедного, удел вечномужественного — наказать преступника. Вечноженственное томится по миру; вечномужественное нарушает мир и затевает войну. Вечномужественное не страшится крови; вечноженственное (вкупе с христианской церковью) отвергает кровь, пытается рану перевязать и исцелить».
Ангел и титан одновременно, женщина надежна, она органически природна, она — как тип — свята. Обаятельные образы русской женщины в классических наших текстах подтверждают такую характеристику, делая тип русской женщины обобщенным типом женщины вообще — в ее лучших образцах.
Свойства, качества и черты характера женщины раскрываются в ней только на фоне мужских и — в полном согласии с ними. Русская женщина без мужчины — не женщина; заменяя его на боевом посту, у станка или за трибуной, она становится ему подобной. Уже не раз спасая таким образом русскую цивилизацию, русская женщина — стратегический запас русской нации.
Что можно сказать еще?
А только добавить, что и мужские типы во всем их многообразии вне женского фона блекнут и вянут, как засохший без живительной влаги букет.
Иерархия
Сравнение описанных типов показывает противопоставленность идеальных ликов «действующим лицам» истории. Святой-герой и мудрец-царь представлены как образцы нерасчищенных функций героического идеала или каждодневного подвига. Лица мастера, хозяина и простеца даны как реальные заместители тех же ликов в их осуществлении на земном поприще. Сергий Радонежский в бытии — это хозяин и простец одновременно. Входящие в монастырь видят его за работой в саду и в хозяйственных хлопотах по строительству. Царь же — всегда хозяин, его исконное славянское имя совпадает с обозначением хозяина — государь-господарь.
Показательна эта смена имен. Герой, мастер, хозяин — заимствованные слова, им предшествовали другие, более точно отражавшие смысл данного типа. Герой — добль (доблесть, доблестный), мастер — хитрец, хозяин — господарь.
Одновременно и в общем ряду представлены также обманные инверсии и обманчивые личины. Разницу между ними не всегда заметишь, но что они есть — это ясно.
Инверсии даны как словесные подмены, их много. Самозванцы подменяют царя и святого, заступник — мудреца и героя, скаред — хозяина, странник — мастера, сирота — простеца. Внешне, по форме, то же самое, но в сущности явления как раз и нет.
Но инверсии очень серьезны. Им нельзя иначе, ибо их легко обличат. Обманчивые личины намеренно несерьезны, изнаночно выворачивают суть своих эталонов — и простак, и юродивый, и дурак. Им самим смешно видеть образцовый мир идеальных героев, придуманных и надуманных в банальных лицах. Сами они создают совершенно иные «социальные роли», смысл которых в утверждении новой правды путем отрицания правды старой. Как древняя приставка не-, отрицая, утверждает новую степень того же качества, так и эти три личины утверждают то же, что и лики, но не в поверхностном касании вещного, а глубиной вечного. Утверждают то, что отрицают.
Если вглядеться в героев классической русской литературы, легко увидеть процесс осмысления и развития всех описанных здесь ликов, лиц и личин, — как они последовательно выделялись в русском сознании, как происходила их специализация по функциям и героизация в целях создания из явленных образов образцов поведения (не поклонения). Сюжеты и композиции классических текстов вытекают из расположения и взаимных связей избранных для описания образов-образцов. Не из жизни-вещи, а из идеи-смысла. В этом и проявляется реализм классической русской литературы. Современное вторжение литературы в жизнь и предметность вещи или в слово (аллюзии и ремейки на старые темы и сюжеты) начисто исключает идею как ось повествования и, следовательно, разрушает русский реализм как форму народной ментальности. Травестирование классических текстов — не русская черта в современном искусстве.
Но даже сопоставляя особенности характера исторических личностей, мы видим в них тот или иной сплав описанных здесь типов.
Пушкин и Хомяков
Два русских типа, почти современники, и философы-современники пишут о них: Семен Франк — о Пушкине, Бердяев и Флоренский — о Хомякове. Франку не нравится Хомяков (он многим не нравится), Бердяев не в восторге от Пушкина (он нравится не всем). Можно вспомнить и Чаадаева — человека той же культуры, происхождения, но крайних взглядов.
И Пушкин, и Хомяков, по мнению философов, испытали духовное одиночество «в мире глубин человеческого духа» и оба достигли «глубины мистического самосознания: чем глубже — тем шире, философская истина» [Франк 1996: 296]. Духовная их глубина отражается в душевной жизни «и просвечивает сквозь нее». Трагизм положения сочетается со светлым чувством, любовь к поэзии — с любовью к миру: светлая печаль. Гениальность обоих — в сотворении синтезов в области духа: в языке и стиле — у Пушкина, в вере и в слове — у Хомякова («он весь в Логосе, в Логосе мыслил и учил», говорит Бердяев). Оба православные, патриоты, монархисты, политически консервативны и не приемлют демократии («отвращение к насильственным переворотам» как русская национальная черта); оба понимают народность как «своеобразие духовного склада народа» [Там же]; «анархический привкус... нелюбовь к политике, к государственности, к властвованию» — а это, добавляет Бердяев, «прежде всего национальная идеология».
Но при этом Хомяков — славянофил и прямой антигосударственник, Пушкин — определенно западник и, быть может, государственник. Поэзия Пушкина «живет, питаясь стихией слова, этого откровения духовной жизни» [Франк 1996: 266] — философия Хомякова словом живет и в слове рождается. Однако при этом у Пушкина отмечают универсализм его духа, границ которому нет, а Хомякову присущи неприятие чужеродного, отталкивание от враждебного. Пушкин — дитя, Хомяков — умудренный жизнью старец.
«Идеи Пушкина — всегда простые фиксации интуиций, жизненных узрений, как бы отдельные молнии мысли, внезапно озаряющие отдельные области, стороны реальности». Они рождены из слова, как словом же направлены и философские интуиции Хомякова. В своем движении мысли они похожи: от идеи — к вещи, «живое знание поэта — выражение осознанной им жизни» [Там же: 253, 263].
«Видит Бог, как я ненавижу и презираю немецкую метафизику», — говорит Пушкин — и Хомяков от нее отталкивается, уходя в область религиозного философствования.
Но Пушкин — поэт, его мышление образное, предметное; предметное мышление Пушкина «никогда не удаляется от конкретной полноты реальности, никогда не поддается искушению подменить ее отвлеченными, упрощающими схемами и систематически-логическими связями» [Там же: 253] — Хомяков за образом видит символ. Он не толкует символ, как это делает Пушкин с его «неизмышленным, гениально наивным символизмом», но создает символ в виде общей категории духа, каждый из которых до сих пор не истолкован на понятийном уровне. Что такое соборность, например?
В своих творениях Пушкин и Хомяков как бы восполняют друг друга. Пушкин — «ведатель жизни». Хомяков — жрец идеи: обе ветви «реализма» сближены до предела — и вещь, и идея. И притом оба они высокомерно-презрительны к господствующему мнению, которое пытается некто выдать за бесспорную истину. Духовная независимость личности отличает их, «самостоянье человека, залог величия его». И тот и другой «очень реальный человек» (слова Бердяева).
По старинному служилому правилу оба понимают, что есть аристократизм обязанностей, а не прав («где является аристократизм прав — там кончается дворянство» — Пушкин). Свобода принадлежит не всякому, свобода удел тех, кто в трудах и поте служит отечеству; все прочие — чернь. И Пушкин, и Хомяков, как заметил Павел Флоренский, создают «очаг новой идеи».
Личности схожи также: дружелюбие в своем кругу — настороженность к тем, кто уже показал себя неприятелем; но у Хомякова «общее жизнепонимание — родовая идея» (тоже Флоренский), ибо мир этот свят, а у Пушкина — свет. Корень смысла один и тот же, но оттенки различны: святость идеи и вещность света.
Пушкин — типично русский человек, и Франк рисует: широкая натура — и мудрец, «чисто русский задор цинизма, типично русская форма целомудрия и духовной стыдливости, скрывающая чистейшие и глубочайшие переживания под маской напускного озорства» — «юродство поэта», известное по многим признакам поведения. Смирение и любовь — он «христиански добр», органически неспособен к партийному фанатизму.
Многослойность русского характера Семен Франк показывает на личности Пушкина.
На поверхности — жизнерадостность как физиологически определяемая душевность, эмпирическое буйство темперамента, под ним — переживания тоски, хандры, уныния и скуки — глубоко национальное восприятие мира, пессимизм, раскрывающий противоположности между духовным миром и природой (гордое одиночество); и, наконец, слой духовности — Дух примиряющий, по существу уже почти религиозный в последовательности возрождения: муки совести — радость нравственного очищения — духовный катарсис — возрождение к духовному творчеству, а в конце «чистая, простодушная благость» [Франк 1996: 271]. «Нет убедительности в поношениях, — напоминает нам Пушкин, — и нет истины, где нет любви». Слова, с которых Хомяков начинает свое богословие.
А вот портрет самого философа. «Хомяков так умен, что о душе его ничего нельзя сказать; можно, однако, убедительно сказать, что его сердце доброе», — это слова светской дамы, хорошо знавшей и Пушкина. Это же портрет русского человека: умная голова и чистое сердце. Далее говорит Бердяев [Франк 1996: 27—50]: «Хомяков сделан из одного куска, точно высечен из гранита. Он необыкновенно целен, органичен, мужествен, верен, всегда бодр... Он совсем не интеллигент (русский мужик и русский барин одновременно. — В. К.)», человек высокой культуры, мистические предчувствия которого редко подменялись морализмом. Типично русский человек, Хомяков ленив (друзья заставляли его писать, заперев в комнате), по-русски хаотичная натура, «крепок земле», с огромным самообладанием, скрывает свои переживания, горд и скрытен: «в нем был пафос гордости», связанный с чувством собственного достоинства. «Он не хочет являться людям безоружным... он никогда не хочет быть любезным... в нем разум и воля преобладают над чувством...» Также силен в нем идеал семейственности. Самая характерная черта Хомякова — воинственность, «он догматик всегда», «утверждать и бороться во имя органического утверждения, диалектический борец — непобедимый спорщик», который любит острить и смеяться, поскольку «смех целомудренно прикрывает интимное, священное»: «Смех прежде всего очень умен» — это приближение к гармонии, в числе основных признаков которой свобода («Скажи им таинство свободы!»), но свободу Хомяков понимает по-русски, как ненависть к принуждению и насилию. Некоторая скупость — нежелание расточительности в хозяйстве, интерес к англичанам (англоман) и неприязнь к романским народам (по русской традиции, к католичеству).
Хомякову была близка практика «умного делания», но элемент рассудочности преобладал в нем, и самое главное, по мнению Бердяева, «это русская черта: обладать огромными дарованиями и не создать ничего совершенного».
Ничего и никак не оформить в законченность системы.
Но это также особенность русской духовности (не смешивать с ментальностью!): система всего лишь мнение, а мнения каждый день — новые.
Герцен, Достоевский, Толстой
П. Б. Струве три русских типа рассмотрел на примере идеально обобщенных образов русских писателей Герцена, Достоевского и Льва Толстого, которых, как и Пушкина, Струве считал вершинами: «великие и вечные человеческие типы в оправе мощной и красивой индивидуальности». Это «национальные герои духа» [Струве 1997: 288].
По справедливому мнению Струве, «русские люди — из всех человеческих стихий — с наибольшею страстью [0] искали свободы [1] и всего полнее изведали и испили деспотизма [2]. Не только в смысле политическом [3], но и в смысле духовном [4]». Цифры в скобках даны для последующего сопоставления трех русских типов по распределению «человеческих стихий».
Герцен — свободный ум, человек честного разума, которым двигала страсть свободы, который «не боялся никакой правды». Основное содержание его жизненного подвига есть страстная борьба за свободу политическую, т. е. свободу государства, общества и личности. Следуя определениям Струве, выразим такое соотношение «стихий» формулой 0/1+3. Это конфронтация Добра и Истины в рационально понятой деятельности страстей.
Достоевский всю жизнь живет в проявлениях борьбы Добра и Зла, описывает это борение как конфликт между Богом и дьяволом в обществе и в человеческой личности, и столь же страстно [0] он взывает к свободе [1], но свободе Духа [4], развивая идеи славянофилов. Это соотношение 0/1+4.
Лев Толстой существует в противоборстве Красоты и Добра (Плоти и Духа), это столь же страстное [0] отстаивание духовного, но не в свободе, а в деспотически навязанном выборе Добра вне Красоты, т. е. 0 / 2 + 4. «Чем больше мы отдаемся Красоте, тем больше удаляемся от добра» — это формула Толстого. Но если красота — это страшная сила, то сила для Толстого есть насилие, т. е. несвобода и произвол. Только Добро освобождает.
Обратим внимание на две вещи.
Речь идет не о борьбе между разными категориями (ипостасями) абстракции Благо, но о противоборстве их. Противоборство диалектически взаимообратимо и в сознании художника предстает как состояние, равноценное (эквиполентное) по качествам. Здесь отмечены обе противоположности, способные проникать друг друга, обогащать и тем самым побеждать, но побеждать временно: во всех случаях это процесс бесконечного роста личности в дуалистическом осмыслении ее мира. Антиномичность нравственно структурирует личность.
Второе касается самого Струве. Он неокантианец, и как таковой он строит исходную схему по известным различительным признакам, а затем структурирует пространство заданной схемы, наполняя ее реальными элементами, в данном случае — фигурами писателей. Как личности эти писатели шире и глубже предложенных схем, но как русские типы вполне представительны.
Всем трем противопоставлен Пушкин — «живой образец творческой гармонии», который как бы «объективно», т. е. вне личной «страсти» (пристрастия, пристрастности), совмещает в своей личности и в своем творчестве и духовную и политическую свободу, и способность к догматизму. Интересно это настойчивое упоминание Струве «русского догматизма», но — не присущей европейцам схоластики. Догматизм действительно есть характерно русская черта сознания. Это ведь увлеченность идеей, тогда как схоластика есть увлеченность словом. У русских правит догматизм идеи, а не пустошно-схоластическое перебирание слов.
Что же общего у всех четырех русских типов?
Страстное утверждение гармонии бытия как всеобщего Блага, но в различных поворотах идеи, которую посторонний, хотя и наблюдательный Струве называет догматизмом. С его точки зрения Лев Толстой рассмотрен в образе Красоты, Герцен — в понятии Истины, Достоевский — в символе Добра. Гармоничный Пушкин в единстве всех состояний ближе их к концепту-идее Благо как цельности Истины, Добра и Красоты.
Но ни у кого из них Добро не подменяется Пользой, т. е. тем проявлением Добра, которое является у русских позитивистов как интерес — под прямым воздействием европейских учений второй половины XIX в.
Сказка — ложь, да в ней намёк
То, что слегка намечено в этих очерках как типы, сгущается в характеры литературных героев. Результатом рефлексии о самом себе становится художественный текст, все-равно — сказка ли это или роман. Именно в таком отраженном свете — в отсветах через художественные образы — мы и видим русские типы, воспринимаем их как давно знакомых друзей и близких. Они — это мы сами.
Вот сказка. «Русская сказка подобна пророчески заклинательному распеву; она проникает в сердце человеческое... сказка есть одновременно искусство и магия», — говорит Иван Ильин [6, 3: 36]. Сказка повествует о русском в ключевых понятиях его ментальности, в главных символах его духовности. «И как в самом русском человеке всегда есть что-то детское, так просматривается оно и в его сказочных героях: они всегда по-детски храбры, по-детски без оглядки доверчивы, по-детски чистосердечны и так же легко плачут, когда наступает час безысходного горя. Они добродушны, эмоциональны, отзывчивы, кротки, скромны, духовно подвижны, склонны к импровизациям, а своим непринужденным плачем напоминают древнегреческого героя — отважного и хитрого Одиссея» [Там же: 46].
В сокровенном смысле русской сказки находим ответы на вечные вопросы: что такое счастье, что такое судьба, существуют ли в жизни злые силы, куда ведет кривда и что такое люди. «И, наконец, чисто философских и природоведческих вопросов касается сказка: правда ли, что лишь возможное возможно, а невозможное исключено? Не таятся ли в нас и вокруг нас, в вещах и предметах, такие скрытые возможности, что о них даже думать никто не решается?» [Там же].
Корнем сказки всегда являются концепты национального сознания, потому что и слово сказ прежде всего значит: раскрытие тайного в магии слова. Открыть сердце — высказаться и успокоиться. Выразить заветное — и очиститься.
Иначе современный писатель. Он тоже маг, но — не верит в магию; он и пророк также, но пророк, не знающий пророчеств, им не верящий. Он не парит в абсолютной идеальности концептов, но облекает те же концепты в формы реальных лиц. Он создает не символ, как сказка, а — образ, тем самым пытаясь пре-образ-овать мир.
И тогда уже читатель, соучаствуя в творчестве, должен выявлять из текстов концептуальные «корни» сознания, которые автор разделяет со своим народом.
В отношении к романам Достоевского и Льва Толстого это сделали многие философы, мы не раз вернемся к их результатам. Здесь же для примера посмотрим, что на сей счет думает Иван Ильин [6, 3: 358 и след.; 464 и след.].
По мысли Достоевского, русский народ далеко не стадо, не толпа, не «масса». Русский человек предстает как самостоятельно отдельная личность, не испорченная душой, неприхотливая, склонная к милосердию, терпимости, всепрощению. Инстинкт «всечеловечности» позволяет ему распознавать суть дела и свято верить в то, что в глубинах сердца его сущность. Не «истина факта» и не «истина разума» у него на первом плане, но духовная «истина сердца». Поэтому-то герои Достоевского иностранцу кажутся чуть-чуть помешанными, ненормальными, не от мира сего. Но именно в таких их проявлениях заключается человечность и человеческое. Вглядывание в сущность помогает мысли и чувству ставить идеал выше всего мирского в явленности его. И страдания русского человека — все оттого, что не видит он соответствия между идеалом и миром, лада нет между ними, что-то неладно тут. И хочет он добиться этого лада, и рвется из потребности дойти до крайней черты, «заглянуть в бездну» — возможно, с тем «чтобы проверить себя самого, свою веру и свою совесть».
И поскольку не отдельный даже человек (люди-то разные, есть и другого склада, много чего намешано), а народ в целом устремлен к идеалу, то и «народ всегда прав» именно как народ. Как живое целое.
Полюс Льва Толстого совсем другой. «Он желал любви и ничего более», но любви особенной, не окутывающей всепрощением, мягкостью и лаской чувства, нет, любви «в рассудочно-логической мысли», рациональной. Не мучить человека (ибо страдание — зло), но сострадать ему, понимая, что счастье есть высшее благо, а ненависть и враждебность разъединяют людей. И этот полюс сходится с двуобращенностью русской ментальности одновременно и на идею, и на вещный мир вокруг. В своем творчестве лучшие художники слова раскрывали — неутомимо и настойчиво — основные концепты русской духовности, наполняя их живой плотью фактов и событий. Счастье, жизнь, мир, судьба, совесть... О чем еще они писали?
И становится ясным, что идеи и типы — одно и то же: типы характеров суть воплощенные идеи.
В каждом человеке присутствует ныне сложная смесь всех описанных черт — идеальных в типе; но цельности типов теперь уже нет; быть может, они сохранились как образы только в классической русской литературе (реализм), иногда в особенно резком виде, как у Гоголя, Салтыкова-Щедрина или Достоевского (запредельность рассудочного: в описании ликов побеждают личины и временами вовсе нет лиц — действующих лиц). Но таково со-бытие культуры: увеличивается разнообразие личностных вариантов в зависимости от того, как и в каких условиях происходит ослабление и распыление доминантных черт типа. Различные социальные роли (маски-личины) в различной их интенсивности и в разной сочетаемости признаков создают неустойчивый, рыхлый, дробящийся мир индивидуумов, которых соединяет в нечто общее лишь одно: ментальные образы внутренней силы, схоронившиеся в языке.
Русский, говорит Ильин в этой связи, основательно докапывается до всего, себе самому задавая «предельные вопросы», и, пропуская их через созерцательное сердце свое, облекает в совершенные формы как вызревшие идеалы всемирного значения. Потому что «художественная форма вырастает у русских из содержания». Содержательная форма и есть искомая сущность русского характера. Многих, сложных, противоречивых и разных — характеров. «Только одна Россия могла произвести подобное разнообразие характеров», — сказал Гоголь некогда и тем самым выявил глубокое своеобразие русского человека как типа.
Отсутствие инварианта, нормы, стандарта не есть отсутствие общего, нормального или устойчивого. Думать так было бы ошибочно. Инвариант не форма, а содержание, смысл, обычно сокрытый в глубинах народных концептов. Суровые условия природной и социальной жизни выработали разные типы личностей и их переменчивых вариантов, как бы с запасом на прочность: а вдруг понадобится и тот и этот — все погибнут, всё переменится, а мы — спасемся?
Восхождение в отвлеченность
Итак, древнерусское обозначение типов по телесной внешности — лице — соответствовало тем идеологическим установкам, которые тогда главенствовали. Это номинализм аристотелевского типа, озабоченный наполнением объемов понятия (ментализация символа) путем накопления «лиц» в определенной социальной среде: дружинник, монах, ремесленник... Здесь нет идеальных лиц, потому что правит совершенно иная идея: прагматизм свершения дел — ментальность.
Идеология реализма с XV в. направлена на поиск идеалов, которые могли бы стать содержанием вновь созданных христианством понятий.
Ментализация сменилась идеацией, основная цель которой состоит в выявлении ликов из массы развившихся лиц. Народная духовность кристаллизует лики героя и святого, народная поэзия одухотворяет их образы, создавая творческий портрет героического и праведного. Именно XV в. — время «возрастания святости»; именно XVI в. — время сгущения эпоса, заквашенного на памяти о героях прошлого. Заимствованная символика эпохи ментализации (Древняя Русь) обогащается народными образами эпохи идеации. Это уже не дело-вещь, как прежде, а идеальная мысль о них же.
Но жизнь продолжается. События XVII в. внесли поправки, возникла необходимость согласовать объемы понятий с новым их содержанием, и с середины XVIII в. в течение столетия происходит их совмещение, идентификация понятий в слове. Но при этом изменяются сами «типы» — уже не физически определенные лица и идеальные их лики, а социальные роли известных типов — личины-маски. Они дробятся все больше, в напряженном столкновении лиц-объемов и ликов-содержаний выявляя внутреннюю свою несводимость: простец и простак, мастер и мастак, мудрец и дурак — в разных проявлениях личной маски.
Это поворотный момент. Система понятийных соответствий не устоялась, словесный образ и заключенный в слове символ еще не полностью соответствовали друг другу, само понятие дано еще аналитически, как словесная формула, как слово об осмысленной вещи: лично́е полотенце, красота лична́я — ли́чное дело, ли́чная часть — ли́чный замок (внутренний); ли́цевая сторона (казовая) — лицевы́е деньги (наличные) и т. д. Соотношение между внешним (личны́м в лице) и внутренне присущим (ли́чным в лике) постепенно развивает всё новые сочетания, соотнося друг с другом прежде расходившиеся в сознании ипостаси физического лица, духовного лика и социальной личины, и возникает — как и должно возникать — совершенно новое, уже чисто понятие — «личность».
Аналитическое «понятие» (определение—содержание и имя—объем) выделило типичный признак содержания, внимание перенесено на него, и в результате создается имя-термин, выражающее выработанное сознанием понятие — «личность». Его появление готовилось долго, его смысл прорабатывался в сотнях сложных и составных слов типа лицемѣрие, лицеприятие, лицезрѣние и т. д., в которых корень -лиц- тоже есть знак содержания, но не в виде, а родово, т. е. направлен на обобщение множества видов деятельности, связанных с реализацией каждый раз «своего лица». Да и слово лице в постоянных поворотах смысла порождало сотни сочетаний типа в лице (прямо) — лицемь к лицу — в лице ставити — в лицехъ быти — лицо наложити.
Все это в конце концов привело к тому, что в начале XIX в. возникло представление об отдельной личности как самостоятельном представителе определенного социального слоя (лица), и идеала (лика), и типа (личины), вобравших в себя их признаки и тем самым способных стать над ними в качестве родового. Одновременно это — «человек как член общества и как носитель личного, индивидуального начала» (в определениях современного словаря).
«Выпутывание» идеальной личности из вещной субстанции рода, места, чина, сана и т. д., которые определили ее положение и статус в общине — в обществе — в общественности, происходило и реально, и действительно — и в социальной, и в духовной атмосфере. «Входя в общество, личность перестает быть сама собой», она все больше становится «собирательной личностью», отметил В. М. Бехтерев, и понятно почему. По происхождению своему личность предстает как функция рода, на социальной основе выделяется как носитель заслуг вне самого лица. Это прежде всего проявилось в высших слоях общества. Так, «особенность «дворянского типа личности» заключалась в «предопределенности историей». Личность была прежде всего представителем рода, находясь между чередой «славных предков» и «почтительных потомков». Носитель «импульса благородства», идущего «из глубины веков», обязан был занимать в обществе достойное место, для того чтобы ощущать себя достойным этого положения», иначе он становился как все [Артемьева 1996: 159].
Так изменение форм, направленное обстоятельствами жизни, постоянно возобновляло внутренний смысл исходного концепта — *lī- — 'лить’, т. е. отливать в форме, формировать типы по мере их развития в физическом, социальном и духовном плане. Как утверждает этимологический словарь [ЭССЯ, 15: 78], тот же образ и сегодня присутствует в сознании, представая в выражениях вроде «вылитый отец!» — о сыне, похожем на отца внешне.
Кружение метафор и словесных сочетаний, сужение и расширение смысла слов — короче, всё, что происходило со словом в обозначении вещей, — всегда направлено тугой пружиной словесного корня, в котором, как ядро в орехе, сохраняется первоначальный смысл концепта.
Глава седьмая. Мир человека и личности
Когда философ произносит слово человек, всегда ли он знает его значение?
— Сомневаюсь.
Петр ЧаадаевЧеловек и мир
Два концепта — «мир» и «человек» — сами по себе определяют некоторую двойственность русского сознания: не однозначно ментальность, но также и духовность. Мир как космос — основная метафора язычества, человек — христианства. В процессе многовекового схождения два символа усредняли противоположности между ними и одновременно удваивали концептуальное поле сознания, выделяя «внутреннего человека» и «человека внешнего». В той мере, в какой это нашло отражение в языке, можно эксплицировать внутреннее содержание концепта Мир как то, что «мило» (это слова общего корня), представленное одновременно и миром тишины-покоя, и міром Вселенной, но также Божьим міром и міром вещей. Одновременно и Человѣкъ как «цело-здравый» член общества (таков исходный смысл сложного слова) стал и «человеком», и «личностью». Соотношение макро- и микроуровней «Божьего міра» оставим в стороне как связь, хорошо известную.
В основе средневековых представлений о «структуре человека» лежат иерархические степени апостола Павла: Дух > сознательная душа > чувственно-подсознательное («плотские помышления») > тело («плоть») как сосуд всего остального. Подводя итог многим суждениям русских мыслителей о человеке, Б. П. Вышеславцев представил уточненную структуру: физико-химическая энергия > живая клетка, энергия (βίος) > психическая энергия («коллективное бессознательное») как индивидуальная душа > лично-бессознательное (вырастает из предыдущего) > сознательная душа > духовное сознание (Дух) > духовная личность как творец культуры (самость) [Вышеславцев 1994: 284—285]. Первый и последний уровни у апостола Павла отсутствуют, третье и четвертое у него объединены в третьем. То, что отсутствует в текстах Нового Завета, выработано действиями многих, и притом в течение долгого времени. В частности, первые богословы представили троичную структуру человеческой личности, определив в ней эмпирического человека (чувства), «земного человека» (воля) и «идеал-человека» (разум — νους) [Рюше 1930: 387].
Триипостасность человека не подвергалась сомнению русскими богословами. П. А. Флоренский обозначил эти ипостаси как (соответственно) лицо—личина—лик (душа—тело—дух). По мнению современных физиков, триипостасность сущего естественна, как проявление всякого вещного в трехмерности существования. Аналитическое сознание раскладывает «вещь» на ортогональной плоскости бытия. Совокупность всех отношений, в которые вступает человек, может быть описана как развертка типа:
- идеал-человек: потенциальность разума и добродетели лика в идее жизни (идеальное);
- эмпирический человек: реальность чувств и качества лица в бытии живота (физическое);
- земной человек: актуальность воли в обязанностях личины как образ жития (социальное).
Все слова, приведенные в определениях, являются ключевыми, но извлечены из различных интерпретаций «структуры»: лик—лицо—личина (Флоренский), жизнь—живот—житие (Колесов), добродетели—качества—обязанности (Вундт), идея—бытие—образ (Бердяев), разум—чувство—воля (Рюше) и т. д. Выразительно это совпадение всех про-явлений триипостасной сущности «человека», независимо от подхода к толкованию этого концепта.
Например, можно говорить о повышении степеней абстракции от чувственного «индивидуума» через разумного «человека» к идеальной сущности «личности» [Чернейко 1997: 130]. В таком случае человек и личностъ предикаты к индивидууму, который реален в действительности. Разные уровни обобщенности являют один и тот же объект — эмпирического человека. В таком случае имеем дело с разверткой «от вещи», от телесности дискретной индивидуальности (individuus — ‘неделимый’ далее отдельный организм). Это позиция номиналиста. Человек и личность здесь предстают как ипостаси идеи и слова, опять-таки в зависимости от точки зрения номинальной, т. е. одновременно и ‘обозначенной’, и ‘фиктивной’ (современные значения слова номинальный), и номинативной, т. е. служащей для обозначения неких категорий, иначе не представимых. Позиция номиналиста не может быть иной, но выбор остается за наблюдателем. Русский интеллигент-западник поставит идеей «личность», а категорию «человек» низведет до слова архаического звучания; русский народ (и славянофил), наоборот, идеализируют категорию «человек», а «личность» станут рассматривать просто как слово личность.
Между прочим, в употреблении могут быть выражения типа «индивидуализация человека», «человеческая личность», «человеческая индивидуальность» и т. д., но невозможны такие, в которых личный, личностный выступали бы в качестве дополнения к человек, индивидуум («личная индивидуальность», «личная человечность» и т. д.). Это значит (по общему правилу выделения типичных признаков от видов к роду), что «личность» — всегда род, тогда как «человек» и «индивидуум» — виды личности, данной как идея.
С точки зрения «реалиста» позиция изменяется. «Словом» у него выступает личность — это производная от втянутых в содержание категории слов лик, лицо, личина, личный, личник и т. д. Для русского «личность — вербальна. Человек — дословен. В человеке — заумь подлинного. В личности — бессознательное симуляции» [Гиренок 1998: 407].
Такая позиция не совпадает с культурной парадигмой, представленной философской рефлексией [Пелипенко, Яковенко 1998]: субъект культуры развивается в последовательности индивид > паллиат > личность (завершение: автономная личность). Эти типы не выводятся друг из друга, потому что сами выступают субъектами определенных культурных парадигм и определяются своим целым. Именно это архаический уровень индивида («родовой человек») с ориентацией «объект-объект» (человек — часть природной среды) — субъект манихейской этической рефлексии в поле «Добро—Зло» с ориентацией «субъект-объект» (парадигма Средневековья) — современный «научный» «субъект-субъектный монизм». Судя по некоторым высказываниям авторов, русский народ обретается в сфере перехода от второго к третьему (от паллиата к личности), поскольку для него и сегодня характерны: логоцентризм (позиция «от слова»), это государственный человек, приверженный монотеизму с повышенным устремлением к идеальному. «Значительная часть современного мира представляет собой зону господства паллиата. Его отличительные признаки — примат общественного над индивидуальным, социоцентристские ценностные ориентиры, верховенство абстрактной идеи над ценностью человеческой жизни, а также примат должного над сущим и доминирование проектного сознания. Всё это сочетается с волюнтаристическими интенциями в социальной практике» [Там же: 331].
По-видимому, это схема:
Паллиат в прямом значении латинского слова palliatus ‘одетый в плащ’ — индивидуум в ризах личности. Паллиат — это человек, т. е. социальный индивид. Однако скольжение взгляда изменяет не структуру культурной парадигмы, а доминантность совмещенных категорий: «В каждой цивилизации присутствуют все три слоя. Разница лишь в доминанте» [Там же: 285]. Блуждающий нерв категории сохраняет все типы в пространстве инварианта, создает внутреннюю динамику дальнейшего развертывания парадигмы, давая выбор предпочтений. Утроенность имен производит впечатление растроенности парадигмы, включенной в концепт на правах такого инварианта, но, в конце концов, это всего лишь слова, слова, слова... за которыми скрыта сущность, непозволительная для смертного, который блуждает в этих трех соснах, покрытый темным плащом воображения.
Триипостасность человека
В русской ментальности слово человек — это гипероним, обозначающий совокупность всех проявлений лица как их инвариант (концепт): «Человек существует лишь как вид или род» (Булгаков) — не индивид; «Человек есть символ» (Бердяев) — это точка зрения «от слова».
Можно привести множество суждений такого рода, причем чаще всего словом человек русские философы именуют именно «эмпирического человека»: «Эмпирический человек есть категория текучая и подвижная: от зверя к образу Божию и — от образа Божия к зверю» [Ильин 1987: 111] — широкое поле абсолютной троичности. «Человек „дан“ нам в разных смыслах. Но — прежде всего и первее всего он дан телесно — как тело. Тело человека — вот что первое всего называем мы человеком» [Флоренский 1985: 264]. Такой человек «есть не просто двойственное, а двуединое существо: сосуществование и противоборство этих двух природ сочетается с некой их гармонией, с некой интимной их слитностью, и это единство должно быть так же учитано, как и двойственность» [души и тела] [Франк 1956: 75]. Человек рвется ввысь, в духовное, и низвергается в социальное; и то и другое — сферы его деятельности: «Человек принадлежит двум сферам: царству Бога и царству Кесаря. На этом основаны права и свобода человека. Таким образом, существуют пределы власти государства и общества над человеком» [Булгаков 1991: 25]. «Человек есть воплощенный дух и одухотворенная плоть, духовно-материальное существо, и потому в его жизни не может быть проведено точной грани между материальным и духовным» [Булгаков 1990: 217]. Таким образом, «человек как целостное существо не принадлежит природной иерархии и не может быть в нее вмещен. Человек как субъект есть акт, есть усилие. В субъекте раскрывается идущая изнутри творческая активность человека... Человек низок и высок, ничтожен и велик. Человеческая природа полярна»; «когда мы стоим перед загадкой человека, то вот что прежде всего мы должны сказать: человек представляет собой разрыв в природном мире, и он необъясним из природного мира» [Бердяев 1991а: 83, 82].
Троичность лица в его жизненных манифестациях подтверждается и анализом языка, утверждающего существование «в мышлении и речи функционального принципа партитивности, в соответствии с которым целью и объектом изображения в высказываниях является человек нецелостный, расщепленный, параметризованный... Партитивные номинации человека употребляются для воплощения антиномичности и многогранности человека... для типизации и индивидуализации личности (обмирщения идеального? — В. К.) в тех или иных жизненных ситуациях» [Седова 2000: 20]. Именно так и представляет себе Другого любой «по мерке наивного человека».
Исходный концепт национального сознания определяется первичной номинацией, которая не раз толковалась; «например, немцы обозначают человека при помощи слова Mensch, но Mensch связан с латинским словом mens, что значит ‘ум’, ‘разум’. Этот же корень слова для обозначения человека мы имеем и во многих других индоевропейских языках. Следовательно, Mensch хотя и обозначает здесь всего человека, тем не менее фиксирует в нем только разумную способность, как бы желая показать, что человек есть по преимуществу только разумное существо. Римляне пользовались для обозначения человека словом homo, которое некоторые этимологи связывают с humus, что означает ‘почва’,’земля’; и тогда homo означало бы ‘земной’, ‘происшедший из земли’. Но уж во всяком случае humanus ‘человеческий’, откуда во всех европейских языках слово гуманизм, несомненно связывает человека с землей, в противоположность германским языкам, связывающим его с интеллектом» [Лосев 1991: 284]. Латиняне связывают обозначение человека с «землей» (это лицо), германцы — с «разумом» (это идея лика), тогда как славянское слово содержит первосмысл, указывающий на способность «со-творять» (целый-здоровый), т. е. представляет человека социально как «волю» (это личина).
Физически телесный индивид, пребывающий в «животе своем», становится социально оправданным лицом (человеком в своем житии), а уж человек стремится в жизни своей к идеальной форме личности. Именно обращенность к социальному становится центральным пунктом всей системы: «Кто видел когда-нибудь это загадочное существо — человека? Мы встречаем земледельцев, ремесленников, писателей, чиновников, но что такое человек? Даже ресторанный „человек“ — специалист известного труда» [Меньшиков 2000: 32].
Лицо индивидуума
Социальный статус «лица» в комментариях философов является как остаток языческих представлений, что, может быть, и неверно исторически, во всяком случае ошибочно с общей точки зрения. Эмпирический человек индивидуален, он всего лишь неделимая монада — индивидуум. Однако «если бы человек был только индивидуумом, то он не возвышался бы над природным миром. Индивидуум есть натуралистическая, прежде всего биологическая категория. Индивидуум есть неделимое, атом... Как только провозглашают, что нет ничего выше человека, что ему некуда подыматься и что он довлеет себе, человек начинает понижаться и подчиняться низшей природе» [Бердяев 1991а: 88, 103], поскольку вообще человек как живое лицо, как индивидуум (исходная точка существования) «не может иметь источника жизни в себе самом — он имеет его или в высшем, или в низшем» [Бердяев 1926: 245]; «человек по „естеству“ своему не добр и не безгрешен. Все „естество“ во зле лежит. В „естественном“ порядке, в „естественном“ существовании царят вражда и суровая борьба» [Бердяев 1991: 132]. Бердяев особенно настаивает на том, что эмпирический человек живет лишь в энергийном поле между высшим и низшим, между индивидуально-телесным и духовно-личным. По-видимому, этот мотив идет от ранних славянофилов, идеи которых обобщил А. С. Хомяков.
По его мнению, срединность положения «лица», с одной стороны, подчеркивает биологическую природу человека, а с другой — выделяет его в природном мире: «Природе живется, и только человек живет» [Хомяков 1912, 1: 311]. Указывается первый признак выделения из природной среды: «человек мог бы быть определен как животное стыдящееся...». То, что «человек прежде и больше всего стыдится именно самой сущности животной жизни, или коренного проявления природного бытия, прямо показывает его как существо сверхживотное и сверхприродное. Таким образом, в этом стыде человек становится человеком в полном смысле» [Соловьев 1988, 1: 225—226]. «Стыд» человека как нравственная категория язычества на уровне личности преобразуется в категорию «совесть».
Человек однозначно как «лицо» есть метонимическая редукция до одной единственной ипостаси, которая предстает как человеческое, но еще не человечное.
Лик человека
Идея «лика» есть христианское представление о человеке; как обычно в истории сакрального языка, для обозначения этой ипостаси человека использован исходный (архаический) корень слова, не подвергшийся никаким изменениям в произношении или форме.
«Каждый, кто любит его, уже заранее заражен сомнением: каков же должен быть окончательный человеческий лик? Не может он благоговейно не преклониться перед каждым из этих трех, хотя они взаимно и отрицают друг друга: из этого отрицания в истории они возникли порознь» [Розанов 1990в: 51]. «Человек есть существо, укорененное в сверхчеловеческой почве — таково единственное значимое определение существа человека; он есть такое существо, все равно, хочет ли он этого или нет» [Франк 1990: 508], поэтому, например, «отрицание Бога ведет за собой отрицание человека» [Бердяев 19896: 108], ниспадение его; если не поднимаешься — падаешь. Срединная точка «животного» существования, мир и мирское (тело и телесное) существуют постольку, поскольку они сохраняют свою сущность. «В нравственном сознании, которое есть практическое выражение этой духовной природы человека, человек, испытывая чувство должного, сознавая абсолютный идеал своей жизни (идеальной формы «животного». — В. К.), возвышается над своей эмпирической природой; и это возвышение и есть самое подлинное существо человека. Человек есть человек именно потому, что он есть больше, чем эмпирически-природное существо; признаком человека является именно его сверхчеловеческая, богочеловеческая природа... Человек есть некий внутренний мир, имеющий неизмеримые глубины, изнутри соприкасающийся с абсолютной, сверхчеловеческой реальностью и несущий ее в себе» [Франк 1991: 333, 343].
Здесь просматривается обычная логика «реалиста»: род есть один из видов. Человек остается человеком как вид только потому, что одновременно он есть и надчеловек; идеальное («реальность») создает действительное. Индивидуум становится человеком при обнаружении идеального лика.
Человеческое и человечное
Прилагательные выделяют наиболее типичные признаки понятия, поскольку те ближайшим образом передают именно содержание понятий. От слова человек русский язык последовательно выделил три прилагательных: притяжательное человечь (человечий), качественное человечный и относительное человеческий. Только Христос есть Сын человечь, отличие же человечного от человеческого состоит в качестве человечности.
Человеческое в человеке — это его природа, взятая относительно быта; об этом часто пишет Бердяев. Русские философы говорят о «человеческом достоинстве», «человеческом Я», «человеческих отношениях», «человеческом духе», «человеческой истине», «человеческой личности». В. С. Соловьев полагал, что «человеческая личность бесконечна: это есть аксиома нравственной философии»; «Человеческое я может быть расширено только внутреннею, сердечною взаимностью с тем, что больше его, а не формальным только ему подчинением, которое в сущности ведь ничего не меняет» [Соловьев 1988, 1: 282, 91].
«Человеческая личность» не оксюморон и не плеоназм, а уточняющее суть дела понятие, которое и содержанием (человеческая) и объемом (личность) совпадает стилистически. И человеческое, и личность одинаково становятся предметом «нравственной философии». Выход из положения прост: «Человечность есть не социализация, а спиритуализация человеческой жизни: социальный вопрос есть вопрос человечности» [Бердяев 1952: 152]. Таков скачок из «человеческого» в «человечное», из относительности в качество.
«В XIX в., во многом ограниченном и полном иллюзий, была выношена идея человечности. И против нее-то всё и направлено» — сегодня [Бердяев 1989б: 326].
«Человечное» есть признак «человечьего», это атрибут Бога Сына, который спроецирован на земного человека. Революционные демократы говорили о человечности особенно много; это не гуманизм и не гуманность, а показные стороны энергийных связей с Богом, т. е. не «вкоренение в божественность» (Бердяев); «таким образом, вся история человека — не что иное, как его постепенное удаление от чистой животности путем созидания своей человечности». Для анархиста Бакунина «самое вопиющее, самое циничное, самое полное отрицание человечности» есть государство и христианство в целом (как церковь) [Бакунин 1989: 56, 96, 46], поскольку они отрицают свободу и справедливость как гарантию личного развития человека. Это типично «народная» точка зрения. Для русских философов «человечность, или человекосообразность, Бога есть обратная сторона божественности, или богосообразности, человека. Это одна и та же бого-человеческая истина» [Бердяев 1989б: 84]. «Человечность как потенциал, как глубина возможностей, интенсивная, а не экстенсивная, соединяет людей в неизмеримо большей степени, нежели их разъединяет индивидуация» [Булгаков 1990: 107]. Противопоставление понятий «индивидуум» и «человек» неоднократно подчеркивается, становясь основным мотивом русской литературы, между прочим и потому, что «свет от „человечного“ в человеке. А человечное в человеке — это желанность души, та крепь, какою разрозненный избедовавшийся мир держится» [Ремизов 1990: 325]. «Опыт разворачивания усложненной человечности», по мнению Бердяева, есть у русского народа, ибо «русская душа раскрылась для этого огромного и значительного опыта» [Бердяев 1989: 672], и тогда стала образовываться русская всечеловечность, характерная для XIX в. [Бердяев 1955: 20]. Ее особенности — в тайне русской души, которая через человечность кристаллизует русскую идею путем изживания самой культуры: «Когда читаешь книгу отца Г. Флоровского, остается впечатление, что не только русское богословие, но и всю русскую культуру духовную погубили чувствительность, эмоциональность, сострадательность, возбужденность, впечатлительность, мечтательность, воображение, экстатичность, — т. е. в конце концов человечность»; хотя, конечно, как посмотреть: русский духовный тип много выше византийского (с которым его сравнивают) хотя бы «потому, что более человечен» [Бердяев 1989: 669, 67].
Воля личины
Научное представление о человеке формируется на основе социальных признаков индивидуума в человеческом обществе. Личина как социальное проявление воли (своеволие с точки зрения Бога и свобода с точки зрения человека) является воплощением социальных ролей в общественной среде. Персона (per se — для себя), действующая сама по себе и главным образом для себя, — невозможная в прошлом роскошь личного существования.
Русское понятие о пределах человеческой воли отложилось в специальном термине именования Бога. Одновременно являясь и Создателем, и Творцом, Бог подчеркивает функцию божественного, которая передается человеку для продолжения дел творения. Человек — со-творец Богу, «человек дорог Богу не как страдательное орудие Его воли — таких орудий довольно и в мире физическом, — а как добровольный союзник и соучастник Его всемирного дела. Это соучастие человеческое непременно входит в самую цель Божьего действия в мире, ибо если бы эта цель мыслима была без деятельности человека, то она была бы уже от века достигнута, так как в самом Боге не может быть никакого процесса совершенствования, а одна вечная и неизменная полнота всех благ» [Соловьев 1988, 1: 259]. «Человек есть свободный выполнитель своей темы, и это осуществление себя, выявление своей данности-заданности, раскрытие своего существа, осуществление в себе своего собственного подобия и есть творчество, человеку доступное. Поскольку это создание своего подобия есть общая и неотменная основа творения человека, его творчество и вместе самотворчество, саморождение, определяет самое общее содержание человеческой жизни» [Булгаков 1917: 352]. И вывод: «Человек как таковой есть творец. Элемент творчества имманентно присущ человеческой жизни. Человек в этом смысле может быть определен как существо, сознательно соучаствующее в Божьем творчестве» [Франк 1956: 294]. «Человек был создан для того, чтобы стать в свою очередь творцом. Он призван к творческой работе в мире, он продолжает творение мира» [Бердяев 1991а: 21], так что «учение о человеке как творце есть творческая задача современной мысли» [Бердяев 1989б: 104].
Человек на земле не просто творит, творчество — его «внутреннее состояние» (Соловьев), «активное, мужественное, сознательное» (Булгаков), «человек как субъект есть акт, есть усилие», «это возвышение над собой, трансцендирование себя» (Бердяев).
Не умножая высказываний на эту тему, заметим общее согласие в существе дела: волевое усилие человека состоит в осознанном стремлении быть проводником высших начал и ценностей, которым он служит и которые он воплощает (слова Семена Франка). Только в этом случае человек остается человеком, не обретая мертвенности личины. Иначе остается маска, имитирующая волевое творческое усилие; примерно такое, какое описывал наблюдательный иностранец, говоря о Николае I: «Император всегда в своей роли, которую он исполняет как большой актер. Масок (личин, харь. — В. К.) у него много, но нет живого лица, и, когда под ними ищешь человека, всегда находишь только императора» [Кюстин 1990: 107]. Сведение творчества к функции уничтожает человеческое и человечное.
Таким образом, постигая сущности в «лике», человек обязан преодолеть в себе тягостные путы конкретного «лица» и осуществить на деле предназначенное: дать сущности в их явлениях. Через человека, и только через него одного, божественные сущности жизни могут стать явлениями жития. Лик как прообраз, преображенный «лицом», явлен в личине, которая становится именно символом, поскольку за наличностью лица скрывает божественный лик сущности. «Человек есть символ, ибо в нем есть знак иного и он есть знак иного» [Бердяев 1939: 40].
С этого момента возможны два равновероятных выхода в синтез, которые определяются позицией философского «реалиста»: в осуществленную идею «личности» или в пребывающую реальность «человека» как такового.
Синтез единого: личность
Первую возможность русские философы осуждают, как, впрочем, и народная этика, отрицательно маркирующая понятие о личности. Зависит ли такое отношение к личности от первообраза концепта (личина как маска эгоистично-личного самоутверждения), или связано с застарелым конфликтом между природным и культурным в русском характере — неясно. Во всяком случае, для наших философов характерно утверждение вроде следующего: «Ни античный, ни ветхозаветный мир не знал, по крайней мере отчетливо, человека как личности; эта идея внесена в мир христианством, благой вестью, принесенной Христом» [Франк 1939: 123].
Бердяев видел диалектику человека в том, что после Возрождения в европейском его типе эллинское смешалось с христианским; «диалектика эта заключается в том, что самоутверждение человека ведет к самоистреблению человека, раскрытие свободной игры сил человека, не связанного с высшей целью, ведет к иссяканию творческих сил»; например, стремление к «красоте» как идее истребляет красоту вещных форм, и прежде всего в искусстве [Бердяев 1969: 168—169]. Синтез осуществляется согласно библейской формуле: «как образ и подобие Бога, человек является личностью» [Бердяев 1991а: 21] — как образ и подобие, в этом все дело.
«Человек раздроблен. Но личность есть целостное духовно-душевно-телесное существо, в котором душа и тело подчинены духу, одухотворены и этим соединены с высшим, сверхличным и сверхчеловеческим бытием. Такова внутренняя иерархичность человеческого существа. Нарушение или опрокидывание этой иерархичности есть нарушение целостности личности и в конце концов разрушение ее» [Бердяев 1989б: 96]. «Человек есть личность не по природе (это лицо), а по духу (не по душе). По природе он лишь индивидуум... Личность есть микрокосм, целый универсум. Личность не есть часть и не может быть частью в отношении к какому-либо целому, хотя бы и огромному целому, всему миру. Это есть существенный принцип личности, ее тайна... Личность есть неизменное в изменении, единство в многообразии», личность есть «задание, идеал человека» как первичная целостность идеи, поэтому она неистребима и «в ней много родового, принадлежащего человеческому роду»; личность в человеке (личность в человеке!) есть победа над детерминацией социальной группы и потому не субстанция, а творческий акт [Бердяев 1939: 20—23]. Из этого определения понятно, что личность — идеал развития человека, ведущего его к отторжению от общего, общества и конкретно от общины (соборности). Потому-то подобный путь и неприемлем: тогда «во всем бытии есть некий раскол, в человеческом существовании всего больше. Человек уединяется, — в этом главная тревога Достоевского» [Флоренский 1985: 299].
Не должно быть смешения социального и духовного качества человека и личности. Человек внеклассов — личность определена границами класса. Например, «особенность "дворянского типа личности" заключалась в "предопределенности историей". Личность была прежде всего представителем рода, находясь между чередой "славных предков" и "почтительных потомков". Носитель "импульса благородства" (по рождению. — В. К.), идущего "из глубины веков", обязан был занимать в обществе достойное место, для того чтобы ощущать себя достойным этого положения» — иначе он становился «как все» [Артемьева 1996: 159]. Таково происхождение самой идеи личности — личность предстает как символическое замещение функции рода, т. е. на социальной основе индивидуум выделяется чем-то как носитель заслуг вне себя самого. Отсюда в народе и возникает устойчивое неодобрение всяких «темных личностей».
С самого начала личность идеальна, тогда как лицо всегда реально и действительно. Полное освобождение от социальной предметности опасно, но и отчуждение от идеи ослабляет личность, поскольку, согласно определению Владимира Даля, в сущностном своем проявлении личность есть «душа человека». С формированием идеи личности представление о душе сжалось до нескольких признаков, которые в наше время признаются еще существенными. Это прежде всего воля и совесть, соединенные в модальностях их проявления — характера, т. е. собственно личности как таковой.
Современные философы отмечают возникавший между идеей и действительностью конфликт, который «существует в нас потому, что спроецированная изнутри идея доставляет большее удовлетворение, чем действительность. Лишь в непосредственном столкновении с действительностью образец утратит смысл», и тогда личность предстает «как идея, стереотип, пучок воспоминаний, и всякое ее осуществление — лишь продление идеи, опыта» — самоосуществление [Петраков, Разин 1994: 8—10].
Говоря иначе, личность — это наказание конкретного лица-индивидуума принадлежностью к роду — к идее лика.
История — грустная вещь. В ней все повторяется, но в отчужденной — отвлеченной форме. Отрываясь от действительного рода в его отношении к индивидам, лицо в становлении личности преобразовалось в идеально помысленный род в его отношении к видам. Отчуждение от вещи в сознании реалиста вознесло конкретного человека в недостижимые выси реальности — к личности.
Может быть, поэтому «личностью можно быть и без души... но вот человеком без души быть нельзя» [Гиренок 1998: 368].
Триединство как общее
Вторая из указанных возможностей представляет собою синтез всех составляющих, и тогда вершиной осуществления идеального становится не идеальность личности, а реальность человека. Это уже народное представление об идеале: человек реальный, т. е. душевный, и не примысленная к жизни сущность. «Встретить человека — это великое счастье!» — говорил Алексей Ремизов, который в обычных случаях человеку предпочитал обезьян.
Современный человек в каждом должен видеть не «личность», но триипостасное единство «человека», «ибо в со-вести объединяются и ум, и сердце. В ней выражается духовный подъем всего человеческого естества» [Трубецкой 1922: 173]. «Ни в каком человеке не переставая видеть человека— не есть ли для нас долг?» — Василий Розанов тонко уловил отличие человека от личности: идеал незыблем — человек изменяется, «прорастая» до идеала личности; «переменились задачи истории, и с ними преобразился сам человек», «человек и здесь, как везде — раньше теории» [Розанов 1990в: 131, 86, 55]. Человек прежде всего живое существо, «которому больно и мучается» (Ремизов), поэтому для русского представления «образ человека, созданный христианством, начинает слабеть»: необходим возврат к аскетизму, ибо «священно не общество, не государство, не нация, а человек» [Бердяев 1989б: 127], который должен осуществлять в себе единство всех этих форм своего земного существования. При этом только «универсальность есть достижение полноты» (Бердяев), а «человек разорван в клочья. Всё начинает входить во всё. Все реальности мира сдвигаются со своего места... Человек проваливается в окружающий его предметный мир» [Бердяев 1969: 207], как в случае первого выбора он становился бестелесным подобием личности. Человек, в отличие от личности, соединяет в себе не только все формы своего существования, но и все свои проявления, и его «обращенность к грядущему связана с тем, что было вечного в прошлом» [Бердяев 1926: 153].
В целом следует сказать, что крайности того и другого выбора остаются неприемлемыми. Идеальность сущности может быть достигнута только на синтезе человека-личности, реального в идеальности, личности в человеке.
Лицо и личность
Любопытна несогласованность историков во мнениях: «История смотрит не на человека, а на общество» [Ключевский IX: 444] — «Личности, а не общества создают человеческую историю» [Тойнби 1991: 254]. Личности — создают... но Истории нет до них дела.
Противоположны взгляды на человека в обществе и личность вне общества.
Давно Николай Федоров заметил [Федоров 1995: 196], что выражение сын человеческий (оно древнее библейских текстов, чего не знал Федоров) в христианских конфессиях как бы надвое развели: Восток говорит о сынах, Запад — о человеке. Это противопоставление нравственной силы умственному напряжению, полагал Федоров, не подозревая, что в наше время на тех же основаниях, имея в виду то же самое различие, станут говорить о братстве — и о демократии, о человеке — и о личности.
«Причин явления надо искать в самом явлении, а не вне его, объяснения личности — вне ее, а не в ней самой», — говорил Ключевский [Ключевский IX: 358]. И поскольку лицо должно отражать личность, мы можем сказать, что личность есть сущность в явлении лица.
Русские мыслители с иронией говорили о западном рационализме, «мирясь с европейскими понятиями „личности“, о ее лжеразвитии и росте» [Леонтьев 1912: 119]. Для русского понятие личности — персона, per se — личина, ненатуральная форма лица, его маска в миру, скрывающая подлинный лик. В сознании и в словоупотреблении возникают смешения, например «понятие о личности человека в обществе» (Лев Тихомиров), человеческой личности, ибо личность — не человек, а его подобие. Точнее сказать — символ человека в его амбивалентности.
Во всех сочетаниях слов, где термины личность и человек используются, человек выступает как субъект действия, тогда как личность всего лишь один из его предикатов. «Быть личностью — это свойство, которое предицируется отдельным индивидам, и, как большая часть свойств, оно градуируется: можно быть крупной личностью, быть личностью в определенной степени» и т. д. [Анализ 1991: 54]. С такой точки зрения человек — статичное, данное, факт, физическое, личность же — динамичное, сотворенное, внефизическое. Предельность оценок весьма выразительна: плохой человек, но гнусная личность, омерзительная личность.
Как понимали дело евразийцы, «личность — такое единство множества (ее состояний, проявлений и т. д.), что ее единство и множество отдельно друг от друга и вне друг друга не существуют... Личность — единство множества и множество единства. Она — всеединство, внутри которого нет места внешним механистическим причинным связям, понятие которых уместно и удобно лишь в применении к познанию материального бытия» [Савицкий 1997: 21]. Несводимость европейского понятия о личности и русского символа «личность» как личина Николай Бердяев обсуждает как пример западных мифов («трафаретов сознания») о России. «Говорят, что в России нет личностей или личность слабо выражена. Россия оказывается безликим Востоком. Это дает возможность западным людям, довольным собственной цивилизацией, признать русский народ еще варварским народом, ибо усиление личного сознания считается признаком более высокой цивилизации»; это ошибка рациональной (формальной) логики: в ней, например, соборность «отождествляется с безличностью. Но и это ограниченное заблуждение. Я даже хочу выставить тезис, обратный общепринятому (на Западе. — В. К.). В России личность всегда была более выражена, чем в нивелированной, обезличенной, механизированной цивилизации современного Запада, чем в буржуазных демократиях» [Бердяев 1996: 236]. И действительно: раз уж русский народ (соответственно в индивидуальности: человек) непредсказуем, несводим ни к какому среднему типу, мечется в крайностях мысли, слова и характера (а всё это признается и осуждается Западом) — следует сделать вывод о сильном личностном начале в русском народе. Но увы: делать последовательно вытекающие из посылок выводы ratio не приучен. Там, где невыгодно для него.
В древности цельность личности понималась в единстве с общим — с общиной или родом. Свобода представала как свобода в осознании справедливости общего интереса. Христианство принесло новое понимание личности: общественное воспринимается и оценивается через призму личного. Языческая душевность, основанная на чувстве природы, сменяется требованием духовности, опирающейся на идею. Так возникает противоположность, не преодоленная и до сих пор. В сущности, современное понятие «личности» приходит к нам с христианством. Это новый символ, поскольку под личностью начинают понимать «неформального лидера» (Касьянова), «соборную личность» (Карсавин), «коллективную личность», то есть не обязательно отдельного человека, но социальную группу (Федотов) и даже в целом всю нацию (Солженицын). «Как у любого человека, у нации есть лицо и совесть», что в принципе может спасать от идеи национализма, — толкует о своем болезненном французский биограф Солженицына [Нива 1984: 216]. Что самое удивительное, в определениях личности никогда нет речи о представителе правящего слоя или даже об интеллигенте (для Солженицына интеллигенция выродилась в образованщину — понятие, обсуждавшееся еще Ключевским), потому что «личное не стоит бессмертия» [Федотов 1981: 93], а идея личности есть идеал человека, верящего в идею, идею бессмертия личности прежде всего.
Но символ неоднозначен. И для некоторых не подлежит сомнению, что сам индивид, взятый вне общины, — порождение рынка. «Индивидуальность и автономия таили серьезную угрозу духу общины. Рынок развивал индивидуальность на основе стремления к наживе, агрессивности и конкурентности» [Марков 1999: 166]. Но индивидуумы такого рода еще не создают общества, способного заменить общину. Это, конечно, не личности, а просто маски-личины, представленные как личинки «личностей». Да, конечно, индивид не личность, но под личность мимикрирует. Очень интересная диалектика социального двоения человека. Он одновременно «личинка» и личности, и индивида. Индивид направляется на рынок, личность — в храм.
В современном мире все такие не-личности предстают как личины: персоны (в старорусском парсуны, от латинского per se — «для себя» живущий), а личина — маска с шутовскими ушами (у-харя), она осуждается в обществе, идеал которого честность, искренность и справедливость. Настоящая личность вырастает в соборной среде путем «отдания себя»: «Мы развиваемся, только теряя себя» [Касьянова 1994: 119], иначе наступает смерть в ничтожестве — согласно второму закону термодинамики. Личность жертвенна, потому что выходит из среды себе подобных, отчуждает себя, не удаляясь, и, достигая уровня внутренней (душевной) свободы, уже получает способность оценивать и выбирать. Именно по причине выхода из совокупного множества личность становится опасной для власти, поскольку такая личность оттягивает на себя других членов общества: противопоставляет общественное служение государственной службе [Там же: 327]. Не только тоталитаризм сражается с личностью, это совершенно неверно. Западное общество сегодня не находится в смертельном конфликте с государством, однако не потому, что там государство хорошее; все проявления социальной энергии там сведены до среднего уровня — исключены колебания в сторону личности. Личности как идеала. «Бытие иерархично, и оно утверждается лишь в сохранении иерархического лада. Самоутверждением эгоизма разрушают иерархический лад и этим разрушают человеческую личность, лишают ее источников жизни» [Бердяев 1926: 243].
Но не личности как лица, не индивидуализма.
Однако идеал способен расти, он не умещается в изложнице первосмысла. И тут всё дело в том, куда он растет, какова вообще его цель, чем направлен ее вектор. «Идеалом личности на Западе является сверхчеловек, на Востоке — всечеловек» [Шубарт 2003: 141] — доверимся мнению немецкого культуролога. «Сверхчеловек» — возвышение из жажды власти (гипертрофия воли), «всечеловек» — возвышение в любви (преувеличенность чувства), но тут и там не сдержанные силой разума.
В этом смысле призывы русских персоналистов к освобождению индивидуалистской души не могут быть приняты. Например, у Николая Бердяева [1989: 247—248]: «Для выздоровления и возрождения России русскому человеку необходима некоторая доза здорового нравственного индивидуализма. России нужен подбор качественно возвышающихся личностей. В России необходимо повысить до высочайшего напряжения личную инициативу и личную ответственность. Россия погибает от безответственного русского человека, который все возлагает то на социальную среду, то на судьбу, то на всесильное самодержавное правительство, то на всесильный пролетариат... Каждый должен принять на себя как можно больше ответственности и уменьшить притязательность. Россия погибает от безответственных притязаний всех и каждого и от слабого чувства обязанности... У русских почти атрофировано чувство долга, а потому и право у них шатко». Трудно поверить, что это написано в годы, когда русскому человеку и шевельнуться-то не давали. Но и принципиальное отличие бердяевского индивидуализма от русского понимания личности налицо; эти точки зрения не сводимы в общее.
Культ личности направлен не сверху вниз, а наоборот, он прорастает из народной среды, может быть и самой низменной; это порождение плебса. «Народ в своей самобытной особенности, — писал Владимир Соловьев, — есть великая земная сила» — и только. Косная материя, требующая осветления в духе-форме. Такой народ можно обмануть, подсунув ему не ту личность, но обмануть лишь на время. Абсолютные ценности поставляет все же народ. Никто не понуждал русских возводить в ранг святых заступников своих пред Богом и защитников, так что не одно государство, но и церковь вынуждена была смириться с признанием святости за Владимиром Святым, Александром Невским и Дмитрием Донским. Русская душа одобряет «признание святости за высшую ценность» идеального образца.
Итак, в русском представлении личность — это идеальное в человеке, противопоставленное понятию «человек» (эмпирическое) как идея.
«Личность... есть корень и определяющее начало всех общественных отношений... Личность не есть только мимолетное явление, а известная, постоянно пребывающая сущность, которая вытекающие из нее действия в прошедшем и будущем признаёт своими, и это самое признаётся и всеми другими. Без такого признания нет постоянства человеческих отношений. Но этим самым личность определяется как метафизическое начало... Перед анализирующим разумом субъект есть не более как ряд состояний... Личность есть сущность единичная... есть сущность духовная... признаётся свободною... Личности присваивается известное достоинство, в силу которого она требует к себе уважения. Это опять-таки начала чисто духовные, неизвестные физическому миру. Уважение подобает только тому, что возвышается над эмпирической областью и что имеет цену не в силу тех или других частных отношений, а само по себе. Метафизики выражают это положением, что человек всегда должен рассматриваться как цель и никогда не должен быть низведен на степень простого средства. Последнее есть унижение его достоинства. На этом начале основана коренная неправда рабства.
Источник этого высшего достоинства человека и всех вытекающих из него требований заключается в том, что он носит в себе сознание Абсолютного, т. е. этот источник лежит именно в метафизической природе субъекта, которая возвышает его над всем физическим миром и делает его существом, имеющим цену само по себе и требующим к себе уважения. На религиозном языке это выражается изречением, что человек создан по образу и подобию Божьему... [Этот источник] лежит вне эмпирического мира...» [Чичерин 1998: 58—59].
Образ личности
И личность амбивалентна в любом своем явлении. Павел Флоренский вскрыл двузначность («двоецентрие») личности: личность совершается как разряд молнии между дугой идеи — это лик, и дугой дела — это физическое лицо. Куда бы мы ни обращали взор, триипостасность характера всегда дана как единство идеального лика, физического лица и социальной маски личины, т. е. роли, которую личность обречена исполнять в соборности. Раздвоение явленного на идею и вещь преследует каждую попытку анализа, так что всё дело — в предпочтении; кто нам нужен сейчас — герой ли, святой? Герой не может быть святым — он действует. Святой никогда не станет героем — он осуществляется в идее. Для одного важна честь как собственная его часть во всеобщая у-части, для другого — слава, данная в слове. Личность как система различного рода слоев бытия (согласно Константину Леонтьеву) или личность как единство таких слоев под лучом благодати (по Флоренскому) — это спорный вопрос [Тульчинский 1996: 26—27, 388].
В Средневековье по крайней мере две модели славы. Христианско-церковная хвала и феодально-рыцарская честь (честь и слава). Юрий Лотман [1992: 81—91] рассматривает их связь с позиции концептуализма, и соотношение между словом и вещью оказывается основным в семиотической модели нравственных ценностей. По отношению к русской традиции и здесь некоторое насилие над фактами, потому что эта традиция опиралась на реалистическую концепцию чести и славы. Рыцарства у нас никогда не было (о чем постоянно скорбит Бердяев), идея же чести реализована вполне. Личность как цельность сына человеческого есть гармония лада — идеала-идеи и вещности исполненного дела.
Слово существует в истоке — «В начале было Слово», — но светит оно внутренним светом идеи, которая тоже дана, и оплотняется в вещи, которая задана. Нельзя исходить из предопределенности только идеи-мысли — ее как раз необходимо вскрыть через слово.
Может быть, повторить для тех, кто читал невнимательно? Ответ дает не гносеология, ведущая к вещи, не эпистемология, влекущая к идее, но — герменевтика, которая в силах расколдовать слово.
Вся тайна в слове — в Логосе.
Простое же слово, лексема в словаре...
Смешны попытки в речевых оборотах обыденных разговоров отыскать различия в поведении русских людей, например на фоне языков английского, польского и пр. Анна Вежбицка говорит нам, что в английском больше развиты повелительные, вопросительные, причинные конструкции, в чем ощущается «более культурная» традиция — персональная автономность, личная независимость; в польском, напротив, большая сердечность в выражении чувств и мыслей.
Закрой дверь, ладно? — и тогда наступит порядок (лад).
Zamkni drzwi, dobrze? — и это будет хорошо.
Shut the door, will you? — не хочешь ли?
Cierra la puerta, de acuerdo? — ты согласен?
Таковы различные культурные ценности разных народов, отраженные в их языках. Только английский язык, говорят нам, развил очень сложную систему обращений к собеседнику и оппоненту с упором на права и независимость каждого участника диалога [Вежбицка 1991: 30]. Но смешивать язык и речь непозволительно и студенту первого курса. Делать это, значит смешивать ментальные системы и нормы этикета. Они разведены в своих крайностях и несоединимы в реальном действии. «Иллокутивные акты» — не акты творения.
Вот и здесь мы невольно обратились к понятию характера, о котором речь впереди. Ну что ж, уточним.
Личность и есть характер, то есть данные в осуществлении (если в суждении, то в предикатах) все его характеристики; однако это характер, представленный как образец — то есть в полном соответствии со значением греческого слова парадигма.
А в переводе значит оно — образ, данный как образец.
Русский человек
На эту тему написано многое. Вот несколько слов Н. В. Гоголя, духовные силы которого были разорваны двойственностью его телесного существования (в культурном и национальном качестве). Русского человека самого пугает его ничтожность — «явление замечательное! Испуг прекрасный! В ком такое сильное отвращенье от ничтожного, в том, верно, заключено все то, что противуположно ничтожному» — самоуничижение как характерная черта русского человека отмечается многими философами. «Во всю историю нашу прошла эта потребность суда постороннего человека», который единым взором охватит цельность личности в человечности человека. (Как глубоко! Мечта каждого русского в том лишь, чтобы в его личности некто Другой разглядел Человека! За идеальным прозрел действительное. — В. К.) Но тут постоянно происходит заблуждение: мало кто достоин такого доверия: «в природе человека, и особенно русского, есть чудное свойство: как только заметит он, что другой сколько-нибудь к нему наклоняется или показывает снисхождение, он сам уже готов чуть не просить прощенья», а поскольку ошибки на этом пути случаются часто, то в ответ и «русский человек способен на все крайности» [Гоголь IV: 247, 402, 257, 192].
С давних времен для русской ментальности человек есть то, что «посредне» — между Богом и Сатаной, между земным и небесным, между Добром и Злом — посредине как объект притязаний того и другого, тех и иных крайностей. Но русскому «среднее» не с руки, он инстинктивно противится напору враждующих между собою сил. Находясь посреди, в середине, он отвергает среднее.
Поверка самоощущения посредством постороннего взгляда редко ведет к объективности, именно это и дает (как рецидив) свойственное русскому человеку метание между противоположностями в поисках выхода, причем метание иногда происходит по собственной воле. «Нашему же русскому человеку стоит только сказать: "Нельзя, мол, нельзя, — запрещается!" — он уже сейчас и приспособится, как это одолеть», — съязвил Розанов. Отсюда неприятие таких аналитических понятий, как «средний человек», «добродетельный человек», «лихой человек» и прочих, о которых рассуждают русские мыслители. Уточнение понятия «человек» определениями типа «нормальный человек», «добрый человек» призвано идентифицировать различные проявления человека в разной социальной и исторической среде.
Но это особая тема.
Русский человек
«Человек» уже само по себе символико-собирательное понятие, которое является основным в слове человек, поэтому «кто на место человека подставляет человечество или вообще идею и отвлеченность, тот сам перестает быть человеком», — писал А. И. Герцен. Понятие «человечество» осуждается как абстрактность дурного свойства, осуждается как личность лика, искаженного в личине. «Человечество есть отвлечение от всех ступеней конкретного индивидуального... и в конце концов нет ни нации, ни человечества, ибо нет никакой конкретной реальности, никакой конкретной индивидуальности, есть лишь отвлечение» рассудочного ума [Бердяев 1991: 81]. Здесь же Бердяев говорит, что «человечество есть конкретная реальность, как бы некая личность в космической иерархии» — совершенно в духе «Ареопагитик». «Человечество» понимается как реальность идеального: «Люди умирают, человечество бессмертно: нет ничего реальнее человечества. И в то же время нет ничего "идеальнее": человечество как существо, как действительный организм, не существует вовсе. Оно не составляет не только одного тела, но даже одного солидарного общества» [Трубецкой 1908: 81].
Отдельные личности суть «атомы человечества» (Булгаков), — следовательно, человечество — производное от личности, тоже идеальной сущности; но, по суждению В. С. Соловьева, «человек собирательный — человечество». Неопределенность оценок искажает перспективу дальнейших суждений: обобщение от «личности» или от «человека» определяет различное толкование «человечества». Под «человечеством» Соловьев понимал, может быть, совокупное множество «человеков», народ, а не все население Земли: «Эти три основные образования — язык, отечество, семья — несомненно суть частые проявления человечества, а не индивидуального человека, который, напротив, сам от них вполне зависит как от реальных условий своего человеческого существования» [Соловьев 1988, 2: 571]. О том же говорит и Сергей Булгаков: «Определенная окачествовенность человечества простирается не только на отдельные индивидуальности, в своей единственности и своеобразии неповторяемые, но и на их совокупности, совокупности совокупностей и т. д. Человечество существует не только как индивидуальности, но и как семьи, племена, роды, народы, причем все эти единства образуют единую иерархическую организацию. Каждый индивид врастает в человечество в определенном "материнском месте", занимая в нем иерархически определенную точку, поскольку он [одновременно] есть сын и отец или мать и дочь, принадлежит к своей эпохе, народу и т. д.» [Булгаков 1917: 349].
Это естественная попытка «приземлить» абстрактную категорию, соотнося идею с вещными ее про-явл-ениями.
Личность человека
«Личность — продукт цивилизации» [Овсянико-Куликовская 1922: 47], т. е. результат социализации человека в его индивидуальности. И если историк прав, тогда человек — производное культуры. Особенно яростные споры о личности, индивидуализме и «общественности» среди русской интеллигенции шли в начале XX в., когда преувеличенные претензии возникающей «личности» являлись в виде вызывающе эгоистичного индивидуализма. Идеальное, перенесенное в действительность, выглядело карикатурно-отталкивающим.
Человек для философов — паллиат, личность — симулякр, т. е. копия, образ не человека даже, а его идеи. Simulacrum — образ, подобие, видимость — тень сновидения, данная как характеристика определенных свойств. «При помощи симулякра сознание знает идею» [Гиренок 1998: 224]. Личность — симулякр. Это образ идеи, представляющий некий идеал, который каждый примеряет на себя.
Теперь задумаемся.
Человек — уже символически-собирательный термин, в котором сходятся все признаки homo. Говоря человечество, мы ничего не добавляем в смысле, хотя известно давно: «Великий старец — человечество» [Меньшиков 2000: 51]. Разница, может быть, в том, что «отдельные личности — это атомы человечества» [Булгаков 1991а: 31], а не человека. По той же причине Семен Франк и другие осуждают «человечество» как абстрактно-номиналистическую идею — человек и есть человечество. Отрицательные свойства «человечества» — пожирание собственных отцов и порождение власти над другими. И то и другое неприемлемо для русской ментальности, которая «личное я» ставит на последнее место. В. С. Юрченко [1992: 71] говорил о «русском следовании» личных местоимений:
человек: он—ты—я
люди: они—вы—мы,
— в отличие от западноевропейского, с обратной перспективой самоутверждения от «я». В подобной иерархии отношений символически представлены особенности русской ментальности в противоположность к западноевропейской. А также — соотношение рассмотренных здесь концептов.
В общем виде они предстают как взаимозаменяемые сущности, данные в иерархии функций. Вид входит в род, который сам по себе становится видом в отношении к следующему роду. Синекдоха правит иерархией, метонимическим переносом воссоздавая различные уровни внутреннего мира человека и его опрокинутость в мир.
Человек потому остается основой бытия, что он и есть та реальная сила, на энергии которой действуют индивидуум и растет личность.
Человек — как слово, из которого исходят в оценке всего сущего.
Но человек и слово узкого значения. Так, это слово мужского рода, в некоторых славянских языках оно обозначает только мужчину. «Курица не птица — баба не человек»...
Необходимо всмотреться и в эту сторону жизни. Тут ведь снова проблема: русский ставит человека в основу своего мировоззрения, но сам термин входит в противоречие с утверждаемым (в философском дискурсе) положением о «вечно-бабьем» в русской душе. Вот, например: «Русский народ не чувствует себя мужем, он всё невестится, чувствует себя женщиной перед колоссом государственности, его покоряет сила... В самых недрах русского характера обнаруживается вечно-бабье, не вечно-женственное, а вечно-бабье» [Бердяев 1918: 32—33].
Вечно-женственное или вечно-бабье?
«Вечно-женственное»
Сегодня России присваиваются различные феминные свойства. Говорят, что русская неопределенность формы противопоставлена иноземной ограненной твердости. Русские пространства обширны, а Время — мужской символ — еще и не начиналось. Устойчивой святости по вертикали (иерархия уровней) русские предпочитают женское развертывание вширь, «тяготение вдаль», а в мышлении «мужской» голове — «женское» сердце. Не маскулинность огня, но женственность воды описывается как символическая стихия русского духа. Неоформленная пассивность в пластичности своих проявлений тоже женская черта, которая определяет многие особенности русского характера: созерцательность, долготерпение, всепонимание и просто ожидание принца, который придет избавителем. Загадочность русской души объясняется той же женской глубиной, которая находится в постоянном движении, развитии и рождении нового. Так это или не так, и следует определить в пределах нашей темы на фоне других народных ментальностей.
Русская народная культура сама наталкивает на подобные выводы. О «вечноженственном» в русском характере писали многие философы, иногда предельно огрубляя определения (как Бердяев). Но «мягкий, расплывчатый, впечатлительный, женственный славянский элемент до эпохи его исторической возмужалости» [Кавелин 1989: 206] отмечают все наблюдатели русского характера как типа. И только некоторые подчеркивают: до эпохи его исторической возмужалости.
Русский характер характеризует и особое отношение к матери, и преклонение русских поэтов и философов перед женщиной; и Блок, и Соловьев мыслят божественное в женском образе [Шубарт 2003: 182].
Постоянно отмечается природная сила «женского», его неуклонная воля. «Женщина необыкновенно склонна к рабству и, вместе с тем, склонна порабощать» [Бердяев 1939: 191]; «"Женственное" — облегает собою "мужское", всасывает его. "Женственное" и "мужское" как "вода" и "земля" или как "вода" и "камень". Сказано "вода точит камень", но не сказано — "камень точит воду"», но, вместе с тем, «собственно, именно женщина есть символ единства рода человеческого, его связности. Не имея своего Я, она входит цементирующею связью между всеми человеческими Я, и вот почему "любовь" есть признанная сила, красота и право женщины» [Розанов 1990: 333, 137]. Сказано с мужской позиции и во многом несправедливо (слишком обобщенно), поскольку автору не нужна «русская женщина... а нужна русская баба, которая бы хорошо рожала детей, была верна мужу и талантлива» [Розанов 1998: 15]. Однако в подтексте розановских откровений через «женское» показаны: «связующая сила» русского характера, его пластичность в социальных проявлениях, амбивалентное отношение к символу «рабство».
Несколько предупреждая описание особенностей русского характера, данное во второй части книги, представим суммарно те черты «русскости», которые приписывают «женскому» характеру. Сделать это непросто, ведь женщины бывают разные, да и народ как целое представить себе трудно.
И. А. Бодуэн де Куртенэ в 1929 г. напечатал работу, в которой установил особую роль родо-половых признаков в индоевропейских (и семитских) языках, которые до сих пор оказывают влияние на мировоззренческие структуры сознания. Он выделил три типа языков, в которых сохраняется категория грамматического рода, и указал на ментальные различия между ними.
Языки с различением трех грамматических родов «сексуализируют человеческую мысль», вводя в нее физиологический подтекст как лейтмотив мышления; весь мир до последней былиночки предстает разделенным на родо-половые противоположности с дополнительным выделением беззащитно-детского (или собирательно-общего) в средний род (дитя — оно, и поле — оно же). Таковы древние языки (санскрит, греческий, латинский), а также немецкий и славянские.
В языках с двумя родами находим биологическое противопоставление живого неживому — того, что может двигаться и изменяться, тому, что инертно, что «омертвело» (genus vivum — non vivum). В романских языках, а также в литовском и латышском противопоставлены мужской и женский роды.
В третьей группе языков основная идея социологического характера. Скандинавские и английский языки выделяют личные мужской и женский роды, общий род и средний между ними (род веществ). В центре внимания здесь лицо, личность, род зрело-мужской (или мужественно-индивидуальный) и род общий. В такой языковой атмосфере женщина борется за свои права, феминистски добиваясь политкорректности, о которой и не помышляют представительницы других ментальностей. Эти же не желают относиться к «общему» роду, настаивая на личной индивидуальности.
Историческая последовательность в развитии категории именно такова: физиологическое > психологическое > социологическое. Литовский и латышский на полпути от первых ко вторым (видимо, и русский также), польский — от вторых к третьим.
Во всех языках женские формы вторичны, производны от мужских: сосед — соседка, учитель — учительница, и оправдание тому известно: Ева от ребра Адамова. На самом деле это спорно, коренные слова показывают исходно четкое противопоставление равноправия: муж (мужик, мужчина) — зрелый и мудрый, жена (женка, женщина) — рождающая (genus, гены). Но и тут в подсознании сохраняется исходная мотивированность терминов. Воспроизводимость слов показывает, что муж > мужик (социально маленький муж) > мужичина (индивид при суффиксе единичности) > мужчина, а жена > женьскь (принадлежность, а не самостоятельность) > женьчина (как индивидуум) > женщина. Полное совпадение с суждениям Владимира Соловьева, который говорил, что мужчина — идея и свет, субъект жизни, в размышлении рождает в мир (ген-ерирует в генах), а женщина само бытие, т. е. объект жизни. Соотношение «вещи» и идеи в реалистском их понимании. Это традиционноевропейское понимание роли женщины: «Для мужчины любовь — радость жизни, — говорит француз, — для женщины она же — сама жизнь»; «Мужчина изменяет общество — женщина хранит традиции семьи» [Фуллье 1896: 177, 167]. Впрочем, вот свидетельство русского философа и поэта: «Мужчина активен — женщина пассивна» [Соловьев 1988, 2: 529].
Родина — это «Родина-мать», но и все, что связано с проявлением жизни, тоже женского рода. Жизнь и смерть, власть и судьба; во многих языках слово война тоже женского рода. Первая группа языков сохраняет больше равноценных оппозиций, в которых женское равноправно с мужским, не повторяясь в общем словесном корне. Исключений немного, и все они сакрального характера, связаны с определенной ментальностью. Так, русские дух и душа общего корня и различаются только родом, не так, как в английских soul и spirit, в немецких Geist и Seele, и т. д. На подобных «этимологических мифах» и строятся обычно рассуждения философов, которые говорят о высокой дух-овности и женственной русской душ-евности.
В русском языке слова женского рода преимущественно собирательно-отвлеченного значения и чаще развивают переносные значения. Слова мужского рода конкретны и определенны. Различные степени отвлеченности особенно заметны при заимствовании слов. Полученные из разных европейских языков слова зал, зало, зала в конце концов остались в конкретно-частной форме зал (рельса, рельс > рельс и т. д.). Наоборот, научные термины обычно женского рода (анемия, дизентерия, логика, филология, история и т. д.).
Род и пол
Социально выделенный пол означают термином гендер (gender — род). Пол вещен, род идеален и представлен в языке. Но: нет одного — нет и другого.
«Хочу обратить внимание на отсутствие родов в грузинском языке. Что это значит? Дело лингвиста и науки — как это появилось. Но что бы это могло значить? — дело мыслителя. Еще и в английском языке, мы знаем, стерты историей родовые различия: нет ведь ярого Эроса в космосе Англии — андрогинен Альбион. Например, в семитских языках, в древнееврейском, например, столь резкое расчленение всего поля языка на полы, что и глагол весь генитален — мощен тут Эрос и противостояние полов. И у арабов, турок, персов, вообще в зоне ислама и иудаизма, — резко означены мужская и женская половина, огромная разность потенциалов, ярое влечение» [Гачев 1988: 423]. Слишком прямолинейно связывает писатель проблему пола и рода (грамматического, конечно).
Но на символическом уровне отмеченное справедливо. «Хочу обратить внимание» и на то, что славянские языки, в общем и целом, не утрачивали различий по роду, и, согласно логике автора, «мощен тут Эрос и противостояние полов», а равным образом постоянно существует «огромная разность потенциалов», несколько искажающая традиционное представление о собирательной «женственности русского характера».
И в русском языке противоположность мужского женскому пронизывает всё, то ли в согласовании по роду (мой крупный нос — моя большая рука), то ли в рассказе о прошлых событиях (я пришел — и я пришла!). Такое различие кажется важным. В некоторых славянских языках и личные местоимения различаются: jaz скажет о себе мужчина, ja— женщина. Мифологические представления всех народов основаны на родовой примете слов. Сюжеты сказок и былин часто основаны на противоположности родовых признаков.
В связи с родо-половыми характеристиками слов Бодуэн де Куртенэ обсуждал вопрос об эротике, порнографии и любви (о последней меньше всего). Вообще, по деликатному замечанию специалистки, «пристальное внимание к вопросам пола свойственно западноевропейской культурной традиции» [Кирилина 1999: 30].
Первая группа языков — с различением трех родов — в центре внимания держит связь идеи-мысли о роде с выражением ее в слове; вторая группа языков выделяется особым вниманием к телу-вещи, тогда как для третьей группы языков вопрос о роли «пола» решен окончательно. Отсюда, между прочим, разное отношение к любви. В первом случае любовь предстает как многогранный символ различного отношения к людям (у русских слово любовь имеет четыре одинаково важных смысла), во втором — как образ жизни, воспроизведение рода как связь полов, а в третьем — как определенное понятие о несущественной стороне жизни, оцененное прагматически (однозначно sex). По мнению Бодуэна, «порнографический цинизм» вырастает из ментальности второй группы языков, а нездоровое любопытство школьника к проблемам пола присуще третьей. У представителей первого типа ментальности часто развивается и ценится платонически-романтическое чувство любви. В основе предпочтений лежат различные «философски» ментальные позиции: реализм в первой группе, концептуализм — во второй, номинализм — в третьей. Философские установки каждой живой ветви индоевропейцев коренятся в архетипическом отношении к отцу-матери, проявляясь в родо-видовых оппозициях, которые составляют глубинный подтекст ментальности.
Особенно различаются данным признаком западные и восточные европейцы, и причина тому одна: расхождение в конфессиях. Средневековые влияния оказались сильны. Вслед за Аристотелем (и Фомой Аквинским) католики полагали, что мужская природа более завершённа, все мужские качества совершеннее женских. К тому же женщины менее духовны, менее простодушны, но более мнительны, злонамеренны и несдержанны. Женщина легче подвергается слезам, ревности, ворчливости, больше склонна к брани и дракам, теряет присутствие духа, в ней меньше стыда, она обманывает чаще, к тому же она пассивна и во многом слабее мужчины. Даже этимология подтверждала это: ѵіr ‘муж’ от vis ‘сила’, связано с virtus ‘добродетель’, тогда как женщина mulier от mollis ‘мягкая, слабая’, а следовательно (такова логика!), чувственно-порочная. «Маскулинность» властной католической силы философски оправдана античным авторитетом и словесным концептом.
Наоборот, идеальной нормой восточных славян долгое время оставалась женская ипостась человека, связанная с языческими «рожаницами» и с родом, с Матерью сырой (живой, плодородной) землей и, в конечном счете, с Богородицей (на Западе культ Девы развивается только после XI в.).
Разнонаправленность идеалов обусловила противоположность в ментальности западных и восточных индоевропейцев. Люди Запада не находили в русских тех черт, которые ценили сами, и потому раз и навсегда осудили их за «мягкую женственность». Субъективность отношения понятна, само отношение — нет.
Женское и мужское
Однако в какой мере «вечно-женственное» в его чертах присуще русской ментальности вообще? Тут много сложностей, потому что «мужское—женское» и «русское—нерусское» пересекаются лишь частично. Русские авторы не раз обращались к этой теме; у нас есть возможность использовать интуиции Вл. Соловьева, Ивана Ильина (вот он всегда говорил о «вечно-женственном»), Петра Астафьева, Василия Розанова и других, писавших о «вечно-женственном в русской душе». Сводка их авторитетных мнений будет небесполезна в изучении вопроса.
Женщина—Природа, мужчина—Культура. Женское ближе к природе, тема женского в христианстве связана с темами творения и эсхатологии — с жизнью и смертью (с началом и концом), «смысл любви» (Соловьев) и «смысл творчества» (Бердяев). Женщине ближе ритмы природы, она легче приспосабливается к среде, ей свойственна живучесть. Все механизмы изобрели мужчины — женщина предпочитает тепло организма. Категория женственность есть «переход из области телесной жизни в духовную» (Астафьев), но что выигрывается в скорости операций, то теряется в силе их. Отсюда же и особенности женского характера: впечатлительность и раздражительность, изменчивость «общего настроения», робость, не склонность к излишествам, и даже «слабая женщина выносливее сильного мужчины». Все, что перечислено, отчасти присуще русскому характеру; еще недавно это осознавалось всеми на типе русского крестьянина, жившего в природной среде столетиями.
Стремление к солидарности присуще женщинам, мужчина больше индивидуалист. Коллективно-родовое начало за женщиной, мужчина ценит личность. Изменение в обществе — дело мужчины, сохранение достигнутого в семье — дело женщины. Активность в силе отталкивания— это мужчина, пассивная сила притяжения («заманивания») — женщина. Наши мыслители полагали, что именно женское начало в истории нейтрализовало степени тирании (начиная с дома и семьи) и усиливало уровни нравственности. Но именно нравственность, а не право — основная установка русской ментальности, тысячу лет исповедующей мысль, что благодать выше закона. Женщина нуждается в обществе, даже в развлечениях, и только в них она сама себя реализует как личность. Установка на общину как основную форму социальной организации — ментальный признак русского сознания: морально общество всегда выше государства.
Отсюда черты женского характера: направленное любопытство, стремление преувеличивать самые мелкие события ежедневной жизни, склонность к сплетне, аффектация, частые капризы, даже особая бережливость («скупее мужчины»), — но всё это моментально исчезает, говорит Астафьев, если «женщина глубоко чувствует». Чувство способно преобразовать в сознании отрицательные стороны бытия.
Накопление информации у женщины идет быстро — и реакция на нее следует немедленно, скорее, чем сведения обобщены и обдуманы. Эта «безоглядность» поведения под влиянием чувств — тоже черта народного характера русских.
В мужском характере резко выражено индивидуально-видовое, тогда как в женском «преобладает неопределенное родовое». Это вид, данный как род, часть и вместе с тем целое — а это тоже черта русской ментальности: один из видов одновременно предстает как род. Конкретность «мужских проявлений» законченно оформлена, здесь главенствует принцип границы и предела; женское в своей отвлеченности есть матерь-материя, беспредельная бездна в потенции действий. Иван Ильин замечал, что вечно-женственное в принципе склонно к беспредельному; это существо открытое, принимающее, «всевидящее». Оно — не форма жизни, а смысл ее и сущность, состояние оно предпочитает пустой деятельности. Центростремительность ее характера обращает к середине, к центру — к сердцу («чувствительное сердце — ее центральный орган»), тогда как мужчина в центробежном движении уходит от общества и государства (хотя бы мысленно); ему необходимо «выйти из себя».
Мужское — порядок, женское — не обретший формы хаос; основная идея женщины — во всем и всегда «наводить порядок» — она не видит внутренней связи вещей, уже создавших порядок. «Бесформенная материя» — черта женская, а мужчина ее формует, придавая законченность форм естественной красоте жизни.
Женщине присуща мягкость, пластичность, стремление подражать; мужчина жесто́к и же́сток, он инициативен — женщина поддается влиянию и внушению. Все «женские» черты знакомы русской ментальности. Доброта и отзывчивость, любовь-жалость, известная неоформленность (незавершенность) дел и даже мечтаний.
У женщины более быстрый психический ритм, она разнообразно и тонко чувствует, поэтому «ее настроение более жизнерадостно и ясно». Она больше живет внутренней жизнью души и чувства, более инстинктивна, не всегда осознанно действует, меньше себя контролирует в некоторых ситуациях, впечатления у нее преобладают над вниманием. В целом она хитрее и ловчей мужчины, практичнее и внимательнее к тем, с кем имеет дело; мужчина просто потребляет свой «безличный общелогический разум», не интересуясь настроением собеседника. Мужчина доказывает — женщина убеждает. Мужчина подчиняет — женщина привлекает; она использует интерес собеседника — мужчина просто добивается собственной цели. Словом, мужчина воплощает физическое действие, женщина — психологическое переживание.
Немецкий писатель поражен: «Русский — это каскад чувств. Одна эмоция внезапно и беспричинно переходит в другую, противоположную... Смена крайностей придает русскому характеру нечто капризно-женственное. Это облегчает обращение к Богу, но одновременно и вероотступничество, и измену» [Шубарт 2003: 84—85].
«Женская мысль столь же бездоказательна и непоследовательна, как сама жизнь. В этом ее слабость, и в этом же и ее сила» [Астафьев 2000: 295]. «Мысль женщины конкретна, образна, интуитивна» [Ильин 6, 3: 179]. Но даже в науке столь важно совмещение системной мысли отвлеченного мужского ума с живым и конкретным, образно обобщающим женским. Женщина ведь полагает, что существуют больные люди, но нет осязаемой вещи болезнь — это абстракция ума, а таким она не доверяет. В своем мышлении женщина идет от вещи к идее, мужчина — от идеи к вещи; женщина во многом номиналистична, мужчина всегда реалист. Логический процесс у женщины быстр — она обходится без большой посылки (которая находится в подсознании и сразу же соотносится с конкретной ситуацией) — это воспринимается как работа немотивированной интуиции, как женский дар предвидения. Мужчина непременно хочет знать, женщина довольствуется верой, поэтому ей подозрительны всякие мелочные доказательства: ведь ее интересует не истинность, а подлинность. Русская ментальность также ценит подлинную правду, а не доказанность истины.
Интересна логика специалистов, отметивших, что слова ум и умный к мужчинам прилагаются редко, а слово дурак — часто; к женщинам наоборот (говорят умная женщина) — следовательно, подчеркивают особый ум женщины [Кирилина 1999: 102]. Тут номиналистическое смешение понятий и слов. Мужчина в своем обозначении по определению умен (корень слова тот же, что «мысль», «ум»), и незачем лишний раз на этом останавливаться. При желании тот же факт можно истолковать как неприятный для женщин — что также будет неверно. В конце концов экспансивность женского характера часто прорывается в эмфатическом дура! — произнесенном вовсе не в адрес мужчины.
Воля и познание мужчины направлены к общему, у женщины — к целому. Русская мысль также исходит не из аналитически данных частей целого, а из самого целого (ибо целое — это живое; всякая проблема осознается «в общем и целом»).
Все представления женщины эмоционально и этически окрашены — это тоже совпадает с особенностями русской ментальности, как они выражены в языке. Женщина мыслит «словами или образами», а не отстоявшимися понятиями, что также соответствует духу русской ментальности, которая основана на работе с символическим образом в составе словесного знака, а не с понятием.
Современные психофизические исследования подтверждают, что женский мозг использует больший процент коры больших полушарий, чем мужской («скупость» экономии), быстро реагирует на эмоции, ибо правое полушарие здесь развито больше левого (впрочем, капризы и раздражительность связаны как раз с активностью правого полушария).
У женщин острее память, они живут результатами прошедших изменений, не стремясь создавать неудобно-новые (это их «здравый смысл»). Но традиционно русская ментальность также была нацелена на память прошлого, лишь со временем сменившись ориентацией на будущую цель, следовательно — на воображение.
Женский мозг стареет медленней, он сохраняет способность к постоянному воспроизведению прошлого опыта. И еще особенность: ассоциации идей у женщины совершаются в пространстве (ум охватывает предметы одновременно), а не во временной последовательности; метонимичность русского мышления такой же известный факт, как и скептическое отношение русского человека к идее причинности.
Игнорирование «закона непротиворечия» — еще одна «женская» черта: женщина приемлет и одновременно отрицает всякий предикат (а не-а: «женская непоследовательность», «женская логика»). Это проявления «апофатического» типа мышления, издавна присущего русскому реалисту; утверждение в отрицании: неплохо — значит хорошо, не знаю — значит уже решил, а что такое неброская красота? Тоже красота, но особого рода.
Женщины лучше говорят (и осваивают языки), чем мужчины, потому что полушария их мозга не «враждуют» друг с другом, как у мужчин; отсюда ревнивое убеждение мужчин в том, что «женщины и дети думают только, когда говорят» (Иван Сеченов). Мужчина стремится в словах рассказать о своих заботах, горестях и радостях, а женщина способна понимать с полуслова, потому что слова выражают общие понятия, лишенные тонких оттенков переживания; переживаемое «ею боится грубой формулы слова» (Астафьев). Русская сдержанность и немногословность в выражении чувств — того же склада.
Историки русской культуры показали на многих примерах, что с древнейших времен женщины выделялись особым интересом к слову, к речи, «изобилие их речевой деятельности» как-то соотносится с их догадливостью. В отличие от мужчин, в загадках и образных сравнениях они оперируют не предметами вещного мира, а языком, в тонкой словесной игре создавая образ вещи. Философы Серебряного века утверждали, что женщина — природный символист. «Языковые тонкости» русской женщины, особенно молодой, давали ей возможность создавать прекрасную лирику русских песен, осветлявших тот быт, в котором они пребывали. Именно они учили языку в семье, раскрывали тайну проникновения в словесный образ, который веками сохраняет природный смысл слова.
Женская воля и слабее, и сильнее мужской. Воля женщины сильнее там, где ощущения непосредственны, несложны, где дело совершается легко и быстро при наличии необходимых средств — «в области непосредственной практической жизни». Где необходимо собраться и выполнить сложное дело, быстро совершить трудное, тут нужны находчивость, быстрота реакции, чтобы без раздумий достигнуть успеха, который всем очевиден. Именно таков и русский характер в свершении дел, о чем еще речь впереди.
Женское постоянство в желаниях — не упрямство, а твердость, модальные предикаты у женщины разнообразнее мужских, и очень часто ее желания заменяют мужскую волю. Однако в целом для женщины характерно «пассивное выжидание, состояние, а не деятельность», поскольку «воля женщины определяется ее сердцем».
Мужчина — сторонник права, женщина — простой справедливости. Значимость обычаев и нравов для женщины абсолютна; она и хранитель, и новатор в области нравов. Старая формула: «мужчина хочет свободы — женщина ищет опоры» — справедлива. Женщине важно одобрение близких — мужчина печется о славе в веках. Тут также много общего с русской ментальностью — она несомненно «женственна».
Женщина страшится — ищет утешения, тогда как мужчина храбрится, самоутверждаясь. Женщина прощает — она мир; мужчина наказывает — он борьба. Женщина — ангел, мужчина — титан.
К сказанному добавляют: мужской взгляд славит сделанное, женский скорбит о несделанном. Женское счастье более ситуативно и переменчиво, чем мужское, но с годами ощущение счастья у мужчин повышается, а у женщин сходит на нет, хотя разнообразия в его проявлениях у женщин много больше [Джидарьян 2001: 168, 178].
Философы Серебряного века сравнивали мужское «аполлоновское» начало с огнем и солнечным небом, женское «дионисийское» — с ночью, луной и землей. Мужчина для них — это норма, женщина — отклонение. Человек и только потом мужчина — женщина и только потом человек (украинское слово чоловік — мужчина). Однако именно женственное и для них остается внутренним нервом жизни, а «женщина несомненно более аристократка, чем рабочая сила жизни — мужчина» (Астафьев).
У каждого из них свои достоинства, «С женщиной проще: она надежнее», — говорил Ильин. «С мужчиной сложнее: он реже предсказуем». И тут уж каждому по себе судить, чего больше в русской ментальности: надежности в деле или предсказуемости в мысли.
«Женская сторона материально-пассивная, мужская — активно-хаотическая», — заметил Вл. Соловьев, как бы заключая разговор на эту тему.
Вся русская история в ее трагедиях крепится на описанных здесь особенностях «женственного», за столетия отложившихся в русской ментальности — в том ее виде, который дан нам в языке и в слове, созданных в том числе и русскими женщинами.
Курица не птица
В русском представлении, мы уже знаем, человек есть цельность субъекта жизни, в нашем случае семьи, которая представлена мужчиной и женщиной, мужиком и бабой.
А до женитьбы-замужества живешь при родителях или как бобыль какой — уже вне семьи. Эту мысль выразил Владимир Соловьев: «Человек и его женское alter ego восполняют взаимно друг друга не только в реальном, но и в идеальном смысле, достигая совершенства только через взаимодействие» [Соловьев 1988, 2: 530]. Типичное рассуждение «реалиста», который считает, что идеальное — в цельности и гармонии между материей и формой: «абсолютная человечность» как «образ всеединства». К такой гармонии и стремится русская ментальность, в женственной своей сути порождая новое.
Но только в идеальном браке, ведь «нравственное значение брака состоит в том, что женщина перестает быть орудием естественных влечений, а признается как существо абсолютно ценное само по себе, как необходимое восполнение индивидуального человека до его истинной целости. Неудача или недостаточный успех брака в осуществлении этого безусловного значения человеческой индивидуальности заставляет перевести задачу вперед — на детей как представителей будущего» [Соловьев 1988, 1: 493]. «Индивидуальный человек» — не только мужчина. Поэтому странно читать о том, что якобы русской ментальностью женщина расценивается «как недочеловек» и даже больше: как мужественная бой-баба («русской женственности не свойственна слабость и беспомощность» [Кирилина 1999: 142]), а все потому, что у русских не было культа дамы сердца [Фархутдинова 2000: 29]. У русских был культ Матери, культ семейно-общинный, а не индивидуально-сексуальный.
В русских пословицах и поговорках, говорят нам, отражена мужская картина мира, а женская от нее зависит и ею направлена. Все-таки очень прямолинейные это сопоставления. В данном, например, случае (во всем объеме затронутых проблем) речь идет о маркированности той или иной, мужской или женской, ипостаси «индивидуального человека». Неотмеченность известным признаком еще не является свидетельством отсутствия, игнорирования или неуважения. Мы только что убедились, что и «женская сторона» отмечена особыми, но только своими, признаками. Странно было бы другое: совпадение мужского с женским и наоборот — мужская женственность и женская мужественность. В этой книге уже не раз показано, что русская ментальность строится не на привативности «да — нет», а на эквиполентной равноценности оппозитов: «да / нет — нет / да».
Зато сравнения с другими формами ментальности, как вещные проявления народного сознания, весьма поучительны. Например, сравнение с немецким менталитетом [Кирилина 1999: 112—123] показывает, что в последнем женщина рассматривается с точки зрения полезности и необходимости для мужчины: женщина предстает как объект потребления — «инструментализация женского образа». «Поэтому можно сделать вывод о большей значимости женщины и женской деятельности для русской культуры» [Там же: 139]. В русской культуре женщина имеет голос — а это очень важно, и для женщины в первую очередь. Немецкий писатель вообще убежден (по контрасту с немецкой ментальностью?), что «русская женщина обладает более высокой ценностью, чем русский мужчина», так что «у нас есть серьезные основания для надежды, что русский народ спасет именно русская женщина» [Шубарт 2003: 183, 186]. Именно так и случалось не раз.
В большом психологическом эксперименте показано [Кирилина 1999: 155 и след.), «что русская женщина оценивается информантами обоего пола выше, чем русский мужчина», причем женские черты характера выделяются подробно и четко, и все они — типично русские: терпение, доброта, трудолюбие, красота, самоотверженность, решительность, энергичность (и отрицательно: импульсивность, безропотность, болтливость). Всё это несомненно нравственные, далекие от сексуальности, черты (красота?), тем более, что «русские женщины более критичны, чем мужчины», хотя «мужчины ориентируются в своих оценках на идеальный образ, а женщины производят положительную оценку себя» — т. е. предметно и конкретно. Тот же автор показывает, что и в русском языке гендерные различия всё чаще нейтрализуются, на первый план выходит обозначение действия, а не лица, например во фразеологизмах типа попасть под руку, сложить голову, чесать языком и т. д., и только отрицательно отмеченные характеристики (их больше) сохраняют различие по полу: старая перечница — старый хрыч.
Вернемся к тезису Соловьева, подкрепив его мнением тертого публициста: «Вежливые немцы (Бисмарк), говоря о сравнительной мягкости, незлобивости и простодушии славян, объясняли это женственностью славянской расы, а грубые немцы — первобытностью ее. Мне же кажется, что это не женственность и не первобытность, а просто более высокая человечность, более высокий уровень духа человеческого в сравнении с германским... Под человечностью мы разумеем скорее доброту души, чем умственную силу... Женщины созданы для ремонта жизни: беспрерывно рвущаяся ткань человечества должна восстанавливаться». Немцы во времена Гердера были такими же, «всё их поколение отличалось благородством духа, человечностью и тем, что, пожалуй, выше человечности, — женственностью в хорошем смысле слова» [Меньшиков 2000: 506, 516, 513].
Женственность человечна. Но для «ремонта жизни» сгодятся и многие добродетели русского характера.
В оценках относительной ценности мужского и женского заметен субъективизм определений, который связан с точкой зрения со стороны релевантной для себя самого особенности национального характера. Чего стоит несовпадение мнений: Запад — мужское, Восток — женское [Шубарт 2003: 179] — Восток — мужское, а Запад — женское [Толстой 1995: 334]; настоящему мужчине свойственно желание оставаться мужчиной — тут ничего не поделаешь.
Еще: «вся ритуальная жизнь общества пронизана дихотомией мужское — женское» [Кирилина 1999: 13], причем маркирована, конечно, сторона мужская — это авторитетность, деловитость, компетентность и т. д. Современной русской женщине те же черты присущи в высшей степени, так что они — не различительные признаки, во всяком случае в отношении гендера. То же касается и терминологии. «Если пол осмысляется в категориях "мужчина" и "женщина", то гендер — в терминах "мужественность" (мужское начало) и "женственность" (женское начало)» [Рябов 2001: 6]. Мужественность и женственность — признаки, а не категории. Научные термины обычно используют латинские корни; как в данном случае — феминность и маскулинность.
Для русского (и шире — славянского) сознания характерна мифологизация грамматической категории рода [Толстой 1995: 333, 340], т. е. преобладает реалистская точка зрения «от слова». И тогда, действительно, происходит перемещение внимания с sexus'а на gender, с физиологического на социальное, как более важное. Символика славянского образа работает в этом направлении, поэтому всегда важно знать, как «рябине к дубу перебраться», а публичному политику становится понятной простая мысль: «там, где женщины танцуют, пляшут, они всегда вовлекают общество в какой-то благородный, созидательный, нежный процесс» (Егор Строев). Сказано коряво, не без повторений, но от души и верно. Вовлекают. Так что пусть женщины танцуют и пляшут, а каждая рябина непременно найдет свой дуб. И здесь женственность не в идеальности Богородицы, а в реальности Матери. «Земля — вот русская вечная женственность, — писал Георгий Федотов. — Мать, а не дева, плодородная, а не чистая...» Таково русское суждение.
А вот что думают западные номиналисты и концептуалисты.
Эмпирик Бокль: «В тех странах, где преобладал дедуктивный метод — женский! — знания, хотя часто и усиливались и умножались, никогда не были широко распространены (не были народным достоянием), а распространение индуктивного метода в науках распространяло знание в самых широких пределах». Суждение явно осудительное. Социальное (научный метод) для автора связано с отношением к словесному знаку и определяется последним.
Для концептуалиста Гройса важна готовая идея, из которой он исходит, определяя связь между реальным sexus'oм и его знаком (gende'ром). Так, он утверждает, что именно и только русский интеллигент (владеющий искомой идеей) — носитель русской ментальности, и его «русскость» есть его душа, его женственность. В таком случае вся вообще «Россия как подсознание Запада» становится предметом особенно заботливого внимания западного интеллектуала, погруженного в поиски своих корней.
Что же... мы уже убедились в относительности оценок и субъективности определений, данных извне культуры. Еще один пример не помешает.
Вот только не кажется ли просвещенному читателю, что уж слишком знакомая это черта собственной западного человека ментальности: судить других по себе?
А это — все-таки — один из самых ярких признаков «женственности».
Различия в языке
Владимир Соловьев говорил, что культурная роль женщины соответствует ее физиологической роли: это соединение консерватизма в общественном с гибкой переменчивостью в личном проявлении. «Прежде чем попадут на истинное, они с жаром хватаются за всё, что им представляется», так что «смятение женской души», когда оно явлено в обществе, — это «явный признак потребности изменения и ее близящееся удовлетворение». Те же метафоры мы найдем у других мыслителей. «Женственное качество», замечал Василий Розанов, — уступчивость, мягкость, но таинственное безволие в нужный момент оборачивается содержательной силой смысла, порождающего новые формы уже вне влияния прежних качеств и форм.
Таков же и русский язык. Он и сейчас по видимости уступает влияниям, идущим со всех сторон; он многое заимствует, видоизменяя формы, но при этом сохраняет концептуальный смысл славянских слов и категорий. Уже все производные от слова лик заменены иностранными словами: лицо в проявлении фейсизм'а, личина как имидж, личность как индивидуальность, но корень -лык- сохраняется, и не только потому, что никаким иностранным словом не заменить таящийся в нем смысл. Впрочем, примеры гибкости языка мы уже приводили ранее.
Развитие «гендерной» лингвистики предполагает изучение не биологических, а социальных различий, представленных в народной культурной традиции, в языке прежде всего. Отражение определенных стереотипов речи, характерных для мужчин и женщин, в проекции «правильно — неправильно» и «хорошо — плохо». Собственно, «гендерные» различия представлены уже в формах языка. Средневековые грамматики гласные сравнивали с женским, а согласные — с мужским; в современном символическом представлении основа слова есть мужское качество, а окончание— женское. Выразительны современные аналитические понятия, созданные сочетанием двух имен (белый дом), с тем же противопоставлением мужского количества (дом) и женского качества (белый). Мужские и женские рифмы также известны, как и то, что русская поэзия предпочитает женские.
Мы уже определили, что в мужчине резче выражено индивидуально-видовое, в женщине преобладает неопределенно-родовое. Без всякой натяжки можно сказать, что развитие гиперонимов родового смысла в литературном языке есть «женская его черта». Этот процесс всего лишь продолжает традиционное для русской ментальности противопоставление собирательно-женских и конкретно-мужских «мифологем» в их различии по роду; ср. слова беда, судьба, доля, участь и освобождающие от бед страх, смех, крик, ужас, гнев, или жизнь, смерть, свобода, воля, радость, любовь, кровь, или Русь, Родина, Россия и т. д., с одной стороны, и весьма конкретные концепты, выраженные словами мужского рода типа дом, двор, мир, свет, — с другой. В противопоставлении воздух, огонь — земля, вода такое же различие между активными и пассивными, но жизнепорождающими стихиями «женского рода». Многие мифологические и даже философские представления связаны только с различением имен по роду, как в случае дух — душа; в других языках это просто разные слова, а в русском различные родовые формы одного корня. «Женщина ближе к источнику жизни, чем мужчина — техник и конструктор», — говорил Николай Бердяев.
Специальное описание «культуремы» женщина на основе русских пословиц и разговорных идиом показало типичное для русской ментальности распределение в восприятии концепта — это женщина и баба как обычное удвоение всякой сущности на низменное и возвышенное. Неверно лишь утверждение, что только баба является «идеоэтнической характеристикой», а женщина якобы перевод или калька. Женщина — именно идеальная сущность бабы, концепт формируется в XVI в. в полном соответствии со всеми прочими «двоениями» смыслов (правда-истина, честь-совесть и пр.). Выделяя признаки русской «бабы», как они даны в составленных мужчинами выражениях, подчеркивают типологические черты женщин, присущие, в принципе, любым женщинам мира: от кротости до наглости, от скромности до болтливости, особо отмечая некий недостаток ума. Совершенно неверно, потому что русский эпос как раз женщину признает за эталон ума и красоты (Василиса Премудрая, Елена Прекрасная). Русская культура — культура философского реализма, ценящая слово и язык как хранителей ментальности. Женщина, особенно тонко чувствующая слово, естественно признается обладающей здравым смыслом.
Женская речь во всех обществах отличалась и отличается от мужской, иногда намеренно. Две из трех постоянных характеристик языка — биологической, психологической и социальной — остаются контрастными в мужской и женской речи. В произношении женщина отличается от мужчины тембром голоса, темпом речи, характером пауз, длительностью гласных. Различна и речевая этика. Женщины предпочитают вопросо-ответную форму диалога, а мужчины — монолог; женщинам удобнее размышлять вслух, тогда это целый хор в присутствии других. Коллективное мышление (дума с целью думать) более гласно и демократично, чем индивидуальное осмысление в мысли, что предпочитают мужчины; вербальное мышление женщин допускает проверку рассуждения на истинность в любой его точке. Еще: в разговоре мужчины сохраняют молчание 3,21 секунды, а женщины только 1,35; у женщин более правильная речь — они уважают норму, тогда как мужчины ее нарушают в пользу жаргонизмов, варваризмов и неологизмов.
Стиль поведения мужчин и женщин воссоздается с детства: женщина нацелена на поддержание отношений — мужчина стремится доминировать, нацелен на состязательность и напор. Мужчина на непрошеные советы реагирует агрессивно, а женщина становится в позу «молчаливого протеста». В речи женщины больше недоговоренностей, намеков, она как бы прячется за слова, желая скрыть интимное. Мужчина, в общем, более говорлив, чем женщина, но менее самоуверен; англичане утверждают, что одну и ту же расхожую формулу они часто употребляют с разными модальными ограничениями. Так, I think мужчины используют как выражение неуверенности («я думаю?»), а женщины — как выражение убежденности («я думаю!») [Карасик 1996: 57—58].
Мужчины — грубее, самодостаточней, жестче женщин в проявлениях речи, зато женщины тоньше понимают слово, различают стили, любят поэзию. Короче, мужчины и женщины буквально «говорят на разных языках», когда выражают свои чувства, мысли и эмоции. Девочки, как правило, начинают говорить раньше, постепенно осваивая звук за звуком в простейших сочетаниях, и так — вплоть до осмысленной фразы. Мальчики долго отмалчиваются, но зато начинают говорить сразу целыми предложениями, долго пренебрегая деталями произношения. Словом, мужчине важен смысл, женщина готова довольствоваться и формой. Не очень часто развивая речь творчески, она быстрее мужчины улавливает то важное, что приносит с собой новое выражение, и активно вводит его в норму. Смена языковых форм как поветрие на моду привлекает женщин, может быть потому, что стилистически новые формы выразительны по экспрессивности.
Женщины лингвистически «быстрее» мужчины, легко осваивают иностранные языки, вводя их в общество; например, английский в России долгое время считался «языком барышень», сегодня итальянским и испанским особенно увлекаются женщины же. На лингвистический вопрос у женщин всегда больше ответов, но ответы даются почти в одинаковых выражениях, так как набор общеупотребительных слов у разных женщин всегда удивительно совпадает. Мужчины проявляют больше индивидуальности в выборе лексики. Короче говоря, мужчины создают штампы — женщины их сохраняют. «Штамп» создается от слова — эксплицируются потенциальные со-значения слов в данном словесном контексте; готовый штамп заменяет слово в определенном значении. Логическое подавляется эмоционально-экспрессивным. Именно женские новообразования образны: страшок, сказанное о некрасивом мужчине, или нетоварный мужчина — ироничные и образные оценки современного кавалера, который не соответствует кондиции. В беглой речи женщины чаще используют местоимения, частицы, отрицания и прочие дискурсивные слова и словечки, которые помогают организовать последовательность высказывания и притом вложить в него нужную эмоцию. Ведь, неужели, разве, конечно-конечно и пр. буквально на каждом шагу, но это не создает впечатления «слов-затычек», как мужские так сказать, значит, ну, дак. Речь мужчин вообще ориентирована не на прилагательные и наречия, как речь женщин, а на имена существительные, которые непосредственным образом воплощают понятия. «Мужским» терминам отвлеченного смысла женщина предпочитает бытовые слова, но уж зато, освоив специальную лексику, именно она начинает ею злоупотреблять, вводя не по делу в свою речь. В прошлые времена женщины почти не знали книжных слов, справедливо видя в них опасность для живой речи; сегодня они же протестуют против наплыва иностранных слов, полагая, что это «разрушает русский язык» (что неверно). Женщины очень любят различные формы превосходной степени (ужас сколько!), а также слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Пока на пишущей машинке работал мужчина — это была машина. С начала XX в. его сменила «пишбарышня» — и машина обернулась машинкой. Все старинные русские слова вроде чаша, миса, ложица, таз, тарелка, вилы (в «Домострое» XVI в. они еще таковы) именно женщина в своей речи последовательно изменила в чашку, чашечку, миску, ложечку, тазик, тарелочку, вилку, превратив уменьшительно-ласкательный суффикс -к- в обязательный знак принадлежности слова к именам существительным (обозначают вещи, существующие реально). Так, в слове водка этот суффикс не означает уменьшительности (водичка), а просто отражает появление в слове нового значения, другого, чем в слове вода. С помощью этого суффикса и сегодня приземленно-вещно бытовые слова противопоставляются возвышенно-книжным: глажка (одной с глажкой не справиться) не то же самое, что глажение (здесь больше сохраняется глагольность корня). При этом глажение — славянизм, это книжное слово, а глажка — слово домашнее, свое. Косметичка — типично женское слово, из тех, которые ежедневно образуются по тем же правилам, хотя сегодня всё чаще от иностранных корней.
Также женская речь избегает слов грубых, особенно мата, хотя иногда заменяет их благозвучными эвфемизмами собственного сочинения; одно из новейших — словечко блин! — в словарях объясняется как «выражение высшей степени восторга» (но вряд ли это женское слово).
В одних и тех же ситуациях мужчина и женщина предпочтут различные экспрессивные глаголы для выражения мысли: при гиперониме идти мужчина скажет шагать, тикать, ошиваться, топать, а женщина что-то вроде упорхнуть, улететь; при родовом говорить мужчина предпочтет зыкнуть, рыкнуть, рявкнуть, брюзжать, а женщина — сплетничать, кудахтать, пилить; при общем глаголе кричать мужчина выберет вопить, крякать и подобные, а женщина — визжать, ойкать, реветь. Словообразовательные неологизмы формируются из наличного материала; чаще всего переосмысливаются старые концепты, но в измененной форме (женщины любят менять модное). Так при старом беготня появляется беговня, не без таинственного намека на бесплодность суетных движений жизни. Того же рода новообразования писателей; у Александра Солженицына «народный избранец» — слово образовано не от корня, а от причастной формы, и это связывает его с неприличными формами типа засранец (тоже попавший в литературные тексты). Любезные разговорному стилю слова моментально обрастают производными, каждое из которых как бы развивает смысловой заряд исходного имени, ср. тусовка — тусоваться, тусовщица, тусовщик и т. д. Неологизмы современного языка — вторичного сложения, обычно это отглагольные имена с несколькими аффиксами (например, в виде конфикса: префикс и суффикс вместе): про-длен-ка, пере-строй-ка, пере-стык-ов-ка — или прилагательные типа за-стой-ный. Усложнение структуры слова аналитически предъявляет вновь возникающие оттенки смысла, разграничивая их стилистические уровни. Семантика и стиль еще только прилаживаются друг к другу, не вполне совпадая с характером оценки. С одной стороны, вроде правильно и хорошо, но, если посмотреть иначе, что-то неладно, требует осуждения. Двойная мысль «в одном флаконе».
Логика и стиль
Женский здравый смысл избегает высокого стиля и сторонится низкого. Но как быть в случае, если слова среднего стиля нет? Тогда появляется утверждение, что «мне не нравится слово тусовка, так что я иду на раут», или в стихах: «чужих метафор не стяжал, не тырил» — тоже соединение высокого и низкого при отсутствии среднего. Типично русское метание между крайностями в поисках абсолютного смысла, еще не оформленного в родовом по смыслу слове, способном заменить эти оба.
Но в принципе грубая лексика — принадлежность мужской речи и возможность мужской характеристики. Дискредитируя одного из министров, «социолингвисты» специально подбирали из его высказываний слова, способные опорочить в глазах снобов. Для оценки деятельности своих предшественников этот министр «использует заимствования из языкового обихода лагерной зоны: накололи, кинули, подкосили, наплевали, посадили на иглу». Но это не характеристика самого министра — это оценка деятельности других лиц, которые заслуживают данных определений-оценок. Характерно, что рядом печатаются выражения деятелей, которых «политтехнологи» поддерживают: кидать, отмывать, оторваться, наехали, сами понимаете... Перечисленные слова показывают, что с высоким стилем дела сейчас обстоят неважно, а место среднего (литературного) занимает низкий.
Риторический тип мышления, распространенный ныне, способствует развитию переносных значений слов, причем мужское и женское в этом процессе также находятся в дополнительном распределении. Мужчина вообще воспринимает всякие отношения в иерархии соподчинения, постоянно проверяя свое место в ней; женщина воспринимает себя в горизонтальной структуре ряда на основе взаимных связей, стремясь достигать согласия и близости. Различные принципы ориентации в мире диктуют предпочтения в области семантических переносов: метонимия ряда или метафора иерархии. Сегодня в русском языке развивается метафорический перенос по сходству образов в ущерб метонимическому переносу по предметной смежности.
На этой основе увеличивается количество отрицательно-оценочных слов типа сговор, главарь, огласка, верхушка, взвинтить, пособник, ополчиться, преднамеренно, горячка, походя и др. Их сотни, некоторые приходят из вульгарной речи, существуют в обиходе давно.
Поскольку в женской речи даже понятия эмоционально окрашены, а конкретное предпочитается абстрактному, возникает необходимость в особых синтаксических структурах, способных выстроить логический ряд без привлечения типологических схем рассудка. Это оказывается возможным в результате расширения различных типов модальности и суждений, построенных по типу энтимем — с опущенной большой посылкой. По существу, все старые типы русских сложноподчиненных предложений так и создавались. «Мой Ваня обманщик, потому что он мужчина» — придаточное «причины», основанное на невысказанной большой посылке «все мужчины обманщики». Вариации в модальностях (особенно желательности или оценочности) обогащают высказывание оттенками, за которыми причинно-следственные связи исчезают, как несущественные: «ведь он мужчина», «думает, что мужчина» и т. д. Одновременно это выражение недоверия к причинности вообще (что характерно для русской ментальности), перевод ее в степень предположения — в конечном счете, скрытая надежда, что этот Ваня не так уж и плох («кажется», «быть может» и т. д.). Энтимема основана уже не на логической предпосылке, а на реальной пропозиции, в оценке которой учитываются очевидные особенности и качества обсуждаемого «Вани».
Тем не менее большая посылка находится «в сфере бессознательного», как ясно из примера; следовательно, в женской речи особенную роль играет интуиция, которая проявляется в различных видах. В общении многое зависит от того, что именно предполагается или подразумевается. Мужчина стремится рассказать о том, что ему важно в данный момент, свои впечатления переводя в слова, — женщина способна понимать с полуслова, тем более, что некоторые переживания «боятся слов», ведь слово передает понятия, а не ощущения. На этом основано известное явление женского предвидения, особенно концентрированно представленное в действиях ведьмы.
Благодаря устремленности к диалогу женская речь приближается к разговорному стилю. Развитие современных типов разговорной речи, и особенно в синтаксисе, — заслуга женщин. Здесь много уклончивых выражений, возникают редукция форм, эллипс, дробление частей предложения (парцелляция), несогласованность грамматических форм, чисто риторические фигуры типа амплификации (нагнетание однородных, экспрессивно усиливающихся форм), реплик-повторов и т. д. Сдвиг и перемещение членов предложения определяется ситуацией высказывания: «У тебя есть чем мазать хлеб?», «У тебя есть где ночевать?», «Кому выходить, не толпитесь на выходе!» — речь строится посредством сочленения речевых блоков, устойчивых формул, а не отдельных слов; здесь существен уже отстоявшийся отрезок мысли, а не самостоятельное слово, в новом контексте способное породить совершенно новые оттенки мысли (понятием или символом). Дочь у них, капризы постоянные, сын одна рука, гангрена, газовая, так вот; Я за книгой, тетка просила, давай скорей, где она? — пропозиция (ситуация) и здесь важнее слов, к тому же помогают жест и интонация высказывания. Размывание логических связей происходит внешним образом, на уровне слов; в действительности же они восполняются невербально.
Уточняющая определенность высказывания осуществляется за счет частиц и междометий. Это определенность самого общего, приблизительного характера. Междометия и частицы в таких высказываниях выходят на первый план; глаголы, наоборот, часто опускаются. Основная особенность такой речи — ее принципиальная незавершенность, предложение незамкнуто, не очерчено границей, что важно для мужских высказываний, которые завершаются точкой, а не многоточием — «следами на цыпочках ушедших слов» (Вл. Набоков).
Социальная активность современной женщины порождает несвойственные русскому языку формы. Незаметно для самих себя женщины как бы стараются уподобиться мужчине и в выражении мысли, и в форме слов. Например, говорят бы́ла, взя́ла, по́няла, потому что был—были, взял—взяли, понял—поняли, хотя исконные формы была́, взяла́, поняла́ выразительнее и лучше. Однако тот же язык помогает женщине самоутверждаться. Например, старые слова типа учитель с помощью суффиксов обрастают уточнениями, из которых самая нейтральная форма учительница — как гипероним при оценочных учителка, учительша и т. д. Происходит разрушение грамматических признаков и в высказываниях типа молодая доктор пришла; тут в силу вступает логика русского высказывания, согласно которой единство подлежащего, выраженного как понятие, должно сохранять единство формы (молодой доктор), тогда как соотнесенность со сказуемым должна передавать точность смысла (пришла). В свободном употреблении происходит такое же наращение оценочных гипонимов: докторша, докторица, докторка и т. д. И сама женщина любит словообразовательные варианты, и в отношении к ней язык не скупится. Описанные выше редукции устной речи тоже, в известной мере, идут от мужской речи, как правило лаконичной, с характерной для нее решительностью утверждений.
Даже на письме отражается различие между мужской и женской речью, и не только в почерке [Кирилина 1999: 59 и след.]. Любопытно утверждение относительно отмены буквы «ъ» в конце слов (по реформе 1918 г.). Эта «неслышимо-непроизносимая» буква зрительно обозначала слова мужского рода, и ее устранение было воспринято как нейтрализация мужского начала: столь, полънить, жизнь (при «женских именах» знак конца слова сохранялся). Вместо традиционной для русского подсознательного эквиполентной оппозиции «мужское—женское» образовалась строго привативная «женское—неженское», с вызывающей маркировкой «женственного начала». Появились исследования, показывающие, что «отмена твердого знака имела фатальные последствия для гендерного самосознания советских граждан» [Там же: 69]. И это вовсе не анекдот, хотя, если вдуматься, есть что-то в том факте, что мягкое окончание сохраняет свой знак: путь, конь, огонь...
Словом, все три компонента гендерных различий: биологический, психологический, социальный — в разной степени представлены в проявлениях современной русской речи, отражающей изменяющиеся категории языка. Имеются явные различия между «женственным» и «мужественным» — при несомненном их единстве, вплоть до цельности на сущностном уровне языка как целого, так и общего, в русской речи выраженных в общем и целом.
Однако общая направленность в развитии современной речи, во всем ее объеме, не только литературной формы, состоит в смещении в сторону «женственную». Здесь отражается переориентация с логического типа мышления на экспрессивно-риторический, с понятия как содержательной формы концепта — на образ. Так всегда бывает в переходные моменты истории языка, когда возникает необходимость в построении новых символов. Но, вероятно, это связано и с усилением индивидуального начала в речевом общении, чему способствует развитие новых типов модальности, редукция синтаксического целого, увеличение семантически опустошенных дискурсивных слов при постепенном сокращении союзов, и т. д.
Сегодня трудно судить о причинах, которые станут понятны потом, но условия происходящих изменений выявляются определенно.
Мир в человеке
В представлении русских мыслителей мир изофункционален человеку-личности. Как «личность» не может быть осуществлена вне реальной гарантии «человека», так и «мир» не может существовать без «сверхкосмического принципа», и «философия открывает его посредством умозрения мира, т. е. посредством интеллектуальной интуиции, направленной на мир» [Лосский 1991: 328]. Жизнь мира, «взятого как живое целое» — это сочетание творческих усилий «снизу» и одновременно «сверху». Определения мира типа «эмпирическая действительность» или «объективная действительность» утверждают некий самодовлеющий порядок вещей и событий, который противопоставлен тому, что «сверху» [Франк 1956: 188, 23].
Мир есть цельность. «Мы можем определить "мир" как единство или целокупность всего, что я испытываю как нечто внутренне непрозрачное для меня и в этом смысле "мне самому" чуждое и непонятное, — как совокупность всего, что мне либо предметно дано, либо извнутри испытывается мною так, что носит характер насильственно, принудительно навязывающейся мне фактической реальности. Иначе это можно выразить еще в той форме, что "мир" есть единство и целокупность безличного бытия, — реальность, которая и как таковая, т. е. в своей огромной, всеобъемлющей целостности, и в своих отдельных частях и силах выступает передо мной и действует на меня как некое "Оно"» [Франк 1990: 513]. «Если мир есть систематическое единство, пронизанное отношениями, то выше мира, как основа его, стоит Сверхсистемное начало. Оно должно быть Сверхсистемным, так как в противном случае возник бы вопрос: какое еще более высокое начало обосновывает его систему? Как Сверхсистемное, оно несоизмеримо с миром, т. е. невыразимо ни в каких понятиях, применимых к миру и его элементам. Оно не есть личность, не есть разум, не есть единое», это — «Божественное Ничто» [Лосский 1991: 49]. О Божественном Ничто говорят и другие философы: «ничто, вызванное к бытию, но в себе не имеющее бытия», поскольку нетрудно видеть, что «этот мир предполагает мир идеальный как свою норму, как критерий для своей оценки» [Булгаков 1908: 221]. Как ни толковать сквозную для философского реализма идею, но мир как помысленное в их суждениях предполагает идеал мира (представленный как система, единое, норма и пр.), тогда как «объективная действительность» — опрокинутая из реальности ступень развития горнего мира, «мир» этот есть смесь бытия с небытием», в котором важен вопрос не о мире, а «о всемирно- историческом торжестве в этом "мире" бытия как дифференциальном признаке "мира" (мир осуществляется только в бытии, поскольку вне бытия это всего лишь идеальный мир) [Бердяев 1910: 243]. «То, что лежит в основе нашего мира, есть бытие в состоянии распадения, бытие, раздробленное на исключающие друг друга части и моменты» [Соловьев 1988, 2: 541]; «мир неуничтожим, хотя и не абсолютен, он бесконечен, хотя и не вечен, поскольку само время есть обращенный к твари лик вечности, своего рода тварная вечность» [Булгаков 1917: 206]. Этот «непросветленный грешный мир» (Франк) воспринимается как «имя, собирательно обнимающее собою страсти» (слова Исаака Сирина, цитируемые Бердяевым), т. е. поле человеческой жизнедеятельности в процессе воссоздания личности. «Человек представляет собой разрыв в природном мире, и он необъясним из природного мира» (Бердяев), поскольку именно человек в своем движении к личности (или личность в своем движении к человечности) как раз и соединяет мир в бытии и мир вне бытия, а «нравственность предполагает такое развитие мира и личности» в их параллельном осуществлении: «В самом деле, не надо забывать, что весь мир, согласно персонализму, состоит из существ, которые суть действительные или потенциальные личности» [Лосский 1991: 97, 135]. Иерархия такого рода «личностей» неоднократно описана, например у Л. П. Карсавина как «симфоническая личность».
Сам по себе мир есть средоточие вселенной. «В основе идеи мира лежит представление о согласованности частей, о гармонии, о единстве. Мир есть связное целое, есть "мир" существ, вещей, явлений, в нем содержащихся... В понятии мира русский язык подчеркивает моменты стройности, согласованности. То же и в греческом языке. Разница та, что русский народ видит эту стройность в нравственном единстве вселенной, разумеемой наподобие человеческого общества, — как мир-общество, а греческий народ — в эстетическом строе ее, причем вселенная воспринимается как совершенное художественное творение. Подобно и латинское mundus — мир, породившее французское lе monde в смысле "мир", "вселенная", значит собственно украшение» [Флоренский 1914: 701].
Мир и мір соотносятся друг с другом; тишина и спокойствие — редкие радости жизни, но точно также и пространственно-временные координаты мира неустойчивы: «Мир во времени есть лишь поскольку его держит в себе всеединое сознание» [Трубецкой 1922: 94]; «субстанциальность есть лишь состояние мира, а не его внутренняя сущность, лишь отвердение и окостенение мира, рабство мира» [Бердяев 1926: 43], мир вообще «возникает для нас лишь как объект нашего действия» [Булгаков 1990: 78].
В конечном счете, все проявления мира и человека соотносятся друг с другом и совместно определяются высшим уровнем бытия, направить течение которого вполне в человеческой власти.
Таково мнение русских мыслителей. Внутренний человек как он воспринимает внешний мир.
Пространство
«Итак, вопрос о пространстве по существу допускает лишь чисто метафизическое решение» [Соловьев IX: 41]. Это верно, народная ментальность знает не пространство, а простор. Пространства русских равнин и просторы русской души. Это Кант построил «новый дом мира» в пространстве, как Гегель — во времени, а Маркс — в обществе [Бубер 1998: 26]. Русский дом — в душе и на приволье.
Пространство в чувственном его восприятии исключает отвлеченные категории евклидовых атрибутов: бесконечность, непрерывность и единообразие. Человек разграничивает чувственную конкретность простора (как вещь) и идею пространства, а в мифе они совпадают, там «пространство существует только как его конкретные куски», вне своего содержания там пространство невозможно представить [Стеблин-Каменский 1976: 23, 36]. В русских фольклорных текстах пространство описано через заполняющие его предметы и лица.
Историческое исследование первообразных (простых) предлогов вскрывает последовательность в осмыслении пространства как идеи. Самые древние — обычные слоги до, за, на, по — выражают конкретно-пространственное значение, независимое от точки зрения субъекта. Они указывают на объективно-вещные отношения: за домом, до дома, на нем или под ним (по). Затем стали говорить о предмете, который находится при чем-то или у чего-то, присоединяясь к предмету извне — предметы приходят в движение. И только после этого возникают предлоги, с помощью которых можно проникнуть внутрь предмета, постигая его суть (вън, без, через, сквозь, вдоль и др.) Плоскостное восприятие предмета человеком обогатилось оттенками индивидуального восприятия. Это уже не простое ощупывание вещи, а представление его в пространстве в его отношении к твоему взгляду. Важен не сам предмет, а точка зрения на него. С помощью распространителя -д- стали превращать предлоги в имена, тем самым субстантивируя идею отношения; пере-дъ, за-дь, по-дъ (у печи) и т. д. Исконное по характеру — вещное, предметное, конкретно-телесное значение слов — преобладает долго, сохраняясь еще и сегодня в подсознании, но все больше и все чаще в язык прорывается некая идеальная струйка смысла, которую сам человек привносил в осознаваемые им закономерности бытия. Мысль упорно и твердо прорастала от вещного к вечному, за вещью пытаясь увидеть ее сущность, а за каждым со-бытием прозреть бытие. И более того, работая на общее, на язык в целом, предлоги как важные формы отношения и связи отдавали другим частям речи частицы своего исконного смысла — в наречия, в союзы, в модальные частицы. И в сложных витаниях мысли, постигающей мир, они помогали не просто «ощупать» его, но постичь и возвысить в идею мира.
Но русская мысль — двоение форм в формуле. Современное восприятие пространства определяется теми же предлогами, которые с течением времени образовали три круга отношений (Шишкина 1973):
- простые конкретные в, на, у, по — с единственным значением что где? — в статичности пребывания;
- усложненные к, из, с, от — с добавочным включением идеи движения по принципу что куда?
- учет позиции говорящего в отношении к пространству в за, перед, над, под и др.
Мир оказался вполне доступным постижению.
Пространство времен
«Создает людей время, а время есть созревшая мысль», — сказал когда-то писатель-народник Николай Шелгунов. Именно таким и воспринимает время русское сознание. Даже русский язык не имеет форм выражения настоящего «настоящего», действительно сейчас протекающего времени. Само слово настоящий увертливо владеет множеством смыслов, уводя от переведенного с латинского presens настоящего времени. По смыслу старинной славянской формы причастия настоящий есть настающий: время, действующее сейчас, на самом деле обращено в будущее; в одном слове сразу выражены и действительность события, и идеальность бытия (вещи и идеи).
Вообще «ошибочно думать, что народы и общества живут в настоящем. Настоящее почти неуловимо. Гораздо более живут властью прошлого и притяжением грядущего», так что «прошлое и грядущее должны сомкнуться в вечно ценном, непреходящем» [Бердяев 1996: 267].
Русские философы часто сводили категорию времени к привычной для русской ментальности категории пространства; Бердяев полагал, что пространство — исходная для нас категория. Бессознательная мечта русского человека — «искание нового царства и лучшего места» [Вышеславцев 1995: 113] — исходит из той же посылки: время кольцом сворачивается в версты пройденного пути.
Всё дело в том, что пространство предметно, оно как бы вещь, это — место, которое вещь занимает, тем самым метонимически и есть сама вещь. Время же есть движение в предметном поле, время есть отвлеченная ценность — не вещи, но — идеи. Идея ценится больше вещи, это понятно, но всё же идея постигается — через вещь, которая предстает как символ идеи. Так и понимает дело русский человек в соответствии со своим «архетипом»: «пространствопонимание есть миропонимание» (Флоренский) — «а время есть созревшая мысль».
Иногда говорят, будто для русского важна категория будущего как еще лишенного всего эмпирического, как чистая идея, в которой скрывается искомый идеал; это модальное (ожидаемое) будущее, а не реальное время [Брода 1998: 69, 78]. Юрий Лотман утверждал, что у русских маркирована идея конца, а не начала, т. е. тоже будущее, лишенное всяких признаков.
И то и другое неверно.
Справедливее выразился психолог: «ориентированность культуры на вечность объясняет отсутствие временной перспективы и временного измерения. «В нашей культуре нет ориентации на прошлое, как нет ее и на будущее. Никакого движения, этапов, промежуточных ступней и точек не предполагается», ведь «в вечности может оставаться только абсолютное» [Касьянова 1994: 119]. Момент распада переживается особенно остро, поскольку весь предыдущий путь воспринимался как цельность — как ценность цели, и люди в своем продвижении вперед стремились не к прошлому вовсе, а к норме, соответствующей идеалу, «к естественной модели своей культуры» [Там же: 120].
С другой стороны, время уже не представляется кругом, вертящимся в повторениях времен года, циклов работ и ритмов жизненных процессов. Это ушло, хотя на чувственном уровне и возобновляется. «Время не замкнутый круг, а есть нечто размыкающееся» [Бердяев 1969: 79], которое мыкается по свету в поисках цельности вечного. Разбирая мнение де Местра о том, что идеалы всегда в прошлом и надежда подменяется воспоминанием, Лев Карсавин заметил: «Поскольку прошлое переживает себя в будущем, оно позволяет кое-что видеть из этого будущего, наметить кое-какие моменты, чего не может делать теория, отрицающая настоящее и стремящаяся формулировать еще неведомое» [Карсавин 1989: 100]. Ответ Бердяева известен. Он сказал: «Будущее не реальнее прошлого» [Бердяев 1911: 132], поскольку время, наполненное событиями, есть круг вращения по спирали, а не вектор, уводящий в неведомое. У будущего то преимущество, что оно яснее прошедшего своей модальностью: необходимость всегда реальна. «Всякий язык стремится выразить реальную длительность... переживание времени», и важно знать, «что русский язык справляется с этим легче, свободнее других благодаря тому, что формы так называемых видов в нем преобладают над формами "времен"» [Бицилли 1996: 614].
Идеальность времени
Прошлое обычно идеализируется, поскольку оно уже не эмпирично, а само по себе уходит в область идеального. С определенным подтекстом польский историк вспоминает слова Чехова в повести «Степь»: «Русский человек любит вспоминать, но не любит жить», — имея в виду мифологизацию прошлого, идеальное видение мира [Идеи, 2: 322]. Это не совсем точно: не все, не всегда, не совсем так — вспоминают. Еще недавно книг по русской истории выходило в десятки раз меньше, чем по истории других стран. Память — категория интеллигентской культуры.
Замечено [Фархутдинова 2000: 120—137], что в русской народной культуре память, естественно связанная с течением времен, не играет роли в оценке умственных способностей человека, вообще никак не выражена в фольклоре, в пословицах вспоминается редко. Память не персонифицирована — она не живая, память — это вещь, которая в тебе. Память связана с понятием, а понятие, в отличие от символа, достаточно позднее изобретение интеллигентского ума.
«Прошлое как функция настоящего» — также идея физиков и поэтов [Хюбнер 1994: 267], но в действительности определяется установкой категорий языка, выработанных поколениями людей.
Будущее же время идеализировать не нужно, оно сакрально и, следовательно, идеально по определению. Поэтому в бытовом эмпирическом смысле будущего как бы нет, но оно ценится как возможность выхода в него. Философы полагают, будто «концептуализация будущего» в русском подсознательном обязана «эсхатологическому максимализму», согласно которому выход в будущее понимается как начинание (положительная реализации сущности): «поиски тотальной целостной Правды» [Менталитет 1996а: 8—10].
Так что идеальные по своей сути «времена» сливаются в общем противопоставлении к настоящему, единственно точному времени, которое временем назвать невозможно. Оно точное, потому что ощущается в чувстве, тогда как «прошлое изучается, будущее созидается» [Овсянико-Куликовский 1922: 171] — одно в разуме, а другое в воле.
Настоящее
«В России время течет медленнее, чем в Европе» [Фархутдинова 2000: 82], отчего (судя по поговоркам) «расплывчатость русского часа». Русскому, наоборот, кажется, что на Западе время остановилось, но часы, действительно, скачут как сумасшедшие.
Время наполнено событиями, которые его ускоряют или замедляют, и точнее было бы сказать, что «безразмерность» русского часа определяется обстоятельствами, загруженностью «вычесанного» из вечности отрезка времен. «Делу время — потехе час» — «вот в этом вся суть: у нас, русских, нет внутреннего понятия о времени, о часе, о "пора". Мы и слова этого почти не знаем. Ощущение это чуждо» [Гиппиус 1999, 1: 434]. Кроме того, русский час окрашен этически — как и всё природное в русской ментальности, час часу рознь. На Западе часы размерены, а для нас они — живые — и дышат.
Например, «слово везде, так же как слово никогда, означает бесконечность, о которой созерцание природы не дает нам ни малейшего понятия» [Чичерин 1999: 66], — они идеальны, потому что безмерны (или наоборот, что тоже верно). «Все будущее содержится уже в настоящем. Труднее сказать, содержится ли в нем прошедшее. И вообще "времени нет", "не будет" — правдоподобная вещь» [Розанов 2000: 186] — вот русское представление о времени как идее.
«Мы никогда не жили под роковым давлением времен», — писал Чаадаев [1887: 228], добавляя: «Прошлое уже нам не подвластно, но будущее зависит от нас». Зависит потому, что настоящее — это настающее, и в том его «настоящесть» как действительность.
Таким образом, нигде так хорошо, как в осознании времени, не проявляются особенности русской ментальности в диалектическом их противоречивом состоянии. Пространство создает времена, и время — то же пространство, только не вширь, а вглубь. Прежде это было понятней, потому что мысль обеспечивалась формами языка, а не учебником физики.
Тут же вступает в силу и категория ряда — метонимическое сопряжение по горизонтали, начиная с первого, который всегда впереди. Средневековый летописец, прерывая сам себя, то и дело скажет: «Мы же на первое (или на прежнее) возвратимся» — он говорит о том, что уже было сказано прежде, а то, что было прежде, стоит впереди. Только нам в самомнении кажется, что потом-ки идут вперед. Прошлое и будущее, начала и концы не связаны узлами событий — это просто одно и то же. Конец и начало общего корня одинаково указывают на рубеж (кон), у которого происходит смена ориентиров: этот конец как за-кон, и за кон пробраться нельзя, потому что там — начало того же конца. Лента Мёбиуса, по которой куда ни пойдешь, туда лее вернешься. Это не путаница в мыслях, но великая мысль: ничто не кончается, всегда начинаясь. Прошлое будет — оно вернется, а в будущем нет ничего, что бы еще не случилось. Да до XVII в. и грамматической формы будущего времени, не было, ее заменяла простая модальность пожелания или воли: хочю на вы ити — пойду на вас, известный клич Святослава. Модальность будущего, направленная на идеал прошлого.
Но так было в далекие мифологические времена, когда время конечно, прерывно и обратимо, ибо наполнено событиями, самое первое из которых именно начало времен («и откуду есть пошла Русская земля...»). Для одного — времени нет вовсе, для другого — оно идеально, третий ценит его как вещь... Следы различных культур, отложенные в русском сознании: народная, элитная, сакральная, западная, восточная... Язык поможет найти точку равновесия, но для этого нужно учить уроки в начальной школе.
Чем новее категории бытия, созданные нами, тем дробнее их проявления. За идеалом «время» скрываются слишком разные вещи.
В современном русском литературном языке время выражается различным способом.
У нас имеется субъективное время, данное как система координат в скольжении событий, в прямой перспективе от момента речи — это грамматическое время (прошедшее — настоящее — будущее). Точка настоящего дана как момент рефлексии о временах. Здесь прошедшее — остаток старого перфекта, выражает результат прошлого действия, данный как состояние в настоящем. Пришел, увидел, победил... и на том стою! Будущее модально, каким бы образом мы его ни выражали: стану говорить, начну говорить, хочу говорить, буду говорить... скажу! Будущее всегда определено настоящим, которое только и есть настоящее настоящее, т. е. действительное из времен. «Есть только миг между прошлым и будущим...» Единственно воспринимаемое время — не время вовсе, ибо оно вне события.
Другое обозначение времен — «историческое», оно создается с помощью специальных форм, отмечающих последовательность действий, например — деепричастием. Это векторно направленное время, но и оно определяется точкой зрения говорящего. Нельзя сказать, положим, Я купила корову, будучи еще телкой, т. е. смешивая субъект и объект действия, но вполне допустимо смешение времен, как здесь: купила — прошедшее, будучи — настоящее.
Точка бифуркации (раздвоения, разграничения) — дискретное время реального действия, которое описывается с помощью глагольного вида — объективно как момент протекания или завершения (или повторения, или длительности и т. д.) действия. Тут важно само событие, а не точка зрения на него, перспектива не прямая (от наблюдателя), а обратная (от события). Пересекаясь с категорией времени, вид подавляет ее семантически, не обращая внимания на формальные несоответствия. Например:
Ср. еще грузить — несовершенного вида (идея настоящего времени), но гружен — совершенного вида (ибо причастие прошедшего времени).
Иначе никак нельзя, не получится. Русский должен время познать, оценить и представить. А это значит: различить его как реальное, эмоциональное и этически-бытовое.
Обычное для русской ментальности соотношение между идеей времени и вещностью вида. «Время» — род, «вид» — его виды; на это указывают приставочные, изменяющие видовую характеристику глагольной формы только в одном направлении: к маркированному совершенному виду.
Заметим, насколько точно это распределение соответствует современным научным представлениям о многослойной структуре времен, высказанным именно русскими учеными (В. И. Вернадский, Н. А. Козырев, теперь И. Пригожин). Трехмерность времен коррелирует и с идеалом трехвременности, и с пространственной трехмерностью, тогда как позиция самого человека — «четвертое измерение бытия» — во времени и в пространстве сразу же создает идеальное «вечное», которое невозможно оценить, поскольку оно в тебе самом. Тело, душа и дух, чувство, разум и воля... что это напоминает нам?
Условность причины
Отсутствие каузации вытекает из понятий о времени. Времени нет — нет и причины. Бердяев не случайно само слово пишет с ироническим Т: приТчина. Слово явилось в эпоху расцвета на Руси французского рационализма, в начале XVIII в., как калька с французского, но с природном русским корнем — при-тъч-ина: то, что при-тк-нуто, механическим и случайным образом при-ставлено к событию, с тем чтобы его объяснить «задним умом». То, что по-прит-чилось, померещилось, показалось кому-то в мареве со-бытий и состояний — субъективно и случайно, чему и доверия нет. Возможно, правда, и другое толкование слова, в сторону от «народной этимологии» Бердяева. Связано оно с пониманием «чина» — порядка. Всё, что при чине, течет своим порядком, и является причиной другого. Что у-чин-или — то и при-чин-а. А если — со-чин-или? «Причина, что причинилась, случилось (см. притка), беда, помеха, неприятный случай», — писал Владимир Даль. «И всё бы хорошо, да сделалась причина: в дозорных появился вор!» — Иван Крылов вспомнил слово в басне. А исходное слово при-тък-а связано и со словом притча — неприятная нечаянность (сам Даль полагал, что притка от притекать — наволноваться в беде; что-то вроде стресса, от которого все болезни).
Подобного рода «причин» в жизни человека может быть множество, но суффикс при слове — -ин(а) — суффикс со значением единичности. Причина в каждом деле только одна. Вот и ширяется свободная мысль в поисках этой единственной, и постоянно ошибается, условие приняв за причину. Даже логика (ratio) учит: предыдущее по времени — не обязательно причина последующего. Но... «любая квалификация и определение — поздняя рационализация», не более того [Тульчинский 1996: 164]. А именно рационализация и важна для ratio. Только для него.
Проведя концептуальный анализ представлений о «причине», Ю. С. Степанов показал «национальные различия» в понимании причины, связанные с именованиями этой категории мысли в различных языках: от вещи у Аристотеля, от свойства у Галилея, от состояния у Лапласа, от события у Юма, от факта у современных концептуалистов. Отсюда возникает правомерный вывод, с которым можно согласиться: «Причина есть отношение, связывающее факт с событием в условиях правильного употребления данного языка... Нет концепта причины вне данного языка» [Степанов 1991: 8]. Комментируя лингвистические исследования категории, Степанов отвергает возможность последовательного развития идеи причинности как «пространство (место) > время > причина»; по его мнению, становление отвлеченной идеи причинности происходило одновременно по всем направлениям.
Возможно. Длительная конкуренция (еще и в XVIII в.) союзных слов для того, почему, зачем, оттого, отчего, потому, по той причине и прочих показывает неустоявшееся еще представление о характере «причины» как идеи, вернее, о различных причинах, примерно в том смысле, в каком о них говорил Аристотель, связывавший причину с целью — причиной конечной. Все эти указания пространственно ориентированы, они простегивают все направления движения мысли. «Вопрос об основании — вопрос "почему?"» — утверждал Франк: от-чего исходило в прошлом и вглубь чего («во-внутрь») войдет в будущем [Франк 1996: 396, 393], для-чего делается, за-чем возносится ввысь («высокие цели») и т. д. Всегда видна случайность причины и неизбежность цели, которую не выбирают (она сама притягивает к себе) и которой нельзя распорядиться.
Всегда существует различие, которое русская мысль делает между главным и основным; в западноевропейских языках преобладает конкретно основное, fundamental и capital, principal и cardinal. Основное лежит в основании, в основе всего и материализует идею «причины». Споры об «основах» всегда наиболее остры, они и есть мнение о прошлых причинах. Главное же определяет цели и воз-глав-ляет движение к ним. Главное неопределенно, в принципе идеально, а не конкретно, как причина, оно и есть цель. Неслиянное единство основного и главного приводит к частому смешению не только самих терминов, но и содержательного их смысла. Несмотря на внутреннюю нерасторжимость основного=главного, следует различать идею и вещь, главное и основное. Даже говоря о результате, русский человек все же различит глаголы закончить и завершить. Закончить вовсе не значит уже достичь цели: конец лежит впереди, на горизонте, там, где, может быть, находилось прежде начало, исток всего; это физический ряд, а не идеально чин. Иное дело — завершить, вознестись, как бы остановить дальнейший рост, то есть и в действительности — закончить. Тогда это цель, в которую целили.
В средневековом русском языке аналогичным по смыслу словом было слово вина; именно с его помощью переводили греческие слова типа (αιτία) и (αφορμή) "повод, основание". Древнейший смысл славянского термина можно передать описательно: обоснованно извинительная ошибка, которая стояла в начале всего дела; выделены ключевые слова определения, так или иначе связанные с первосмыслом многозначного корня (достаточно указать, что однокоренное слово война понимается также как своего рода «ошибка-сшиб-ка», ставшая поводом для неприятностей). В словарных статьях Владимира Даля еще вполне внятно выражена память об этом смысле. Как основные значения слова вина он приводит "начало, причина, источник, повод, предлог", данные как "должное, обязательное". Никаких указаний на факты, события или свойства нет. Типично славянское — этическое — представление о том, что вина-причина есть возвращение мысли к прошлому с сожалением о том, что нежданно случилось. Рефлексия по поводу случая, а не факта. Случай же — случайность, а его оценка, найденная в причине, — всего лишь личное мнение.
Нет, не ищет русское чувство действующей причины, не верит в возможность найти действительную причину. Невозможно вернуть прошлое, и поэтому трудно найти причину. Средневековое сознание всегда знало причину, находя ее в Божьей воле. Во всем проявляется Божья воля, и спорить с нею нечего. Причинность здесь сводится к известному качеству, которое загодя заложено во всем и во всяком [Хюбнер 1994: 305]. То же и в слове: это идеальные образы первосмысла, которые направляют жизнь.
Даже Кант причинное (научное) объяснение соотносил «с условием того, что схватываемые представления явлений даются нам абсолютно объективным образом» [Там же: 33], хотя именно идеальное — причина, а не реальное — условие для него являлось гарантией истинно объективного.
Русское представление о причине отражает синхронное (синкретически одновременное), а не причинное взаимодействие идеального и реального [Пелипенко, Яковенко 1998: 82]; это сразу и первооснова идеи, и реальное ее действие («всё во всём»). «Ничто не причина, — это Лев Толстой в романе «Война и мир». — Всё это только совпадение тех условий, при которых совершается всякое жизненное, органическое, стихийное событие...»
Жизнь сама по себе причина, чтобы дробить ее на составы.
Причинность и целесообразность
Рациональное почему отвергается именно потому [Булгаков 1917: 180], что оно рационально, оно вмыслено в суть вещей, в то время как «целесообразность, а не причинность является руководящим принципом нашей жизни, нашей деятельности. В практике, может быть, и открывается тайна жизни вообще, — она заключается в осуществлении целей» [Бердяев 1907: 108].
Интересно взглянуть на то, как понимают причину русские философы — ведь это «проблема метафизическая».
Из ранних мыслителей Памфил Юркевич [1990: 126] полагал, что «так называемая причинная связь между явлениями есть понятие, вымышленное воображением». Упрекая английских позитивистов в отрицании реальной (производящей) причины (они понимали ее как последовательность в пространстве и времени действия), Петр Астафьев утверждал отсутствие причин, поскольку и для него причина — это «действие духовной силы вне вещей», судьба. Человек не определяет действие причин, но цели в его власти: «Сознающее себя существо не может действовать иначе как по своим целям, своим понятиям о должном, желательном и ценном» [Астафьев 2000: 97, 131]. Это мнение также соответствует русской ментальности.
Борис Чичерин тоже против причины, ибо признание ее действий ставит «вопрос: получается ли это понятие из умозрения или из опыта?» Конечно, это не последовательность событий во времени, так что лучше говорить об условиях: «Сумма всех условий всегда безусловна, ибо если бы были еще условия, то она не была бы суммою всех». — «Закон причинности, так же как законы тождества и противоречия, не что иное, как известный способ действия разума, познающего предметы. Поэтому он предшествует познанию, а не извлекается из него...» [Чичерин 1998: 41, 42]. Именно из такой идеи причинности Огюст Конт выявил категорию «закон» — на которой зиждется вся современная наука.
В ранней своей работе Николай Лосский даже предлагал устранить слово воля, заменив его «научным» термином причинность сознания, а «под причиною разумеется то условие, при наличности которого данный факт происходит с необходимостью» [Лосский 1903: 69]. «Слепая причинность» — это судьба, что также согласно с русской ментальностью.
А вот суждения лингвистов, в том числе современных.
«Русское слово причина, — писал Александр Потебня [1968: 7 и след.],— есть причиняющее (пот. agentis) (имя действующего лица. — В. К.), причинение (совершение действия), причиненное (совершенное, сделанное): отражение действия на предмете имеет причиною действие субъекта. Причинность слагается из действия субъекта и одновременности или последовательности этого действия с состоянием субъекта.» Иными словами, причинность происхождением связана с субъективностью, от нее производна и ею мотивирована. Разная «манера думать» предлагает различное осмысление «причины». Показав становление категории причины на материале истории языков, Ольга Маслиева пришла к заключению, что всегда идея причины возникала на основе слов со значением конкретного (определенного) вида субъективного действия или действия вообще [Маслиева 1980: 23].
Задав себе вопрос, существует ли причинная связь между языком и культурой, Замир Тарланов [1984: 5] отмечает, что между ними несомненна «обусловливающая связь». Мир членится в нашем сознании с помощью языковых категорий и тем самым обусловлен в понятии. Роль языка не творческая (причина), а организующая (условие). Именно так понимает дело и русская ментальность, для которой реальность причины (начало начинания) менее важна, чем действительность (действие) условия.
М. К. Голованивская [1997: 217—218] видит связь причины со зрением, а современное слово причина «сохранило легкую отрицательную коннотацию». В отличие от этого, во французском языке различаются причины двух типов: cause и raison; первая объективна и проверяема, вторая субъективна, происходит от мира людей, а не от мира вещей». «Сравнение русского понятия и французских эквивалентов позволяет нам установить принципиально иной взгляд французского сознания на причины, разграничивающий объективное и субъективное», — оба слова в течение нескольких веков прошли через юридическую практику, что оставило «глубокие следы в национальном сознании и языке». А русское понятие причины не обработано никакими строгими законами и осталось «первобытным» в своем значении — «отчасти русская причина отражает и свойственный русским природный пессимизм» (о последнем впервые слышу).
Французская «причина» концептуальна, «мир вещей» и «мир людей» — одинаково внешний идее мир. «Необработанность» русской идеи причины не в ее незавершенности, а в ее идеальности. «Пессимизма» нет, потому что причина его исключает, а установка на цель обязательно требует оптимизма.
Политический пример
В русской истории есть несколько событий, которые, как кажется, и поддерживали в нашей ментальности ироническое отношение к «причине». Одно из таких событий связано с мифом о «еврейских погромах» в начале XX в. Еврейская диаспора не случайно при всех политических поворотах жизни возвращается к этой истории, стремясь риторически обосновать миф с пользой для себя. Но факты, в том числе и в изложении еврейских авторов, таковы [Кожинов 1999: 67—138, 251—426; Меньшиков 2000: 64—68 и др.].
Общий подъем освободительного движения на рубеже веков создал условия для развития социальных и политических свобод, но — в границах и пределах российской государственности. Хорошо известно, что даже народническое движение было интернациональным, среди «народников» находились «дети разных народов». Это вписывалось в общую линию конфронтации между властью и обществом: и та и это были многонациональны, поскольку таков один из признаков «империи», точнее Империи. И только евреи создавали свои национальные партии, движения и штурмовые отряды, тем самым нарушая сложившиеся «правила политической игры».
Начались хорошо известные события на Юге России, в том числе и провокации евреев: глумление над государственными (не национально русскими) символами власти, что и в те времена, как сегодня, являлось даже не уголовным, а государственным преступлением. Структурообразующая — русская — нация расценила эти проявления как оскорбление и ответила — взаимное возбуждение привело к насильственным действиям с обеих сторон, и еще неизвестно, с какой из них было больше жертв (сторонники и той и другой стороны сознательно преувеличивают, но есть официальная статистика)!
Можно понять евреев: власть ослабла — следует ее взять. Еврей считает, что живет в условиях «плена египетского», если не правит сам, а всего лишь свободен до степени, в какой пребывают все вокруг. Для него отсутствие власти и мощи — это рабство и плен.
Но вернемся к причинным связям.
Условия налицо — и они равны для всех. Но причины нет, потому что причина — вещь особенная, исключительная, всегда субъективно своя. Для евреев это русский погром, для русских — нарушение всех условий со стороны провокатора. Бесовство. Бесы тешатся, своим самоволием врываясь в цельный порядок дел, как повелось — в органическом прорастании жизни.
Это разное отношение к причине. Для еврея она абсолютна и связана с его правом творить бесправие (нарушение условий). Ведь он — творец. Для русского причина — относительная точка зрения и морального оправдания не имеет. Русского можно обмануть, ссылаясь на «правила игры», и он от них не откажется; еврей же тем временем лукаво их обойдет — и победителем выйдет, и всем возгласит о своих «причинах».
В этом отличие между номиналистом евреем и русским реалистом, который никак не может уразуметь, что, говоря о свободе, еврей добивается собственной воли всех прочих всякой свободы лишить.
Правда-истина
«Это правильно, но неверно» — у Андрея Платонова не парадокс, а ярко выраженная русская мысль о том, что не всякая правда истинна (и не каждая истина — правда). Правда — Truth — у русских совершенно особое понятие, пишет американский культуролог. Правду узнаешь сразу: правда сегодня — не то, что правда вчера или завтра; правда зависит от субъекта, ее следует открыть и объяснить другим. Более того, правда — это скорее система иерархических отношений, утрата одного разрушает всю систему [Горер 1962: 185].
В средневековой Руси разрыв между правдой и истиной был понятен. Правду нужно искать и настичь, т. е., другими словами, по-стичь, тогда как истина всем известна, она — в Божьем слове, в слове вообще. Отсюда началась тягостная эра русского «правдоискательства», развившая устойчивый «социальный архетип» народа. «Правда как основание общества» — один из лозунгов Григория Сковороды на заре современного русского философствования.
Непереводимое ни на какие языки слово правда является основой естественного и нравственного русского права — практическая мораль в традиции: «Правда предстает как свет...» [Франк 1926: 27—28]. Правда — не процесс и не действие, это момент истины или, как говорил Михаил Пришвин, «победа совести в человеке».
Правда — прежде всего справедливость. «Государство Правды» еретика Федора Карпова и «ответов» Зиновия Отенского в XVI в. — всё та же высокая Правда; у Пересветова позже правда — синоним идеала, а справедливость — один из предикатов Правды. Правда всегда соотносится с верой в нее — это символ, в отличие от низменной кривды; истина сопряжена с рассудком и противоположна лжи [Клибанов 1996: 212—221]. Еще Ключевский [IX: 415] сознавал эквиполентно-символическую связь правды с верой и порицал за это: «В правду верят только мошенники, потому что верить можно в то, чего не понимаешь». На каком тут слове поставить ударение? Это делает сам историк: верят. За Правду нужно бороться.
У германцев правда рассматривалась с точки зрения субъект-объектных отношений, для них правда — это твердость и надежность права; термин юридический.
У греков (αλήφεια) "не-сокровенное" явно зримое. Очевидность слова и тайна его значения — чисто номиналистическое отношение к символу. Но для русской ментальности зримая целостная очевидность предстает не как правда, она — истина, «и узреть ее может лишь душевно целостный человек», а «расколотый» — нет [Ильин 3: 418]. Узрение сущности (концепта) есть истина, и она не отменяет ложь, потому что истина вовсе не «соотнесение мысли с действительностью»: концепт — реальность, а не действительность, он постоянно находится в процессе развития. Правда же с обманом и ложью не соотносится, оттого иногда и кажется, что русская «правда» есть «нравственный максимализм и правовой нигилизм», согласно которому закон есть «немецкий фокус» [Тульчинский 1996: 257].
Согласно русскому убеждению, вынесенному из исторического опыта, объективной истины быть не может, ибо не логическое, а психологическое освоение действительности через реальность лежит в сознании на первом плане бытия. Хорошо это или плохо — не тот вопрос, такова традиция: «Русский человек не очень ищет истины, он ищет правды, которую мыслит то религиозно, то морально, то социально, ищет спасение. В этом есть что-то характерно русское, есть своя настоящая русская правда. Но есть и опасность, есть отвращение от путей познания, есть уклон к народнически обоснованному невежеству. Преклонение перед органической народной мудростью всегда парализовало мысль в России и пресекало идейное творчество» [Бердяев 1918: 83].
История слов позволяет восстановить исходный смысл древнерусской оппозиции правда — истина.
Соотношение современных понятий по общему смыслу обратно соотношению древнерусских символов. Символическая эквиполентность равно-ценна и строится по двум различительным признакам:
«Носитель истины» и «источник истины» одновременно и разведены в знаке-слове, и совмещены в символе, заключенном в таком знаке. Развернутый комментарий Н. Д. Арутюновой [1998: 542 и след.] хорошо показывает связь средневекового символа с влиянием со стороны библейских текстов, хотя, конечно, выражение «синкретичное понятие» не совсем для этого состояния годится: синкретичен символ в составе словесного знака. В Средние века истина предстает как справедливость, а правда как благодать, тогда как в сознании (даже в подсознании) современного русского человека «истина есть просветление мира... есть изменение, преображение данной реальности. То, что называют фактом и чему приписывают особенную реальность, есть уже теория. Истина целостна даже тогда, когда она относится к части», и это — особая ценность, она субъективна, индивидуальна и универсальна одновременно; это качество, которому критерий пользы не подходит: «Критерий пользы... есть скорее критерий лжи, чем Истины», а познание истины «предполагает просветленную человечность...» [Бердяев 1996: 21, 23, 27].
Понятие схематизирует полученный из традиции символ, наизнанку выворачивая его сущность и огрубляя смысл. Вот он, «изнаночный мир» современных суждений, с которыми мы решаемся говорить о прошлом — «любая квалификация и определение — поздняя рационализация» прежнего глубинного знания — скажем еще раз.
А русская ментальность? У нее свои законы развития. Она хранит верность Правде.
На рубеже XIX и XX вв. думающие люди всё еще признавали, что правда много важнее отвлеченной истины, как и вообще душа важнее всего телесного, и искусство куда выразительнее науки (в широком смысле). Старую формулу правда-истина русские философы обсуждали с особым пристрастием, отголоски их споров доходят до нашего времени. Еще и тогда символ хотели истолковать через понятие, а это великий грех. Не один еретик поплатился за это. Понять — объяснить — значит ограничить, усушить до схемы, умертвить то, что явлено в мир целостным ликом Правды.
Н. К. Михайловский аналитически разграничил правду-истину и правду-справедливость, и тем начал цепную реакцию новых аналитических выделений. С. Н. Булгаков говорил о правде-истине и правде-мощи, другие еще о чем-то (правда-камень и т. д.), постепенно снимая «смысл значения» старинного символа, как капустные листья с кочерыжки. Правда-истина как категория гносеологическая несомненно отличается от правды-справедливости как этического императива. Анализ народника только выявляет скрытый смысл символа «правда», так, чтобы и позитивисту стало понятно, что всякая правда одухотворена человеческим чувством, личным душевным отношением, что она характеризуется свободой воли, в отличие от предопределенной и холодной истины, слишком объективной, чтобы человеческая воля могла управлять ею.
Неясно только, зачем выделять две «правды», если и так понятно, что истина — это правда-истина, а правда есть правда-справедливость. Правда противоположна кривде — эта двоица отражает нравственные категории, как и другая двоица, истина—ложь, отражает категории умственные.
Приняв это во внимание, мы поймем, что дробить старый символ ни к чему. Всегда понятно высказывание вроде следующего: «Мы повинны Богу и России — правдой, а если она кому-то не нравится, тем хуже для него» (Иван Ильин).
Совершенно верно говорит иностранный наблюдатель: «Русский не выносит расхождения между истиной и действительностью. Примечательно, что в русском языке для двух этих понятий существует одно и то же слово — правда. В своем редком двойном смысле оно означает то, что есть, и то, что должно быть. Русский не может жить иначе, как, не задумываясь, вносить элементы высшего порядка в вещественный мир, даже если этот мир их отторгает. В конечном счете земное приносится в жертву идее» [Шубарт 2003: 69]. В. Д. Кудрявцев так понимал истину: «Истина есть совпадение того, чем должен быть предмет, с тем, что он есть или бывает, согласие предмета с самим собой» [Зеньковский 1991, II, 1: 7] — познание истины включает в себя момент оценки, а это и есть правда. Именно так понимает дело русская ментальность. Правда человека для нее дороже истины, столь же формальной, как и сама личность. «И русский православный народ веками и веками работает для этого слияния: для превращения Божьей правды в правду реальной действительности» [Солоневич 1991: 391].
Предпочтительность правды
В наше время, смущенное анализами холодных сердец, дело обстоит много сложней. Не мысль развивалась естественным для нее образом, а жизнь изменялась революционно. Идеологические клише затемнили прежде ясное соотношение между правдой и истиной, и даже частые переиздания словаря Даля не способствуют возвращению к первосмыслам этих важных слов. Уже говорят, что «истинность — это правильность, или правда, а "правда", согласно значению древнего своего корня, — это справедливость. А следовательно, истинно не то, что в моих представлениях соответствует внешней реальности, а то, что справедливо, и в конечном счете истинно не то, что на самом деле есть, а то, что должно быть, согласно некоторому высшему смыслу... Истина — это категория прежде всего нравственная, необычайно важная, непосредственно связанная со смыслом жизни человека. Истина — это качество некоторых наших знаний и представлений, определяющее их особое место и особое наше к ним отношение» [Касьянова 1994: 223]. Пример логических умозаключений, приводящих к неверному выводу. Путем подмены терминов: истинность — правда — справедливость — истина — нас подводят к пониманию того, что нравственные корни русской правды переместились в сферу умственную и потому, конечно, весьма субъективны. За одно и то же безнравственное деяние можно других бранить, за своими его не замечая. Конечно, дело сложнее, и словесной диалектикой тут не возьмешь. Правда — помысленный аналог справедливости, но именно правда и есть ипостась истины. Истина абсолютна — это ее предикат, в наших понятиях — типичный признак. Истина для всех одна. Подменив ее правдой, за ней не спасешься.
В подобном разбиении «истины» надвое, на истину и на правду, и состоит величайшая нравственная сила русского разума. В пользу человеческого он не отступит от человечного.
Как ни старается, ratio не одолеет русскую правду. Смещение смыслов происходит оттого, что символ «правда» — исконная нравственная формула (тоже восходящая к термину права) — оказался подпорченным идеологами Нового времени. Вплоть до того, что пришлось уточнять формулу за счет введения типичного признака в виде эпитета: истинная правда. «А ведь за этим фактом стоит принципиальная особенность русского дискурса — его ориентация на правду-правду, но не на правду-истину, на соответствие идеалу, но не реальности. Причем в ущерб, а то и в вину этой реальности, если она не соответствует идеалу» [Тульчинский 1996: 256]. Поскольку реальность и есть идеал, заменим слово реальность словом действительность.
В ориентации на правду-правду Семен Франк видел особое направление в философской мысли. «Живое знание» Ивана Киреевского наряду с традиционными рационализмом, эмпиризмом и критицизмом утверждает критерий истины в понимании: опыт предстает как жизненно-интуитивное постижение бытия в со-чувствии, во в-живании, в со-бытии [Франк 1996: 156]. Онтологическая гносеология, которая делает понятной неприязнь русских мыслителей ко всяким «пустым», формальным теориям познания.
Русский реализм как философская доминанта мировоззрения есть движение к правде, необходимо «показать добро как правду» — по определению Соловьева. «Народ наш хочет еще совсем другого. Он хочет правды, т. е. согласия между действительною жизнью и той истиной, в которую он верит», а «истина есть право на существование» [Соловьев V: 73, 260], это точка слова, поскольку «критерий истины в субъекте, а не в объекте, в свободе, а не в авторитете» [Бердяев 1996: 65]. Правда есть линия, соединяющая вещь и идею, но тем самым и мысль удвоена. Она одновременно и моя и не моя, внелогичная трансцендентно-интуитивная — и явленная логично; только нравственная линия «правды» скрепляет их, делая существование обеих — действительным. Глубинно-интуитивная, мистическая сторона постижения истины не подавляет и не снимает действия логического — однако не в рассудке, а в разуме. Доказательство обогащается — каждый раз — открытием нового.
Вопрос о правде — чисто русский вопрос: «Русская правда начала путаться тогда, когда в нее влилось слишком много чужеземного элемента. Так много, что даже потрясающая способность русского народа ассимилировать все, что стоит на пути, уже не смогла справиться с этим наплывом... и, что самое главное, именно этот период нерусского влияния (в XVII в. — В. К.) внес к нам западноевропейское крепостное право, то есть заменил чисто русский принцип общего служения государству западноевропейским "юридическим" принципом частной собственности на тех людей, которые строили и защищали империю» [Солоневич 1997: 95]. Правда сменилась правом.
Но старое чувство правды — верное чувство. Внутренний смысл символа сохраняется в скрещении двух смысловых линий — идеально-реальной и действительной. Истина как идея входит составляющей в категорию Благо (истина, красота и добро, оно же польза), а для русского человека «главное — любовь к истине, не к пользе» (Петр Лавров). С другой стороны, «не в силе Бог, но в Правде» — клич, с которым русские полки побеждали в боях.
Правда праведна, она всегда права, ибо правит правило.
"Что есть истина?"
Эти слова Евангелия также замечены русской ментальностью и отозвались в философской рефлексии. «Истина, конечно, одна, но пути к ней разные», — писал Овсянико-Куликовский [1922: 23] — всё это «правды», которые лишь совместно, соборно «есть одно из средств достижения добра» (а это слова Льва Толстого).
Уже полтора столетия истина не интересует никого, все заняты идеей Блага, пользы, удовольствий. Таково современное представление об истине, о которой еще Розанов заметил [1998: 230]: «Истина — это мелькание».
Русские фразы выдают отношение человека к правде и истине [Гак 1998]: правду говорят: а истину изрекают — это разные стили, редко пересекающиеся. Можно сказать и истинный друг, и правдивый друг, и они различаются: первый стоит в стороне как сам по себе, он друг; второй нечто большее, не просто друг, но верный и вечный друг. Из двенадцати признаков истины, подсчитанных и описанных (там же), русская ментальность согласится, пожалуй, только с тремя: с силой ее, с нравственным содержанием, да еще, быть может, с тем, что ее постоянно ищут. Что же касается пользы ее, прагматичности, активности, ясности и прочего — тут всё как-то неопределенно. Такое относится только к Правде.
Иван Ильин [3: 19] противопоставлял «предметную истину» «теоретической совести». Вот истина, действительно, есть предельная крайность, о чем и говорят русские мыслители [Ильин 6, 2: 442]; также: «истина всегда абсолютна, всегда равна самой себе» [Бердяев 1901: 33], т. е. содержательно пуста, как всякое тождество; более того, «всякое суждение истину убивает» [Шестов 1984: 332].
Для эмпирика истина «присуща одному только языку» [Гоббс 1989: 80] — для русского реалиста истина также вечна. Истина вовсе не продукт мышления (Юрий Самарин), а в духовной жизни «истина и есть самая жизнь» [Бердяев 1926: 55]. Так потому, утверждал Соловьев, что истина — принадлежность идеального, а не предметного мира; истина предстает вся разом, не по частям, «истина бывает очевидна с первого же раза» (поэт Аполлон Григорьев). Все дело в том, что «мы не могли бы искать истины, если бы раньше искания нам не было известно, — что может быть истиной» [Трубецкой Е. 1913, I: 196]. Простая мысль, о которой забывают в поисках истины — не заручившись помощью правды. В этом суть русской мысли о правде.
Но истина есть цельность сущего и нам недоступна (Флоровский), потому что она опирается на существенное (Киреевский). Трудность постижения истины в том, что «истина», «красота» и прочее не понятия вовсе: «в них дремлет старый миф» [Овсянико-Куликовский 1922: 27]. Но чтобы истолковать красоту, достаточно образа; чтобы истолковать истину, нужно понятие, равнозначное данной истине, — а вот этого-то во всей цельности достичь нелегко. «В существе дела "истина" есть понятие догматическое, и оно перешло, по наследству, в философию и науку из религиозных систем» [Там же: 28].
Мы уже заметили, что для русского человека истинность — в подлинности, следовательно — в очевидности. «Русский жаждет очевидности, пусть даже мнимой» [Ильин 6, 2: 442]. Но «очевидность — вовсе не простое, будничное "считать за истину", что возникает без особой причины, существует временно и от которого равнодушно отказываются. Очевидность — и не чисто субъективное "кажется", которое охотно называют "интуицией", чтобы сказать, что имеют дело со своеобразным "озарением", из-за которого надо как можно скорее устранить любое сомнение и любую критику: "Господь дает это своим во сне". Очевидность — это свет; но не всякое мерцание свечи приносит нам очевидность... Очевидность — это свет, который идет от самого предмета, охватывает и наполняет нас, овладевает нами, и человек должен прийти, через борьбу, к этому предметному свету» [Ильин 3: 223].
Путь-дорога
«Где дорога — там и путь» — гласит русская пословица. Движение — категория, русскому привычная: «Русская стихия разлита по равнине, она всегда уходит в бесконечность», — утверждал справедливо Николай Бердяев.
Но движение — единство пространства и времени...
Эпический герой находится в постоянном движении, он действует, но действия его мало напоминают наши, во всяком случае это не цельно-законченные и самостоятельные действия последовательно сменяющихся движений, а смена частных операций, которые лишь в совокупности составляют общее действие. Перечисляются все моменты действия «запрягает коня» в их реальной последовательности, затем то же происходит с описанием выезда богатыря в «поле», встречи с противником и т. д. Мир состоит из множества деталей, и каждая из них важна в общей череде событий — потому что каждая опредмечена своим особым качеством и необходима для целого своим особым существованием. Опустишь что-то — и утратится связь причин и следствий, не говоря уж о цели, ради которой богатырь спозаранку отправился в путь.
Именно таким и было восприятие действия — движения в средневековой Европе, и в древнерусском обиходе также. Дружинный эпос отражает представление о мире, расчлененном на фрагменты, в нем еще нет единящей их идеи.
Движение эпического героя осуществляется в пути. Путь вообще является самой важной характеристикой повествования. Без пути-дороги былины нет, для героя она и есть пространство его существования.
По общему смыслу слова путь в древности это было нечто, что можно связать и с дорогой (у славян и балтов), и с морем (у греков), и с мостом (у римлян), и с бродом (у армян). Принимая во внимание такой разброс со-значений в древнейшем слове, ученые пришли к выводу, что со словом путь связано обозначение не просто пространства, но еще и некоего труда, необходимого преодоления такого пространства, и опасности движения по нему. Переход через враждебную местность и связанное с этим преодоление, а не простое шествие по дороге: путешествие. Выйдя за пределы родного племени, путник встречал всевозможные лишения и беды.
Когда нужно было сказать о жизненных путях человека, в Древней Руси специально подчеркивали различие между истинным путем и путем погибельным. Всегда, когда речь заходит о (о)священном месте, выясняется, что там нет дороги — там путь. Не дорога, а именно путь — возможность свершений; всем ясно, что это — добрый, истинный путь. Путь — возможность хорошая.
Путь — это ход, движение и, следовательно, не обязательно по реальной дороге. «Соступиться с пути» — ошибиться, а не сойти с дороги; становятся возможными выражения распутье и беспутье — отсутствие всяких возможностей; много позже беспутник и распутник оказываются персонами равного качества: по жизни идут без цели, без внутренней духовной стези. В разговорной речи слову путь соответствовало более привычное стьзя.
Стезя и тропа составляют второй уровень тех же обозначений путей и дорог. Современные, сохраненные традицией выражения типа «торить тропу» или «жизненная стезя», выявляют исконный смысл этих слов.
У слова дорога нет переносных значений (отвлеченных или символических), тогда как слово путь имеет их в изобилии и часто сочетается с отвлеченными именами типа путь спасения, путь праведности, путь истины и пр. Влияние со стороны евангельских текстов способствует этому («Яз есмь путь, истина и жизнь»). Но столь же распространены переносные значения, связанные с бытовым контекстом. Всякий путь благ, потому что направлен, следовательно, путный всегда хорош, а быть без пути — находиться в полном беспорядке.
Первоначально, видимо, четыре названных слова имели каждое свой частный смысл. Дорога — полоса земли, по которой проходит движение (а всякое движение с определенной целью — это путь), в то время как стезя — направление движения по полосе земли, которой отмечен путь (пробита тропа). Все конкретно-видовые значения частных слов со временем вошли в гипероним родового смысла: дорога. Только в этом слове содержатся со-значения славянских слов, некогда выражавших частные признаки движения в организованном человеком пространстве.
Преодоление трудностей, освоение жизни и освобождение русский человек обретает в пути. Дорога — овладение пространством, путь — временем: дальняя дорога — жизненный путь.
Часть 2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЧАЛ
Глава первая. Сокровенность чувства: духовность
Закономерность исторических явлений обратно пропорциональна их духовности.
Василий КлючевскийДуховность — душевность
Русского человека рвут на части номиналистические фантомы государство—церковь—цивилизация... Русский человек — государственник, русский человек — православный, русская цивилизация... А русский человек заломил натруженную кепчонку, озирается: «Семеро с ложкой...» — и каждый на себя тянет. Каждый норовит «оформить» его русскость в своем роде и для своих целей. Не читал русский человек Владимира Соловьева да евразийцев, а там все верно прописано: в России религия — от Византии, идея государственного могущества («империи») — от варягов и татар, бюрократизм закона и «права» — от немцев, цивилизация и утопические мечтания — от Европы, культура — от Просвещения, идея миссианизма — от Рима («Москва — третий Рим»), идея мессианизма — от Израиля... и даже «глубокое презрение к человеческой личности и ее достоинству» есть «внутреннее монгольство»: именно в Москве с полумесяцем на православных крестах создана система «тотального подавления личностного начала... и — прочь от одержимого демоническими силами центра» [Прокофьев 1995: 167].
Неоформлен русский характер, недооформлен русский человек... Веками травили душу чужим снытьем, а в душу, в ее глубины так и не проникли. Потемки — чужая душа.
Русские философы тщательно проработали понятия «духовность» и «душевность», символически представив их как мужское и женское начало в русском человеке. Неистребимость такого типа органического «дуализма» — родовая черта русского двоемудрия, она распространяется даже на вероучение (частые попытки присоединить Богородицу к триипостасному лику).
Духовность понимается как объединительно-религиозное отношение к высшим формам опыта: к абсолютному совершенству или абсолютным святыням; как стремление причаститься к ним, соразмеряя с ними свою жизнь. Даже русский «атеизм» внутренне религиозен, но религиозен в этом именно смысле: равнение на идею идеала, постоянное самоочищение под ее сенью.
Душевность понимается как широта и открытость души, терпимость, терпение и терпеливость, способность к жертвенности во имя такого идеала; тут и «выход за пределы» и «русский размах» — ровной линии нет, потому что и жизнь «кругами идет», и «бесы кружат» (см.: [Сагатовский 1994: 171—173]).
Душевность есть явленная духовность, но всё же «вещна» она, через чувство и опыт вглубляется в жизнь.
«Русский человек душевен, — говорил Бердяев, — но задача состоит в том, чтобы стать духовным». Потому что душевность — это воплощение духовности, но все-таки еще не духовность, и «всегда остается соблазн и опасность психологизма, соблазн принять и выдать душевное за духовное. Этот соблазн может обернуться обрядовым или каноническим формализмом, или ласкательной чувствительностью. Всегда это прелесть... Душа вовлекается в игру мнимостей и настроений...» [Флоровский 1937: 503]. «Нужно расколдовать Россию. Вот главная задача» [Бердяев 1991: 52].
Духовность сплачивает души, она и ковалась веками, хотя при этом вряд ли корнем ее было «русское благочестие», как полагали евразийцы, или «полное мистическое углубление», или церковь как мистическая организация. Духовность — высокое чувство веры в идеал, который правит Миром.
И в этом русская вера.
Душа — символ духа
Душа как символическое обозначение «внутреннего мира человека» — хорошо известная метафора. Но символический смысл «души» глубже. По набору различительных признаков выделения русская душа как-то соотносится с английским воображением [Пименова 1999: 45], а это уже прямая подсказка. «Русское созерцающее сердце, — писал Иван Ильин, — не довольствуется небожественным, только природным, только светски-эмпирическим образом мира. Оно предрасположено к символической трактовке вещей, скрытой многозначности фактов, к выявлению того таинственного измерения, за которым скрываются божественная сила и доброта, стремящаяся к очевидности»; так потому, что «русское сердце стремится к божественному миропорядку. Отсюда его живое наивное поклонение всякой, пусть проблематичной, пусть предосудительной, даже, может быть, вовсе несуразной, сверхсиле духа, мимо которой нельзя пройти равнодушно». Это своего рода идолопоклонство, «которое путает дух как символ чувственно-материальным символом... [Ильин 6, 2: 90, 463]. При этом важно, что для русского сознания символ духовен, а не материален и каждый новый символ одновременно становится источником для более глубокого символа — дальше и в глубину. Сердце — символ души, душа — символ духа и т. д. «Дух есть "воздух" и "хлеб" человеческой жизни, ибо человек задыхается и изнемогает без него. Дух есть дыхание Божие в природе и в человеке; сокровенный внутренний свет, осмысливающее и очистительное. Он освящает жизнь... Дух — это свободнейшая и интенсивнейшая энергия, призванная к созерцанию невидимого, к восприятию сверхчувственного, к обхождению с бессмертными содержаниями, постигающая именно в этом обхождении свое собственное призвание и бессмертие». Но, конечно, «для того, чтобы познать духовный предмет, необходимо самому духовно быть и организовывать в себе подлинный духовный опыт» [Там же: 346, 410, 68].
В этом поэтическом описании смысл символа истолкован точно, но слишком возвышенно. Возможны и другие толкования, например с точки зрения не идеи, а опыта жизни: «Под таинственным псевдонимом (т. е. символом! — В. К.) "духа" у нас на практике скрывается всяческая отсталость, всяческая реакция и всяческое сословное весьма плотское — чревоугодие. Я предпочитаю термин инстинкт. Это, во-первых, яснее «духа». И во-вторых, этот термин не так дискредитирован, как «дух» [Солоневич 1997: 162].
Густав Шпет выделил признаки «народного духа» в своей «этнической психологии». Дух здесь представлен как метафорически-традиционное обозначение коллективного в его идеальности. «Дух в этом смысле является тем источником деятельности, который имеет вполне реальное значение не только в сфере действия самого духа, но и во всей реальной действительности» [Шпет 1989: 529]. Любопытно это повторение глагольной основы в со-значениях слов: деятельность — действие — действительность — и вывод о том, что дух есть «чистая деятельность», представленная или как «идеальное», или как «коллективное», или как «существо», или как «идея или смысл и сущность, или даже как разум» [Там же: 531]. В преображенном виде дух обозначает «некоторую структуру переживаний коллективной организации», это «чуткий орган коллективного единства, откликающийся как рефлективно-невольно, так и творчески-сознательно, на важное событие в бытии этого единства» [Там же: 534]. «Дух в этом смысле есть собрание, "связка" характерных черт "поведения" народа; в совокупности с постоянствами "диспозиции" это есть его характер» — и как предмет изучения он познается в своих проявлениях, и, «может быть, нигде так ярко не сказывается психология народа, как в его отношении к им же "созданным" духовным ценностям» [Там же: 546].
Что же это такое — единящие «духовные ценности»? «Не любовь к отечеству в западноевропейском смысле слова, но какое-то особое и ясно выраженное чувство народного единства проявляется даже среди самых простых русских людей» [Штрик-Штрикфельдт 1995: 186].
Осталось привести свидетельства скептиков, в принципе не способных «прочесть» символ души как воплощения духа.
Польский философ согласен с пониманием русской духовности как утверждением, согласно которому «обновление человека становится обновлением космоса», в результате чего «увеличивается пространство человеческой ответственности, охватывая весь мир» [Брода 1998: 90—91]. Дух в этом смысле помогает видеть совершенный мир: это эсхатологический финализм — неприятие условных ценностей, а также компромиссных позиций и решений бинарного мышления — глубинное объяснение всех структур мира: мистический реализм; а наличие неоплатонических мотивов ведет в таком случае к «интуитивизму и антидискурсивизму» с признанием непознаваемости Абсолюта. Онтологизм русской мысли основан на сильном антропоцентризме и этичности (панморализм), на синтетизме (в том числе и языка) и максимализме поведения.
Обилие иностранных терминов не должно смущать: все сказанное сказано верно. А с философской точки зрения — очень точно выражено. За духом признается право на владение миром, за русской мыслью — право на веру в дух.
Более того, дух теперь признается некой энергией в сфере духовного (сознание тоже — первичный атрибут материи), а, по мнению В. Налимова, энергийная сила духовности — это «совокупность постоянно продуцируемых смыслов», поскольку на космическом уровне «происходит спонтанное порождение импульсов, несущих творческую искру», так что духовность есть «энергия, порожденная Вселенной».
Такими утверждениями современных философов извне традиции русского философствования завершается период длительного поиска тех сущностей, которые скрываются за символом «душа».
Дух как энергия абсолютных смыслов, которым нет конца. «Называя это мое внутреннее бытие душой, мы должны сказать, что душа не замкнута извнутри, не обособлена от всего иного; в направлении внутрь, в глубину, душа не только не встречает нигде своего "конца", какой-либо преграды, ее ограничивающей, но, напротив, расширяется, незаметно переходя в то, что уже не есть "она сама", и сливаясь с ним» [Франк 1956: 60].
Структура духа
Мы говорим о душевности и духовности, не упоминая интеллектуального в тройственной связи «ум—душа» (уже у неоплатоников это их «Троица»). Но также и в интуиции русских философов можно заметить последовательное отталкивание от такой троичности в пользу этимологически мотивированного двоения «дух—душа». Очень похожее описание мы встретили также у Мориса Беринга, англичанина, и это, по-видимому, не случайно.
«Русский переводчик переводит английское mind словом дух, душа. В русском языке нет слова, вполне соответствующего слову mind, но во всяком случае смысл этого последнего слова по-английски далеко не соответствует тому значению русских слов дух, душа, которое им обыкновенно придается в общежитии» [Ткачев 1990: 322].
«Итак, дух, ум, душа. Дух есть сущее как субъект воли и носитель блага, вследствие этого или потому также субъект представления истины и чувства красоты. Ум есть сущее как субъект представления и носитель истины, а вследствие этого также субъект воли, блага и чувства красоты. Душа есть сущее как субъект чувства и носительница красоты, а вследствие этого лишь постольку подлежащее также воле блага и представлению истины» [Соловьев 1988, II: 252]. Троичное восследование тройственно окружает, вбирая их в себя, все категории Блага: истину, добро (пользу) и красоту, но в различных оттенках и в отношении к прочим категориям. Ум, дух, душа становятся субстратом категорий, сами по себе развиваясь в Абсолют. А в таких понятиях сердце уже не есть материальный субстрат души, оно само по себе «метафизируется». «Сердце как орган религиозного восприятия должно быть отличаемо от души, ума, духа, от сознания вообще. Оно глубже и, так сказать, центральнее, чем психологический центр сознания. Сердце есть центр не только сознания, но и бессознательного, не только души, но и духа, не только духа, но и тела, не только умопостигаемого, но и непостижимого; одним словом, оно есть абсолютный центр» [Вышеславцев 1990: 68]. Иными словами, «сердце есть средоточие душевной и духовной жизни человека» — утверждал Флоренский.
В переходах мысли, выраженной совместно приведенными цитатами, читатель еще раз увидел это ускользающее от поверхностного взгляда «вглубление» в суть посредством взаимных переходов категорий — от «тела» до «энергии» духа. Эти переходы метафизичны, и только очень условно, метафорически, их можно описывать, например так: «Мы трактовали русскую душу именно как оплодотворяемое св. духом женское начало», отчего и соответствующие черты ментальности — «глубокие истоки пассивности русской ментальности», когда «детородное, оплодотворяемое, пассивное следствие чьей-то оплодотворяющей воли, всё предопределяющей, решающей и несущей за всё ответственность, будучи основополагающей причиной...» — и так далее [Голованивская 1997: 171]. Вот именно от таких толкований и «душа озябла... Страшно, когда наступает озноб души» [Розанов 1990: 414]. Страшно, когда внутреннюю энергию духа подменяют сексуальными метафорами. Их источником являются сопоставления Николая Бердяева, например, такие: «В русском народе нарушено должное начало отношений между мужчиной и женщиной, между духом и душой. И это — источник всех болезней нашего религиозного и национального сознания» [Бердяев 1991а, 1: 123].
Сказанное и осмысленное в полной мере, подобное сопоставление показательно. Оно возвращает нас к тем конфигурациям русского сознания, которые мы уже не раз демонстрировали на примере «русского реализма». Бердяев — реалист, он исходит из слова (муж — слово мужского рода, жена — женского) и распространяет его первосмысл (концепт) как на действительность вещного мира (мужчина и женщина), так и на реальность идеального (на соотношение духа и души). Метафоричность философских сближений входит в противоречие с метонимичностью народного сознания, также влитого в русское слово.
На самом деле всегда осознается «глубина души и высота духа» [Вышеславцев 1994: 264]. Причем «дух есть активность и творчество, как дух есть свобода» [Бердяев]. Сопоставление души и духа приводит к утверждению, что дух есть некая «качественность человека», главное и творческое в нем начало, проявляемое в степенях красоты; духовные силы, духовное — это реальность при действительности души (так полагал Семен Франк). Мера духа изменена в любви, мера души — в совести. А философски это означает, что «дух, поскольку он есть непосредственная истина, есть нравственная жизнь народа; он — индивид, который есть некоторый мир» [Вышеславцев 1994: 183].
Получается, что первосмысл
Ум же предполагается в металепсисе, который соединяет в сознании начало духа и качества души в волевом усилии мысли.
Мысли, которой нужно довериться в вере.
Триипостасность веры
Но прежде уточним содержание понятия «вера». Русские философы и богословы тщательно исследовали это понятие в его отношении к реальности. Они различают веру—религиозность—церковь, т. е., другими словами, «личное чувство — соединение лиц в вере (re-ligio), духовный собор», или, в удачном определении Ивана Солоневича, так: «Вера есть внутреннее человеческое ощущение, религия — оформление этого ощущения в догматах и канонах, церковь есть организация и веры, и религии» [Солоневич 1997: 267].
Когда мы говорим отдельно собственно о вере, ее можно описать словами того же автора: это уверенность в том, что «человек по природе добр, а если и делает зло, то потому, что — "соблазны". Если мы удалим "соблазны", то останется, так сказать, химически чистое добро», так что «человек, средний человек, более или менее автоматически пойдет по "путям добра"» [Солоневич 1991: 89, 403]. Именно вера сверхрациональна (это постоянная мысль персоналиста Бердяева).
Когда же мы говорим о религиозности, ее можно описать, например, словами Николая Федорова [Федоров 1995: 7]: «Протестантизм как свободное исследование (или обсуждение), не переходящее в дело, ограниченное мышлением, словесным лишь выражением, обречен на вечный спор»; в отличие от этого католицизм разделяет, а православие объединяет. Следовательно, только православие есть истинная религия.
Когда же мы говорим о Церкви, православие можно описать словами Сергея Булгакова: «Православие есть Церковь Христова на земле. Церковь Христова есть не учреждение, но новая жизнь со Христом и во Христе, движимая Духом Святым. Церковь есть Тело Христово как причастность к божественной жизни в Святой Троице сущего Бога... Нельзя определить пределы Церкви ни в пространстве, ни во времени, ни в силе...» Церковь насквозь мистична: «Мистика есть воздух Православия, окружающий его атмосферой хотя и различной плотности, но всегда движущейся» [Булгаков 1991: 27, 32, 41, 309].
В особенных подробностях исследовал этот вопрос Лев Карсавин [1997].
Вера для него — бескорыстное убеждение в истине и обладании ею; «это прежде всего совокупность положений, догм, принимаемых верующими за истину... Наше внимание сосредоточивается не на том, что человек верит, а на том, во что он верит» [Там же: 202, 21]. Вера — несистемная готовность «поверить во всё», развивающая легковерие и доверчивость, веру в авторитет и доверие к образцу (типическому, идеалу); однако не конкретное «всё», а обобщенно типическое, типичное для символического уклона мышления, которое постоянно восполняет личный опыт обращенностью к идеальному («как оно должно быть»), поскольку в вещном мире «нового не ищут».
Вера утрачена в формулах логики: исчезает символ; «всё стремятся упрятать в логические формулы и во всем обнаружить лишь логическую связь», забывая о том, что «логикой живут меньше, чем психологией» [Там же: 201]. Русский человек — человек веры, потому так искренне многие и поверили в идеалы мирского коммунизма, попав в психологическую ловушку (второе после церковного раскола «раздвоение души» [Сагатовский 1994: 98]).
Вера сверхрациональна, а религиозность к ratio отношения не имеет; момент религиозности отличается от веры: «Мы подчеркиваем не то, в о что он верит, а то, что он верит, или то, как он верит, и выделяем, таким образом, субъективную сторону»; верующий не всегда религиозен, потому что религиозный человек в принципе способен предать свою веру (субъективное состояние иногда оказывается важнее положений веры), а в повышенно религиозные эпохи слишком силен уклон к дуализму, вызывающий религиозные метания [Карсавин 1997: 21, 97]. Религия есть вера в Абсолют, т. е. не в идеал, а в идею. «Религиозность невротична», поскольку психологическая напряженность души находится на грани разумного. Также еще и «не всякая религиозность религиозна. Если она принимает формы внешнего навязывания, декларируемой святости — она самозванна, она ничтожит бытие. Но тогда возможна религиозная нерелигиозность?» [Тульчинский 1996: 225]. Странный вопрос — но единственно возможный ответ...
Карсавин отмечает живучесть религии природы, а «живучесть языческих образов показывает, как сильна и живуча религиозность, как переплелся культ с религиозной жизнью и как он необходим» [Карсавин 1997: 45]. Георгий Федотов на разборе духовных стихов проследил движение народной мысли и заметил, что «если называть софийной всякую форму христианской религиозности, которая связывает неразрывно божественный и природный мир, то русская народная религиозность должна быть названа софийной» [Федотов 1991: 65]. В таком случае традиционная народная вера цельна, несмотря на различие ее источников и части, на духовный дуализм: противопоставление нежной любви- заботы и суровости закона-права. Это проявление коренного дуализма русского реализма — идеи и вещи представлены в их соотнесенности. Однако русская народная религиозность (не вера, а религиозность) становится уже «трихотомичной». Она трехслойна, ибо совмещает в себе древний культ Матери-Земли («земля Богова», «матерью не торгуют») и христианства в обеих его формах: древнерусской новозаветной как религии жертвенности и позже усвоенной ветхозаветной как религии закона, отменяющего благодать [Федотов 1991: 117—119].
«Душа растворилась в Боге» — в мистическом Теле. Мистическое не против ratio — это инорациональное нечто, что оправдывает и самое ratio как мирское свое воплощение. «Основной факт мистики, — пишет Карсавин, — соприкосновение души с метафизическим. Это соприкосновение можно понять двояко: или как активное охватывание душой трансцендентного, или как проникновение его в пассивную душу» — различение мистики интеллектуальной и мистики эмоциональной. И хотя трудно отделить религиозность от веры, еще труднее провести грань между религиозным и мистическим [Карсавин 1997: 68].
Чисто «религиозной» природы и частое утверждение, будто «русскость имеет последнее основание своей духовной укорененности в русской восточной церкви» и потому остается непонятой [Франк 1996: 202]. Мы уже говорили о том, что это не соответствует историческим фактам. Всё дело как раз в том, что «русскость» коренится в русской вере и со временем была «подзатерта» окультуренной религиозностью и культом (церковью). Не во всяком русском человеке русская вера органически сочетается с религиозностью и культом. Например, о старообрядцах говорят: это русские протестанты («беспоповцы»), но протестанты как бы наоборот: они исповедуют русскую национальную веру, не приняв западного соблазна «новой церкви»; обрядность культа всего лишь частность, она не должна покушаться на веру. В образованном классе, писал Иван Ильин, народ нередко видит чужих, «иностранных людей», а ведь именно эти «странные люди» и говорят о русскости в церковной ограде. Нравственность в глубине своей тоже вера, от религии мораль получает лишь санкции, но не содержание, не смысл (а вот в этом каждый народ ведет себя по-своему).
Три уровня веры в своем единстве правят человеческим духом: психологическая потребность — логическая необходимость — жизненная неизбежность.
Вера в узком коренном своем смысле конкретна в типическом, имеет дело с Природой, с вещью, она — объективное. «Вера есть обличение вещей невидимых», — утверждал Бердяев, — «знание принудительно, вера — свободна» [Бердяев 1911: 37].
Религиозность являет в конкретном общее; «иными словами, религия есть признание и переживание трансцендентных ценностей» [Струве 1997: 325]. Такова метафизика истины, Логос, Бог Сын в постоянных их превращениях. «Скажу даже больше, всякая народная культура есть живое органическое единство, коренящееся в религии. Почему? Потому что именно религия живет в неосознанных глубинах души, где инстинкт пробивается к своему духовному становлению и откуда творческий дух черпает свою жизненную силу» [Ильин 6, 2: 467]. «Короче, религия есть прежде всего состояние души, а потому она конкретна во времени и разнообразна у народов» [Ильин 6, 3: 9].
Вера не изменяется, религия развивается, преобразуя Церкви.
Мистическое тело Церкви — особенное в конкретном, единство множеств, явленное в богословии и в догматах, «ибо мистицизм состоит в прикосновении к тайне, а не в раскрытии ее, не в материальном и всецелом овладении ею» [Струве 1997: 78]. Средневековые ереси и борцы с ними не разбирались в подобных тонкостях, крушили всё подряд, не сознавали, что, уничтожая ереси, убивают религиозность веры в угоду одной лишь (частной) Церкви.
На Западе, по суждению Льва Карсавина, последовательность развития (становления, констелляции) такова:
религия > вера > мистика
В России последовательность развития другая, направление мысли иное, соотношение между членами как бы сбито посторонними помехами, и вот: вера > мистика (церкви) > религия (всеохватная религиозность, в социальном своем тонусе опрокинувшая мир на долгие времена). Не личная вера, не соборность мистических связей, а внешние формы религии стали господствовать в социальных напряжениях жизни. Религия силы, религия власти, религия идеи, религия... религия... Нет ни мистики, ни веры, а ведь «XXI век будет веком религии и мистики, или его не будет вообще» [Горичева 1996: 105].
В простом расхождении членов Веры лежит объяснение многих несходств между Востоком и Западом. «Напрасно, слишком узко понимая веру, видеть ее оскудение в современном обществе. Вера одна из непременных сторон человеческой жизни. Она не иссякает, но принимает такие направления, что скрывается из глаз тех, которые ждут ее встретить в заранее определенном месте» [Потебня 1976: 459].
Русская вера не чисто религиозна; на это указывают специализированные (типичные) ее признаки, которые выражены во многих словообразовательных комплексах типа верность, доверие, доверчивость, уверенность, так или иначе определяющих подсознательные установки русской духовности. «Вера» — логически род, лингвистически — гипероним. «Русская вера» не поддается схематизации (душа важнее идеи духа) еще и потому, что этическое в ней содержится не в одной лишь идее, но также и в вещи, на которую обращено внимание каждой конкретной мысли в ее исполнении.
«Сказать, что русские совершенно не имеют свой манеры жить, думать, умирать, обедать, читать, сочинять, — нельзя. А стало быть, и сказать, что так-таки совершенно нет "русского духа" было бы опрометчиво» [Розанов 1990: 389].
И это действительно так.
Русский язык очень тонко выразил триипостасность веры в отношении к чувству, к разуму и к воле. Каждый русский человек различает (по крайней мере) чувство доверия, верность слову и мысли, уверенность в деле, а отсюда уже и соответствующие схемы поведения: доверчивость как результат доверия, доверительность как проявление верности и доверенность как следствие уверенности в человеке. Нарушение хотя бы одного из этих моментов душевной гармонии каскадом обрушивает все остальные их проявления.
Русская душа
Русские мыслители и о душе говорили в идеально-собирательном смысле, не как о душе отдельного человека, а о «русской душе»; это «душа народа», «подлинная народная душа», «коллективная душа народа», «соборная целостность русской души» и т. д. Исходно собирательное значение имени душа восстанавливается на фоне оппозита дух в крайней его абстрактности.
И хотя «еще доселе никому не удалось определить различие между „духом“ и „душой“ столь ясно и однозначно, чтобы этим установлены были бы точные границы между этими двумя областями», а «переход от одного к другому здесь, напротив, непрерывен» [Франк 1990: 401, 403], попробуем выявить главное в коллективном мнении русских философов относительно их понимания «русской души».
«Петр Киреевский верно указывал, что Россия живет как бы во многоярусном быту. Это остается верным и о внутреннем быте, о тончайшем и внутреннем строении народной души. Издавна русская душа живет и пребывает во многих веках или возрастах сразу. Не потому, что торжествует или возвышается над временем. Напротив, расплывается во временах. Несоизмеримые и разновременные душевные формации как-то совмещаются и срастаются между собой. Но сросток не есть синтез. Именно синтез и не удавался...» [Флоровский 1937: 501].
И если «вообще этический уровень русской души невысок» (как полагали авторы «Вех»), это находит свое объяснение в истории: «два противоположных начала легли в основу формации русской души: природная, языческая дионисическая стихия и аскетически-монашеское православие. Можно открыть противоположные начала в русском народе: деспотизм, гипертрофия государства и анархизм, вольность; жестокость, склонность к насилию и доброта, человечность, мягкость; обрядоверие и искание правды; индивидуализм, обостренное сознание личности и безличный коллективизм; национализм, самохвальство и универсализм, всечеловечность; эсхатологически-мессианская религиозность и внешне благочестие; искание Бога и воинствующее безбожие; смирение и наглость; рабство и бунт» — это слова Николая Бердяева в его размышлениях о «русской идее» [Бердяев 1990: 44]. Совершенно определенное соотнесение черт натуры и характера, органического и благоприобретенного в жестких тисках «цивилизации». Понятно, что «душа русского человека после отпадения от веры попадает во власть нигилизма. Француз бывает догматиком или скептиком; немец — мистиком или критицистом; русский — апокалиптиком или нигилистом». Самый трудный удел — удел русской души» [Франк 1991: 21], внутренние противоположности которой, по сравнению с другими национальностями, достигают крайних пределов.
Необходим выбор.
«Нет решимости сделать выбор. Нет воли принять ответственность. Есть что-то артистическое в русской душе, слишком много игры. Душа растягивается, тянется и томится среди очарования...» [Флоровский 1937: 501].
Но выбор необходим, и «первый шаг в этом направлении должен заключаться в отречении от русского национального мессианизма. Тогда только живые черты нашей национальной физиономии перестанут растворяться в Абсолютном и мы обретем нашу подлинную народную душу. Один и тот же закон действует и в жизни отдельных людей, и в жизни народов. Чтобы сохранить свою душу, народ должен не возлюбить, а возненавидеть ее в мире сем» [Трубецкой 1990: 219].
Исполнить это чрезвычайно трудно, и прежде всего потому, что «душа русская безмерно отличается от византийской: в ней нет византийского лукавства, византийского идолопоклонства перед сильными, культа государственности, схоластики, византийского уныния, жесткости и мрачности. В русской народной стихии семя Церкви Христовой, заброшенное к нам из Византии, дало своеобразные ростки. Идеальные ростки христианства в русской душе можно изучать по славянофильству. Тут и своеобразный органический демократизм, и жажда соборности, преобладание единства любви над единством авторитета, нелюбовь к государственности, к формализму, к внешним гарантиям, преобладание внутренней свободы над внешним оформлением, патриархальное народничество и т. п...» [Бердяев 1912: 13].
Таким образом, и свое «человеческое достоинство мы должны оценивать не по судьбе, а по залогам души» [Розанов 1990: 214]. Залог души — это дух, и Николай Бердяев настойчиво повторял: «...внутренний человек — духовен, а не душевен»; выход — в одухотворении души, что возможно в определенной культурным творчеством среде, примерно таким образом, как видел это Ключевский: самосознание мы получили через творчество Пушкина, через него же «мы сами стали понятнее и себе самим, и чужим» — здесь «впервые обозначился духовный облик русского человека» [Ключевский IX: 405].
Таким образом, метафорическое «душа народа», «русская душа» дает представление об идеальном инварианте (символе) «народного Я»; «душа народа — моральные и интеллектуальные (!) особенности, составляющие синтез всего его прошлого, наследство всех его предков и побудительные причины его поведения. Тот запас идей и чувств, который приносят с рождением на свет все особи одной и той же расы, образуют душу расы» [Ковалевский 1915: 28]. Неоднократно обсужденные исходные условия структурации «русской души» одинаково важны: и географические пространства (академик Ключевский; месторазвитие евразийцев), и «женственность» русской души (академик Бердяев), и «религиозность русского народа» (Лосский), и смешанный характер русского народа (академик Пыпин), и социальные условия существования (академик Введенский), и многие другие особенности, описанные в первой части нашей книги. Этнические и географические условия суть метафоры того же социального и религиозного средства формирования русской души, как и психические и языковые — форма ее осуществления и сохранения во времени и в пространстве. Структура русской души многогранна и объемна именно как структура, пребывающая в общих, даже общечеловеческих условиях бытия.
И хотя «тонкие, невидимые струны, связывающие душу русского человека с его землею и народом, не подлежат рассудочному анализу» именно как проявления индивидуальной души [Хомяков 1988: 158], эта сложность души вовсе не от слабости. И тому находим примеры всегда.
...Знакомый журналист передает слова русского солдата, сражавшегося в Приднестровье: «Там всё на компьютерах рассчитали, думают — нам хана. Но душу в компьютер не вставишь... Думают, нам — конец, а мы встали и пошли!» Встали — и пошли.
Восприятие интерпретации
Исходное понятие русской культуры, определяющее ее потенциальные энергии, — душа (в понимании трезвых по складу души это «инстинкт»).
Со стороны душа видится определенным сплавом черт народного характера, который складывался веками под влиянием различных условий жизни и в разных исторических обстоятельствах. При этом часто забывают о том, что соединяет подобные «черты» в общую сумму живого, то есть в душевное нечто. Забывают о языке и слове, потому что «ведь это так ясно...». А между тем при забвении этого «о мистической душе русского народа можно городить любой вздор и высасывать любые отсебятины из пальцев своей собственной души. Это ни к чему не обязывает, и это ничего не доказывает» [Солоневич 1997: 36].
Например: русская душа — «одна из категорий национальной мифологии, не имеющая однозначного соответствия в эмпирической действительности. В массовом сознании это понятие часто совмещается с эпитетом широкая (говорят также о широкой русской натуре). С его помощью пытаются определить типичные для русского человека черты характера, каковыми оказываются: безграничная удаль, задушевность, бескомпромиссность, нравственный максимализм (пресловутое «всё или ничего»), общительность, гостеприимство, спонтанность психических реакций, примат сердца над рассудком, склонность к тоске и меланхолии, а также презрение к мелочам, к прагматизму и расчетливости.
На бытовом уровне русская душа проявляется якобы в безудержном пьянстве и в последующем состоянии, именуемым «море по колено», а также в привычке «плакаться в жилетку»... Понятие национальной души было заимствовано русскими шеллингианцами у немецких романтиков. С тех пор оно периодически появлялось в трудах тех русских мыслителей, которые противопоставляли себя господствовавшей рационалистической традиции»: именно это «понятие» (на самом деле — символ) подчеркивает «особую духовную тожественность русских и России» на основе неопределенного «мистического элемента», который, вместе с тем, создает «антиномичность русской души» [Идеи, 2: 276—277].
Видимость объективности в описании «русской души» создается за счет изложения всех «эмпирических» ее проявлений, вплоть до пресловутого «пьянства», однако сомнительно как смешение символа с понятием, так и души — с характером. Это категории разного уровня. Польская характеристика основана на интеллигентских самоощущениях русского человека и не учитывает народного представления о «русской душе», которое сложилось еще в Средние века.
В народном представлении душа вовсе не бесплотное, неосязаемое («мистическое») нечто, она имеет образ и подобие тела, в котором пребывает, она и поступает подобно своему телесному воплощению; это энергия формы, создающей тело. В таком случае душевность есть идеальный зквивалент телесного, не вещно-предметного, а именно телесного. Она, душа, вместе с телом, душа — сущность тела, не плоти земной, но тела, в том самом смысле, в каком это слово и родилось когда-то: тело — остов, структура исходной формы, т. е. души. А не стало тела — и «в чем только душа держится!». Основной аргумент евразийцев в пользу татарщины понятен только с позиции такого толкования: платила Русь дани в эпоху Ига верно, но если бы Русью завладел Запад — он вынул бы из нее душу [Савицкий 1997: 334].
Общим различительным признаком восточнославянской культуры справедливо признается ориентация на чувство, необходимое и достаточное для интуитивного восприятия Логоса в его цельности. В этом видят основное отличие Slavia Orthodoxa от культуры Запада, с характерной для нее ориентацией на рассудок, необходимый для восприятия ratio мира и человека. Психологическая установка от чувства представлялась более важной, чем установка логическая, а противопоставление символа к вещи — существеннее, чем суждение о самой вещи. Находясь в конфронтации с другими культурами и частично впитывая в себя некоторые их элементы, восточнославянская культурная среда тем самым восполняла себя объективно до цельности, поскольку именно цельность цельного всегда воспринималась как основная ценность, представляла собою живое, то есть реальное. Так создавалось напряжение интеллектуальной и духовной жизни, необходимое для дальнейшего культурного развития; отсюда проистекает и динамизм, и открытость русской культуры.
В этом случае важно именно осознание себя на фоне противоположности: «На Западе душа убывает, заменяясь усовершенствованием государственных форм, полицейским благоустройством; совесть заменяется законом, внутреннее побуждение — регламентом, даже благотворительность превращается в механическое дело... Запад потому и развил законность, что чувствовал в себе недостаток правды» — мнение Константина Аксакова в изложении В. Зеньковского [Зеньковский 1955: 78].
В принципе, согласно этому, жизнь человека нацелена на идеал хорошего, а не на осуждение или критику отрицательно-плохого. Последнее — этика запретов — составляет содержание Ветхого Завета, тогда как с древности русская нравственность ориентирована на Новый Завет. Плохое — зло — маркировано в отношении к добру и, следовательно, само по себе ясно, в поучениях и комментариях не нуждается. Подобное мнение — универсально-русское, многократно подтвержденное русскими умами: «Что такое наша нравственность, нравственное чувство? Это нечто очень произвольное, индивидуальное и неясное; всё, что в нем ясно, то отрицательного свойства. Мы твердо знаем такие требования морали: не воруй, не утирай носа пальцами, не прелюбодействуй, не ковыряй в носу при людях, не убий и т. п.» [Ключевский IX: 298]. Нравственность запрета по ветхозаветному образцу, органично уложенная в «Домострой» и впоследствии именно поэтому осуждаемая.
Быт понятен и сам по себе, как понятна всякая вещь, тогда как в восприятии нуждаются различные степени бытия. Сегодня затруднительно представить себе подобное раздвоение сознания, рациональное воспринимавшего как духовное. Современный публицист мыслительное пространство русской ментальности доводит до искривления. Идеал предстает теперь как категория нравственная, как правда, а не как категория знания и познания, подобно идее правды — истине. Возникает разведение двух ипостасей «истины», воплощенных в двух равноценных по смыслу терминах — знать (это дело ума) и ведать (совершает душа). Не разум определяет поведение человека, его стремление к истине, добру, красоте, а именно слиянность многих качеств характера, порождающих мысли и отзывающихся на внешний мир нерасчлененностью чувств, — душа. От Нила Сорского, от XV в. идут определения типа умная душа, но и умное делание, ум всегда действие, а с деятельностью связано и возможное зло. Строго говоря, нигде в старинных наших трактатах не найдем мы противопоставления души разуму, поскольку издавна полагали русские люди, что душа и есть ум («умная душа»), что духовность и душевность разграничивают интеллектуальную и чувственную стороны одного и того же — разума. Мудрость духа и чувство души — явления разные, но только как явления. Как сущности они почитались иначе — как одно, как цельность.
Но в народе символ «душа» связан сразу со всеми нравственными чертами личности, именно нравственными, то есть сугубо положительными. По мнению Бердяева, в русской душе нет византийского лукавства, низкопоклонства перед сильными, культа государственности, схоластики, уныния, жестокости и мрачности, но зато ей присущи: органический демократизм, жажда соборности и любви, отвращение к формализму, к внешним гарантиям — преобладание внутренней свободы над внешним оформлением [Бердяев 1996: 12].
«Здесь всё дело решается не своим мнением, а совестью, одинаковой для всех, и потому здесь не может быть самозванцев» (Владимир Соловьев); следовательно, «человек человеку должен быть не средство, а цель: эта формула и есть нравственный закон. Это то, чего хочет совесть» [Овсянико-Куликовский 1922: 64]. Сравним с французской совестью, она же сознательность [Голованивская 1997: 145—146]: тут совесть — существо враждебное человеку, с ним человек борется — и совесть уступает, ибо внутренне противоречива, ведь сам человек может ее подавить спокойно. Совесть здесь овеществляется, так что французское сознание «нашло способы справляться с этим неудобным изобретением христианской морали»; прагматизм и активность взяли верх над христианской идеей ответственности человека перед Богом за свои деяния— с точки зрения практической целесообразности, а не с точки зрения абстрактного блага. У русских же именно в совести и проявляется чувство ответственности. Западный человек отказывает русскому в этом чувстве, потому что ищет не там, не в совести (которая для него пустяк).
Русская психология
«Психология русского народа, — заметил Иван Солоневич, — была подана всему читающему миру сквозь призму дворянской литературы и дворянского мироощущения», в конфликтах, видимых с одной только стороны; норму идеала не описывали, на нее намекали через определенную идею. Разорванность русской психологии, ее несводимость к общему объясняются именно этим: «Весь европейский социализм пронизан ненавистью к крестьянству — и наш тоже». Крестьянский в социальном, христианский в конфессиональном смысле народ получил «этикетку», которая не соответствовала содержанию народного духа. С XVIII в. социальные границы лишили русских общей культуры, приводя тем самым и к раздвоению психического склада. В русском языке XVIII в. около 400 слов обозначали психические переживания человека (из них около 160 новые слова, в основном заимствованные или образованные от старых слов с помощью суффиксов) [Круглов 1998]. Возникает и развивается интерес к внутреннему миру человека. Христианская идея «души» преобразуется в светское понимание «психики»; символ становится понятием.
Настоящему русскому, коренному и простому, в высшей степени присуща духовная черта, которую Солоневич назвал: совестливость. Именно так: не совесть, а — совестливость. В чем различие между ними, мы и пытаемся уяснить теперь, когда враждебные ураганы разнесли по путям и торжищам прах от сгоревшей совести, сохранив, схоронивши до лучших времен, в душах русскую совестливость.
Для западного человека духовный — человек естественный (в физическом и интеллектуальном аспектах жития), на которого нисходит благодать в виде сверхчувственного свыше озарения; для восточного христианства человек с самого начала неотъемлемо и по природе харизматичен — а все остальное (чувства и разум) вторично. «То, что на Западе называется „естественным сверхъестественным“, авторы Востока называют просто „человеческое — божественное“, „тварное — нетварное“» [Шпидлик 2000: 79]. Основная ересь Запада — пелагианство, «умалявшее значение божественной благодати». [Там же: 81], основная ересь восточного христианства — манихейство, признававшее одинаковую силу земного и небесного. Но на Западе представлено (в мысли) восхождение от вещного к вечному, на Востоке — снисхождение с вечного (идеи) к вещному (к миру). Отсюда множество чисто практических следствий, например: для западного человека лукавство или насилие столь же «естественны», что и «Святой Дух» [Там же: 80].
Порицая русского человека за некоторые особенности «национальной психологии», Густав Шпет, сам того не ведая, воздает ему хвалу, ибо выражает неприятие тех психических черт, которые именно с русской точки зрения являются основополагающими. Вот его слова: «Национальная русская психология: самоедство, ответственность перед призраками будущих поколений, иллюзионизм, неумение и нелюбовь жить в настоящем, суетливое беспокойство о вечном, мечте о покое и счастье, конечно, всеобщем» [Шпет 1989: 52]. Это не что иное, как признание за русским человеком чувства ответственности за будущее, идеальное представление о вечном, всеобщем, обязательном — тот самый реализм, который всегда остается коренной психологической установкой на всеобъемлющую идею, а не на сиюминутную вещь. Скорее прав Семен Франк, мимоходом бросивший мысль о том, что только русская психология есть именно психо-логия, наука о душе, основанная на идее духа, и даже больше: метапсихология. В Западной Европе она давно подменяется физио-логией [Франк 1990: 16—18], т. е. наукой о теле, в котором душа пребывает. Поэтому и русский писатель для западного читателя является прежде всего психологом и философом и только потом беллетристом; в таком именно духе пишут о Достоевском, Толстом, Гоголе, теперь о Солженицыне или Пастернаке.
Всё имеет свои пределы и границы, и взгляд на них часто субъективен. То, что Шпет назвал «самоедством», т. е. повышенной степенью саморефлексии, Александр Солженицын вполне справедливо именовал «готовностью к самоосуждению, к раскаянию», иногда, конечно, и чрезмерному в своей беспредельности, однако и очищающему душу, снимающему с нее накипь непосильных психологических нагрузок. Осуждение высказано скороговоркой, совсем по-русски: недоказательно и всё с отрицающим «не». Но в каждом таком «не» содержится «ни», стоит лишь распутать клубок эмоционально данных перечислений.
Итак, таковы обвинения: у русского человека предпочтение будущего настоящему, суетливое беспокойство о вечном, мечта о покое как счастье, повышенная рефлексивность (самоедство) и, наконец, фантазирование об общем (иллюзионизм). Рассмотрим всё по порядку.
Ведь о том же возможно и другое мнение. Согласно ему, русское сознание и русская философия ориентированы не на «здесь-бытие», а «на подавляющую силу господствующих архетипов, схем, мифов, парадигм», пришедших из прошлого [Барабанов 1992: 137]. Это аллюзия к словам В. О. Ключевского [I: 315]: русский человек, в силу исторических причин, больше оглядывается назад, чем строит цели. Но Ключевский не делал поспешных выводов на основе изложенных фактов, потому что факты к такому выводу не ведут; не подводил, как делает Барабанов, к «аксиоме психоанализа: невротик застывает в своем прошлом» [Барабанов 1992: 143].
При всем различии мнений Шпета и Барабанова, они выражают общее сожаление: только бы не в настоящем, только бы не для себя, только бы вне конкретности вещи жил этот непутевый русский. Что за страсть, действительно, метаться между прошлым и будущим, презирая здесь и теперь, столь любезное современным философам и европейскому обывателю. Выдающийся русский педагог прошлого века П. Ф. Каптерев сказал, по-видимому справедливо, что только «первобытный человек жил настоящим, а не мечтами о будущем или припоминанием прошлого».
Навязчивость критической мысли: невроз прошлого или призрак будущего — понятна. Мысль критиков вертится в том же кругу, в котором находится сам объект рассмотрения, т. е. русская психология. Критики ведь «свои», они оценивают русскую ментальность как бы изнутри. Но изнутри не всё видно, да и мало опираться на простое суждение — мысль обманет, не туда заведет: как говорили некогда мудрые люди — бесы путают след.
Корень в слове
В традициях русского знания исходить не из мысли, толкуя об идее и вещи, но из слова, потому что именно слово соединяет идею и вещь. Нельзя постигать идею из нее же самой, нужно выйти — и оглядеться.
И оглядевшись, увидеть: слово говорит, что будущего — нет.
Добавим: и прошлого нет тоже.
Мы уже знаем, как язык шифрует такое знание. Форма будущего времени есть чистая модальность пожелания, включения в действие, в существование: хочу пойти, стану ходить... и наконец — буду ходить, буду смотреть. Прошлое — часть настоящего и может вернуться в будущее. Сложная система глагольных форм когда-то помогала постичь эту диалектику времен, неокрепшему разуму нужна была форма, в которую вылилось бы различение оттенков мысли относительно момента речи, момента действия и момента, соединяющего их («добавочное действие», ныне передается деепричастием).
Будущего нет, ибо оно предстает объемно сразу как цель, как идеал, как идея, от слова устремленная вверх, в непрерывном росте степеней подъема. Человек со-чин-яет будущее, опираясь на реальность цели и на идеальность идеи. Само слово чин, старинное слово, по внутреннему своему смыслу соответствует этому ряду; чин, чинить значит ‘наращивать кучу, поднимая вверх’ нечто, в определенном деле. У-чин-ить по-ряд-ок значит устремиться в рост. Пойти в рост. Стать порядком выше.
Прошлого нет по той же причине. Прошлое — память о сделанном, то есть о вещи, и о пути тоже, но — пройденном. Если будущее, идеал, как из зерна — в рост, то прошлое, то, что было, что стало, так сказать, пошлым, — под уклон. Это уже не чин-ный по-чин, но сан, по смыслу словесного корня значит: самая высокая точка, которая круто растет же, но вниз, на пути к основе своей, то есть к вещи, не в современном значении слова «вещь», а в исконно синкретическом, теперь — в философском значении. Вещь в этом смысле есть результат, свершение, конечный предел. То, что явлено.
Точка настоящего — это слово. Слово, ведущее вверх — к идее и одновременно устремленное вниз — к вещи. Не простое слово, а слово-Логос:
Психологически понятно: если стоишь в настоящем и видишь из «точки слова» (из точки роста идеи), здесь и теперь, ты не ощущаешь ни слова, ни настоящего. Ты видишь горизонт и бездну, будущее или прошлое, а тут уж кто что увидит. Кривой — одно, горбатый — другое...
Русский философ видит объемным зрением, общим взором охватывая круг времен.
Русская психология такова: мы начинаем действовать, лишь получив как оружие некие ценностные цели, а не материальный стимул на вещь [Касьянова 1994: 342]. Русский и работу себе выбирает не обязательно прибыльную, а чтобы оставалось побольше свободы — ценит в себе личное [Марков 1999: 211].
Нам нужна идея, а не вещь. Вещь тянет вниз, идея — парит и возносит.
В последовательности изменений важно условие, ведущее от слова; оно же и цель, а никак не причина. Иначе говоря, модальный императив всегда кажется более важным, чем прошлые события, которыми можно пренебречь. Они уже создали условия для новых целей, сыграли свою роль и вообще сомнительны, потому что ведь каждый субъект ищет собственную причину, тогда как цель одна — общая.
Н. Ф. Федоров наиболее последовательно заостряет проблему. По его мнению, в мире действуют не причинно-следственные, а условные связи (то-то условие того-то), и потому всякое действие окрашено в морально-этические тона: «Человек влияет на события своей нравственностью». Русская точка зрения.
По фактам истории русского языка мы видим, что именно так развивалась соборная мысль народа, и в последовательности появления разных типов придаточных предложений сохранились следы такого движения мысли, ее развертывания. Самым древним типом придаточных были условные конструкции, вплоть до уступительных. Большое число условных союзов и союзных слов развилось у нас в XVII в., они составлялись из остатков глагольных форм и местоимений, утративших в предложении, а значит, и в суждении, свой коренной смысл: есть-ли, как-бы, е-же-ли (если, кабы, ежели) и другие. Остальные типы придаточных активно развивались позже, в XVIII в., во многом уже под влиянием рассудительно-строгих французских, а затем и педантично-четких немецких конструкций. Общее представление времени действия накладывалось на причинно-следственную цепь восприятия фактов, поданных в слове как у-слов-ные. «Когда бы жизнь семейным кругом я ограничить захотел...» — в словах Онегина заметны еще следы вторичности в обозначении времени, потому что условие, которое ставит герой, важнее времени (вот если бы я...). «Прошлого нет — это часть настоящего» — вот русское восприятие времени в образном слове Бердяева. Векторное восприятие времени долго было чуждым русской ментальности. Может быть, оно и присутствует в общем представлении действия, но все же отличается от европейского (горизонтально из прошлого в будущее через точку настоящего). Для русского важно, что вектор направлен снизу вверх, вертикально, навстречу будущему, которое и есть воплощение той самой идеи.
«Русские люди вообще имели привычку жить мечтами о будущем: и раньше им казалось, что будничная, суровая и тусклая жизнь сегодняшнего дня есть, собственно, случайное недоразумение, временная задержка в наступлении истинной жизни, томительное ожидание, нечто вроде томления на какой-то случайной остановке поезда; но завтра, или через несколько лет, словом, во всяком случае вскоре в будущем все изменится, откроется истинная, разумная и счастливая жизнь; весь смысл жизни — в этом будущем, а сегодняшний день для жизни не в счет. Это настроение мечтательности и его отражение на нравственной воле, эта нравственная несерьезность, презрение и равнодушие к настоящему и внутренне-лживая, неосновательная идеализация будущего, — это духовное состояние и есть, ведь, последний корень той нравственной болезни, которую мы называем революционностью и которая загубила русскую жизнь» [Франк 1976: 15]. Такое ответственное заключение... а кроется корень того, что «русские люди вообще имели привычку» мечтать о будущем, в языке, который вплоть до XVII в. форму будущего времени не отличал от формы времени настоящего: иду—пойду, а в пожелании идем! сохраняется слитность настоящего-настающего времени. Категория будущего времени как реальность воплощенной в языке идеи сложилась только в предпетровские времена, и кто знает, не это ли стало толчком для самих «петровских реформ». Кто знает и кто может знать?
Современные лингвисты номиналистического толка приравнивают все языки мира к «образцовому» английскому, показывая преимущества последнего. Анна Вежбицка просто убеждена, что английский — эталон универсального естественного языка, универсальной логики разговора, даже универсальных правил политеса; идеальность «этноцентрических установок». Чисто женское желание указать на эмоцию в подтексте высказывания. Но как раз в подтексте и обнаруживается смысл уклончивой вежливости:
You did something bad — reprimand (выговор);
Someone did something good — praise (похвала);
You did something good for me — thanks (благодарность);
I did something bad to you — apology (извинение);
I will do something bad to you — threat (угроза);
I will do something good for you — promise (обещание);
Something bad may happen to you — warning (предупреждение);
Something bad happened to me — complain (жалоба)
— и так далее.
Разумеется, русский человек так не скажет, и, пожалуй, ни в одном случае. Его эмоция проста, как проста эта жизнь, и он не станет в политесах мести шляпой по полу, выговаривая «вы были так добры ко мне» или «я еще сотворю тебе нечто плохое». А уж если и слов никаких не осталось, скажет он, подобно Пнину в английском романе Набокова: Рпіп sighed in Russian: och-och-och (Вежбицка [I: 285] цитирует с удовольствием) «Пнин вздохнул по-русски: ох-ох-ох».
Русская фраза служит для передачи информации, она напрямую сообщает суть дела и не отвлекается на политесы. Для разного рода эмоций и оценочных красок служат слова. Давно подсчитано, что почти половина русских слов носит оценочный характер, а в любом другом языке эта сумма не превышает 10—15 процентов. Слово важней предложения, во всяком случае оно ценнее, потому что в слове заложено всё, что может сгодиться и в мысли, и в речи.
Такова эта «жизнь по мечте», к которой, по словам Николая Федорова, стремится русская душа. Не простое «протекание жизни» в соответствии с заданными условиями житья-бытья, то есть быта, а встречь идее.
В представлении русского человека, на просторе живущего, пространство вообще важнее, чем время, ведь время и протекает в просторах пространств; потому идеал когда-то видели даже не в будущем, которого нет (как известно), а где-то в другом месте. Отсюда известные с давних времен «хождения за правдой» в Беловодье и иные, столь же загадочные места. Идеал не во времени задан, он пролегает на дальних путях-дорогах, заполняя другое место; он не творится нами, а сосуществует с нами. Остается его сыскать, в буквальном смысле слова на-ити на него — дойти и взять, то есть по-ятъ в понятии.
Так шли по земле и русские странники, путники, и купцы, и изгои, и люди простые русские в поисках счастья на край земли.
И всё еще ищут, всё идут и идут по родной земле добрые русские люди. Былинные времена и сказочная страна — и неизбывна в ней песенная грусть.
Добро и зло
В отношении к добру и злу Древняя Русь не знает сомнений, для нее они равноценны. Нет добра вне зла, как нет и зла без добра — и то и другое благо, но в противоположных знаках бытия. Новое представление о зле и добре приходит на Русь в конце XIV в. (неоплатонизм «Ареопагитик») и окончательно становится национально русским чувством: отмеченности одного добра.
Добро способно расти, достаточно какого-то первого движения в цепи добрых дел, и добро расширяется. Поэтому, согласно русским представлениям, и «нужно быть в добре и излучать добро» [Бердяев 1952: 112]. Уже в IX в. славяне так истолковали известное место Евангелия от Иоанна (I, 5) «и свет во тьме светит, и тьма не объяла его»: мрак там, где свет отступает, и мрак тут символ зла, а свет — добра. Нужно светить — и тьма отступит. С. Л. Франк описал отличие славянского прочтения текста от западного католического, для которого важно отметить, что «зло неодолимо». Не забудем, что в течение многих веков эти тексты служили наводящим семантическим принципом истолкования многих явлений жизни. Так и здесь: добро постоянно должно расти, чтобы подавить зло. Добро — мирское проявление блага, и благо-дать порождает добро-детель. Что же касается зла, то корень его в земном, «зло порождается человеком» [Карсавин 1989: 104].
Добро является во множестве степеней, тогда как зло одномерно. Сам термин не имеет никаких вариантов: собирательно слово зло, которое в древнерусских текстах обычно являлось в синкретизме значений как злоба, несущая обжигающий заряд злости. Реальность зла связана со слепыми силами дикой природы; такова, например, смерть. Душа не умирает, она надприродна. Зло абсолютно, потому в нем и нет степеней проявления, добро же степени качеств несет, и не только потому, что оно относительно ко злу, но главным образом оттого, что добро, в отличие от зла, может быть окрашено человеческим к нему отношением. Добро субъективно. Языком в речи это передается с помощью степеней сравнения у прилагательных, прежде всего — качественных (относительные не имеют таких степеней). Русский идеализм замечен в мистическом невнимании ко злу, его как бы «нет» [Касьянова 1994: 224]. Зло игнорируют, и в этом отличие от западного типа мышления, которое со злом неустанно «борется», тем самым утверждая его в миру. Уничтожение зла одновременно предстает и как унижение добра, которое всепобедно.
Единственная форма борьбы со злом, признаваемая русским чувством, это его отрицание в слове. Например, в сказке. Герои сказки — последние из последних, худшие из худших, Иван-дурак да Емеля-несмеля. Но «Бог дураков любит» — и они становятся лучшими. Преображение жизни посредством магии слова — в действии [Синявский 1991: 32—33]. Через сказочный текст легко проследить логику русского чувства: нельзя доверять очевидному. Поверхность обманчива, тогда как чистым простецам открыты высшие тайны.
Слова добро, добрый не имели оценочного значения и тем отличались от слов благо, благой или зло, злой. Добро посредине, как и сам человек со своею душой, между благом идеи и злом вещи. Тут невозможны крайности, иначе наступит раз-лад. Добро обращено одинаково и ко злу, и ко благу.
Зло персонифицировано во врага.
Американский культуролог приписывает великороссу общечеловеческую (и свою собственную) мотивацию враждебности: бессознательное чувство страха: «всюду враги» [Горер 1962: 154]. Отношение русского к этому он объясняет психоаналитически, как результат детского опыта. Затем следуют заключения из такой посылки. Православные верующие чувствуют себя свободными от вины, верят, что и грехи им простят, тогда как врагу можно постоянно вредить и обманывать его; атеисты вообще отрицают за врагом все человеческие качества (на Западе — не только атеисты). В русском языке много разных слов для обозначения врагов, но темные силы — абсолютный термин для всех них. Разрушительная сила злоба и единственный термин ненависть...
Американский эксперт в суждениях о русской злобе не заглянул даже в словарь Даля. Там Зло предстает как живое существо (Худо, Лихо), одинаково противопоставленное и к интеллектуальной истине, и к нравственному добру; «В отвлеченном виде зло олицетворяется духом тьмы». Злой всегда пагубный; естественно, что он воспринимается как враг, с которым следует быть беспощадным. Злоба — это злорадство, ненависть, «злое расположение», а злость предстает как «свойство, качество души или как страсть». Злобный — мстительный и злопамятный (это конкретное проявление нравственного и интеллектуального зла), а злостный — скрытно злонамеренный (уже отвлеченно данный).
Добрый человек
Доброй может быть вещь, и она добротна, но есть и добрый человек. Слово одно и то же, но смысл незаметно другой, как все, что в оттенках представлено в этом самом добре. Интересно взглянуть, как изменялись оттенки слова, наряду и совместно с другими, по смыслу ему подобными.
В далекой древности добро и добрый значит ‘крепкий, сильный, прочный’ — это доброта, с исконным ударением на суффиксе. Добротность сделанного, урожденного, данного как уж Бог послал. Добрый молодец русских сказок именно таков. Крепкий, сильный, здоровый.
С XII в. то же слово, ничуть не изменяясь по форме, получает уже переносное значение. Добрый человек теперь — богатый, потому что и добро понимается уже как ‘имущество, достаток’, прежде всего «в животах» — в домашних животных. Благополучие дома — в них, так что это, конечно, добро. Метонимичность мышления незаметно переводит ускользающую мысль с одного объема понятия на другой, поскольку, как всем ясно, и «по жизни так». Добрый человек — «дельный, сведущий, умеющий, усердный, исправный», говорит нам Владимир Даль, отмечая исходный смысл сочетания двух этих слов.
После XVI в. мысль воспаряет, и добрый человек становится человеком душевным, или, как говорил Владимир Даль, ‘добро любящий, склонный к добру, добро творящий’ и оттого ‘мягкосердый, жалостливый’, что способно, впрочем, и к беде привести, потому что такой человек ‘слабый умом и волей’. Возносясь от вещи и обращаясь к идее, человек отчасти утрачивает прагматически-хозяйственные свойства и теперь на добро смотрит как на благо. Он слишком мягок, чтобы жить в суровом вещном мире, зато он нужен вечному миру. Он жалостлив — тронулся: ни ума, ни воли, только чувство одно. Желание показать «что-нибудь из черточек русского духа» приводит Василия Розанова к решению: «Я думаю, две главные: мягкость и окончательность (неполовинчатость). Сурового человека русские не выносят, разве на минуту» [Розанов 1990: 390].
Исконное значение слова доброта осталось для обозначения вещи (ее добротность как высшее качество), второе исчезает у нас на глазах (Даль его знал, а нам оно чуждо), третье же сохраняется для обозначения человека, являя собою идею порядочности. И ударение в слове изменилось. Вместо добротной конкретно добро́ты теперь собирательно доброта́. То, что относится к человеку, воплощено не в вещи, но в идее; мысль не скользит вниз от слова, но стремится кверху, туда, где вместился идеал. Человек очеловечивается, он не желает быть вещью. Он не тварь, но творение.
Родовое качество доброты развивается, обобщая многие видовые. Внутренний смысл слова при этом сохраняет родовое значение, передавая его под формой видового: так в русском слове постоянно пульсирует символ.
Два примера для наглядности.
Старинное слово изящный внутренней формой своей всегда постоянно: ‘изъятый (из ряда себе подобных)’, чем-то отличный от них — особенный, не как все, В древнерусских текстах под изящным понимали исключительной силы богатыря, изящен, в частности, Илья Муромец, мужчина грузный, крепкий и сильный. В Средние века изящный изменяет свой тип. Изящен чем-то известный, славный («полководец изящен и удал велми»), а позже так и вовсе чрезмерно ‘богатый’. От богатыря до богача путь не близкий, но родовой смысл слова, его первосмысл допускает и этот ход мысли. Допускает он и то изменение смысла, которое случилось под влиянием французских слов в XVIII в. (elegant и прочих). Изящный теперь — человек со вкусом, также выделяющим его из других, ему подобных. Так родовой смысл слова ‘изъятый—избранный’, постоянно изменяясь в конкретных своих значениях (‘сильный’ > ‘известный’ > ‘богатый’ > ‘со вкусом’) в зависимости от реалий жизни — от вещи — и создавал как бы новые формы слова, сохраняя при этом его праформу.
Но может измениться не только вещное содержание слова, его денотат, предметное значение, но и сама идея — исходный первосмысл (десигнат) — признак различения.
Вот самые древние обозначения храброго человека:
буй — по физической силе (буй тур Всеволод);
добль — по духовной доблести (доблий подвижник Божий);
дерзъ — по энергии действия (враг дерзок и нагл).
Все слова — прилагательные, выражают типичный признак лица и потому не имеют степеней качества. Нельзя быть доблее или буее. Типичные качества абсолютны в своем проявлении.
С конца XII в., все расширяясь в употреблении, явились другие слова (с ними мы встретили годы Нашествия): удалой — тот, кому светит удача, кому удается всё; храбрый — решительный и суровый, беспощадный в бою; мужественный — калька с греческого, по смыслу равная слову доблий (которое оно и заменило).
Все три слова отражают новое представление о храбреце: не природная сила, духовная или физическая, а удача, судьба, или рок, — сущностные признаки лица и потому уже могут иметь свои степени проявления (один удалее, другой — нет, может быть и мужественней, и храбрее). На Руси в те былинные времена сходились удальцы-храбрецы, а мужественные сидели по монастырям: зачем было воину утверждать свое мужество, и без того заметное?
С конца XV в. по-за спиной удальцов-храбрецов появились два новых типа в словах, выражавших еще раз изменившуюся идею храбрости: смелый да отважный. Своим происхождением оба слова как-то зависели от польских, второе от польского и пошло (odwaga — расчетливость), да и смелый ему подстать: кто смел, тот и посмел. На самом же деле наоборот: тот, кто, рассчитав свои шансы, пошел — тот смел. Новое время рождало героев умелых, расчетливых — «профессионалов». Не только физические данные важны и не идея одна, с которой ты ринешься в бой, но также разумная осторожность, и тонкий расчет, и хитрость.
При обозначении храброго изменялся не денотат (объем понятия, как в случае с изящным), а десигнат, т. е. содержание понятия, те признаки, которые необходимо было выделить для разграничения различных степеней и качества храбрости. Символика здесь создавалась другим путем, развивался «символ замещения»: объем понятия сохраняется в слове, а его содержание постоянно обогащается, уточняется, дифференцируется.
На то, что по старинке в чести у нас защитники от Поля и от Степи, а не от западного супостата, показывает тонкость речи: только удалой да храбрый могут предметно (через имя существительное) явиться как личности: удалец да храбрец, и никто больше. Все остальные слова именуют признаки, а признаки, как известно, непостоянны, не каждому достались, сегодня есть, а завтра их нет.
Так и добрый человек в понятиях, восходящих к древности, по-прежнему все-таки удалой, а не смелый, вообще не отважный, то есть не расчетливый. Другими словами, такой, который личным своим выбором решается на рискованный шаг, идя на удачу, на авось, не всегда принимает в соображение рационально взвешенный исход дела. Народное чувство не понимает рассудочности как формы проявления душевного порыва, да еще в минуту смертельной опасности. Он осмелился — смел, удалось —удалой. Но уже не буйный и еще никак не отважный.
А философы спорят.
Лосский записал: первичное свойство русского человека — доброта; особенно славятся жалостью сердца русские женщины. Это и есть душевность.
Да, отвечает Федотов, русский человек воистину добр; но часто он и жесток. Жестоким он может быть в любом состоянии чувств — и в «спокойном бесчувствии», и в «мгновенной вспышке ярости».
Все-таки нет, сомневается Лосский, жестокость у русских всего лишь средство устрашения, например преступников; но такова сущность органов власти.
Пожалуй, — согласен Федотов, — пожалуй, что так. Русский человек добр именно в жалости, безжалостность же изменяет и точку зрения; злость ослепляет — она вызывает жестокость.
А ныне такого — много.
В проявлениях доброты важны ведь оттенки, такие же, какие есть и в самом добре. Доброта и симпатия не одно и то же, защищал Петр Бицилли смысл иностранного слова. Верно; развитие литературного языка вообще заключается в том, чтобы с помощью новообразований и заимствованных слов всё более уточнять и углублять вековечные смыслы русских символов-слов; как в данном случае — русского понимания доброты и добра, когда, высекая из символа его оттенки, являли их миру как законченные понятия.
Чтобы мир этот — понял.
«Мы убеждены, что умение различать между добром и злом есть какая-то прибавка человеку, развитие, рост его духа» [Шестов 1912: 200].
Да и само добро избирательно. Иного и минует — того, кто сам не стремится к нему. «В России жестокость — страсть и распущенность, но не принцип и не порядок. Иное у немцев...» — заметил в эмиграции Федор Степун. Не разумные основания под жестоким поступком, но стихия и вольница — чувство.
Вместе с тем сочетание твердости с кротостью — суть русскости по Солженицыну; эту двойственность русской натуры: слияние кротости с насилием — вслед за Достоевским и описывает Солженицын в своих текстах. Преодолеть подобную двойственность можно, пожалуй, только «в русской призванности к жертве» (а это мнение Георгия Федотова).
Качества красоты
Все возможные в рассмотрении духовные черты могут быть представлены в любом народе, так что «всё дело в оттенках доброты, чистоты и т. д., именно в „как“, а не „что“, т. е. скорее в эстетических, в широком смысле, определениях» [Федотов 1981: 88]. То же можно сказать и в отношении отдельного человека, который в чувственных своих проявлениях может выделяться среди современников, выходить из ряда, не соответствуя типу. Приходится иметь в виду такую особенность современного человека, как его индивидуализм, а также формы социального проживания. В крестьянской среде чистота типа сохраняется больше, в городской, особенно в смешанных семьях, меньше. Мы говорим о традиционном русском типе в его собирательном образе, и совсем не обязательно, чтобы каждый в таком описании увидел свой портрет.
Средоточием чувства красоты для русского человека является душа. Душа, умеющая видеть красоту, не может ни гневаться, ни мстить, заметил Вышеславцев [Вышеславцев 1995: 119], она «вбирает в себя весь мир и любит весь мир, может только прощать» — «вот русская Психея»; «и это совершенно национально».
Так красота порождает мудрость. Тот же Вышеславцев [1995: 120]: «Мудрость и красота в нашем русском мировоззрении понимается не в смысле абстрактных идей Платона, отрешенных и оторванных от мира, не в смысле вечно недосягаемого идеала, а в смысле конкретной мудрости и красоты, воплощенной в Космосе, в природе, в Душе».
Красота как космос (греческое слово κόσμος) и есть объективное воплощение «идеи организации», то есть системы и даже порядка. Творчество есть порождение в красоту, которая предстает как типично русский тип системной незаконченности, незавершенности, требующей со-творчества от каждого, кто с ней соприкоснется. Красота-система — это не схематически-рациональная систематичность, но символический образ, подобие порядку космоса.
Признаки красоты изменялись. Следы этого заметны и на смысловой многослойности русских сказок, отразивших различные этапы развития чувства красоты.
Две главные героини сказки являются перед нами: Василиса Премудрая и Елена Прекрасная. Заимствованные имена? Возможно. Все христианские имена заимствованы. Но в древности имя — это сама «вещь», сам человек в своей сущности. Эти имена тоже значимы. Елена — светлая, свет мой, а свет пре-красен. Василиса — царственная, и мудрость — царственна. Можно думать, что Василиса явилась в Древней Руси в связи с поклонением Софии Премудрости Божией, а Елена — уже в XV в., в Московской Руси, с ее поклонением Свету божественной Троицы. А потом исчезает признак «чистой красоты», и вновь является, преображенная, Василиса Премудрая — ненаглядная красота (уже только о ней и говорит Андрей Синявский в своем исследовании [1991: 121]). Одна в двух лицах. И Красота, и Мудрость. Ведь как часто «не хватает одного тоже необходимого звена человечества, которое мы назвали бы мудростью», заметил некогда Михаил Пришвин, и добавил, конечно образно: «Красота есть тоже бог».
Непосредственным, зримым, типичным признаком красоты является свет, и на грани разложенный свет — это цвет. На многих примерах можно видеть, как изменялось отношение к цвету в зависимости от точки зрения, с какой всё вокруг видел средневековый и современный человек.
В Древней Руси был взгляд с точки зрения вещи; тут важно, с какой конкретно вещи «снято» имя для называния каждого данного цвета. Оттенки красного многообразны: редрый по цвету редьки, рудый по цвету железной руды, русый — волосы, рдяный цвет калины, рыжий... и т. д. Столь же многообразны оттенки синего, черного, серого. Серый: сивый конь, зекрый глаз, модрый цветок, бусый волк, голуб голубь... Цвета отдельно от вещи нет. Вещь и есть ее цвет. Цвет-цветок, явление природы, стал отвлеченным цветом, слово породило новый смысл.
В средневековой России оценка цвета идет уже со стороны слова и определяется иерархией его смысловых степеней. Степени, может быть, и не существуют реально, но строятся, и строятся на основе включения света (яркие противоположны тусклым) или возможности давать отблеск. Цвет выделяется из света, отвлеченно предстает как признак света, а вещь с типичным своим цветом в обозначении цвета заменяется его красителем. Теперь тона того же красивого цвета — красного — определяются как червленый (краситель — червь кошениль), чермный (краситель — плоды и кора черемухи) и т. п. Их всегда два, оттенка общего цвета: блестящий яркий и темный густой, как здесь: червоный и чермный. Червоный — рдяный цвет калины по осени и чермный княжеский стяг на Куликовом поле.
В Новое время все просматривается с точки зрения вызревшей в культуре идеи-понятия о вещи. Теперь воспринимается гармония чистых цветов, согласованных в соответствии с идеей (парадигмой-образцом) разложенного света — спектра. Все, что язычник воспринимал в чувственном синкретизме через целостную вещь, а средневековый христианин — символически через замещающие вещь красители, современный человек аналитически раскладывает на длину световой волны, на интенсивность и на отражаемость, различая посредством отдельных слов и тон, и силу, и красоту цвета. Самый красивый цвет и называется отвлеченно общим словом, метафорически — красный. Мир разъят на составляющие, и красота притухает, меркнет — даже на полотнах художников, с настойчивостью идиотов расчленяющих вещный мир.
Красота переменчива в вещи, непостоянна в слове, но в идее она всегда остается красотой, теперь недостижимой, как недостижим и любой идеал. Истина должна быть красива — в этом убежден всякий. Красота мира всего лишь отражение божественного Лика (Софии Владимира Соловьева) — это начало женственное, отдающееся, воспринимающее, пассивное — Душа (Вышеславцев).
Красота всегда воспринимается как нечто более важное, чем польза, поскольку польза — один из компонентов красоты. Враждебность к практицизму и позитивизму — устойчивая особенность русского отношения к красоте мира. Как и качество дела или исполнения тоже важнее, чем количество произведенного (что бы ни говорили сегодня оппоненты, это так). Красота идеала предпочтительней перед вещью.
Типологически последовательность выделения цвета у разных народов одна и та же, но обобщения в типы и на этой основе символичность цвета у всех различается, и в том числе «русский фольклорный менталитет за цветом видит смыслы, а потому цветообозначение приобретает статус сущностной характеристики... Позитивная сущность цвета делает ненужной колористическую детализацию, и предметы характеризуются как семицветные, самоцветные или просто цветные»; наоборот, «в английских колеративах чувствуется субстанциальность, что объясняет наличие структур типа в белом, в зеленом и т. д.» [Петренко 1996: 52—53]. Русская ментальность цвет не опредмечивает, поскольку «русский так любит яркие цвета!» [Ковалевский 1915].
Категорию «качество» как основную категорию русской ментальности отстаивали славянофилы, история слов-понятий подтверждает их точку зрения. Полные имена прилагательные, в отличие от предикативных (кратких) прилагательных есть специфическая особенность славянских языков, оформивших особую категорию слов для обозначения качества. Наоборот, категория «количество» менее разработана в языке: до XVIII в. фактически отсутствовали имена числительные как часть речи, существовали только отдельные слова, служившие для обозначения чисел: счетные имена.
До сих пор уверен русский человек, что «красота спасет мир» (слова одного из героев Достоевского). Не истина-разум, не польза-дело, а именно красота. Та степень блага, которая воплощает собой единство Природы и Человека, гармонию жизни, лад.
Крайности сходятся
В поисках гармонии душа мечется между сакральным миром духа-идеи и профанным миром тела-вещи. Укорененное в сознании диалектическое раздвоение единого оплотняется в слове. Таково духовное наследство, полученное от неоплатонических идей через посредство «Ареопагитик». Или, быть может, наоборот: потому и впитавшихся в русскую ментальность, что искони ей присуще, хотя и в ином обличии и иначе сказанное. Уверяют же нас психологи, что русские культурны не по натуре своей, но по воспитанию [Касьянова 1994: 130]. Во всяком случае.
благодаря идее двухуровневого мира, в котором мечется неприкаянная душа, мы далеко отошли от древнерусской основательности, отреклись от вещи в пользу слова, а теперь уже и во имя идеи. Аристотелевская «золотая середина» в колебаниях между крайностями в терминах науки отложилась, но в душу как-то не запала. Отличаем гордыню от гордости, но вот «среднего» между ними, самой добродетели, и не знаем. Нет и «среднего человека», хотя отовсюду слышим, что русский человек по природе своей — середняк. «Средний человек» сегодня — статистическая единица, а как тип, взятый для наблюдения, представляет собою процесс, отмечающий постоянные колебания между тем и этим. Однако крайности ему свойственны больше. В крайностях — жизнь, середина же — идеал — есть просто идея.
О недостатке у русского человека «средней степени культуры» говорил и Николай Лосский, находя ее следы разве что у старообрядцев, сохранивших прежний уклад русской жизни, в том числе и в отношении к середине — к сердцу. Об этом много раз писал Ключевский в лекциях по древней русской истории, и иные многие писали тоже.
Напротив, современные философы не приемлют «середнячка». Николай Бердяев подчеркивал устремленность русского характера и натуры-чувства к крайностям, исключающим «бездарность относительного среднего» [Бердяев 1918: 25]. Еще раньше Константин Леонтьев жестко выразил ту же мысль: именно на Западе буржуазный идеал — это средний человек (см. также: [Зеньковский 1955: 150]). «Замечательная русская черта, — записывала в своем дневнике Зинаида Гиппиус [I: 422], — непонимание точности, слепота ко всякой мере. Если я не „жажду победы“ — значит, я „жажду поражения“... то „или—или“, какого в жизни не бывает». «Окончательность (неполовинчатость)» русского человека отмечал и Василий Розанов. Попытки отнести это к «языческим» остаткам русской натуры вряд ли справедливы. Это ветхозаветная мудрость, веками навязываемая со всех амвонов: «и первые станут последними», «и тот, кто не с нами, тот против нас»...
Тут-то и возникает противоречие в понимании самого явления. Мы ведь тоже смотрим на предмет с определенной точки зрения, совсем не так, как смотрели предки, а, скорее, со стороны готовой уже, вызревшей идеи мы всматриваемся в соотношение между словом и делом (вещью—идеей).
Обратным ходом мысли таков ответ на русский реализм, согласно которому выше идеи нет ничего, а идея дана — в слове.
С точки зрения идеи подчеркивается, например, инерционность чувств русского человека [Касьянова 1994: 122 и след.]. Замедленная реакция на конкретное действие, на дело («задним умом крепок»), но немедленный отзыв на слово. Не сосредоточенность серьезного движения чувств, а заменяющее ее упрямство; гнев, веселье, отвага — русский не сразу выходит из состояния аффекта, вызванного словом. Очень верное наблюдение, и оно о том же: реактивность отношения слово—идея и известная заторможенность в соотношениях слово—дело, дело—идея во взаимных их соответствиях, создающих реальность действия (по-научному выражаясь, «реакций на сигнал»):
Реакцию на слово психолог называет раздражительностью. Русский психологический тип эпилептоидного характера (чередование понижения и повышения активности). Такому человеку свойственны основательность, умение добиваться результата (настойчивость), внимание к мелочам (педантичное «занудство»), спокойствие (невозмутимость) и терпение [Касьянова 1994: 129]. Создается впечатление, словно сказано не о нас, ведь у современного русского всё прямым образом наоборот. Сказано о нас прошлых, может быть еще и будущих. А. П. Щапов описывает типичного русского человека его времени: «...терпеливость русского народа, его неприхотливость, выдержанность, смирение; он может отличаться спокойным глубокомыслием, не скорыми, но основательными, отчетливыми и строго последовательными выводами мышления, рассудительностью и обдуманностью действий, твердостью и постоянством характера, упорно-твердою энергиею и настойчивостью в практическом труде и начинании», особенно в тяжелое время, когда «люди могут естественно побуждаться к коллективному социальному концентрированию и усилению энергии и деятельности этих своих индивидуальных умственных и нравственных сил», потому что коллективизм их им присущ органически [Щапов 1908: 160]. При всем том соединяет все эти качества душевный порыв, действие души, потому что для русского человека остается обязательным интуитивное «господство внешних чувств над разумом» [Там же: 155].
Сегодня уже не то. Постоянно слышишь и читаешь о крайностях в проявлении чувств: мрачность и одновременно детскость (Г. Федотов), открытость при простоватости (А. Солженицын), застенчивость при самоуверенности (Г. Гачев), кротость при крутости (Г. Тульчинский) или вот еще: душа нараспашку — и боязнь открыться... Метания широкой русской души объясняют по-разному. Говорят о семидесяти годах коммунистического «засилья», однако именно в эти годы наметилось некоторое возвращение к традиционной русской ментальности, теперь в очередной раз прерванное. Говорят о стремлении русского человека к сытой «западной» жизни, ради которой он якобы готов отказаться от наследия предков, — но навязчивое отчуждение от русской культурной традиции определяет не простой человек, а его «вожди», которые и слыхом не слыхивали о русской ментальности (или сознательно решили ее переломить). Говорят о внутренней противоречивости русского характера, по-разному оценивающего одно и то же дома и на стороне: у себя дома неуверенность, чувство виноватости — на стороне самоуверен и «даже нагл: несет свой Логос» [Гачев 1991: 148—151].
Все такие утверждения несправедливы; по многим наблюдениям выходит, что как раз «на стороне» русский человек и кроток, и мягок, и даже весьма почтителен. Помалкивает.
Да и как не понять, что разная реакция на вызов есть разный ответ на различное к тебе обращение? «Умение уживаться с людьми как свойство русского характера на Западе называют „бесформенностью славянской души“. Если вы предпочитаете историческую терминологию Достоевского, — можете говорить о „всечеловечности“. Если вам нравится философия, то вы можете использовать шубартовский „иоаннический эон“, эон, конечно, звучит наиболее здорово. Я предпочитаю оперировать термином уживчивость». Но «как и всё в этом мире, ограничена и русская уживчивость. Граница проходит по другому термину, который я определил бы как „не замай“: уживчивость, но с некоторой оговоркой... Русскую государственность создали два принципа: а) уживчивость и б) „не замай“. Если бы не было первого — мы не могли бы создать империи. Если бы не было второго, то на месте этой империи возник бы чей-нибудь протекторат». Так что, обобщая, повторим за автором этих строк сказанное о русском упорстве, «которое характеризует всю дальнейшую русскую историю: русская „доминанта“ пересидела все остальные» [Солоневич 1991: 214, 215, 216].
Крайности сходятся в деле, и — лучше до этого дела не доводить, не то — беда! Не следует забывать, что «русские не часто способны на компромисс, и само это слово, полное в западном мире великого творческого и миротворческого значения, на русском языке носит на себе печать мелкой подлости», отмечает эмигрантка Берберова. Ясно, почему: «для великоруссов слабость, как и сила, абсолютны» [Горер 1962: 177].
Глубина и широта
На возвышенность переживаемых чувств русский человек не претендует. Высота оправдана идеалом, и чем натуры ближе к нему, тем выше полет чувств. Иное дело глубина переживаний, тут тоже возможны свои крайности.
О повышенной эмоциональности русского человека, явленной и в речевых его формулах, пишет Анна Вежбицка и многие до нее: «Чрезмерная интенсивность чувств и эмоций, их внезапная смена и внутренняя противоречивость» накладывают на русского «печать искателя правды и справедливости» [Штрик-Штрикфельдт 1995: 179]. Однако психолог, которого мы в наших блужданиях по тайнам русской психологии взяли в руководители (Ксения Касьянова), сравнивая непосредственную эмоциональность русского и американца, утверждает, что у русских она ниже.
Наоборот, Петр Новгородцев полагал, что у русского человека потребность внешнего выражения чувства очень высока, она и осуществляется — через ритуал, символ или просто через слово. Еще раз ошибается психолог. Конкретная реакция, да еще на незнакомых, действительно сдержанна: это ведь реакция на постороннее, на «вещь». Другое дело — слово, облекающее идею в явленность символа или ритуала («этикетность» поведения). Герои Достоевского тому пример. В романах этого писателя тщательно прописаны все оттенки ритуальной реакции на явленный в слове символ. Каждый герой его романов воплощает одну из возможных «экспрессом», пусть даже просто на уровне аффекта. Невозмутим там только Идиот или эмоционально незрелый Подросток. Глубина их собственных чувств не выплескивается вовне — вширь.
Широта переживаний предстает как страстность.
Страстность стихийна, и природную ее стихийность подчеркивали ранние славянофилы. Широта натуры определена искони: это «органическая нелюбовь ко всякой законченности формы», вообще «большая слабость формы, личного творческого замысла» [Федотов 1981: 92, 94]. Пока идея не оформлена — она идея, но это такая ценность — идеал, — которою не разбрасываются: «мысль изреченная есть ложь», по слову Федора Тютчева.
Страстность проявляется и в забвении. Тут многое можно сказать о пресловутом пьянстве, но сегодня это состояние обычно обсуждается на примере маргиналов-интеллигентов, а «их аскетизм состоит в том, что много пьют, но мало закусывают» [Марков 1999: 211]. Даже в крайних своих формах — в алкоголизме — пьянство вовсе не «кайф», «алкоголизм — это поиск не удовольствия, а особого эффекта: последний в основном состоит в необычайной приостановке настоящего» [Гиренок 1998: 190]. Это момент забвения «настоящего», и жертва сознательно идет на это. Но — «одно дело пить. Другое — спаивать» [Там же: 156], а охотников спаивать в нашей истории было много, начиная с шинкарей XVII в.
«Пьянство в России играет еще особую социальную роль. Оно приукрашивает убожество бытия и сближает духовно людей, которые в трезвом виде не протянули бы друг другу руки. Пьянство есть свет души, универсальный врач всех духовных страданий, компенсация за неудачи, имитация величия... Это, можно сказать, фактическая национальная религия» [Зиновьев 1981: 48]. Религия, может быть, восходящая к языческим временам, остатки язычества в коллективном переживании общего чувства.
Производные такого состояния человека не красят, и в их следствиях содержится отрицательный характер «пьянства». «Эта характерная эмоциональная нетрезвость, мечтательная возбудимость, какая-то своеобразная религиозная романтика» (Флоровский), «эта сентиментальная мечтательность как роковая слабость» (Булгаков), «маленькая страстишка — обливать помоями самих себя» (Солоневич), «чувство беспредельности, живой опыт ночной стихии, дар пророческой одержимости...» [Ильин 6, 2: 13]. И так далее.
Специальные исследования «российского пьянства» [Пелипенко, Яковенко 1997] приводят современных мыслителей к выводу, что эта «универсальная радость» связана с «апофатикой спиртного» — постоянным намеком «на бутылку». Объяснение этой «метафизической тяги» лежит в области русской «манихейской культуры». Всё культурное поле состоит из «бинарных оппозиций» (навязчивая идея современных номиналистов) типа должное—сущее, которая на Западе разрешается путем оппозиции закон—свобода, а «в русской культуре они в вечном антагонизме, и манихеям хочется их соединить», но поскольку русский не может соединить в среднем («медиальном»; идея среднего с подсознанием русским действительно отвергается), то мир горний и мир дольний разведены, «только в низовой культуре синкретизм культуры и сознания нейтрализуется в бутылке». Бутылка выступает медиатором между должным и сущим. «Пьяный треп» становится ядром акта возлияния — своеобразное трансцендирование: «мало сказано — многое понимается». «Из этого следует, что российское пьянство есть бегство от проклятого, фундаментального неразрешимого противоречия, заложенного в основания культуры»; недостижимость метафизического мира идеи предполагает (на другом полюсе) преображение в мерзости мира сего (в вещи).
Привлекательность такого толкования русского прилежания питию хмельному состоит в его внутреннем соответствии русскому реализму, и внешне это толкование кажется справедливым. Но... еще Тацит в книге «О Германии» сурово порицал германцев за их любовь к выпивке и лень, да и современный западный человек то и дело опрокидывает маленькую для поддержания жизненного тонуса; в одной «Франции насчитывается больше алкоголиков, чем разведенных» [Зэлдин 1989: 109], не говоря уж о прочих странах, где место алкоголиков замещают наркоманы. А ведь это номиналисты-концептуалисты, а вовсе не реалисты, и с проклятой антиномией «должное—сущее» там всё в порядке. Думается, что в объяснении «российского пьянства» следует учитывать не только метания мысли между идеей и вещью и не только нелюбовь ко всяческим «медиаторам-посредникам» (выпивка тоже посредник), но и метафизически (или религиозно) разное отношении к «полюсам» — к горнему или к дольнему — и к тому, какой из них является точкой отсчета. А движение от одного к другому осуществляется градуальными степенями скольжения, и вполне возможно в каждый данный момент не соскользнуть в «апофатику бутылки». Что и происходит с русским человеком, когда он работает творчески с идеей или занят настоящим делом — и когда ему не мешают это делать.
Страстность как несоединимость чувства и воли заставляет человека бросаться «очертя голову» на самые невероятные дела. Но что поделаешь, сама «душа есть страсть», заметил Розанов. Неумеренность чувства и безрассудство соседствуют со страстным желанием померяться силой с судьбой — авось пронесет. Вежбицка осуждает русский авось — Ключевский им восхищается. Различный взгляд на одно и то же — изнутри и извне. Густав Шпет ироничен: «Разнузданно добродушная уверенность в превосходной широте, размахе, полноте, доброте „души“ и „сердца“ русского человека, в приятной невоспитанности воображающего, что дисциплина ума и поведения есть узость, „сухость“ и ,,односторонность“» [Шпет 1989: 53].
Да, невоспитанность, признает и Федотов. Даже жестокой и властной Москве «не удалось до конца дисциплинировать языческую вольницу» [Федотов 1981: 92], ведь «мы кротки, мягки, терпеливы по культуре, а не по природе» [Касьянова 1994: 129] — не по натуре.
Однако основная моральная установка славянофилов: гореть, а не дымить чадом — есть установка на неизбывную страстность. Говорят, что для русского теплый — уже горячий, оба признака одинаково противопоставлены холодному. У французов же теплый (tide) ближе к холодному (froid), и оба противопоставлены горячему (chaud). Вот, говорят, вам и разные темпераменты: страстный француз и холодный русский. Нет, не то, но — разное отношение к холоду. Француз и русский многим отличаются друг от друга по природным условиям жизни; например, отличаются отношением к воде: l'eau не просто жидкость, но содержательно питательная жидкость, тогда как для русских то просто вода, и можно сказать «льет воду» — о болтуне; пустой человек. Природные условия разные, а слово ведь откликается на вещь и обозначает вещное. И символ в этом слове огранивается соответственный.
Русский человек не теплый (warm man — говорят о душевном американцы), он горяч до крайности, в иную минуту до ярости, ярость же разрушительна. Это тип страстности, который осуждают люди разумные. Но русская страстность имеет и другие формы. Она способна дойти до полного отрицания видимого, вещно-телесного — в пользу великой идеи. Все отрицается в законченности нигилизма, который Николай Лосский назвал «русским хулиганством» (на что кто-то ответил: а где хулиганов нет?).
Нигилизм
Но этот нигилизм — не ничто. Ничто ничтожно, потому что оно вещно. Нигилизм страшнее, когда покушается на идею, а в этом и проявляется вся крайность: «Нигилизм — безобразное и безнравственное учение, отвергающее всё, чего нельзя ощупать» — вот точное определение Владимира Даля, которое всё объясняет. В соотношении вещь—идея наступает положение, когда одна из сторон антиномии становится недоступной восприятию — ни в чувстве, ни в представлении. «Дисгармония жизни приводит нас в отчаяние, и мы начинаем разрушать всё в порыве нигилизма; а иногда, в порыве святости, принимаем и любим всё, и верим, и всё хотим восстановить и спасти, всё преобразить» [Вышеславцев 1995: 121]. И то и другое — опять-таки крайности, несогласованные между собой. Нигилизм не намеренное движение, а случайный сбой, нарушение ритмов жизни, от которого страдает человек.
Кажется справедливой мысль, согласно которой «акт нигилизации вскрывает измерение присутствия человека в себе. Оказывается, что человек выявляет себя в связи с ничто. Мы чувствуем, что нигилизация становится спутником обретения человеком своей онтологической почвы. Процесс ничтожения сводит на нет само понимание жизни как простого существования», и человек — открывает границу мира [Сергеев 1999: 73]. В этом сила нигилизма — он оставляет надежду, поскольку мэон — не укон, за котором действительно ничего не остается. «Без нигилизма — нельзя, — полагал Розанов. — Без нигилизма и нигилистов нам все-таки не обойтись. Нигилисты принесли „волюшку“, разгул и „хочу“. Пьяное „хочу“, глупое „хочу“, дерзкое „хочу“, разбойное „хочу“, но железное „хочу“. А в этом и дело» [Розанов 2000: 164].
Но настойчивость в представлении русского человека органическим нигилистом поразительна. «Русский человек либо в черте благости и величия, либо нигилист», — говорит Семен Франк о «проявлении нигилизма, этого исконно русского умонастроения» [Франк 1996: 125, 132]. А все потому, что в вере русского человека отсутствует идея чистилища, среднего, соединяющего рай и ад, отстойника слабых душ на пути то ли в рай, то ли в ад. Потому-то и нет у нас, дескать, ничего промежуточного: ни реформации, ни либерализма, ни демократизма, ни безрелигиозного национализма. «Нигилизм — неверие в духовные начала и силы, в духовную первооснову общественной и частной жизни есть рядом и одновременно с глубокой, нетронуто-цельной религиозной верой, коренное, исконное свойство русского человека» [Франк 1996: 139; 1926: 185].
Отрицание как проявление остаточного язычества в русской душе — тоже частая тема размышлений. Например, «языческое отрицание в политике — это страстное стремление уничтожить, яростное разрушение... которое рождает особую религию отрицания. Несомненно, в русский нигилизм вложен страстный духовный поиск — «поиск абсолютного, хотя абсолют здесь равен нулю» (С. Франк), — это стремление уничтожить не природу, а культуру [Василенко 1999: 77]. Отрицание — языческое, утверждение — христианское... Но что отрицать? и что — утверждать? Отрицать сложившийся быт в пользу заемной идеи — это как раз проявление христианства, потому что язычество чтит природу и тварь, а вот идею — не всякую ценит.
Неверие в чужие духовные начала и силы... Не случайно «почвенник» Николай Страхов (эти его слова широко известны) говорил о развитии нигилизма в России «из-за великого уважения к Западу», инспирировавшему у нас «западные идеи» [Кантор 1993: 26]. Здесь, кажется, и лежит вся правда.
Нетовщина XVII в. (апокалиптические отрицания) — нигилизм XIX в. и пофигизм века XX — явления одного порядка. Это молчаливый ответ на внедрение в идеал чужеродной идеи, что и приводит в действие «выжидающий характер русского народа» («край родной долготерпенья!»): «Россия убита той духовной болезнью, которой она заразилась у Запада» [Франк 1996: 199—200]. Дело-то в том, что «настоящих нигилистов не существует, ибо обоготворяется самый нигилизм, самое ничто», писал Николай Бердяев. Обоготворяется идея — и тогда исчезает вера в самый нигилизм.
Вообще нигилизм как умонастроение переходного времени выступает формой протеста против убивающих человека проявлений жизни, в их отличии от нравственно доказанной идеи. С такой точки зрения и «русский нигилизм есть извращенная русская апокалиптичность», полагал Бердяев; если идея недостижима — всё пропало. Именно таково и было общее настроение в XVII в.
Еще глубже смысл русского нигилизма понял Василий Розанов. Русская духовность, сама по себе прекрасная, как готовый уже идеал не дает сформироваться историческому сознанию, потому что духовность устремлена к вечности; от этого и наш нигилизм: «До нас ничего важного не было... мы построяем всё сначала». Так он и возникает, этот нигилизм, прорастая гнилым корнем в душе каждого: «Сперва отречение от своего, а потом и от чужого: это и есть настоящий нигилизм... есть одно из проявлений напряженной идеальности русского ума и сердца» (слова Николая Страхова в изложении Зеньковского [1992: 174].
Современные представители русского племени прошли огонь и воду — и нигилизм, и нетовщину. Русские «пофигизм» или «наплевательство» — выразительный знак безразличия и усталости, отмеченный и жаргонным «до фени!».
Изменились условия, и древний корень заплелся в бессилии, не выдавая живительных соков. Ведь русский нигилизм в идеальном его виде есть результат апофатического типа мышления, тоже, между прочим, заемного. Сначала всё исключить из определения, т. е. разрушить вещь, с тем чтобы сразу же определение дать, построить в идее. А идею тут же услужливо предлагают, повторяя, что «ценна-то вещичка, ценна» и «пользительно дело, пользительно», а слова... что же слова, они остаются словами, их призывают забыть. Так сослепу «реалист» на время становится позитивистом (следовательно, изменяет в пользу номинализма) и, проходя положенный путь от заемной идеи к воссоздаваемой вещи, обоготворяя ее теперь уже этой посторонней ему вещью, конкретно конечной и даже мертвой, определяет понятие, по объему услуг, а не по признаку внутреннего содержания, который можно установить лишь на корне русского слова.
Как это было — не раз описано, вот только уроки не впрок.
Николай Лесков в романе «На ножах» описал маргиналов мысли, «новых демократов» семидесятых годов, которые «отменили грубый нигилизм, заявленный некогда Базаровым», и провозгласили «негилизм» — предавая истинную демократию в пользу мелкого житейского благополучия «избранных», достигнутого за счет «поганой страсти приставать к направлениям, не имея их в душе своей, и паскудить всё, к чему начнется это приставание». Негилизм — не термин, а образная игра слов. Русское отрицание не присоединено к греческому корню «гиле» (вещество, материя), а герои самого романа слово гиль употребляют слишком часто, чтобы это было случайным. Вот и получается «невещественность чепухи», той самой гили, которая вязкой массой своей загружает души, показывая суету и раздерганность партий, «что не могут подвести под свои таблицы» — схемы — живого человека.
И вот в чем корень русской «окончательности».
Крайность в проявлениях русского чувства: разрушив телесность вещи — во-образ-ить эту вещь идеальной идеей и тем самым ее вос-соз-дать.
Как выбираться из такой бездны? Глубина-широта тянет вниз, в то самое ничто и в под-л-ость. А воспарить в идее можно, только вернувшись к собственным корням. Удержаться на высоте идеи, сняв с себя тяжкую ношу «натуры».
Психологический тип
Психологи так определяют основные признаки русского архетипа [Касьянова 1994: 216]: аскетизм, репрессия импульсов (терпение), воздержание (смирение). Такой архетип конечно же вступает в противоречие с современным «прогрессивным движением» в сторону материального благополучия, т. е. вниз, прямиком к вещи и в отход от идеала. «Здание культуры духовно опустело» — так оценил движение «к вещи» Павел Флоренский.
В русском культурном архетипе, таким образом, три основных компонента: аскетизм, терпение (подавление нежелательных импульсов) и смирение (воздержание). Все они — социально ориентированные чувства; они заданы традиционной христианской культурой и воспитывают в русском человеке нормы правильного поведения. Поведения, ведущего к праведности и к поиску правды.
Самоограничение в аскезе есть следование природе. Природа не расточительна. Она избирательна. Отсюда проистекает та ненависть к вещизму, к накопительству, в конечном счете «презрение к мещанству» (Лосский), которую никакие призывы к «рыночной экономике», видимо, преодолеть не смогут в массе русских людей. Аскеза — наша главная ценность, не раз спасавшая Россию в трудные для нее времена. Мода и правила новой жизни, пришедшие из других культур, вывели эту ценность на кривую, лишив тем самым главного — свободы духа (Касьянова). Русские философы всегда непримиримы к «новому духу наживы»: «это стремление бесконечную свою потребность удовлетворить конечным, по существу, нелепо» (П. Флоренский), потому что конкретность роскоши или денег (вещь) не утолят чувство идеального (идеал идеи), телесным никогда до конца не насытят духовно.
Аскетизм сродни созерцательности [Новгородцев 1995: 407], с которой его смешивают. Но созерцательное отношение к жизни, к вещи не исключает аскетического к ним же отношения. Созерцательность оправдывает аскетизм с точки зрения высокой идеи. Созерцательность — это и раскаяние за излишества; о «раскаянии и самоограничении как категориях национальной жизни» постоянно напоминает современный моралист — Александр Солженицын [Солженицын 1981: 45—78]. Личная жертва должна быть принесена — как искупление человеком своей вины перед порушенной Природой. Потому что «склонность к созерцанию — эту потребность конкретно, пластично и живо представлять предмет, тем самым придавая ему форму и индивидуализируя его, — русский получил от своей природы и от своего пространства... Свободное созерцание русскому дано от природы. Свободная сердечная греза лежит в глубочайшей основе его искусства. Живое конкретное созерцание руководит его религиозной верой и политической волей...» [Ильин 6, 2: 405].
О русском терпении тоже многое сказано, и с восторгом, от Тютчева до Солженицына. И с брезгливостью к терпению как «склонности к пассивности и фатализму» (Анна Вежбицка) или к простой «российской притерпелости» (Евг. Евтушенко). Есть у них и предшественники. Николай Бердяев писал, что «русское непротивленчество, русская пассивность, русский пацифизм — нездоровое явление. Это добродетели не столько христианские, сколько буддийские» [Бердяев 1989: 249]. Но всё упомянутое вовсе не относится к русской терпеливости. Терпеливость не бесконечна.
Терпимость и терпеливость
Поражает также странная противоречивость оценок. Чем плоха эта крестьянская основательность, не позволяющая и чувствам раскрыться до времени, перед чужими и чуждыми, не поддаваться на многие и отовсюду провокации как делом, так и особенно словом? «Терпение и страдание — всегда мое» — это вековой принцип русского существования, поддерживающий равновесие в мире [Касьянова 1994: 116]. Естественная реакция на природу человека, в Природе живущего, понимающего, что «природа вообще не есть мертвая материя, она одушевлена», и прав поэтому Лейбниц: «Нет ничего мертвого и механического; всё организовано, всё одушевлено, всё есть духовная гармония» [Вышеславцев 1995: 120—121]. Грамматическая категория одушевленности в языке точно передает отношение русского человека к природе. Даже спокойное отношение к смерти отражает «до-человеческие природные корни этого равнодушия» [Федотов 1981: 89]. Сильно сказано. Вряд ли это такое уж полное равнодушие, вряд ли «влечение к небытию, к смерти, к погибели в готовности умирать» (а не рожать, как, согласно еврейской ментальности, полагает Георгий Гачев). Дело в другом, в слиянности с природой, а не отвержение ее. Можно сказать «вижу мертвеца», одушевляя мертвое тело, потому что это тело человека, но «вижу труп» — формула вне категории одушевленности (не «вижу трупа»), потому что труп по исконному смыслу слова — это поваленное в лесу дерево, и перенесение слова для обозначения поверженных в бою воинов (впервые в XV в.) так и не привело к осознанию родства «трупа» с «мертвецом». До сих пор говорят о «телах погибших», когда хотят выразить соболезнование и сожаление по поводу гибели людей.
И кто знает, где бы была сегодня цивилизация, если бы своим широким плечом и тяжким своим опытом русская культура не заслоняла мир от всевозможных неприятностей. Терпение то же воздержание, что и аскеза, но не в телесно-вещном, а в духовном смысле. Это воздержание от реализации инстинктивного влечения, если оно не соответствует признанным нормам [Касьянова 1994: 109]: на Западе выбрали изменение и приспособление окружающей среды к себе, у нас предпочли сохранение окружающей среды или приспособление себя к ней. Сегодня, порушив свою среду, с вожделением всматриваются в сохраненные посредством русского чувства Природу и Мир на русских просторах.
Корнем многих духовных качеств является не только вера (как верность или доверчивость), но и душевное чувство — терпение.
Например, терпение рождает терпимость (толерантность) — тоже в высшей степени русское чувство. В представлении Новгородцева такая снисходительность к людям и слабостям их есть «радость о Господе» — прощение по делам, данное в слове. По проявлениям терпимости к людям, считает Касьянова, русский стоит выше американца. Нетерпение сразу же всё сделать — нерусская, не крестьянская черта; это желание немедленно получить проценты на капитал [Сагатовский 1994: 84].
Но всякое терпение имеет свои пределы. Мнение, т. е. слово других, будет выслушано и по достоинству оценено русским человеком, только если оно высказано в кругу людей близких («первичная группа» в понимании психологов), потому что лишь здесь слово поддержано чувством и душою: возможны сочувствие и общая со-весть. Никакая внешняя сила не вправе судить о достоинствах и недостатках такой группы. «Плох мой отец — так я сам скажу. А ты — не моги!» Пушкин сказал о том же жестче: «Мы в отношениях с иностранцами не имеем ни гордости ни стыда... Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног, но мне досадно, если иностранец разделяет со мной это чувство».
Именно в этом пункте рождается нетерпимость и безапелляционность суждений по принципу «сам таков». Уже на полях рукописи XIV в. русский писец, не вынеся глума, пишет о ком-то: сам ecu таков. Невозможно со стороны наставить и обличить; как ни старайся, всё будет впусте: «А судьи кто?» — об этом и сказано. Только собственным чувством можно направить себя самого, исправляя дело посредством слова.
Терпение, дав терпимость, рождает терпеливость. А терпеливость и есть смирение — сознание ничтожества человеческих сил, телесного мира, гордыни и самомнения (об этом тоже хорошо сказано у Новгородцева [1995: 407]).
Реакция смирения, — говорит психолог, — в том заключается, что судейский комплекс обращен на себя самого, внутрь человека [Касьянова 1994: 244], и словом он правит поисшатавшуюся от времени идею. Механизм смирения — чувство вины, «доверчивое смирение с судьбой» (Солженицын) и есть дорога к свободе души (опять сошлюсь на психолога: [Касьянова 1994: 207—210]).
Культуролог предпочитает говорить не о терпимости, а о ее оппозите — нетерпимости [Ахиезер 1998: 296], полагая (скорее всего ошибочно), что нетерпимость «проистекает из страха традиционной культуры перед факторами, могущими подорвать те или иные аспекты, саму основу сложившегося образа жизни, формы социальной организации. Стремление обеспечить прогресс требует постоянного уровня снижения нетерпимости, способности вступать в диалог, совместно формулировать и решать общие задачи с людьми иных культур, постоянно преодолевать монологический характер мышления, смыслообразования». Типичный комплекс нетерпимости автор видит в манихейском мышлении, а это не только Хомейни, на которого он ссылается, но и (в скрытом виде предполагается в сочинениях такого рода) православная ментальность. Вряд ли это справедливо в свете оценок, приведенных выше, и в свете фактов: русские терпят, а Израиль или США никак не желают «решать задачи с людьми других культур», преодолевая свою страсть к риторическим монологам.
Обычная для номиналистов подмена терминов: русское своеволие выдать за нетерпимость. Надо бы почаще вдумываться в интуиции современных мыслителей, выражающих различие между ними. Например, такую: русское своеволие («не как у всех») состоит в убеждении, что одного выбора недостаточно, должен быть еще «выбор выбора», чтобы защитить сам выбор. «Поэтому, чтобы было настоящее смирение, необходимо своеволие. Своеволие мешает выбору застыть...» [Горичева 1996: 246].
Так что и смирение смирению рознь. Всё удвоено, но не раздвоено.
Чувство справедливости
Чувство справедливости присуще всем народам: все хотят жить по справедливости. Но «идея справедливости — Божьей Правды на грешной земле — пронизывает нашу историю» особливо, — замечает Иван Солоневич. Справедливость выше даже свободы, говорит один. Нет, отвечают другие, только не для русских, у русских доминирует идея любви, а не справедливости, совести, а не справедливости; русский народный идеал — личная святость, а не общественная справедливость.
А разве действие совести, святости или любви — не справедливое действие?
Философ верно утверждает, что справедливость — это духовный феномен человека, полностью субъективный, почему он и приводит часто к зависти, обидам или мести, поскольку в основе «распределительного комплекса» справедливости «формальная справедливость не примиряет, а разделяет» — именно в ненависти, зависти и прочем. «Справедливость в российском менталитете — это форма нравственного признания», которой, как известно, многие достойны, но получают не все [Марков 1999: 285]. Русские справедливость понимают «не как уравнительность, а как необходимость адекватного воздаяния за каждое действие человека» [Тихонова 1996: 53]; несправедливое воздаяние другому воспринимается как оскорбление идеи справедливости, отсюда пресловутая «российская зависть и ненависть к новорусским» и прочим неправедникам. Вряд ли это зависть и ненависть. Оскорбленное чувство справедливости следует называть иначе. Н. Тихонова в своей статье перечисляет все те несправедливости, которые претерпел российский народ в последние годы, объясняя психоэмоциональный стресс, в основе которого чувства страха и стыда (в том числе и за разрушение державности).
Понимание справедливости как слепой страсти следовать установкам своей партии — «всё еще на три четверти оставалось языческим» [Хейзинга 1988: 24] и в религиозном смысле восходит к текстам Ветхого Завета.
У русских же с-прав-ед-лив лишь тот, кто прав в праведности, в npaв-де исполнив свой долг, потому что даже «христианство явило не идею справедливости, а идею правды» [Бердяев 1951: 85].
При этом возможны оттенки осуществления справедливости, как это и должно быть представлено у реалиста с его градуальным движением от жизни к идеалу. «Из трех основных „заповедей справедливости“ наиболее сродна мужскому духу и наиболее чужда женскому... первая, т. е. neminem laede („не нарушай ничьего права, никому не вреди“). Женщина легче мужчины относится к нарушению и чужого, и своего права. Вторая — suum cuique tridue („всякому воздавай должное“) в равной степени, хотя и в различной форме (для женщины главное в воздаянии — качество, для мужчины — количество); третья же — ітто omnes quantum potes juva („помогай всякому, сколько можешь“) едва ли не составляет искреннюю заповедь одной женской совести, мужскою же (еп masse) едва ли не допускается лишь в качестве уступки разума чувству» [Астафьев 2000: 303].
Необходимо постоянно помнить о наличии оттенков в проявлении каждого нравственного чувства в известной, социально ограниченной среде.
Например, право и долг вовсе не чувства, это категории морали и права, они соотносятся с волей. Но единство права и долга воспринимается чувством скорее, чем разумом. Справедливость же не отвлеченность, но чувство. Именно и естественно чувство ответа на социальный порядок вне человека. Каждое право обеспечивает возможность исполнения данного долга; их невозможно разъединить, расторгнуть и предпочтительным выбором назначения одному передать все права, а другому только обязанности («долг»). Все революции в России происходят после подобного «черного передела». По мнению евразийцев, может быть справедливому, всякая революция есть просто замена «правящего слоя» — и не более того. Но и не менее. При этом даже высшая ценность — свобода — оказывается под сомнением как ценность справедливая, потому что «свобода не право, а долг» [Бердяев 1952: 138]; долг, обеспечивающий все права. Лукавство современной терминологии привело к замене двуединой формулы право = долг церковнославянизмом обязанност(и) (калька с чужих языков), отчего и возник семантический перекос в соотношении между правами и — обязательным долгом исполнить свои права. Сегодня разорванность этих связей мы ощущаем в полной мере.
«Даже само слово право было у нас неизвестно в западном его смысле, но означало только справедливость, правду» [Ключевский 1911: 115]. Вообще русские полагают власть как право, «понимая под правом справедливость» [Меньшиков 2000: 36]. И, наконец: «Ошибаются... в самом определении понятия справедливости как только уравнивающей, отрицающей в области права всякие различия лиц и отношений; во-вторых, вводят в заблуждение, выставляя вопрос о правоспособности как вопрос справедливости, а не целесообразности, каков он в действительности есть и в качестве какого он и должен быть решаем» [Астафьев 2000: 231]. Таково в кратком изложении русское понимание справедливости как идеи, согласно которой (по ироническому определению Максимилиана Волошина):
Я напишу: «Завет мой — справедливость!»
И враг прочтет: «Пощады больше нет!»
Но справедливость даже и не закон, а по древней традиции, известной и грекам (калокагатия), это синтез красоты и добра, оборотная сторона совести.
Личная совесть в отношении ко всем оборачивается справедливостью от всех — к личности. Нерасчлененность субъект-объектных отношений в русской речемысли и в этом случае в подсознании как-то преломляется. Мы часто смешиваем справедливость и совесть, потому личному предпочитаем общественное, оно на первом плане сознания: то, что обычно называют «суется не в свое дело». Но справедливость — чувство взаимное: «всякий пред всеми, за всех и за всё виноват» — в словах Достоевского проглядывает национальный «комплекс вины».
О том же говорит и Александр Солженицын: «Справедливость есть достояние протяженного в веках человечества и не прерывается никогда — даже когда на отдельных "суженных" участках затмевается для большинства». Напоминая слова св. Августина: «Что есть государство без справедливости? Банда разбойников», — писатель утверждает, что «это понятие человечеству врождено, ибо нельзя найти другого источника. Справедливость существует, если существуют хотя бы немногие, чувствующие ее... Она совсем не релятивна (подчеркнуто. — В. К.), как и совесть. Она, собственно, и есть совесть, но не личная, а всего человечества сразу. Тот, кто ясно слышит голос собственной совести, тот обычно слышит и ее голос» [Солженицын 1983: 9]. Сам Солженицын заменяет старинную «формулу справедливости» жить по правде (т. е. жить по совести) современным ее вариантом жить не по лжи, и это интересная замена. Положительное утверждается путем отрицания противоположности. Типично русское оформление мысли, и притом, как мы еще увидим, в современном представлении о маркированности именно зла, лжи, а не их противоположности. Точно так же маркированы у Солженицына и два типа людей в их отношении к идее справедливости: порядочные и непорядочные, праведники и неправедники; последние наделяются признаками, и это отрицательные признаки: жадность к наживе и страх перед страданием и смертью. Типичная привативная оппозиция, свойственная современной форме мышления.
В поисках справедливости заключается и смысл так называемого «судейского комплекса» [Касьянова 1994: 221] — правдоискательство как стремление установить абсолютную истину; позиция, которая ставит человека над другими, и притом в намеренном его отвлечении от себя самого. «От этого наши непримиримость и бескомпромиссность с нечувствительностью к давлению извне — упрямство», — полагает наш эксперт-психолог. Упрямство доходит до высших пределов, иногда оборачиваясь прямой «некультурностью» почти языческого быта. Но такая «подпочва хорошей русской некультурности» весьма продуктивна, полагал Михаил Пришвин, потому что русский человек и есть «христианин, но только хочет подойти к Христу сам и не дает себя подвести». Это — действие, явленное как противодействие. Только пропустив через сердце свое и чего-то натворив, он может принять новую вещь или свежую идею. И идея и вещь должны сомкнуться в сердце его, стать его делом. А пока говорят: «Не твое дело...» — чего же от человека и ждать?
Возможны разные повороты души. Либо чрезмерное чувство долга — «доминирование долга», — что иссушает душу и вводит ее в озлобление против всех и вся, либо явное преувеличение собственных прав — и тогда совсем плохо, потому что нарушается равновесие справедливости. Крайности вдвойне опасны. Часто тяга к справедливости незаметно приводит к жертвам и созданию противоречий — и это тоже типично русская черта характера, полагает Иван Солоневич. Неплохо было бы прислушаться: «Сквозь все достоинства и недостатки русского народа сплошной, непрерывною красной нитью проходит тяга к справедливости. Не к какой-то абстрактной, потусторонней справедливости, а к простой, земной, человеческой, государственной справедливости. Как и все свойства, так и эта тяга в какие-то отдельные моменты народной жизни дает явно невыгодные результаты. Вызывает жертвы, с точки зрения данного момента ненужные. Создает коллизии между чувством справедливости и требованиями целесообразности. Налагает на государство бремена неудобоносимые и требует морального оправдания часто внеморальной государственной необходимости. Стесняет всякое политическое маневрирование и не один раз втягивала Россию в войны, для которых очень трудно подыскать соответствующие экономические оправдания.
Эта тяга к справедливости в житейской практике не всегда удобна. Пытаться исправлять ее — дело совершенно безнадежное. Может быть, не стоит и оправдывать ее. Эта типично русская черта характера проходит сквозь всю историю России, окрашивает собою все проявления русского национального инстинкта и создает у иностранцев, а также у тех русских, которым думать нечем, представление о какой-то врожденной мягкотелости русского народа...
Само собою разумеется, что чувство справедливости врождено всякому народу, всему человечеству, но у нас оно — обостренное. Наше обостренное чувство справедливости сыграло и здесь свою роль: по поводу всякого нашего безобразия мы начинаем орать первыми. До чужих безобразий нам-де не было никакого дела» [Солоневич 1997: 64—65].
Американец тоже носится с идеей справедливости, но понимает ее по- иному. Для него справедливость не «правда-матушка», а просто право, которое должно быть ему обеспечено согласно закону. Это не проблема личной ответственности в духовной атмосфере справедливости согласно совести, а характер долга, данного в воле. Когда и где на святой Руси русский человек обладал таким правом? Вот и ищет он тропки, ведущей к личной его правде...
Тем более, что полной — идеально абстрактной — справедливости нет, и русская сказка, нравственная сила которой как раз в утверждении высшей степени справедливости, не признаёт равенства, отрицает братство (по суждению Андрея Синявского), да и свободу всегда отдаст за самую малую волю. Не в том ведь и справедливость, не в равенстве и не в братстве, хотя и они в цене.
Но поскольку справедливость — это чувство, даже аффект, то и действует она как аффект. Когда Илья Муромец разнес весь Киев за то, что Владимир-князь не пригласил его на пир (что было бы — пригласить его после победы — справедливо), то «ясно виден весь русский характер: несправедливость была, но реакция на нее совершенно неожиданна, несообразна и стихийна» [Вышеславцев 1995: 116]. Конечно, в каждом отдельном случае сумму справедливости не установишь, нечего и пытаться, но подобное нарушение справедливости в мелком даже и порождает неприятие мира в целом, мира, в котором такая несправедливость существует. Ведь виновато целое, вещь, а не ее предикаты и признаки и тем более — не идея справедливости. Отсюда и пресловутый «русский нигилизм» — тоже крайность в неприятии обманного мира. Нельзя обманывать — словом. Можно творить несправедливость — делом, можно сокрушить и мыслью, но обманывать словом — нельзя. Если нас обмануть, замечает психолог-эксперт, мы, верно, не станем рыдать и жаловаться, но не забудем этого, и уж веры такому обманщику больше нет. Никогда.
Трехмерность справедливости
Справедливость, как и всё в этом мире, трехмерна. Нагорная проповедь указала путь, которым — в полном смирении — человек в своих действиях восходит в степенях справедливости, сам постоянно творя справедливость [Касьянова 1994: 207—210].
Нищие духом — первая тропка. Человек признает свое рабство у природы и мира, бросает все ценности этого мира и признанием истинной своей нищеты делает возможным движение вверх, хотя еще только и на телесном уровне, вещно.
Но душа растет в сопротивлении миру, человек постигает смысл жизни — понимает ее, становясь личностью. Теперь он может соучаствовать в творении справедливости, потому что сам по себе свободен, но не перед Богом, у которого он еще как бы наемник, получая заработанное свое.
Высшая сфера принципа справедливости — всё свое отдаю и ничего не требую. Он избран, а избранный не пользуется плодами справедливости, он творит справедливость, он свободен теперь и внутренне, он Творец. «Справедливость — доблесть избранных натур, правдивость — долг каждого порядочного человека» — учил Василий Ключевский. Как просто, и как легко выполнимо.
Таковы грани по справедливости праведного возрастания личности:
- нищий: раб (у господина) — человек телесный;
- наемник: слуга (по степеням) — личность в душе;
- праведник: свободный (абсолютно) — творец по духу.
Перед нами — восхождение души «от чувства», через непосредственное ощущение — утраты мира, прощания с ним; восхождение не к личности, как, по-видимому, полагает Ксения Касьянова, а к лику — к предельному идеалу. Именно такое восхождение по «лествице чувств», постепенно отчуждаемых от мирского человека, описывают средневековые монашеские руководства типа «Лествицы» Иоанна Синайского или «Пандект» Никона Черногорца, переведенных на Руси в XII в. Восхождение души по степеням славы, ее освобождение от мирского не может быть простой утратой, а только потерей внешнего. Одновременно это приобретение праведным — справедливости.
Важная ступень в движении — вторая, средняя. Она разрушает исходное распределение «раб — господин», столь трагическое в русской истории. Нравственно-психологический его недостаток определяется именно таким — эквиполентным — противопоставлением, что и порождает «устойчивые, глубоко вкорененные в психологию народных масс навыки рабского мироотношения: отсутствие комплекса гражданских чувств и идей, унизительная покорность, неуважение к личности и, наконец, склонность превращаться в деспота, если игра случая вознесла раба выше привычной для него ступени» [Андреев 1991: 163]. Последнее воспроизводится постоянно, именно потому, что соотношение «раб — господин» воспринимается как равноценное по оппозитам, т. е. эквиполентное; достаточно какой-то случайности перевернуть отношение — и вот уже ты господин, а кто-то твой раб («я начальник, ты дурак...»). Человек телесный преобладает в типе.
Но русская мысль пытается переломить такой тип. Только безоглядному оптимисту Бердяеву казалось, будто «русский человек душевен — задача в том, чтобы стать духовным»; другие видели его тяготение к вещизму телесности, старались предостеречь. В XIX в. тот же путь духовного обновления Владимир Соловьев и Петр Новгородцев описывали как переживание любви в постоянном истончении чувств — вплоть до исчезающего из сознания мира — до экстаза [Новгородцев 1995: 407—423], вот таким следованием:
1) любовь есть чудо, которое создается воспитанием чувства добра, страданием и молитвой — все вместе ведет к соборности, к цельности. Всеединству со взаимной ответственностью;
2) любовь есть спасение и подвиг веры, молитвы, любви;
3) Дух свят ведет — отсюда известная пассивность, созерцательность православного сознания, для которых ни свобода вне, ни авторитет сверху уже не нужны.
Современный — светский — человек не может до конца согласиться с такого рода восхождением по «лествице чувств», хотя иногда мистические дали и зовут, особенно интеллигенцию, в это запределье. Путь от отчаяния до экстаза. У нашего современника попросту нет времени для сложных упражнений и медитаций, вызывающих подобные переживания. Более того, он не может так сразу отказаться и от разума, поэтому в своем восхождении он проходит рационально измеренный путь «от разума» до идеи, чтобы соответствовать хотя бы тем чертам физического лица, которые требуются от него обществом. И вот если восхождение «от чувства» и «от разума» соединяются в деле, в действии, становятся со-бытием, тогда да, тогда рождается личность, тогда только и можно оценить человека «по делом его». Но это уже завершение пути, и связано оно с явлением воли в праве (о чем речь впереди).
Обобщим словами русских философов.
Парадокс справедливости все-таки в несправедливости, говорил Иван Ильин, «ибо сущность справедливости состоит именно в неодинаковом обхождении с неодинаковыми людьми», требует предметно обоснованного неравенства в отношении к ребенку, уставшему, безвольному, герою и т. д. К тому же «безумно искать справедливость, исходя из ненависти; ибо ненависть завистлива, она ведет не к справедливости, а к всеобщему уравнению. Безумно искать справедливости в революции; ибо революция дышит ненавистью и местью, она слепа, она разрушительна, она враг справедливого неравенства». Но все-таки в основе справедливости лежит «живая совесть и живая любовь к человеку».
Национальное чувство
«Едва ли найдется какое-либо другое человеческое чувство, — писал Евгений Трубецкой между русскими революциями, — которое бы в наши дни подвергалось более глубоким изменениям, чем чувство национальное. После целого ряда огненных испытаний, через которые оно прошло, мы переживаем его совершенно иначе, чем прежде. Оно не уменьшилось в силе и глубине, во внутреннем существе своем оно осталось целым; но вместе с тем оно изменилось в чем-то основном и чрезвычайно важном. И оттого-то все старые формы, в которых оно прежде выражалось, кажутся нам глубоко неудовлетворительными. Поблекли старые национальные мелодии, и мы находимся в ожидании новых, которые должны явиться им на смену» [Трубецкой Е. 1990: 208].
Заждались мы новых мелодий, заждались — а старые позабыли. Сам Е. Н. Трубецкой полагал, что развитию национального чувства русским мешает застящая свет мессианская «русская идея», фиктивная цель на мировых распутьях, «фантастическая греза ,,народа-богоносца“», «в роковом смешении русского, православного и вселенского» [Там же: 217], что и ведет к прямому развитию «вещного» национализма вместо высокого национального чувства.
Возможны и другие толкования невыработанности русского национального чувства, например — заполоненность «русскости» государственной идеей; государственная идея перекрывает идею национальную. «Как бы ни разбегался русский народ, но его порыв к самостоятельности империя оборачивала в свою пользу... Трагедия русского народа заключается в его денационализации настолько глубокой, что это трудно себе представить. Она — денационализация — коренится в самом этническом самосознании. Практически все символы "русской культуры" оказываются символами и ценностями имперскими.
Русская философия, русская литература — при всей своей высокой духовности — имперские по своему менталитету. Сама эта духовность есть продукт сознания человека, раздавленного имперским монстром или противостоящего ему» [Тульчинский 1996: 272]. Действительно, хотя «русский народ почти неуловим при статистическом методе изучения», всё же «русский — живое воплощение русской культуры» [Ульянов 1994: 351, 347]. Национальное чувство русского кружит вокруг идеи культуры — такова самая распространенная ныне, но тоже односторонняя точка зрения.
Самый широкий круг — национальный — к этике отношения не имеет [Овсянико-Куликовский 1922: 52], а это важно, ведь русская ментальность, понятая как духовность, в глубине своей этична. Национальное в ней не маркировано и потому не всегда находится в светлом поле внимания. В этом можно найти объяснение того, что в наш век агрессивных национализмов русского национализма как течения политического нет вовсе («великорусский шовинизм» тоже рекламный лейбл).
И мессианизм, и государственность, и культура действительно являются идеальными причинами слабости русского национального чувства. Но чувство слабеет, не поддержанное волей и разумом. На это обращает внимание, по-своему жестко, с холодной яростью оболганного, Иван Солоневич [1997: 50—51]: все беды наши в недостаточности «нашего национального самосознания, национального самолюбия, гордости и прочего в этом роде», на все оскорбления по этому поводу «мы сможем вполне спокойно наплевать», потому что только западноевропеец понимает это как недостаток, а «мы никому не тычем в нос своего расового превосходства. Мы никогда и никого не эксплуатировали», поскольку Российская империя всегда была «не неким племенным единством, а единством чисто духовным». Конечно, немного национализма и нам не повредит, «но общий дух России — дух великой дружественности, терпимости и любви — его трогать нельзя. Ибо именно он определяет весь характер, стиль, историю и религию России».
Действительно, «народное чувство, конечно, не имеет нужды ни в каком логическом оправдании; оно, как всякое естественное человеческое чувство, само себя оправдывает и потому всегда сочувственно» [Данилевский 1991: 66]. «И всякого рода националистические идеи могут иметь успех в русском народе лишь в той мере, в какой они помогают отдельным русским людям и их группам добиваться успеха в их жизненной борьбе. В частности, антисемитизм... а отнюдь не пробуждение некоего идеалистического национального начала» [Зиновьев 1981: 43]. Каждый раз — как ответ на вызов, всегда — как средство группового объединения для сопротивления вызову.
Блуждая по закоулкам памяти, мы вернулись туда же: русское национальное чувство есть чувство неотмирное, одновременно и государственное, и культурное, и мессианское. И слабость его — в органической цельности, сцементированной исторически. Отняв все это, отторгнув сразу, вынув душу, русский народ лишили его национального чувства.
Кроме идеи и вещи, мы знаем, есть еще слово, их связующее. Идеи мессианизма и история государственности — это так мало для становления национального самосознания. Корень бед и в том еще состоит, что нет осмысляющей национальное чувство философии. Религиозная русская философия озабочена всемирной ролью христианства, ей не до русских христиан, а уж на крестьян она и не глядит вовсе.
Но тут возникают опасности, от возможности которых предостерегали нас умные люди.
Левая опасность, эта «опасность велика: национализм этот уже не раз кружил русские головы обманчивой личиной правды, и дело всегда кончалось бесовским танцем» [Трубецкой 1990: 214]. Бесовским танцем над русским самосознанием.
Правая опасность страшнее: «Нам грозит утрата национального самосознания», — писал Петр Бицилли [1996: 48], как уже и случилось с некоторыми славянскими народами, поверившими в сказки серого волка об общечеловеческих ценностях.
По-видимому, только метафизически можно оправдать различие между народным самосознанием (всегда существовавшим национальным чувством) и национализмом, но в практике жизни такое определение давно известно: «Мы различаем народность от национализма по плодам их», — записал Михаил Пришвин в жестокие годы революций. И это — верно, «ибо всякий национализм, если понимать под этим словом предпочтение своей нации всем остальным и преследование ее интересов за счет остальных наций, есть не что иное, как провинциализм, возведенный в принцип и исповедуемый как мировоззрение» [Андреев 1991: 163]; Даниил Андреев добавил к этому, что «каждый сверхнарод обладает своим мифом», так почему бы и русскому народу не жить в своем собственном мифе? Скажем, в своем патриотизме, столь нагло осмеянном современными публицистами. «Необходима духовность таинственно-целесообразная и страстно-мудрая: это и будет истинный патриотизм»; «Родина есть духовная реальность», которую можно найти только в ощущении личной духовностью, и «настоящий патриот не способен ненавидеть и презирать другие народы, потому что он видит их духовную силу и их духовные достижения. Он любит и чтит в них духовность их национальной культуры» [Ильин 1: 180, 212]. Русское национальное чувство не отменяет и не покушается на другие национальные чувства, потому что кроме конкретного тела национальности чтит и идею национального чувства.
Слово найдено, удачное иностранное слово патриот, по смыслу самое общее, и даже не слово — символ, но какое понятное.
А кому не понятно — тот не чует русского национального чувства.
Русская идея
Русская идея стала всеобщей страшилкой для слабонервного европейца. Пугало, которым легко стращать разрезвившегося обывателя, благо еще с XVI в. в Европе переписывают басни о русских, сочиненные послом австрийского «цесаря» Герберштейном.
Термин русская идея приписывают Владимиру Соловьеву — это христианская идея вселенской связи людей в теократии. М. В. Ильин верно уточняет происхождение термина как «болезненность заимствования» — звучит не по-русски, напоминает некоторые немецкие выражения, некая гегельянская «вечно движущаяся из самой себя идея» [Ильин 1997: 363 и след.]. Для Достоевского это синтез идеи и ума — народное начало: «Характер нашей будущей деятельности должен быть в высшей степени общечеловеческий», так что «русская идея, может быть, будет синтезом всех тех идей, которые с таким упорством, с таким мужеством развивает Европа в отдельных своих национальностях» и, «может быть, всё враждебное в этих идеях найдет свое примирение и дальнейшее развитие в русской народности». Ничего враждебного другим народом такая русская идея не несет; обычная претензия развивающегося с некоторым запозданием народа на синтез тех достижений, которые уже сформулированы народами, клонящимися к упадку. Никто не станет отрицать, что в течение последнего столетия народы мира учились на ошибках тех цивилизационных прорывов в будущее, которые осуществляла как раз Россия.
М. В. Ильин не без оснований называет эту идею сверхпонятием, в котором сошлось множество традиционных для России представлений о свете, святости, славности славянского мира (света), и подтверждает это мнение ссылкой на выводы В. Н. Топорова, согласно которым русская идея есть нравственный императив русской жизни, ответ на цивилизационный вызов, основными установками которого являются единство в пространстве — в сфере власти (это самодержавие), единство во времени — в народном духе (это народность) и святость — высший нравственный идеал поведения, понятый как жертвенность и всечеловечность (это православие) [Топоров 1995: 264]. «Сверхпонятие» в его проявлении есть, конечно, символ, и как таковой он многозначен, семантически синкретичен и требует истолкования, поскольку не доступен одномерному определению. Русская идея есть «вера в свое цивилизационное предназначение», которая была сформулирована еще в момент зарождения нации (связывают с текстом «Слова о Законе и Благодати» Илариона, середина XI в.) и постоянно развивается в соответствии с условиями жизни. Единственно, что не изменяется в осознании русской идеи, — ее духовная доминанта, которая, скорее всего, и пугает западного обывателя, давно забывшего, что это такое. Постоянные смешки по поводу претензий «русской идеи» связаны с пиаровскими нападками другой нации, претендующей на ту же роль в истории, но духовность подменяющей агрессивностью.
Видимо, русская идея и сама виновата в отрицательном к себе отношении. Нигде точно не сформулированная (а западное ratio требует точной формулировки), носимая в сердце и передаваемая по духовному наследству, русская идея, как и русская мысль вообще, бесформенна. Да и можно ли оформить символ, не разрушив его? Вот и формулируют русскую идею все, кому хочется добиться своих целей. О русской идее заговорили люди со стороны, и как-то сразу враждебно, потому что при взгляде извне ее смысл неведом: существует «она внутри как часовой механизм национального духа» (Семен Франк). Справедливо сказано: «Не будь Европы, не было бы и русской идеи», — она всё та же европейская идея, но в русском ее прочтении («идея единого человечества»); отказ от нее — отказ от собственной идентичности. Такая структурирующая сознание идея — «это наличие у каждой нации системы ценностей, имеющих для нее более универсальный смысл, чем ее национальные интересы» [Межуев 1997: 5]. Различие от Запада как раз и состоит в том, что для русской ментальности идеальное важнее интереса, идеи ценней прибыли. Еще и по этой причине возрастает беспокойство сытого буржуа в его комплексе духовной неполноценности. «Репрессивность и алчность, необязательность и безответственность» современного «нового русского» [Марков 1999: 292] тоже исключают следование русской идее.
А смысл русской идеи прост, как проста правда. Пусть всем хорошо будет! — как просто... Но и опасно. Ratio знает твердо, что всем — нет! всем хорошо никогда не будет. Многим нужно трудиться в поте лица своего, чтобы кому-то «хорошо стало». И вот эта опасная мысль точит души публицистов, политиков и иных мудрецов, которые ищут ей замену и, конечно, находят.
Никакого национального эгоизма не должно быть — вот что порицал, например, русский немец Густав Шпет: чтобы всем хорошо, и непременно всем. Русский поляк Николай Лосский говорил о русском супранационализме — это мессианизм, исключающий как националистическую, так и космополитическую идею. Как бы умственное снятие с идеи соборности более широкой идеи всеобщей соборности. И притом в полном соответствии с национальной формой идеализма (реализм) в метонимическом расширении: не должно быть крайностей ни природно-чувственного национализма, ни идеально-умственного космополитизма. «Русский ищет нечто главное, нечто самое важное, законченное, что он понял и признал, на чем он хочет "строить", чтобы полностью исчерпать себя, отдав весь свой темперамент, свою любовь, радость самопожертвования» [Ильин 6, 2: 442].
Национальная идея есть форма идеи общечеловеческой. Общечеловеческие задачи решаются в национальных формах, род через свои виды. «Общечеловеческое» само по себе есть универсалия самого отвлеченного свойства, которое получает явленность в национальном; поэтому, устранив свою национальную форму, мы неизбежно получаем другую — уже чужую. Частые обвинения русской ментальности в ее бесформенности («отсутствие форм») есть попытка устранить именно природную русскую форму в том ее виде, как она сложилась в течение столетий. Шеи, вывернутые на запад солнца, ищут там всякие «формы», тем самым выворачивая формы собственные. Так и отказ от «мессианской гордыни» необходим для развития реальной русской идеи: «Это есть идея воспитания в русском народе национально духовного характера» [Ильин 7: 458], восхождение от душевного к духовному — в характере.
Александр Солженицын много лет пытался уверить западного интеллектуала, что «русская идея» в вымученном на Западе (с помощью эмигрантов «третьей волны») виде — «сочиненный вздор: за несколько веков никакие духовно-влиятельные, или правительственные, или интеллигентские слои в России не страдали мессианской болезнью», в которой упрекают русских гг. Пайпсы и Яновы; при этом «Янов приписывает русскому национальному сознанию... одновременно и мессианизм (бредовая выдумка), и тут же — отрицающий его изоляционизм...» [Солженицын 1981: 323, 318]. Недобросовестные информаторы Запада «вопят о самой большой угрозе для всего мира: русского национального сознания... Пугают фантомом. "Русским национализмом" клеймят сейчас простое чувство любви к своей родине, естественный патриотизм» [Солженицын 1981: 320, 323]. Сам писатель мысль о подлинном величии народа выразил весьма точно: оно состоит в высоте внутреннего развития и в душевной широте («к счастью, прирожденной нам») — «в безоружной нравственной твердости» [Там же: 58].
Постоянная клевета на русский народ в этом именно отношении, в искажении провиденциальной силы русской народности, действительно, есть самая поразительная в наше время несправедливость. Она глухо отзывается в оскорбленном русском сердце, порождая, вместе с недоумением, и некую грозную ответную силу. Не так ли и задумано? И когда Владимир Соловьев формулирует ее так: русский народ как орудие построения утопической вселенской теократии по образцу иудейской и католической — «Третий Рим», — ясно, что это идея имперская, русский народ в ней — жертва, материал для мировых революций, и потому — это не русская идея.
Правда, некоторые особенности русской ментальности, «новым православием» после XV в. синтезированные в духе евангельского христианства (не агрессивно-ветхозаветного), как бы изнутри поддерживали эту идею смирения перед невзгодами и жертвенности «за други своя» — без точного определения «друзей» (откуда и постоянные ошибки в их выборе).
Русский идеал
Однако Солженицын прав, сегодня отовсюду слышишь: русская идея — программа экспансии, имперская, это «невроз уникальности», «неудержимая потребность огорченной души»... По собственной подлости трудно поверить в душевную щедрость других. Между тем еще Соловьев говорил, что Россия желает быть не самой могущественной страною в мире (как Германия), не самой богатой (как Англия) и не самой красивой и видной (как Франция): «идеал национального тщеславия» русского народа — оставаться Русью святой [Соловьев, V: 49—50].
Русская идея — братство свободных народов, ответственных перед будущим за свои деяния, потому что «мы знаем: когда падает кто из нас, он падает один; но никто один не спасается» (Хомяков).
Исторический опыт подсказывает России выход, к которому она и зовет всех. Многонациональное государство между Востоком и Западом, треть отмерянного ему срока проведшее в битвах, насилиях Ига и революциях, — что должны говорить его идеологи в момент пробуждения национального самосознания?
«Национальная идея русская, — отвечает Достоевский, — есть в конце концов лишь всемирное общечеловеческое объединение» — это тип «всемирного боления за всех». И Владимир Соловьев с чувством повторяет слова: «Истинно русский человек... полон благоволения ко всему человеческому — к добру, красоте и правде в каждом смертном. Для него нет имен, нет званий, а есть только другая человеческая личность, ищущая правды и добра, заключающая в себе искру Божию, которую следует найти, пробудить, истолковать» [Соловьев V: 380].
Эта черта начисто исключает возможность шовинизма.
Однако опыт XX в. показал, что мир не готов к подобному единению. Народы и государства эгоистичны. Идеационное, говорил Питирим Сорокин, в нем подавлено чувственным, тело сокрушает душу. И потому направленность русской идеи меняет свой вектор. Идея-идеал становится прагматичной идеей (она «поблекла»), хотя все еще не ограничилась формой, данной ей Ломоносовым («размножение и сохранение русского народа»). Став собственно «русской идеей», теперь она такова же, как все вообще идеи западных народов: «После того, как одни называли нас унтерменшами и зумпфменшами, низшей расой, годной только для удобрения высшей культуры, а другие взращивали свои победы на полях, удобренных нашей кровью, — нам очень бы не плохо идею служения человечеству заменить — повторяю, хотя бы на время — идеей служения самим себе. Истинно христианскую формулировку: "Кто хочет быть первым — будь всем слугою" нам нужно попробовать прочесть с конца: "Кто хочет быть всем слугою — будь первым". Мы должны сказать самим себе — скромно, но твердо, — что мы, русские, есть моральная аристократия мира, идущая на смену земельной и финансовой» [Солоневич 1991: 387]. Гораздо раньше о том же говорили публицисты-патриоты начала XX в., да и сейчас повторяют многие — но кто услышит?
Американец Мартин Малиа напомнил западному интеллектуалу, что в России не было ничего такого, чем бы в еще большей степени не отличался Запад [Малиа 1996]. Повторять его выводы скучно: мы и сами всё это всегда знали. И жестокости церкви, и суровость государственности, и свои национальные идеи, идеи «особого пути» (Sonderweg), особенно drang nach Osten, или католические притязания наших дней (например, ispanidad); «правовое государство» в Европе стало развиваться с конца XX в., а рабство в России отменили за два года до отмены его в США. Развитие парламентаризма и всеобщего избирательного права в России задержали мировые войны и революции, инспирированные этими войнами и Западом. Даже тему «русского мессианизма» навязали нам извне, после того, как поляки в неудачных событиях 1830 г. стали обращаться к идее игумена Филофея в объяснение своего угнетения Россией (но — не угнетения Австрией и Пруссией!).
Как и у всех государств, у России, конечно, были свои геополитические интересы («идеи»), но, в отличие от других государств она всегда действовала вокруг собственных границ, и никогда не объявляла зоной своих стратегических интересов государства в другом полушарии; она не создавала колоний за океаном. Вывод историка объективно точен: Запад воспринял Россию как соперницу и стал приписывать ей свои собственные неблаговидные дела; столкновения XX в. по линии Запад—Восток аналогичны религиозным войнам XV—XVII столетий, которые Запад преодолел, выбрав в качестве достойного противника Россию. Но Россия теперь не та, она уже не пойдет прежним путем, она хочет достойной жизни в семье европейских народов. Это не значит, что она сдалась, покаялась или изменилась: ей не в чем каяться, и она никогда не сдавалась.
Она изменила вектор своей идеи, и больше не хочет быть материалом для построения светлой и сытой жизни рантье из «свободного общества».
О таком рантье между двумя мировыми войнами писал немецкий культуролог Вальтер Шубарт [2003: 193—204].
У каждого народа имеется свой национальная идея — именно она и создает нацию. Со времен Кромвеля английская идея — идея благословенного сословия в Божьем избранничестве на земле (Британская империя в своем предначертании есть мировой арбитр). Эта идея — политическая. Французская национальная идея состоит в стремлении к духовному лидерству в мире — культурная миссия законодательницы мод и всего изящного. Немецкая идея как бы между этими двумя — между английской цивилизацией и французской культурой. Но в общем «у немцев нет национальной идеи, что является следствием их крайнего "точечного" чувства» [Там же: 215] — нет потребности сделать вклад в общечеловеческие ценности. У испанцев идея тоже идет со времен Средневековья, она заключается в распространении христианства и сбережении единства христианской веры [Там же: 268]. У русских, как и во всем всегда, является синтез действительного и реального — идеи и вещи: «национальной идеей является спасение человечества русскими» [Там же: 194]. Непосильность и невозможность свершения идеала не остановит русских, поскольку такая идея соединяет русский народ.
«А теперь главный вопрос: есть у этого народа что сказать? Чего хотел он, что смог? Что было его жизненным содержанием? Какой была его творческая идея?» Именно творческая идея есть одновременно и цель, и средство национального развития. «Творческая идея народа — это не то, что зрили и выразили такие выдающиеся его представители, как Пушкин, Толстой или Достоевский, а гораздо более то, что предстоит уже как факт, что уже работает в нем как внутренняя сила, что уже ведет народ в его истории, что всегда вело его и что нашло и будет находить выражение в его собственном иррациональном творчестве.
Философу сразу станет ясно, если я скажу следующее: неправильно приписывать народу или навязывать ему платоническую идею, потусторонний идеал, гораздо целесообразнее отыскать в его истории аристотелеву enteleceia. Эта enteleceia тоже есть идея, но если угодно, идея реальная, посюстороннего бытия; она — живая сущность того, что есть сейчас, здесь, и того, что было тогда, в прошлом, и что будет и далее, в будущем, что работало, работает и будет работать в вещи, в человеке или в народе. Это не только отдаленный идеал-образец, далекая цель, развернутое совершенство будущего, но и внутренняя движущая сила, которая всегда была и находила свое выражение и сейчас является движущим и определяющим мотивом, в будущем должна стать руководящей и остаться таковой навсегда.
Скрытая и еще не развернувшаяся для прошлого, она все больше и больше развернется в будущем...
Такую творческую идею России я и имею в виду и ищу. Она есть то, что было всегда в народе и что сражалось за народ, что определяло образ мыслей его, выстраивало и шлифовало его творческий акт, служило мерилом его лучших творений, выражая в них себя.
Творческая идея России не есть выдуманный мною идеал... она есть существующая в его душе склонность, тенденция, поиск, которым он следовал, следует и будет следовать и которые отражаются в структуре его творческого акта» [Ильин 6, 2: 613—614].
Это вывод, который подводит к новой проблеме.
Идея и идеал
Русская идея не национальная, а государственная, идея духовного единения в диалоге культур как «обоснование специфики исторического бытия России» (Николай Бердяев); писатели и философы, кажется, донесли смысл этой идеи до Запада, во всяком случае нас уверяют, что на Западе читают и Достоевского, и Бахтина. Открытость русской культуры тоже известна, но замкнутость иных культур на самом Западе препятствует диалогу, осуществлению этой русской идеи. Открытость должна быть взаимной, а не проявляться уступками в пользу одной стороны.
А вот суждение противоположного свойства: «Русские — странный народ... Русский — это русская идея, то есть то, чего никогда не было» [Гиренок 1998, 387]. Эти слова отказывают русским в идеале, т. е. в ценнейшей ценности бытия.
Уваровская формула «православие, самодержавие, народность» не «формула русской культуры», как иногда полагают, а формула русской цивилизации; цивилизация же, как выразился Арсений Гулыга, «это культура, утратившая душу». А душа русской культуры, «русская идея», в проявлении скорее душевности, чем духовности. Это идеал, который не дан, а задан.
«Жить хорошо», «жить по правде», «жить по совести», «жить не по лжи» — нет счастья, когда другие несчастны, нравственное чувство требует гармонизации душевных, духовных и природных сил: «всё во мне — и я во всём». Таков идеал благого мира, существующий в народном подсознании как символ, образно представляемый то как Дом, то как Рай, то как Мир. Только логическая (совпадающая с исторической) последовательность символов создает конструктивную цепь направленности движения, явленного в понятийной форме.
Символ изъясняется понятием. Русская идея становится понятной.
В основе русской идеи — коренные свойства русского характера и духовности, но осмыслены они в интуициях русских мыслителей. Это проект Большого Дела.
В. Н. Сагатовский [1994: 164] схематически показал последовательность действий (даю в измененном виде):
Всеединство → Правда
Соборность → Общее дело
Ноосфера → Со-бытие
Софийность → Поступок
Правда как отношение, как справедливость, поступок как ответственность, событие как со-вмест-ность, то есть одновременно всеми участниками уместно совершенное напряжение силы и воли, вмещенное в пространстве мира, начинает и венчает дело: со-борность со-бирает всех для со-бытия в Бытии Мира. Разными русскими философами обдуманы члены этой формулы, и мы знаем их имена. В целом же, в полноте формулы, эксплицирована русская идея как мироощущение русского человека во всей его духовности. «Это мировоззрение антропокосмистское по своим основаниям, ноосферно по своей устремленности и православно-христианское по преемственности духовных традиций», — говорит В. Н. Сагатовский. В этом причина, почему каждый из трех признаков-оснований может быть не принят другими традициями (скорее государственными, чем народными). Космос интересует не все народы, развитие экологии и ноосферы — не все государства, православие — не все конфессии, не говоря уж об отказе от финансово-ростовщического бизнеса и прочих услад потребительского мира.
Так и выходит: русская идея — идеал, как и в прошлом, так и теперь. «Мы называем идеалом то, что само по себе хорошо, что обладает внутренним безусловным достоинством и одинаково нужно для всех», «поклонение же идолу основано на лжи и ведет к нравственному, а затем материальному крушению» — завещал нам Владимир Соловьев [V: 357, 360]. И по-прежнему «русская мысль — религиозная, философская и политическая — бьется в поисках новой идеи» на основе зародыша, существовавшего в прошлом [Солоневич 1997: 28].
Но как часто, по неосторожности или сознательно, смешивают в своих высказываниях идею и идеал, а через это — идеал и идола (все слова общего греческого корня). Идея восходит к ratio — но только под таким углом зрения западная ментальность и может понять духовную сущность символа-идеала. «Идея единство понятия и действительности... Когда-нибудь я постараюсь поговорить с читателями об истории слова идея и его различных судьбах» [Лавров 1918, 1: 503]. Идея направлена к жизни конкретной, ибо «истинная идея и есть смысл самой действительности... ибо семя идеи — сама жизнь» [Савицкий 1997: 19]. Если идея — «норма всех норм», то для Достоевского идея есть божественное семя, тайна, формирующая культуру. Как это обычно для русского сознания, идеальное и идейное в нем разведены, духовный опыт раздвоен и удвоен, насыщен категориями, недоступными рассудку западного ratio — и он их смешивает, запугивая самого себя непостижимостью духовной тайны.
Чтобы лучше представить себе смысл «русской идеи», покажем ее на фоне не-русской идеи в России.
Каждая схема сознания амбивалентна. Номинализм признаёт равноценность идеи и слова и, следовательно: если есть слово, существует и обозначенная им идея (как и наоборот: при наличии идеи всегда имеется ее имя). Действенность сознания обеспечивается равнозначностью его постулатов, и, чтобы гармония их связи не нарушалась, обязательно должно появиться нечто, вроде «бритвы Оккама», постоянно обстригающей слова, не обеспеченные капиталом идеи.
То же у реализма, который признаёт равноценность идеи и вещи. Не только вещь создает идею, но и идеи порождают вещи, — одно представлено в другом как взаимообеспечивающие действие силы. Не только основательность делового, но и возвышенность идеального типа в их гармонии необходимы, чтобы обеспечить лад жизни. Нельзя признавать идеи, не оправдавшие себя в жизни.
Классический пример нарушения лада — Россия последних десятилетий. Она стала сточной канавой европейского глубокомыслия, и канал реалистического действия оказался замусоренным чужими идеями. Теперь говорят и пишут, что все идеи современного мира: социализм, коммунизм, фашизм и т. п. суть изобретения западноевропейского рационализма и номинализма. Попытки связать их проявление в России как действие «русской идеи» ошибочны, ведут к подмене тезиса: частные элементы сходства возводят в абсолютное тождество, чужую идею соотносят с русским идеалом.
Ratio, основанное на «слове», путем простейших силлогизмов искажает идею. Г. Л. Тульчинский [1996: 146—147] напоминает о ранних трудах Маркса, в которых впервые была явлена мысль о необходимости бороться за «общественную собственность»: например, в последовательности силлогизма:
Сущность человека общественна (Gemeinsamkeit),
Но в современном обществе собственность частная:
Следовательно, человеческая сущность — искажена.
Значит, надо заменить частную собственность на общественную (gemeinsam). Неважно, что соотношение между сущностью человека и явлением форм собственности не коррелируют как сущность и явление (частая ошибка в пределах ratio), потому что вовсе не «идеи» определяют тут мысль, а — «слова»: Gemeinsamkeit > gemeinsam.
Идя от слова к идее, номиналист предлагает ошибочную идею, формулируя ее, а потом другие, последователи, уже доводят эту идею «до масс».
Но российские «массы», овладев идеею, получают ее не для кабинетной работы за кружкой доброго пива. Российские массы заряжены энергией реализма, действующей в увязке идея—вещь (то есть дело, овеществление, осуществление идеи). Их «силлогизм» столь же безупречен формально:
Есть слово — есть идея.
Есть идея — должно быть дело.
Следовательно, слово рождает дело, и — даешь общественную собственность!
Грабь награбленное!
Экспроприация экспроприаторов!..
Потому что реалист ведь исходит из слова, его слово напрямую и есть зерно первосмысла — концептума, из корня которого вырастает концепция.
А если есть мысль-концептум, то должно быть и бытие, которое она отражает. Должно быть, и где-то же есть! И парящая в облаках фантазия соблазняет зажатого «реальностью» человека. Человек-то не знает, что эта мысль выделена из слова-имени в результате действия некой интуиции ratio.
Между тем «идеал народа — это не какая-то идея долженствования, не какое-то неосуществимое понятие предела. Это, как говорит Бергсон, idee-force, то есть идея-сила; это световой луч, который насовсем сердце никогда не покидает; это схваченное в становлении совершенство, пусть даже это становление осуществляется пока медленно, с колебаниями» [Ильин 6, 3: 29].
Примеров подобного искривления ментального пространства путем смешения идеи и идеала, номиналистического и реалистического способа мышления — много. Но — к вопросу об исторической вине за исполнение идей. На ком вина? Виноват доверчивый в вере русский мужик Семнадцатого года? Медиум — нервно возбудимый русский интеллигент? Западноевропейский мыслитель, своим силлогизмом разорвавший лад идеи, слова и вещи?
Ведь «русский человек не может существовать без абсолютного идеала, хотя часто с трогательною наивностью признаёт за таковой нечто совсем неподобное. Если он религиозен, он доходит до крайностей аскетизма, правоверия или ереси. Если он подменит абсолютный идеал Кантовой системой, он готов выскочить в окно из пятого этажа для доказательства феноменализма внешнего мира. Один возводит причины всех бед к осуждению Синодом имяславия, другой — к червеобразному отростку. Русский ученый, при добросовестной вере в науку, нередко пишет таким ученым языком, что и понять невозможно. Русский общественный деятель хочет пересоздать непременно всё, с самого основания или, если он проникся убеждением в совершенстве аглицкой культуры, англоманит до невыносимости. Русский не мирится с эмпирией, презрительно называемой мещанством, отвергает ее — и у себя и на Западе, как в теории, так и на практике. "Постепеновцем" он быть не хочет и не умеет, мечтая о внезапном перевороте. Докажите ему отсутствие абсолютного... или неосуществимость, даже только отдаленность его идеала, и он сразу утратит всякую охоту жить и действовать. Ради идеала он готов отказаться от всего, пожертвовать всем; усумнившись в идеале или его близкой осуществимости, являет образец неслыханного скотоподобия или мифического равнодушия ко всему» [Карсавин 1922: 78].
Уж от мыслителя-то мы вправе потребовать точности опыта.
Так мы вернулись восвояси. К русской идее, незаемной, своей.
«Итак, русская идея есть идея свободно созерцающего сердца. Однако это созерцание призвано быть не только свободным, но и предметным. Ибо свобода, принципиально говоря, дается человеку не для саморазнуздания, а для органически-творческого самооформления, не для беспредметного блуждания и произволения, а для самостоятельного нахождения предмета и пребывания в нем. Только так возникает и зреет духовная культура. Именно в этом она и состоит» [Ильин 1: 325].
Нам нужна творческая идея, способная вести нас вперед, постоянно преобразуясь и совершенствуясь.
Душа устремляется к Духу как родственному своему, потому что «внутренний человек — духовен, а не душевен» [Бердяев 1985: 332]. Здесь нет никакой мистики, простое утверждение, согласно которому нравственность изнутри и извне одинаково одухотворена это и дух, и душа в их совместном проявлении.
«Идеи витают в воздухе», а идеалы — бесплотны, но всеми ощущаются. Всё дело в том, в каком виде те и другие являются в мир. Идеалы — идеи — символы, которые необходимо перевести в понятия, чтобы их поняли все, ухватили сознанием, вылавливая в глубинах подсознательного.
Эту работу исполняет интеллигенция.
В последнее время возникает скептическое отношение к историческим заслугам русской интеллигенции, «продавшей идеалы народа за чечевичную похлебку» наживы. Это форменное заблуждение. Русская интеллигенция свой народ не предавала, русская интеллигенция как интеллектуально-художественная сила сохранилась. Видимость предательства состоит в том, что по широте душевной допустила она в свою среду чужеродные силы, которые мимикрировали под русскую интеллигенцию. Вытеснив русскую интеллигенцию с природных ее рубежей, теперь называет она себя элитой. Различие же между интеллигенцией и элитой понятно, на такое различие указал, например, Валентин Распутин [Распутин 1991], и указал верно. Интеллигенция «живет не идеями, а идеалами», не умствованиями людей, «объединяемых идейностью своих задач и беспочвенностью своих идей», заимствованных на стороне и плохо переваренных, не ratio, а идеалами народной жизни как сущностью ее проявлений. Идея-эйдос — то, что всем видно, это форма воплощения идеала: «форма как оформленная сущность» — говорил Алексей Лосев. А форме в русской ментальности придается не самое главное значение. Для нее важнее сущность, которая не видна со стороны, извне, посторонним взглядам не подвластна, как ни старайся они в нее вникнуть.
И вот тут-то всегда видно: где чужеродная идея — а где живой идеал, где интеллигенция — а где «элита».
Где то, что составляет суть народной жизни, а что лишь жалкое ей подражание.
Глава вторая. Явленность чувства: душевность
Тема о русской душе сразу отдает мистической клюквой.
Иван СолоневичБеспорочные пороки
Возвращаясь к теме добродетелей и пороков, отметим относительность границ между ними. Все языческие добродетели — пороки в глазах христианства (говорили не раз); но и многие христианские добродетели для язычника — всего лишь благие пожелания, неисполнимые в жизни. Онтологически добродетели и пороки не противопоставлены друг другу, потому что одинаково противоположны — преступлению. «Порок есть неведение и заблуждение, простое незнание истинного пути; но добродетель, напротив, вытекает из знания, порождается мудростью, точнее, всецело сводится к знанию» [Трубецкой С. 1910: 431]. Именно потому «в современных учителях слово порок возбуждает не чувство отвращения, а любопытство, любознательность. Может быть, его напрасно гнали, как напрасно гнали многое хорошее на земле?! Может быть, к нему нужно присмотреться, может быть, у него нужно поучиться?!» [Шестов 1991: 132]. Замечено, что во всех языках добродетели обозначаются словами самостоятельного корня, а пороки — с отрицанием не при них, причем качества порицаемые (с не) относятся к положительным качествам как 3 к 1 в латинских (с in) и как 3 к 2 в немецких словах (с un). В исторических словарях русского языка определения с не в отношении к исходным корням представлены как 1 к 1, но многие с не впоследствии либо исчезли из употребления (небрание, невѣгласие), либо изменили значение (негодовати, нелѣпый), либо с самого начала имели положительное значение (как, например, непщевати — думать, полагать). Зато были другие слова, с приставками у- или без-, которые иногда употреблялись в отрицательном смысле отсутствия признака, но вовсе не его осуждения. Различие между пороком и добродетелью, как слишком отвлеченное и всегда социально направленное, в русском языке не разграничивается так уж резко.
Сопоставляя подобные материалы по различным языкам, замечаем одну подробность: онтологически в действительности маркированы «добродетели», но гносеологически — в реальности — маркированы пороки.
Лев Шестов говорит об этом так: «Сказать про человека храбрый, умный, благородный и т. д. значит, на самом деле, ничего про него не сказать. Это только значит оценить его, измерить и взвесить его значение по принятым с незапамятных времен масштабам, т. е. „судить“ его. Когда для нас человек умен или глуп, храбр или труслив, щедр или скуп, он себе самому не представляется ни умным, ни храбрым, ни щедрым. Для него, непосредственно себя воспринимающего, все эти категории и масштабы просто не существуют. У него нет категорий для познавания, для знания себя: они ему не нужны» [Шестов 1984: 200].
Всё это — оценки норм, одинаково существенных в их жизненных проявлениях.
«Мужество есть знание того, что следует делать в опасности, трусость — заблуждение в опасности. Мужество не есть простое отсутствие страха, основанное на непонимании действительной опасности, но, наоборот, — истинное знание наилучшего в опасности случая, разумнее того, что наиболее полезно. Справедливость есть знание того, что законно по отношению к людям, благочестие — знание того, что законно относительно богов. Самое воздержание, основание всякой добродетели, есть не что иное, как истинное знание высшего блага, превозмогающее над приманкой низших наслаждений» [Трубецкой С. 1910: 431—432]. И добродетель способна ошибаться, совершая непотребное; например, «русское правосудие наделало много ошибок, но это были ошибки человечности и милосердия» [Солоневич 1997: 81]. Даже исходное этическое переживание (согласно Владимиру Соловьеву) — «стыд, смотря по тому, к чему он относится, может быть и добродетелью, и пороком. То же самое нетрудно доказать относительно жалости и благоговения» [Трубецкой Е. 1913, II: 95]. Всё может быть в земной жизни и — «кто знает? может быть, трусость, бедная, жалкая, так оклеветанная, подпольная трусость вовсе уже не такой порок. Может быть, даже добродетель!» [Шестов 1991: 63]. Сказано с иронией, но всё же... Даже Новый Завет, основная книга русского христианства, не различает добро как средство и Добро само по себе — это давно замечено, и право оценивать степени добра дано тому ощущению сердца, которое со временем стало обозначаться как совесть.
После XVII в. сохранилось много текстов, интересных как отражение народных представлений не только о сути добродетелей, но и в их персонификациях — они абсолютны в русском бессознательном именно как положительные: «Грех — умер. Правда — пропала. Истина — охрипла. Совесть — хромает...» и т. д.
Второе отличие порока от добродетели в этом: добродетель как норма синкретична, она дана в цельности своих проявлений как сила души и энергия действия. «Справедливость, набожность, мудрость, храбрость суть одна добродетель, а не несколько, ибо иначе исключали бы они друг друга в своем множестве» [Трубецкой С. 1910: 432]. Это — свет порядка. Пороки же аналитически дробят цельность добродетели, своими апофатическими отверганиями с не-, без-, у- и т. д. отсекая от нее признаки нарушения нормы-образца, переводят цельность образца в отдельные качества. Это — тьма хаоса.
Отсюда уже и третье отличие: добродетель идеальна — порок веществен, и это подчеркивают современные философы: «Добродетель видимая немедленно превращается в порок — так думали не только русские пустынники, само слово позор означает и стыд, и зрелище. Всё видимое — на грани греха» (Горичева). Добродетель сущностна, и потому идеальность Добра именуется Благом. Тогда само по себе добро — как средостение между Благом и Злом — оказывается двуединым. Еще Пифагор разделил Добро: «быть справедливым» и «делать добро» — не одно и то же. Так, действительно, «для чего познавать это чертово добро и зло, когда это столько стоит?» — вопрошал Достоевский в Легенде о великом инквизиторе.
Двоение добро-дѣ-тели, касание (-дѣ-) Блага, амбивалентно в русском сознании. В этом проявление антиномии языческого и христианского: причины и цели, исходных начал и конечных причин. Языческое средство «быть справедливым» на мирских путях сталкивается с христианской мотивацией «делать добро». Первое вина-причина, данная как внутреннее право, второе — это уже грех свершения, представленный как долг досто-должного. Понятия коррелируют, создавая систему соответствий. Добродетель — это род при видах, справедливость — средство и мотивация на добро. Но «причина — вина — право» обязательно восполняются греховным помыслом долга — их совместный род есть обязанность. Без одного нет другого, или (точнее) без второго нет смысла в первом.
В таком случае и ментальность предстает как совместность душевности и духовности в проявлениях средства — мотива, вины — греха, права — долга и т. д. Прикладывая общие установки этического сознания к «русской душе», мы можем сформулировать задачу своего описания словами любого русского философа, например Сергея Аскольдова: «Душа подчинена не закону постоянства, а закону роста определенным образом направленных сил и стремлений» [Аскольдов 1991: 244]. Всякая душа соединяет в себе «святое» — «человеческое» — «звериное»; у русских среднее слабее крайностей — «лютость и добродушие, тихость и беспокойство, — словом, всё то, что обособленно и раздробленно сквозит в звериных обличиях волка и зайца, лисицы и медведя, заключено в русской душе в сложных и подчас неожиданных сочетаниях...» [Там же: 225]. Сказано в раздражении и в годы революций, но (как увидим) близко к точности.
Эмоции и страсти
Душевные состояния текучи, изменчивы и не совпадают у разных людей. Иногда трудно определить границы между эмоциями и аффектами. Их часто смешивали в угоду своим классификациям, поддаваясь влиянию тех источников, какие находились под руками.
Предварительные классификации находим у Михаила Ломоносова и Александра Востокова. Они различаются, хотя наводящий на системность источник у них общий — немецкие этические системы; и средство выражения тоже совпадает — термины русского языка. У Ломоносова традиционное деление — от чувства: длительные склонности (настроение), спокойные в проявлениях и хронически слабые чувственные состояния (грусть, веселье, боязнь, раздраженность), внезапно возникающие аффекты (радость, надежда, страх, гнев, горе, страсть) и т. д., но в целом — всё это эмоции, т. е. пассивные или активные переживания в чувстве, — следовательно, проявления душевности. Пороки перечисляются особенно тщательно, их много: нечестие, роскошь, бесстудие, лютость, скупость, малодушие, лукавство, лицемерие, леность, сварливость, грубость, упрямство и иные во множестве. Всех их следует знать, чтобы сопротивляться при случае. Дробность классификаций у Востокова достигает необъятных размеров — и только потому, что в своих словарях этот академик собрал гораздо больше слов, выражающих добродетели и пороки. Видовые оттенки кажутся более ценными, чем обобщающие их роды.
К началу XX в. частные особенности конкретного проявления чувств уже обобщены по родовым признакам и представлены как эмоции: «все наши слова (горе, радость, ужас, ярость, любовь, ненависть и др.) выражают только самые крайние степени "чувства", которое имеет и другие названия» [Петражицкий 1908: 134]. Гнев и ярость одно и то же чувство — но предстают как родовые понятия. Признаки проявления эмоции градуированы: спокойное состояние — аффект внезапности — сильная страсть (раздражение — гнев — ненависть как длительный и сильный гнев). Названия эмоций описывают различные признаки состояний, которые — в разных условиях — встречаются в тех или иных ситуациях; например, любовь (несчастная) — уничижение (сам себя винит) или ненависть (со стороны объекта твоей любви) — ревность... и т. д. Но ревность — это рвение, желание «рваться» к делу (исправить, смягчить и т. д.), т. е. переход еще в один круг последующих эмоций переживания.
Эмоции человека имеют «врожденные нейронные программы, универсально понимаемую экспрессию и общие переживания качества», они «влияют на человека в целом» [Изард 1980: 29]; это «высший порядок интеллекта», мотивационная система действий, обеспечивающая взаимные отношения членов общества, заряженных той же энергией, системой ценностей и интересов. Двойная обусловленность эмоций определяется ситуацией и потребностью. Психологи считают эмоции субъективной формой существования потребностей; эмоция есть оценка конкретной ситуации и одновременно побуждение к достижению потребности. В эмоции чувство осмысляется разумом и тут же направляется волей к исполнению.
В Средние века именно эмоции представали как основная форма социальной ориентации и как средство познания на основе действий правого полушария головного мозга; еще не выработаны и не закреплены в слове логические принципы разума, связанные с левым полушарием, но «словесное художество» действует в этом направлении, развивая интеллектуальные способности среднего представителя общества. Происходило это на базе образных представлений, а понятие в слове развивалось как продолжение словесных образов, заложенных в корне слова. «Эмоциональный синтез» соотносится с «вербальным синтезом», который задан в словесном знаке, что в конце концов и наметило путь преодоления каждой жизненной ситуации в прояснявшемся через слово ее смысле. Конкретные ощущения физиологического характера сгущались в психические комплексы видовых чувств с тем, чтобы наконец преобразоваться в социально важные роды эмоций. Именно такое движение мысли: ощущения > чувства > эмоции — и выражено в изменявшихся значениях слов, и мы неоднократно в том убедимся на примерах.
Научная система эмоций как биологических, социальных и духовных мотиваций поведения отражает историческую последовательность их развития в обществе. Как действие чувств, все они проходят через страдание-страсти — это фундаментальная эмоция, связанная с переживанием и болью, а затем с ее разрешением в другой эмоции. Например, при угрозе извне возникает страх как сигнал опасности (ответ на угрозу, мобилизация внутренних сил для отторжения беды), в переживании страдания возникает гнев — реакция на препятствие вызывает решимость в отвращении агрессии — презрении (это исторически разные этапы в развитии одного и того же аффекта). Точно так же возникает реакция на нравственное переживание. Чувство вины и раскаяния вызывает душевное страдание, которое завершается ощущением стыда («осознанное поражение»), и вся цепочка переживаний порождает законченную реакцию совести, движущей ситуацию в нужном направлении. Тем самым «эмоции образуют основную мотивационную систему человека» [Изард 1980: 15].
Отсутствие страха и чувства вины у нынешнего поколения людей препятствует каскадному развитию коллективных чувств в сторону праведного гнева вовне и личной ответственности — вовнутрь. Социальные действия ослаблены при отсутствии личностных — биологических — переживаний. Костер сложен — но огня нет. Никто не хочет по-страдать.
Не есть ли это проявление скромности, о которой так много говорят в отношении к русскому человеку? И «если вы растерялись перед словом скромность, то тут вы уже совсем ничего не поймете» [Розанов 1990: 395]. Но скромный предпочитает таиться в у-кром-ном месте, скрывается от мира в личном желании не выделяться и жить как все. Слово скромный не русское, польское; русское его соответствие — застенчивый, это тот, кто до времени прячется в тени. Татьяна Горичева уделила этой русской черте особое внимание. «Много говорят о застенчивости русского человека или о его стыдливости. Сама русская природа равнинна, не любит ярких красок... У русских глубоко засело в сознании, что проявление — это нарушение чего-то. Проявлять себя — значит навязываться, быть неделикатным. Так и остается Россия страной великих, но не проявленных и поныне возможностей», а стыдливость... что же стыд? «А стыд — это всегда чувство дистанции» [Горичева 1996: 156—157, 168]. Таково развитие темы о русской деликатности, начатой еще Достоевским, который полагал, что в подобном «расстилании» перед мнением самоуверенных «куаферов» кроется великий российский грех.
Определение понятий
Большинство слов, выражающих духовно-душевные и ментально-волевые действия, являются абстрактными по смыслу именами. Их отличия от конкретно-предметных обозначений хорошо известны: содержание абстрактного имени есть концепт, в составе которого совмещены логическое и сверхлогическое, а постоянная (устойчивая, инвариантная) часть его значительно меньше, чем постоянно изменяющаяся, вариативная, связанная с прагматическим отражением реальности в сознании каждого лица в момент диалога. Эта «языковая, универсальная форма бытия элементов невидимого интеллигибельного мира обрастает „плотью” — результатом проекции нетелесных сущностей на предметы видимого мира, составляющие повседневный опыт личности» [Чернейко 1997: 7]. Подобный концепт представлен не только образами, но и культурными символами. Представление о счастье у каждого свое собственное, но существует и некий постоянный признак, делающий личное счастье возможным. Наличие жизни, например.
Здесь не случайно говорится о содержании имени, т. е. о признаках различения, и при этом утверждается логический его статус. Абстрактные имена не имеют референта (предмета-вещи) в действительности, однако, развивают денотат (предметное значение) в его реальности. Всегда можно, но очень приблизительно, указать, какие именно жизненные проявления могут быть определены как состояние «счастья». Для философа это прежде всего «понятые морального сознания, обозначающее такое состояние человека, которое соответствует наибольшей внутренней удовлетворенности условиями своего бытия, полноте и осмысленности жизни», это чувственно-эмоциональная форма идеала, которая «имеет нормативно-ценностный характер» [ФЭС: 668]. Другие определения понятий будут в том же роде. В них логическое немедленно подменяется «чувственно-эмоциональным» и «нормативно-ценностным», а понятие — значением слова. Однако объем понятия — отсутствует. Можно ли тогда вообще говорить о понятии? Предметное значение слова здесь как бы замещает отсутствующий объем понятия — а такое случается с символами, но не с понятиями.
Счастье и родственные имена, к обсуждению которых мы приступаем, являют концепт в содержательной форме символа, и каждая культура, любая рефлексия, и даже «наука» толкуют символ по-своему; иначе у нас не было бы столько утверждений и теорий относительно «счастья». Всё это слова «широкого значения» (эврисемия) в части как раз предметного их значения, т. е. объема понятия, который постоянно возобновляется и пополняется [Феоктистова 1984: 21 и след.].
Возникает сомнение в самой возможности описать ментальное содержание подобных слов. Представления о счастье изменяются, и сегодня мы это видим наглядно. «Не было бы счастья, да несчастье помогло» и т. д. — в любом сборнике пословиц.
Исторический взгляд на значения слова помогает увидеть в нем ту «инвариантную» точку первосмысла, вокруг которой постоянно завязывались, развивая ее, дополнительные со-значения, связанные с изменяющимися жизненными формами. Со-значения съ-частья, например, в русском языке всегда связаны с совместной (съ-) или хорошей (корень значит ‘хороший’) для всех частью, полученной в у-част-и при-част-ных к у-част-ию в деле и в жизни. Это русский образ счастья: невозможность личного счастья в несчастье других.
В исходной точке ментального развития всегда лежит нечто вещное, конкретно воплощенное в действиях, предметах и лицах. Абстрактная идея символа отталкивалась от мира вещей, что можно видеть в любом языке на каждом абстрактном по смыслу имени. Вся история «вознесения» слова в вечно-абстрактное определялась исходно вещным первосмыслом, и ни одна метафора, органически связанная с коренным словом языка (не заимствованным из других языков), не выходит из этого круга. Метафора — это противоречие между образом и значением (слова), которое возникает при столкновении в мысли конкретного (вещи) и отвлеченного (идеи). Рука матери — не метафора, рука судьбы — метафора. Становясь словом отвлеченно родового смысла, гипероним впитывал в себя все сопутствующие со-значения, становясь символом данной культуры. Именно как символ такое слово и интересно нам. Символ отражает общенациональное «понимание». Интуиции русских философов и поэтов весьма точно отражают глубинные смыслы народного символа.
Чувство и эмоции
Специальные исследования истории слов со значением «психические состояния» [Камалова 1994] показывают, что до XVIII в. система таких обозначений еще не сложилась, а значения отдельных слов были слабо дифференцированы и потому современному наблюдателю предстают как несколько отвлеченные; точнее было бы сказать, что они суть символы, которые служили для обозначения определенных эмоций, тогда как конкретность их проявления в данном контексте обычно уточнялась внешним признаками действия самой эмоции. Горе-злочастие одновременно и символ горя, и лицо, его воплощающее, а перечень действий Горя показывает оттенки горестного переживания. Современный исследователь видит оттенки чувственных переживаний, соотнося их с собственными эмоциями, хотя многих слов, такие оттенки выражающих, до XVIII в. еще не было. Тем не менее исходный субстрат всех переживаний средневекового человека выделяется ясно: чувства безопасности и стыда, т. е. биологическое и духовное. Система и дифференциация чувств, связанные с осмыслением их в рефлексии, поняты в понятии только в XVIII в.
Для русских философов «эмоция есть отчасти рудиментарный инстинктивный волевой или психо-рефлекторный поступок („мой“ или „во мне“), заключающий в себе большое количество внутренностных реакций, в числе которых могут быть также реакции, возникшие чисто рефлекторным путем» [Лосский 1903: 255]. Перечень таких эмоций, данных Н. О. Лосским [Там же: 227—228], показывает, что чувство и эмоцию он не различает: испуг, страх, ужас... печаль, горе, уныние, грусть... скука, отчаяние, томление, стеснение, застенчивость... стыд, досада, раскаяние, угрызения совести... удивление, недоумение... радость, восторг, восхищение, умиление, благоговение, великодушие, гордость, доверие, вера, надежда... гнев, злость... тщеславие, честолюбие, самодовольство, самонадеянность, властолюбие, ревность, зависть... алчность, ненависть, отвращение... высокомерие, презрение, уважение, сочувствие... — и жалость. Из типологического перечисления выделяются черты, свойственные «психологии русского народа» [Ковалевский 1915: 17]: предприимчивость, мужество, изобретательность, трудолюбие, терпение, доброта, чистосердечие, искренность, прямота, сочувствие, благожелательность, свободолюбие и удаль, но вместе с тем «излишняя впечатлительность и излишняя подвижность», или, как говорил Гоголь, «слишком сгоряча рванулся, желая, по русскому обычаю, показать свое самопожертвованье; не распросясь разума, не рассмотрев в жару самого дела, стал им ворочать как знаток, а потом вдруг, также по русскому обычаю, простыл, увидевши неудачу» [Гоголь VI: 244].
Современные психологи насчитывают до пятисот эмоций, но это скорее чувства в их многообразии; во всяком случае их инвариантов, представленных в словах, на порядок меньше, выделяют 37 «базовых» исходных смыслов (у Изарда их 10), чаще всего встречающихся в русской «картине мира»: горе, любовь, радость, неприязнь, беспокойство, грусть, доброта, злость, страх, смирение, недовольство, стыд, спокойствие, одиночество, удовольствие, дружелюбие, обида, влечение, равнодушие, желание, одобрение, жестокость, удивление, жалость, вдохновение, вера, уважение, высокомерие, наглость, смелость, лицемерие, сомнение, искренность, неверие, интерес, протест, надежда. Остальные возможны еще реже, очень редки в современном употреблении совесть, долг, корысть, лесть, неистовство, осторожность, предубеждение, предчувствие, скромность, чуткость, эгоизм [Бабенко 1989: 26—27]. В основательном исследовании Л. Г. Бабенко (в котором 6000 лексико-семантических вариантов современного русского языка) показано, что вершиной иерархии «эмоций» является переживание добро—зло, гармонию иерархии создают основные соответствия любовь—неприязнь, радость—горе, счастье—несчастье. Всеми признаками различения обладают только любовь и доброта — у остальных «специфика конкретного чувства» проявляется не во всей полноте, охватывая только отдельные признаки, например такие: оценка—направленность—обусловленность—активность и т. д. Очень слабо в выражении различных оттенков разработаны у нас переживания веры и неверия, а также высокомерие, лицемерие, искренность, любопытство, наглость, сомнение, протест и уважение. Очень показательные проявления современной русской личности, которые не совпадают с теми, что были присущи русскому в прошлом. Благоприобретенными являются многие из них, и не все — положительного свойства.
В русской традиции душа и характер противопоставлены друг другу, и мы еще вернемся к этой оппозиции. Однако в основе той и другого лежат одни и те же психические действия: чувства, разум, воля. В каком отношении они распределены между субстанцией «души» и проявлениями «характера»?
Для Овсянико-Куликовского и других ученых начала XX в. характер народа есть явление, которое складывается действием воли под контролем разума; чувства, но тоже под контролем разума, относятся к ведению души и потому национального своеобразия не отражают.
С другой стороны, душевное определяется форматом духовности, а духовность, в свою очередь, также связана с проявлениями воли, хотя и в ином ее качестве — как свободы. Сложное переплетение действий души и характера в чувстве, разуме и воле — душевное и духовное как родственные явления — часто определялись не их функцией, а простым разнообразием терминов, их обозначающих. Да и принцип «всё во всём» тут действовал определенно, выражая русское представление о соотношении видов — родов — категорий и т. д. как входящих друг в друга (и тем самым составляющих одно через другое) сущностей в их живительной цельности.
Однако всё это абстракции, выраженные в терминах, и потому затронутая проблема с самого начала есть проблема номиналистическая. Соотношение идеи и слова — забота номиналиста. У реалиста хватает и собственных заблуждений.
В частности, важно было бы уяснить, каково соотношение между идеями «душа», «характер» и т. д. и их воплощениями в народном представлении. Если мы числим их «по душам» и оцениваем их «характер», хотелось бы знать основные признаки как души, так и характера, как они явлены в действительности, т. е. в их действии. А это проблема психологии, не филологии. И проблема истории — связь всех трех моментов искомой сущности: идеи—явления—слова (понятия—вещи—знака).
Натура и характер
Ранние зарубежные наблюдатели русской ментальности высказывались непредубежденно. Они сопоставляли свои впечатления о русских с классическими русскими типами, выраженными в литературе. В хорошей и именно русской литературе: Гоголь, Тургенев, Толстой, Достоевский.
Главная черта русской литературы — «близость к природе, их [авторов] любовь к действительности, которые за неимением лучшего слова нельзя назвать иначе, как реализмом», и не только в смысле внешнего описания, но и в представлении «всей внутренней жизни»; это всего «лишь естественное выражение русского характера и русской натуры» [Беринг 1913: 20, 22, 30].
Одновременно такие наблюдатели могли видеть и реальность литературного типа, и действительность его жизненных проявлений. Что из этого получалось, рассмотрим на примере образованного выпускника Итона — Мориса Беринга. По всему его тексту проходит удвоенная характеристика русской ментальности, и вот как она представлена.
«Парадоксальность русской натуры. Россия — страна парадоксов. Русская натура и русский характер сбивают нас с толку, благодаря противоположности заключающихся в них элементов... Так, например, в русской натуре есть большая доля пассивности, а наряду с ней есть что-то необузданное, какой-то дух, ломающий все преграды и готовый на всё; есть также элемент упорности, несокрушимого упрямства» [Там же: 9]. Затем описываются главные черты русской натуры: «Русская натура пластична: русский может понять всё. Можно формовать его как угодно», но при всем том в русском постоянно присутствует «непобедимая настойчивость, которая заменяет силу». Русский человек «не стыдится признаться в нечестии или безнравственности, если он таков» — отсюда снисходительность русских к мелким прегрешениям. Одновременно — нетерпимость русских ко всяким условностям и к притворству: «они постоянно говорят: Почему же нет?» — русский человек «шире любого европейца», и жестокости у него — меньше. Затем с явной симпатией перечисляются: добродушие и доброта («бедные люди здесь не лишние» — им всегда помогут), снисходительность к человеческим слабостям (нет пуританского осуждения тех, кто «живет иначе» — «не существует ненужных людей»), глубокое чувство жалости к «падшим» и т. д. И тут начинается «но», добродетель является своей обратной стороной: снисходительность порождает распущенность, которая не сразу заметна, поскольку подавляется способностями, упорством и добросовестностью; русское слово ничего! — «элемент пассивного предоставления всего своему течению», а «неумирающее пассивное сопротивление» при несогласии изумляет Беринга больше всего. «Это смешение мягкости, распущенности и беззаботности (всё это свойства, придающие натуре податливость, уступчивость и пластичность) с бесконечной выносливостью, вдохновенной энергией и безграничным терпением перед лицом препятствий, кажущихся непреодолимыми», приводит к тому, что «иной раз русский готов сразу сдаться, а другой раз он обращается в упругую массу, которую, сколько бы ни тянули в разные стороны, разорвать нельзя: он неутомим и не поддается разрушению» [Беринг 1913: 11—19].
Из рассуждений ясно, что натура здесь — это чувства, эмоции, разного рода аффекты; природное в человеке, органически ему присущее с рождения, но выработанное веками существования народа в экстремальных условиях жизни. «В русской натуре есть счастливый элемент подчинения неизбежному, уменье применяться ко всяким обстоятельствам, как бы тяжелы они ни были, — свойства, с которыми мне никогда не приходилось встречаться в других странах» [Там же: 31].
Иное дело характер — это уже не чувства-ощущения, а проявление воли. Беринг даже находит, что Достоевский в высшей степени воплощение русской натуры, а Лев Толстой — русского характера, хотя, «несмотря на это, Достоевский вовсе не полное выражение русской натуры, он тоже несовершенный человек» как тип — и так же, как Толстой, сам это осознавал [Там же: 68].
Парадоксальность «русской натуры» Беринг объяснить не может, поскольку находится вне ее, наблюдает со стороны, хотя и благожелательно, с чисто английской объективностью, столь присущей номиналисту. Он приближается к истине, не постигая ее, потому что вчитывается в тексты, не вникая в смысловые глубины языка. А в языке всё дело, и русские современники автора на это постоянно указывали: «Если хотите почувствовать своеобразную психику данной национальности, — изучайте язык ее, как в его повседневной функции („живую речь“), так и в его литературном выражении. Другого способа нет» [Овсянико-Куликовский 1922: 23].
Другого способа нет.
Между тем сам Беринг указывает на «глубокий реализм» русской литературы и, конечно, русского подсознательного, отражением которого литература является.
Природно-чувственное, эмоции и чувства противопоставлены идеальным порывам воли в характере. Триипостасность личности — чувство, разум и воля — как бы редуцированы здесь до языческой эквиполентности чувство—воля, и ничего не говорится об интеллектуальной составляющей личности. Для автора ее словно нет, она отсутствует в его восприятии. Он не видит ни ума, ни рассудка, ни разума, не говоря уж о мудрости, быть может — потому, что ослеплен яркостью чувств и парадоксальностью характера. Он не замечает проявлений русского разума, потому что привык к его проявлениям в аналитическом следовании дискурса, в логических суждениях, отстраненно от чувственных переживаний.
Но, говоря о натуре и характере, Беринг незаметно для себя постоянно описывает действие «русского разума». Русский ум — бесплотное качество, и ум за разум никогда не заходит, тот и другой на своем месте. Разум не в наличии, но постоянно проявляется в движении мысли между натурой-чувством в конкретности жизни и характером-волей в идеальности их проявлений. Взаимообратимое движение мысли по формуле Нила Сорского «сходим—восходим» осуществляется постоянно, действует неотвратимо и всегда доходит до конца. Оттого и впечатление парадоксальности действий. «Восходим» от вещных видов к вечному роду — логически «понимаем»; «сходим» от идеального рода к конкретности видов — психо-логически осознаем. Контрасты и парадоксы всего лишь видимость, за которой скрывается глубинная суть мысли русского реалиста. Реалиста не только как типа в художественном тексте, но и в его мысли, в его характере. Так что верно: для «русской души» характерна «ментальная дизъюнкция: всё — или ничего» [Брода 1998: 60], т. е. «всё» в идеальном и «ничего» в земном измерении.
Мысль как связующее «натуру» и «характер» ускользает не только от посторонних, иногда и русский, истончив свой ум до логической операции «чистого разума», приходит к неожиданным выводам; например, полагая, что как нация русские онтологически не существуют. Если мы говорим о своей открытости, щедрости, доброте, мягкости, бескорыстности, самоотверженности, терпении и т. д. и видим в этом свою самобытность, следует признать и то, что все эти признаки — признаки отсутствия, и всё наше своеобразие, вся наша самобытность проистекают из «нашего несуществования в мире и нашего неприсутствия в себе. Мы легко, удивительно легко отказываемся от себя. Мы не имеем, да и не хотим иметь, своей субъектности. Для нас единственная определенность в мире— он сам, а не наши действия, не наша активность... Наше собственное существование призрачно. Мы — призраки; призраки и Европы, и Азии» [Сергеев 1999: 77]. Бездушные призраки?
Душевность сердца
Языковеды во многих языках перебрали слова со значением ‘душа’ и обнаружили глубокую связь их «внутренней формы» (первосмысла) с глаголом-действием вдыхать / вдувать. В русском языке так же. Душа — дыхание Духа: «дух дышет, идеже хощет».
Метонимически нижутся в веках словесные смыслы символа, выдавая попытку предков осознать сокровенность души и духа. Душа как дыхание значит жизнь, жизнь живого существа, психических глубин живого существа, неподвластных тлену и времени: душа как бессмертие... Душа — духовной жизни — духовное существо — особые его свойства, которые состоят «в единстве, духовности бессмертии, в способности разума, свободы и дара слова» — говорит Богословская энциклопедия [БЭС: 8—6].
Эта исходная образность, по-видимому основанная на общности иудео-христианской культуры, не согласуется со сходством в физических ощущениях.
У русских, например, душа устойчиво связана с сердцем. Временами душа и сердце в высказываниях заменяют друг друга, ибо сердце — явленность души, ее проявление. Есть, конечно, различия, но они незначительны и проявляются только в определенных речевых формулах. Например, душа может иметь желание аппетита или жадности, а сердце — нет, душа способна на предательство, а сердце — никогда, зато чувство в противоположность к разуму слово сердце передать может (метонимически: голова и сердце), а слово душа — нет. Гневаются, ужасаются, грустят и любят сердце и душа одинаково.
В словарных примерах Владимира Даля душа предстает духовным существом, в человеке живущим; одновременно это и совесть, и внутренние чувства также. Современное представление о душе путем семантической транспозиции сузилось, некоторые признаки души перенесены на волю (у Даля сильная душа — у нас уже сильная воля), на грех (взять на душу), на совесть (лежит на моей душе), на голову (положить душу) и т. д. Единственно, что за душой осталось — это сосредоточенность всех человеческих желаний — «сколько душе угодно» [Голованивская 1997: 128]. В современном сознании душа и сердце как бы раздвоили душевные переживания, специализировав прежде слитные внутренние переживания: сердце — носитель чувств, а душа — эмоций.
Во многих своих книгах, на русском и немецком языках, Иван Ильин составляет своеобразный ментальный словарь русских слов, как, впрочем, и Василий Розанов, и Михаил Пришвин, и другие. Изящными линиями очерчивают они, интуитивно осознавая это, содержательный смысл русских символов: любовь, ненависть, свобода, судьба, надежда... Но никогда ни один из них не дает точного определения, одного-единственного и однозначного, потому что для них как для русских людей любовь, ненависть, свобода... не понятия, а символы, и они описывают символы через переживание личного опыта. Телесной «вещью» житейского дела проверяют они смысл идеи, заложенной в неизменных, казалось бы, этих словах.
Таков порядок в осуществлении общей идеи: через символ-имя она проверяется опытом жизни.
Есть лишь одна возможность описать поверхностно (информативно) «душевные» проявления русского человека: посредством слова, на котором сходятся векторные лучи идеи и опыта. Такая возможность подкрепляется тем, что эмоции, в большинстве своем, социальны, а социальный опыт истории столь же информативен, как и личный опыт.
Сведя воедино все эти источники, попробуем описать несколько ключевых элементов «русской души».
Особенности души
Очень сложно выявить национальные особенности души. Д. Н. Овсянико-Куликовский отмечал, как часто смешивали век назад понятия «раса», «нация» и даже «класс»: «В состав национальной психики прежде всего и по преимуществу входят черты умственного (интеллектуального) порядка» — это психология мышления и умственного творчества, «в психологии процессов мысли, не в логике, не в методах и приемах, а в психологической „подоплеке“ логики, методов и приемов» [Овсянико-Куликовский 1922: 4—5]. Именно в этом смысле и отличается способ мышления русского типа, как только что мы видели, рассматривая тексты Мориса Беринга. Национальные особенности души основаны «на подсознательных психических процессах» и проявляются в речи, потому что они «основаны на языке» [Там же: 20]. Только язык способен создать автоматизм в проявлениях национальных особенностей души. В фигуральном смысле это и есть «движение сердца».
«Национальный тип» складывается постепенно. До усвоения языка «ребенок интернационален» — с развитием языка он входит в национальный тип рефлексии. Идиоты и лица ниже среднего уровня умственного развития также вненациональны по духу, человек в состоянии аффекта и страсти тоже «безнационален». Билингвы утрачивают чистоту национального типа, и по той же причине: нет единства языковой реальности. Их виртуальный мир не согласован с реальным в единстве впечатлений. Соматические чувства также не влияют на национальный тип, как и сложные эмоции (перечисляются радость, горе, злоба, страх, гнев, жадность, любовь, ненависть): «национальность может служить объектом разных чувств, но специфически национальных чувств не существует». «Национальные черты, — заключает Овсянико-Куликовский, — не качества, а свойства, во всех отношениях безразличные» [Овсянико-Куликовский 1922: 14].
Покажем эти «свойства» в историческом их развитии и непременно через первообраз словесного корня. Первосмысл-концепт коренится в первообразе слова.
«Национальные особенности души» англичанина — бесстрастность, а национальный символ — бульдог; следовательно, говорил Оруэлл, «согласно традициям англичанин флегматичен, прозаичен, трудновозбудим, поскольку таким он себя видит; таким ему и свойственно становиться. Неприязнь к истерике и „шумихе“, преклонение перед упрямством» — вот основные черты «типичного» англичанина в его традиции [Оруэлл 1992: 203]. Англичанам присваивают эгоизм и холодность, говорил Овсянико-Куликовский, как французам — легкомыслие и эмоциональность.
Сопоставим это «свойство» с качествами, близкими к их словесному выражению (ср.: [Яковенко 1999: 50]):
англ. heart — эмоция, воля
нем. Herz — эмоция, воля
франц. coeur — эмоция, воля
рус. сердце — чувство, эмоция
англ. soul — религиозное чувство
нем. Seele — эмоция и религиозное чувство
франц. ате — эмоция, сознание
рус. душа — эмоция и религиозное чувство
англ. spirit — эмоция, воля, религиозное чувство
нем. Geist — сознание, религиозное чувство
франц. esprit — сознание, разум, смысл
рус. дух — эмоция, воля, религиозное чувство
Приводя подобное сопоставление, Е. Б. Яковенко делает вывод: «Разница в восприятии данных концептов носителями разных языков объясняется иным распределением признаков в структуре концептов. Например, концепт «душа» поглощает почти все признаки концепта „сердце“, что сказывается на более частом употреблении в русском языке слова душа по сравнению с другими языками, но не объясняется какими-то особыми свойствами „русской души“» (как полагает, например, Анна Вежбицка).
У англичанина воля присутствует во всех проявлениях духа, даже в сердце. У немца же разум, даже в духе. У француза во всем преобладает представление о мужестве и личной доблести в окраске трезвого рассудка — кураж; сердце и душа входят в общее смысловое поле (сердцевина душевных переживаний), тогда как дух соотносится с умом-разумом. У русского чаще проявления чувств- эмоций, а воля как данность обеспечивается действием идеального духа.
Соотношение «сердце — душа — дух» приведено не случайно, эти концепты связаны исторически. Например, в древнеанглийском языке слово mod, выражая нравственный характер человека (равный достоинству мужества), соединяет в себе признаки «душа / сердце / мысль» — это «душа-сердце» — сила внутри человека [Феоктистова 1984: 57]; в древнескандинавском также слово со значением «душа» соединяло в себе образы мужества воли, мысли и желания [Стеблин-Каменский 1976: 92]. У древних же славян достоинство мужества выражено иначе: это не душа, а дух, что до сих пор ясно из смысла формул, в составе которых типичные признаки концепта выделены самостоятельным словом (вольный дух, смелый дух). У англичан выражены вовне только проявления эмоций, а сила самих переживаний (или сопротивления им) внутри человека, в его душе. У славян же душа — идеальное проявление всей совокупности черт характера (натуры). Об этом Овсянико-Куликовский говорит, основываясь на семантических исследованиях А. А. Потебни: «Душа — соединение сферы чувств и сферы мысли в волевом усилии», это «синтез мысли и чувства», в котором мысль окрашена эгоцентрически, а «истины нет» в принципе, потому что «жизнь чувства — расход души, а расход ума — ее сохранение». Такова душа, тогда как «жизнь духа есть психический труд, это — работа мысли, чувства и воли» [Потебня 1922: 29, 32, 40, 42, 70].
Расклад души
Чтобы не потерять общую нить рассуждений и вместе с тем еще раз выделить исторически возникающие различия в понимании всех трех концептов, представим совместно их определения «от Даля до Степанова». Они фиксируют расхождения в определениях, которые возникали в русской традиции в течение полутора веков.
Согласно Далю, сердце — носитель чувств и эмоций, особенно тех, которые связаны с проявлением воли; дух — это сила души, явленная в воле и разуме; душа — внутреннее чувство, совесть, вбирающая в себя все проявления душевных и духовных качеств человека. Овсянико-Куликовский о сердце ничего не говорит, но дух и душа у него разграничены: душа — сосредоточенность чувства, разума и воли, а дух — это работа мысли, чувства и воли, т. е. функция души. Только в Большом академическом словаре середины XX в. при указании на переносные значения наших слов отмечено, что они употребляются (например, сердце) «как символ средоточия чувств, настроений, переживаний человека», а душа — «условный термин (т. е. тоже символ) для обозначения внутреннего, психического мира человека», а вместе с тем и «сущность, истинный смысл, содержание чего-либо»; дух не просто «содержание», но еще «и направление, основной характер чего-либо (дух времени)», и тоже «сущность, истинный смысл чего-либо». Ю. С. Степанов [Степанов 1997: 569, 570] выражает сомнение в эквивалентности «души» и «духа», возвращаясь к определению Даля, и только душа для него — «сущность, отличная от духа». Поскольку лишь у Даля находим немного прямых идиом-калек с других языков (особенно с французского), то в суждении Степанова можно видеть разграничение духа и души, основанное на различии латинских anima и animus. В Малом (четырехтомном) словаре 1985 г. соотношение трех слов-концептов представлено в полной ясности как сердце — средоточие психических чувств и эмоций, дух — способность к ним, а душа — их переживание. Оба академических словаря только о духе говорят как о «способности сознания, мышления», но и это может быть связано с влиянием французского слова esprit.
Заметно развитие концепта душа: для Даля это общее «внутреннее чувство», отличное от чувств внешних, для Овсянико-Куликовского это «сосредоточенность» чувства, воли и разума в единой их сути, для БАС — «средоточие», но только «чувств, настроений, переживаний» внутреннего (психического) мира человека, а для Ю. С. Степанова это уже «сущность» духовности вообще. Метонимические переходы смысла идут от «вещи» к «идее», но происходят на основе общего содержания концепта: душа есть единящая духовные качества личности сила, та самая, которая в древнерусских текстах предстает собирательно как чутье. В академическом «Словаре русских народных говоров» душа представлена в образе заветно нутряной ценности, которою никак невозможно поделиться, но которую следует щедро отдавать другим — тогда она растет. В народных представлениях о духе он совпадает с душою полностью, вот только устойчивости в духе меньше, к тому же он изменчив и постоянно преобразуется в формах. Совокупность значений слова душа, особенно в их исторической изменчивости, показывает, что в осмыслении концепта, стоящего за этим словом, всегда присутствуют общие ценностные идеи верха, нутра, света [Фразеология 1999], т. е. это абсолютная в своей неизменности духовная ценность.
Но сердце у славян уже издавна — носитель чувств и эмоций. Это главный орган, ответственный за все человеческие чувства (в отличие от других народов, у которых ту же роль играют печень или почки). Сердце и душа — синонимы, их связывает любовь, отсюда всеми признаваемая «нефизиологичность русского сердца» [Фархутдинова 2000: 101], несмотря на то, что в современных толковых словарях именно такое значение слова сердце приводится первым. Противопоставление сердце — голова как выражение оппозиции душа — дух идет с древности, а Григорий Сковорода положил его в основу своего философствования.
Последовательность отчуждений собирательного представления о жизненной энергии человека воссоздается легко, и для всех европейцев, пожалуй, в одинаковом виде: сердце > душа > дух >...
Что именно приходит потом (а для нас — сейчас), много лет назад проницательно описал М. И. Стеблин-Каменский. В его книге «Миф» в числе непропущенных к печати была такая страница: «Поскольку в языке, как и в мысли, есть только общее, тогда как чувство всегда индивидуально, осознание ценности индивидуального во внутреннем мире, т. е. ценности чувства, неизбежно приводит к осознанию невозможности выразить его средствами языка. Называя свое чувство общепринятым его обозначением, например, говоря „я люблю“, человек приравнивает свое чувство чувствам других людей, называемым тем же самым словом, и тем самым трактует себя как машину серийного производства, а свое чувство — как деталь такой машины. Таким образом, развитие самосознания заставляет человека раскрыть в себе робота. Не случайно уже в произведениях романтиков встречается мотив человека-куклы, человека-марионетки, человека-автомата. То, что человек оказывался, таким образом, совсем не тем, чем ему положено быть, трактовалось романтиками как трагическое противоречие, и так называемая «романтическая ирония» представлялась преодолением подобного рода трагических противоречий. Стремление обнаружить робота в человеке получило дальнейшее развитие уже в наше время в науке (кибернетика, теория информации, математическая лингвистика, генеративная грамматика и т. п.). Однако то, что в человеке можно раскрыть робота, в наше время уже не кажется трагическим противоречием, и это, вероятно, результат ассимилирующего влияния технического прогресса на сознание современного человека: машина ассимилирует человека.
Развитие самосознания, всё большая субъективация личности, т. е. всё большее включение в сферу личности того, что раньше было чем-то внешним по отношению к ней и за что несла ответственность не сама личность, а какая-то внешняя сила — Бог, судьба, несчастье и т. п., — были предпосылками и того, что стало самой характерной чертой современного человека, а именно — комплекса неполноценности. Вместе с тем развитие комплекса неполноценности было обусловлено, конечно, и усилившейся потребностью личности в самоутверждении, в частности — в интеллектуальной области. Но самый легкий, самый простой и самый естественный путь к удовлетворению потребности в самоутверждении в данной области — это, очевидно, следование тому, что всего больше противостоит традиции, т. е. следование последней моде в образе мыслей, взглядах и т. д. В конечном счете (уже в нашем веке) следование последней моде становится поветрием и в науке. Таким образом, усилившаяся потребность в самоутверждении обуславливает и свою противоположность — господство моды, т. е. стадность, даже в науке» (выделено мною. — В. К.) [Стеблин-Каменский 1976: 94].
Процесс становления личности происходит до сих пор, и одно из проявлений этого — вытеснение концепта душа концептом сознание, простым метонимическим переносом смысла. У Даля душа еще совесть, в толковых словарях чуть позже душа — сознание, а теперь душе и вовсе не осталось места, вместо нее словарно фиксируется только сознание. Однако душа — представление объективное, сознание — результат его субъективации. Так что «общая тенденция развития личности... не есть развитие личности каждого отдельного человека» [Там же], и сейчас мы можем закончить намеченный ряд превращений: ...сознание.
Чем «сознательней» человек, тем он беспомощней перед природой (натурой), и чем дольше хранит он в сердце своем свою душу как духовный свой капитал — тем вернее он человек земли, а не идея личности.
И если хорошенько подумать, в этом что-то есть... Что-то важное. А если сравнить содержательное наполнение концептов «душа» и «дух» в различных языках... станет совершенно ясно, что русская ментальность до края еще не дошла. Она отличает еще пока! — совесть от сознания.
Страх и ужас
Язычник — человек естественный, органический, природный. Человек Природы, он и входит в природу как ее часть.
Основное его чувство, которое становится почти религиозным, — страх, который в бореньях с судьбой и у-часть-ю может быть одолено лишь гневом или смехом. Вот три слова, которые даже в звучании, фонетически, в славянских языках отличались от других слов, им родственных или близких по значению. До такой степени являются они древними в своем сакральном смысле. Сравните это с теми выдумками зарубежных дам, которые русской ментальности на правах ключевых приписывают совершенно иные концепты: душа—судьба—тоска. Ничего подобного такому — христианскому — пониманию жизни у язычника нет. Древние славяне не верили в судьбу, не признавали наличие индивидуальной души, а тосковать им просто не было времени.
Гнев и смех очищают от скверны страха — в действии или в мысли. Если гневом и смехом страх не убит и развивается в ужас, он рождает темные чувства: тоску или озлобление.
Западноевропейские философы разграничили страх на боязнь (конкретного боя-битья) и на тоску — иррационально-неопределенное предчувствие страха. Ссылаясь на предсмертное стихотворение Некрасова «вечные спутники русской души — ненависть, страх...», Ю. С. Степанов считает [Степанов 1997: 670], что животное чувство страха присуще русскому человеку с пелен и до смерти. Но это не страх как тоска и ужас (ужасная тоска), а боязнь — чувство, воспитанное веками состояние неуверенности. Также Г. Л. Тульчинский с особым чувством отмечает обилие русских слов с общим значением ‘бить’. Можно добавить: и само слово бить разошлось в значениях и производных словах, которым несть числа. Как писал еще один культуролог, Петр Бицилли, от каждого существительного со значением ‘битья’ можно образовать глаголы: отстаканить, наегорить спину, припонтийствовать и прочие (и это только устаревшие) — «результат повального битья». Такова уж история у русского человека.
Передать общее впечатление от подобного битья можно по-разному. Здесь тот же путь собирания терминов, что и при обозначении других эмоций в их развитии от конкретного ощущения-чувства. В древности в многообразии ситуаций и в зависимости от силы переживания это были чисто физические ощущения:
боятися — это бой: боятися и трепетати в древней формуле; полошитися — это всполох (тревога, переполох): не бойся и не плашися! — взывает средневековый автор;
трепетати — это трепет (трястись; трепета — осина, у которой каждый листок трепещет);
страшитися — это страсть (оцепенение): убояшася страхом;
ужасатися — это ужас (гасит все чувства до исступления): не ужахайтесь и не страшитесь.
Удвоенные словесные формулы показывают переход от одной степени переживания к другой, а в целом, в приведенном (неполном) перечне обозначений аналитически представлены разные моменты в развитии чувства: общий смысл боязни физического воздействия (бой) — источник волнения (всполох) — проявление волнения (трепет) — возбуждение чувства тревоги (страх) — оцепенение (страсть) — и угасание ощущений (ужас), последняя черта, за которой прямая гибель.
По мнению психологов, в зависимости от интенсивности страх переживается как предчувствие, неуверенность или полная незащищенность (безнадежность, опасность), и «ощущение страха может варьировать от неприятного предчувствия до ужаса» [Изард 1980: 337]. «Русский страх» — незащищенность.
В эту систему конкретных видов-переживаний включается культурная парадигма и подчиняет себе разбросанность частных ощущений в собирательно-общее, выраженное словом страх. Слово стало символом, поскольку в авторитетных текстах именно с его помощью переводили множество греческих слов со сходным значением; к тому же по смыслу слово было амбивалентным, исполненным символического содержания: страшив муж страшивы мысли имать, страх божий, страха ради иудейска как цельные идиомы-формулы и теперь еще сохраняют символический смысл, обозначают вовсе не «страх иудеев» (наоборот: страх исходит от них) и не страх от Бога, а просто «боязнь греха». Символ «страх» отличается от других слов данного ряда и тем еще, что он выражает собирательно эмоцию как бы извне, отчужденно от переживания человеком этого чувства, тем самым объективируя смысл эмоции. Страх разрастается в личности, но именуется как отчужденный субъект, существующий как бы сам по себе. Культурный термин, этимологически соотнесенный с культовым своим рядом: страх—страсть—страдание, — становится символом, который в обобщающих высказываниях метонимически способен замещать конкретные оттенки чувства. Виды чувств становятся родом эмоции.
Страх — это сигнал опасности, ответ на предчувствие, незащищенность от внешних сил. Английские слова с этим значением издавна представляют страх как ужасное чудовище [Феоктистова 1984: 27—35], поэтому, видимо, в современном массовом искусстве на Западе создают страшилищ и страшилки в виде персонифицированных страхов; типичное отчуждение личной эмоции вовне с целью тем самым ее одолеть. В древнеанглийском представлении «человекообразность страха» — это сила, поражающая извне. В русской же ментальности страх воспринимается как сила внутренняя; тут важна не вещь, внушающая страх, а само душевное переживание, в страсти страдания преобразующее его дух. «Страх возникает от воображения опасности или гибели, — писал Иван Ильин, — а храбрость есть власть над своей фантазией». Мысль, высказанная не раз. «Страх от гордыни» (это — Татьяна Горичева), «страх— от испуга» [Чернейко 1997: 220] и т.д. Чувство опасности англичанин воспринимал как материальное воплощение причины страха (hild — враждебное действие), а наивысшая степень страха постигает человека в аду. У язычника славянина ада и в мыслях нет — он остается в его душе, понятой как вместилище всех духовных переживаний. «Подсознательное отношение русских к страху как к чему- то крайне индивидуальному и мало достойному (страх — это слабость) — действительно глубоко специфическая черта этого [русского] типа мировоззрения»; страх перед возможным наказанием, опасение реального действия — да, он был, но не метафизический страх, который создавал основания для глубокого невроза, столь мучительного для современного человека Запада. Русская душа свободна от такого невроза «тревожности», в полной мере наслаждаясь пороком безответственности [Голованивская 1997: 231]. По тем же причинам русская философия не разрабатывает темы страха, а русская литература не создает его окультуренных иллюзий. Не зная немотивированного страха, русский человек свободен в своих чувствах. Только страх как результат воздействия, но не страх-состояние и не страх как внешнее выражение опасных проявлений извне [Бабенко 1989: 178—179].
Окончательное оформление в социально важную идею страха у восточных славян происходит довольно поздно. Понятие «страх» как бы «снимается» с символа и теперь расширяется до обозначения всякой формы проявления данной эмоции: «Состояние сильной тревоги, беспокойство, душевное смятение перед какой-либо опасностью или бедой» — говорят нам современные словари, и говорят справедливо. Они подчеркивают, что страх как идея возможен и перед лицом того, чего в действительности нет. Не в том ли и проявляется развитие к цивилизации? Надуманные страхи, вселяющие тоску?
Страх и трепет окутали существование современного человека, и сотни философов уже написали об этом метафизическом страхе сотни книг и романов. Книг о том, чего нет в природе и что всегда можно подавить силой воли, преодолев его в гневе.
Страсть и страдание
Русский человек «пострадать хочет» — так выходит у Достоевского («страданием всё искуплено») и так Европа воспринимает русского. «Россия всегда была такая: она принимала к себе только душу страдающую», — добавил Михаил Пришвин.
Все-таки это крайности личных точек зрения. Значение ритуального страдания в моральном оправдании человека согрешившего (утверждал Николай Лосский), а нам говорят, что «сила русского человека проявляется в тот момент, когда начинается жертва» [Пришвин 1994: 7, 12]. И в наши дни явление страстотерпцев не иссякает, их создают представители политических течений, творя своих мучеников за идею. Ибо сегодня востребована идея, а не страсть души и не слово разума.
Психологи полагают, что «прототипической реакцией страдания был плач, и он является социальным сигналом, требующим жестов утешения» [Изард 1980: 158]. Страда — коллективный труд, страдание — коллективное же переживание страсти, уничтожающее страх. Тот же психолог писал, что страдание само по себе ничто, оно социализируется во взаимодействии: страдания и гнева — и создает противодействие страху; страдания и страха — и вызывает пессимизм, ведущий к утрате смелости; страдания и стыда — и порождает боязливую застенчивость, от которой тоже прок невелик.
Страдание есть способ формирования личности и укрепление духа [Касьянова 1994: 115] — это стремление к праведности; без страдания нет со-страдания, как без знания нет со-знания, а без духовной вести невозможна со-весть. «Нет ни блаженства без страдания, ни страдания без блаженства: одно необходимо сопутствует другому» — эти слова Льва Карсавина подчеркивают контрастность в социальных проявлениях Добра и Зла. Роль страдания — страсть в творении, в благом творчестве [Ильин 3: 331—333]. «Господь страдал и нам велел» — и на наших глазах страдания многих: заступников, святых и подвижников. Стремление к праведности — качество личности, противоположное фарисейству, — у американских респондентов не обнаружено (К. Касьянова), потому что оно и есть — устремление не к вещи, но к идее. В страстотерпце воплощен чистый дух страдания, страдательности, невинной вины, «претерпеть хочет». Таких почитает народ, потому что «лишь страдание оправдывает бытие державы. А почему так — об этом нужно думать обстоятельно и неторопливо» [Аверинцев 1988: 220]. Пока размышляем — и происходит всё то, что случается: после расстрела заложников «ответил немец: „Невинные должны страдать: для того они и созданы. Страдание — награда невинных“» [Пришвин 1994: 59].
Другой немец в годы войны записал: «Западный европеец старается преодолеть страдания посредством деятельности, русский же научился покорно претерпевать их», а это у него «громадная сила». Самое удивительное: «его уже давно не поражает то, перед чем мы приходим в ужас» [Штрик-Штрикфельдт 1995: 184]. Такой была жизнь автора без теплых клозетов во время боевых действий. Но и «покорно претерпевать» — это, пожалуй, слишком. Страдать по разным причинам можно, но только если страдание плоти осветлено идеальной целью; страсти — совсем не страдание.
Страсть и страдание — слова общего корня, как и страх. Нерасчлененный смысл исходной основы *s(t)ra-d- развернулся в несколько смежных значений, и для каждого конкретного понятия явилось свое особое слово. Слишком важным оно казалось для данной культуры, чтобы затеряться в производных словах. А первосмысл корня таков: усердный труд, неимоверно трудный, доводящий до боли, вызывающий крик — вопль страдания... страх перед ним, страсти в нем и страдание после него. «Страсти Господни» — распятие на кресте — высшая форма представления данной идеи. Потому что великий Праведник подвергнут мучительной казни самым рабским образом — на кресте.
Первообраз же корня *sra- ‘течь, истекать’ в струях трудного подвига преодоления — подобно тому, как речные струи обтекают острова на стремнине (выделенные слова — одного корня).
Изо всех трех слов только страх выражает человеческую эмоцию, все остальные запредельны. Да и человеческое чувство страха развивалось не сразу (мы это видели). Через страдание страх пробуждает страсть — готовность к действию, самому высшему деянию. Даже распятие русский писатель понимает так: это «не есть образ смерти, а образ творческого усилия личности, сжигающего плоть свою для прыжка в бессмертие. Распятие есть образ творчества личности, пренебрегающей в этот момент радостью жизни» [Пришвин 1994: 200].
Свои страдания не показывают другим, страдание всегда «твое» или «наше»; со-страдание, рождающее со-страдательность к другому. Сострадательность и великодушие.
Много писал о страдании Иван Ильин. «Верующий русский всегда готов к страданию. В „бессмысленное“ страдание он вообще-то не поверит. И если страдание настигнет его, то он смотрит не в прошлое на «причины» и «вину», а скорее в будущее, на преодоление страдания, его «смысл», его «цель», в надежде на очищение и наставление. Верующий православный убежден, что напрасных страданий не бывает» [Ильин 6, 2: 431]. Страдание говорит человеку самое важное из того, чем он в данный момент обязан заняться: потому что возник диссонанс между душой и природой — между идеей и вещью; со страдания начинается творчество; без него наступает всеобщая «сытость», которая разрушает мир и душу. «Вот почему человеку не следует бояться своего страдания. Он должен помнить, что бремя страдания состоит, по крайней мере на одну треть, а иногда и на добрую половину из страха перед страданием» [Ильин 3: 333].
Тут вступают в силу иные связи и отношения. Оппозиция казаться или быть, которую неправильно связывают с идеями славянофилов, на самом деле типична для русского чувства «скрытности» и «замкнутости». Далекий от славянофильства современник славянофилов, царский цензор Никитенко, записывал в дневнике: «Девиз нашего времени — казаться, а не быть». Таково нарушение национальной черты, которую Солженицын сформулировал просто: «скромность в совершении подвига, непогоня за внешним». Потому что внешнее — казаться — что бы то ни было: успех или горе, всё равно — это фальшь, а русский человек «психологичен, чуток, не переносит фальши» [Федотов 1981: 79]. В серьезные моменты он не способен «играть». Более того, он боится выказать свои чувства, потому что это может привести к осложнениям. Парадоксально выразил это состояние историк: неуверенность в себе возбуждает силы великоросса, «а успех роняет их. Ему легче преодолеть препятствие, опасность, неудачу, чем с тактом и достоинством выдержать успех; легче сделать великое, чем освоиться с мыслью о своем величии. Он принадлежит к тому типу умных людей, которые глупеют от признания своего ума» [Ключевский I :316].
Страдание требует жертв... но ведь это — плеоназм: треба и жертва — одно и то же, но треба предназначена богам языческим. Природе (требуется непотребное), жертву приносят — христианскому, а значит, жертвуют людям. Требовательность к себе самому, как и к другому, — тоже национальная черта. Как жить по правилам, что — правильно... есть неотступный вопрос жития. Правила для всех одинаковы, и нет морального прощения тем, кто их нарушает: «ни Бог, ни царь и ни герой...»
Легкость и мир во внутренней жизни человека достигаются аскезой, терпением и смирением; все три действия изучены Вл. Соловьевым в «Чтениях о богочеловечестве». Все средства, регулирующие чувства человека, аскеза, терпение и смирение направляют на самого себя, и всегда к устроению собственной личности. «Национальная скромность, самокритика и самоосуждение составляют нашу несомненную черту. Нет народа, который до такой степени любил бы ругать себя, изобличать себя, смеяться над собой» [Вышеславцев 1995: 115]. Готовность к самоосуждению, к раскаянию отмечает и Солженицын, и многие русские авторы, иные с осуждением, как Иван Солоневич.
Сказано слово — и всё понятно. «Ничего» как основа русского терпения (Иван Ильин) в корне отлично от интеллигентского нигилизма. «Это не значит, что русский человек "бесхарактерный". Ведь национальный характер русского возник из терпения: а это такой способ утверждения стойкости, подобно которому не найти во всей человеческой истории. Высшее выражение этого стойкого терпения, этой внешне, быть может, "угнетенной", но внутренне непоколебимой и в конечном счете торжествующей надежности проявляется в России в религиозном мученичестве и в солдатском подвиге, чему примеров более чем достаточно» [Ильин 6, 2: 398—399]. Это не проявление русской «биологической витальности», продолжает Ильин, и не «пассивная слабость» или «тупая покорность», — это напряженная активность духа, и не просто вера в победу или путь к победе, но сама победа, «победа человека над своей тварностью и над всякими "жизненными обстоятельствами"»; с такой точки зрения «терпение есть своего рода доверие к себе и к своим силам. Оно есть душевная неустрашимость... Мы не должны бояться за свое терпение и пугать его этим; а малодушное словечко "я не выдержу" — совсем не должно появляться в нашей душе» [Ильин 3: 360, 356, 358].
Страдание и терпение, к которым призывают философы, — не проявление мазохизма, а утверждение силы, которая веками держала русских на поверхности жизни. В терпении к страданию — скромность души, не претендующей на исключительность. Необходимо все-таки различать «любовь к страданию» как идею, патологически развитую в культах, в том числе и революционных, и народную «выносливость к страданию»; «страдание, само по себе взятое, не есть цель и не есть заслуга», — утверждал Бердяев, и он же сказал, что «обнаружилось необыкновенное свойство русского народа — выносливость к страданию».
Гнев и ярость
Два слова в старинной словесной формуле, можно сказать, из параллельных миров. У них различные точки отсчета. Ярый и лютый — вот система координат в телесно-вещном мире язычника. Лютый зверь древнерусских летописей — это неистовый, бешеный, лютый по природе своей. Лютость — его органическое свойство, постоянное качество — в отличие от ярости. Ярый — яркий (корень общий), временная вспышка лютости, вызванная обстоятельствами: движение в рост, огненный сбой. Яровые хлеба, весенняя ярка, бог солнца Ярило. Лютость во всем теле, ярость размещена в селезенке: «на золчном бо месте лежить» — сказано в древнерусском тексте.
Лютыми могли быть болезнь, огонь, беда, смерть, казнь, рабство, и воплощавший всё это бес. Яростью исполняются соперники перед битвой, убийцы, идущие на преступление, яростью пышет змей — существо, как известно, мирное. Лютость и ярость природны, естественны и конкретны.
Гнев же дело иное, гнев вызывает гроза, угроза. Это уже не природное чувство, но культурная эмоция, которая и есть ответ на слово, а не на вызов дела.
Слово гнев при своих корнях гной и гнить совершенно прозрачно по первосмыслу. Сюда же и полузабытое слово гнѣтити с сакральным его значением ‘возжигать огонь’ (посредством трения). Греческое слово sapria ‘гниль’ переводили словом гнев. «Русский гнев» вовсе не обретается в образе покрытого паршой путника, как полагают в сравнении с французским colere ‘желчь’ — тоже болезнь, но внутренняя [Головинская 1997: 235 и след.]; а гнев да ярость не обязательно порождают бешенство, франц. rage и зависимое от него русское слово раж (там же). Гнев — мужского характера, он закипает внутри, «в сердцах», а ведь «в гневе женщины больше живости, чем силы», — тонко замечал французский автор, говоря как раз о франц. colere [Рибо 1899] — та самая холера! — которая скорее похожа на сварливость. Это древние гнев считали припадком безумия, и вызвавший гнев был обречен. Культурные формы гнева (на уровне гиперонима — в слове, на уровне эмоции — в ощущении) — это его проявления интеллектуально в мыслях, форма «отсроченного нападения», которое может и тлеть в досаде, и разразиться в кризисе местью, и принять хроническую форму ненависти [Там же]. Слово сдерживает эмоцию, выжигая ее в мысли.
Страх ассоциируется с холодом («мороз по коже»), гнев — с огнем; страх в душе — гнев в сердце.
В «Изборнике» князя Святослава (1073 г.) сказано: «Ярость же гнѣву обща, страсть есть сласти и болѣзни»; от излишних наслаждений и болезней вспыхивают в человеке, истекая как желчь («велика болѣзнь есть гнѣв удержати: ярость и гнѣв умаляют дни»). Но ярость в своих проявлениях возможна и сама по себе, как ответное чувство и личная боль, тогда как гнев вызывают: прогневить значило раздражить. Ярость всегда видна, а гнев до поры таится. Бог на человека гневается («божий гнев»), человек на Бога — нет. Бог не впадает в ярость — человек же обуреваем ею.
«Яростный гнев угрожает душе смертью, — писал Лев Карсавин, — но часто он — сама жизнь, душу воскресающая. Если не ослабеет его сила, разрушит и сожжет он в своем пламени «второе я», и темный огнь его станет чистым и светлым, но бесконечно мощным огнем поедающим, пыланием Всеединства. Где нет гнева, где изнемог он и затих, там ждет душу последний и самый тяжкий из смертных грехов — тоска, воистину грех смерти и тления».
С другой стороны, слово гневаться не имеет значения ‘пугать’, тогда как у слова грозиться такое значение является основным. Определение грозный значит ‘страшный’, а гневный — нет. Знаменитая «клюква» европейского путешественника XVI в., писавшего, что своего царя Ивана Грозного московиты прозвали Васильевичем за исключительную его жестокость, никак не соответствует смыслу слов. «Эпитет "грозный" выражал хвалу, по крайней мере одобрение, а никак не порицание. Не наставлять, не руководить подвластных, не взыскивать с них, когда они того заслуживали, считалось в глазах самих подвластных предосудительным признаком равнодушия, невнимания» [Кавелин 1989: 215]. Уже дед Ивана IV, Иоанн III, получил название Грозного «за строгое обращение с вельможами». Впрочем, подобные «клички» не всегда остаются в истории, да и смысл их со временем изменяется. Академик Федор Кони приводил слова поэта Некрасова: «Эх, отец! Ну чего искать так далеко, да и чего это всем дался этот Иван Грозный? Еще и был ли Иван-то Грозный?» — глубокая мысль, которую и сегодня невредно обдумать на досуге.
В «Слове о полку Игореве» речь идет о всеобщей угрозе — там часто слово гроза употребляется в исконном его смысле. В «Сказании о Мамаевом побоище» (конец XIV в.) Мамай шел на Русь «гневом дыша аки ехидна — неуклонно яряся — выходил с грозою»: в гневе разжигал себя перед боем, угрожая Димитрию.
Наложение культурных христианских терминов на язычески-натуральные, природные вызывало некоторые сбои смысла, в частности некоторые значения старых слов вошли в содержание символов гнев — гроза. Но современная нам мысль густеет в понятии родового смысла, словесно выраженном в гиперониме, ей важны не конкретность физического чувства-ощущения и даже не отвлеченность культурной эмоции, тоже связанной с причинно-следственным рядом (и выраженном в слове-символе): Иван — Грозный, но Бог-то — гневный. Современная мысль вообще витает (в переводе значит обитает) в абстрактных идеях, а тут ни образ, ни символ уже не годятся. Требуется однозначность строгого понятия, запечатленного в слове-термине. Таковым и стало в литературном языке слово гнев. Стало потому, что по общему набору содержательных признаков только оно выражает эмоцию со стороны высшего по отношению к низшему; оно обладает духовным содержанием и возникает как ответ на вызов со стороны. Все стилистически высокие маркировки слова выдвинули его на первый план. К тому же при постоянных переводах образцовых текстов с греческого языка слово гнев использовалось для передачи всех оттенков этой эмоции, заменяя множество греческих слов со значениями ‘раздражение’, ‘досада’, ‘порицание, упрек’, ‘сердитость’, ‘угроза’, ‘гневная злость’, ‘безумие исступленности’. Полный набор ощущений — и все в одном слове; расширение объема понятия сгущает его содержание в самом выразительном признаке. В слове-гиперониме.
Как легко теперь стало «мыслить логически»! Скажешь: сердитость — это гнев, — и всё понятно в смысле «понято». Наличие гиперонима, заменившего символ, создает иллюзию точности мысли, но мысли, данной вне личного ощущения и понятой помимо чувства.
Исследователи «английского гнева» полагают, что русский гнев ближе к значению того архаичного слова, которое значит ‘ярость’ — wrath. Это неверно, поскольку английское слово связано с «гневом Божьим», а в русских представлениях Бог — вне проявлений ярости. «Сердитость» не подходит тоже, в английском слове anger такая идея уж содержится. Неверно и утверждение Анны Вежбицкой, будто в русском языке эмоцию гнева чаще передают с помощью глагола, а в английском — посредством обобщенного в понятии имени. Английское слово одновременно и имя, и глагол, различие касается лишь контекста — но в русском словесном контексте возможно совмещение сразу нескольких слов с выражением различных оттенков гнева (что мы и видели на примерах — так было всегда). Здесь и глагол, и имя, т. е. и понятие, и предикативное усилие мысли выразить оттенки данного понятия в его определении.
Английское представление о гневе совпадает с русским: «огонь: жар» души, ведущий к «перегреву» до помешательства, которое возникает в результате траты энергии [Лакофф 1987: 388]. Это по-английски прагматичная точка зрения на эмоцию, требующую экономии усилий. Русское представление о гневе — это образ исходящего из души «нервного гноя», предстающий как результат уже прошедшей душевной «болезни». «Гнев есть огонь, и от него сердце разгорается пуще огня» — это слова Александра Потебни, искавшего в народных текстах символические значения слова гнев. Для немецких протестантов гнев — душевное усилие, необходимое для избавления от зла (Лейбниц); для католиков, говорил Фома Аквинский, это условие достичь справедливости. Во всех случаях гнев предстает как мобилизация внутренней энергии для достижения цели, это «оборонительная агрессивность», как говорят психологи; гнев направлен на кого-то или на что-то. Гнев нацелен. Гнев трудно воспроизводить независимо от ситуации, да и в обозначении гиперонимом гнев сама эмоция по-прежнему предстает многослойной. Для Владимира Соловьева это «страсть гнева», для Сергея Булгакова — «упоение гнева», для Павла Флоренского — «внутреняя жажда» самоутверждения — чем больше она распаляется, «тем яростнее вздымается высоковыйный гнев». Действительно, только высоким слогом о нем и говорить.
Смех
Иностранца изумляет насмешливый характер русского человека, а его способность к самоиронии и веселая бесшабашность в отчаянных положениях — пугает и настораживает. Но и русского уже со времен Ивана Грозного бесконечно удивляла надутая напыщенность иноземных гостей, «цесарских послов» с Запада. Вот в чем важное расхождение в ментальности.
О склонности русских к шутке в самом серьезном деле говорят многие, но только русские писатели отмечают, что «юмор есть признак таланта» (Михаил Пришвин), что «без юмора нет ума» (Дмитрий Лихачев), что «смех есть наименьшая единица освобождения» (Татьяна Горичева): да и вообще — «без смешного не бывает и жизни» (Федор Достоевский), потому что «без шутки ни говорить, ни писать нельзя» (Алексей Хомяков). Благоговение перед высоким и насмешка над пошлым и низким идут рядом, заметил Николай Гоголь, и эта особенность русского характера весьма замечательна. Бытие и быт сплетаются в общую нить жизни именно в момент, когда делают выбор между ними — там, где и возникает ирония: «где ум живет не в ладу с сердцем» (Георгий Федотов). На смех надо осмелиться, нужно посметь осмеять.
Терапевтическое значение смеха в культурной жизни русских определяется полным совпадением с прочими особенностями его ментальности. Историк культуры [Ахиезер 1998: 449—450] пишет о том, что «смех — отрицание посредством утверждения и одновременно утверждение посредством отрицания», но апофатичность русского склада мысли хорошо известна; что «смысл смеха в том, что он — эмоциональная форма, выявляющая господство человека над внешним явлением, над бытием», — но природно-чувственная форма восприятия мира тоже черта русского характера; что «смех в скрытой или явной форме в оппозиции „Я — не-Я“ выявляет приоритет ,,Я“» — но неявные формы субъективации всякого высказывания также являются русской формой выражения мысли; что «смех снижает сложившуюся ценность» — и это находит свое отражение в русском отношении к «дутым ценностям» мира сего; что «смех помогает человеку подняться над собственной ограниченностью, является знаком превосходства над ,,не-Я“» — и это в полной мере также относится к русскому человеку, только в своем языке долгое время остававшемуся свободным. Увы, «борьба государственной серьезности и народного смеха всегда была неравной. Смех беззащитен под ударами топора серьезности. Однако смех неистребим, он везде и повсюду, и топор слишком груб и неповоротлив, чтобы успеть везде» [Там же: 452].
«Смех как великое освобождение» [Вышеславцев 1995: 115] традиционно русская проблема. Это способ снять отрицательную эмоцию, смех освобождает от горя, грусти и беды: «Кто смеется, тот не злится, потому что смеяться значит прощать», — заметил Василий Ключевский. Это значит прощать. Смех — народная привычка мыслить, и не только у русских. Но у русских это особенное. Например, француз «считает, что перед лицом встающих в жизни проблем возможны две реакции: гнев и смех. Поскольку постоянно находиться в разгневанном состоянии невозможно, надо смеяться» — это помогает избежать фанатизма, помогает не слишком уж доверять собственному мнению, не впадать в крайности, сохранять независимость, потому что «независимость — это ключ к счастью» [Зэлдин 1989: 260]. Для француза остроумие есть игра мысли, для русского — извержение эмоций в слово. А только после этого можно и прощать.
Историки культуры утверждают, что смех — коррелят страха. Освободиться от страха можно смехом, слезами или гневом. «Смех сквозь слезы», «смех до слез», «грустный смех»... такие сочетания неслучайны тоже. Смех и слезы связаны общей эмоцией, хотя и противоположны по результату. В русской ментальности, говорят нам, доминирует черта: слезы, которые единят — в отличие от смеха, которым нельзя поделиться. И якобы по этой причине на Западе больше нас смеются, у нас же — больше плачут в горе. Русские философы иного мнения, практика жизни — тоже. Горе убивают смехом, тем самым сохранив в своем подсознательном архаическую оппозицию смех и слезы: смех — достояние неба, слезы — подземного мира; смех и слезы есть метафора смерти в двух ее проявлениях: возрождения и умирания, живой и мертвой воды жизни.
Смех отличает человека от животного, он развивает вторую сигнальную систему на стыке образа и понятия, пользуясь словом. «Человек смеющийся, — говорил Аристотель, — это и есть человек». Исполняя важные социальные функции, смех становится признаком общественной среды и характеристикой ее развитости. Чтобы, пробуждая ее к жизни, развеселить сказочную царевну Несмеяну (Природу), нужны труд, смекалка и внутренний огонь любви. По мифологическим сюжетам и отрывочным историческим свидетельствам мы знаем особенности «смеховой культуры» Древней Руси, она описана во многих работах.
Когда Владимир Пропп говорит о царевне Несмеяне, он обсуждает жизнеутверждающий смех религиозной магии, а запрет смеха — как умерщвление человеческого. Когда академик Лихачев говорит об амбивалентности смеха — смех и созидает, и разрушает одновременно, — он говорит о раздвоении мира, свойственного именно сознанию человека (образ мира и память о нем). Когда Михаил Бахтин говорит о раскрытии тайны в смехе — путем обнажения тела (вещи) или откровения тайны (идеи) — он говорит об обнажении сущего как овеществлении символа (символика вещного есть отражение тайны).
И хоть смех наиболее непритязательная эмоция, сродни кашлю, «лишь арифметика натуральных чисел нравственности» [Тульчинский 1996: 88] (красивая фраза, было бы жалко ее опустить), однако история смеха поучительна. Направление реконструкции задано В. Я. Проппом: динамика превращения древних телесных отношений и магических действий с вещью в единую художественную систему культурного текста, текста как кода ментальности (идеи); сложение ментального ряда идет параллельно со сложением типичного текста. Остается только «снимать пласты», наслоения: этимологически (возникает образ), исторически (кристаллизуется понятие) и концептуально: символ дан и задан как программа действий и одновременно как результат (он содержится и в сказке-мифе). Мы смеемся не так и вовсе не над тем, как и над чем смеялись когда-то; счастливей те, кто не смеется вовсе. Им еще многое предстоит для себя открыть. Так, как открывал для себя смех человек прошлого. Архаический смех амбивалентен — одновременно это и осмеяние, и восхваление: утверждение в отрицании. Его переживание медиально-возвратно, смех направлен на себя самого, и у русских это именно так: нет глагола *смеять, есть — смеять-ся.
Этот смех обращен на себя самого (валяет дурака), через себя самого личность показывает нарушение гармонии мира, чувства и мысли о нем. Это — покаяние вовне без обличения других, но заметно, как смех видоизменяется со временем. Даниил Заточник в XII в. живет еще в атмосфере такого смеха, а в XVII в. протопоп Аввакум в смехе уже нападает на противников; в XX в. в текстах аналогичного жанра — авторского жития — Солженицын совершенно серьезен и только нападает («Бодался теленок с дубом»). Есть увязки с формами языка. В древнерусском не было местоимения третьего лица, его заменяло возвратное себя (сам себя). Говорить о другом значило говорить о себе как бы со стороны, нарушая тем самым порядок и чин, к которому все привыкли. Юродивый — у-род — обнажением сути всего — в теле и в слове создает как бы новый у-ряд, по-ряд-ок. Сущность смеха в удвоении сущего, в символическом размежевании реального и идеального, с тем чтобы посредством слова высветлить суть идеи как бы извне, показать ее всесторонне и воздействуя по возможности сразу на все чувства. Д. С. Лихачев верно писал, что «ободрение смехом в самый патетический момент смертельной угрозы всегда было сугубо национальным, русским явлением» [Лихачев, Панченко 1976: 77]. Психотерапевтическое снятие отрицательных эмоций в движениях и словах скоморохов; скоморохи особенно активны в напряженные для общества моменты истории. Смех спасает от гордыни, он защищает от страха, он помогает объединиться. Это именно смех и хохот, подчас совершенно грубый, не тонкая ирония англичанина, вообще не та ирония, «которой научили нас Гейне и еврейство», а гоголевский смех сквозь слезы или соловьевский хохот, — говорил Александр Блок.
Такой смех не создает веселья, потому что общей радости нет, а есть отторжение горя. Маркировано в оппозиции именно горе, которое следует превозмочь. Это — «задумаемся» Василия Розанова: «смех до плача доводит», «и смех и горе».
Возникающая при этом мысль движется в образах, попутно порождая новое, не сформированное в своей законченности понятие. Смех активен, это всегда движение, которое в словесно-образном представлении передается глагольными формами; сотни образных глаголов существует в русских говорах для передачи такого состояния и переживания в нем.
И в древности смех рождался в словесной игре, скоморох балагурит, «говорит-сказывает», юродивый прорицает в слове, мудрый советник изрекает неожиданное. Основной источник смеха здесь не действие, а именно слово. Слово, которое вызывает энергия действия.
Отражаясь в слове, а не в деле, смех и осмысляется в слове, потому что вторая сигнальная система вербальна: вся средневековая культура в основе своей вербальная культура, она направлена словом, Логосом.
Изнаночный мир обобщенно-целостен, поскольку он противопоставлен «небесной, идеальной цельности». Смеются над нарушенной гармонией (неладно что-то...) или — желая ее разрушить.
Так развиваются два типа смеха: смех добрый — и смех злой.
Смех и насмешка
В древности проявления смеха пропитаны еще природно-вещным смыслом, формы самого смеха конкретны и очень специализированы. Впечатление, что они и не воспринимались еще как смех — радующий или устрашающий. В любом случае это был знак отношения к другому, жест, не насыщенный словом, который требует ответной реакции.
Разрушение гармонии представлено многими словами, ныне утраченными литературным языком как слишком конкретные по смыслу. Все они, естественно, представлены глаголами (в скобках даны этимологические первообразы):
глумитися — насмехаться дразня (издавать шум ртом; гудеть)
ругатися — насмехаться понося (ощериваться ворча)
охритатися — насмехаться с презрением (кричать во всю пасть) и т.п. — в общем образе оскаленной пасти: показать зубы.Бальмонт приводил слова из народной песни: «зу-у-бы-то оскалил, будто сме-е-х одол-е-ел!» «И волк зубоскалит, да не смеется». Это глум, глумление. Русский философ Георгий Федотов говорил, что глумление — такой смех, который убивает прежде всего самого смеющегося.
Нарушение гармонии столь же выразительно:
скалитися — трескаться, покрываться трещинами (губы расходятся на лице) — смех вообще;
склабитися — образ трещины-гримасы на лице (начало улыбки);
улыснутися — блеск (зубов) в «трещинах» лица (лъск — блеск в трещинах; слово лесть того же корня);
лыбытися — скалиться подобно черепу (корень лъб- — череп);
грохотати — хохот (стучать зубами в приступе смеха; исконный смысл корня ‘бить ключом’).
Всё это благожелательный, радостный смех, улыбка (сохранился корень слова лыбытися). Не зубы демонстрируются (знаменитая американская улыбка), а только игра губами: не укусит.
Интересная подробность, подтверждающая уже замеченную другую: все древние глаголы — возвратные (на -ся), выражают взаимное действие, ответный жест дружелюбия или враждебности.
Все приведенные слова в старых (переводных) текстах согласуются с греческими словами, благодаря чему можно понять, что две формы смеха объективно противоположны. При переводе греческих слов подбор славянских эквивалентов показывает, что глумитися, ругатися, охритатися значат «оскорблять, болтать (пустословить)», даже «горестно оплакивать (в горе)», тогда как вторая группа глаголов значит «улыбаться, смеяться, хохотать». В первом случае в образном подтексте высказывания — шум (соотносимый с произнесением согласных звуков: рычание или рык), во втором — смех (соотносится со звучанием гласных: открытый смех).
Соотнесенность с греческим рядом в христианских текстах показывает, что перед нами уже культурная оппозиция по признакам пустошное — содержательное в смехе. И как раз пустошное на Руси осуждается («темный смех»). В этом — средневековая ориентация на слово как определяющую силу эмоции; не на вещь в ее телесности, а на содержательность слова. Смех должен быть содержательным, а его содержательность заключена в слове.
Приветливая улыбка и — смех. «Смех не может продолжаться долго; долго может продолжаться улыбка» [Пропп 1976: 150].
Таковы оттенки «древнерусской улыбки», представленные на все случаи жизни. Каждая ситуация и любая встреча имеют право на свой собственный вид улыбки или смеха. Представление о ситуативной форме смеха полностью определялось конкретностью данной «вещи», действия или лица, и обозначалось глаголом, внутренней формой признака как бы рисующим образ эмоции. В древности проявления смеха пропитаны природно-вещным смыслом, формы смеха конкретны и специализированы. Вполне возможно, что не все из них воспринимались как смех, устрашающий или радующий. В любом случае это знак отношения к Другому, жест, не насыщенный словом, который требует немедленно ответной реакции («отложенная реакция»). Привязанные к вещному миру виды смеха собрались в два типа социально осознанной смеховой культуры. Смех творчески-ритуальный, сакральный, способный привести к на-рушению гармонии, — смех уничтожающе-воинственный, разрушительный, злобный, способный вызвать раз-рушение гармонии, противопоставлены.
Так «щель» или «пасть» — образ безразличен — расширяются и наполняются словом, посредством которого дифференцируется смысл природного жеста. Жест через слово становится культурным знаком, и слово порождает иерархию впечатлений от смеха, различая по качеству уже не сами жесты в отношении к вещи, но именно впечатление от вещи. Смех в слове становится признаком личности, избравшей особую форму выражения смехом.
Михаил Пришвин заметил в своем дневнике, что «улыбка — это единственное, чего не хватает в Евангелии», но, с другой стороны, и «в мещанском обществе смеяться нельзя». Таковы две крайности, область сакрального и область профанного, которые не допускают чисто человеческой эмоции. Высокий и низкий стили одинаково избегают смеха. Крайности определены ритуалами и традициями, в них невозможно проявление личности, то есть свободы. Наоборот, тексты и ситуации среднего стиля, со временем ставшие основой литературной нормы, постоянно возвращаются к противопоставлению смеха злобного, бесовского и смеха радостного, творческого. Народная культура в высоких образцах своей поэзии сохраняла по существу языческие энергии смехового мира, но распределила их в соответствии с христианским этическим дуализмом. Ощеренная пасть разъяренного беса — и нежная улыбка Богородицы стали символами, вобравшими в себя все исходные образы смеха.
Но само слово смѣхь — единственно полное имя, не глагол (хо-хот употреблялось в другом значении), именно с этим словом и было соотнесено греческое обобщенное γέλως, а также λάλημα ‘болтовня’ (смех в слове!). Единственное имя предметного значения, включившее в себя смысл всей совокупности конкретно глагольных слов, слово смех становится символом, а в современном литературном языке — гиперонимом родового значения. От него образуются и глагольные формы, в полной мере заменяющие множество конкретных древнерусских: смеяться — насмеяться, высмеять, осмеять, насмехаться и пр. — «единый смех», собранный через слово в идею смеха и впервые гомерическим хохотом прозвучавший на Руси в XVII в. (отдаленные его раскаты — в шутейных затеях Петра). Век XVI его не знал: смех Ивана Грозного — это глум. Это завершающая стадия обобщающей работы коллективного сознания; на место конкретно-чувственного, каждый раз легко осознаваемого в его проявлениях смеха явилось общее обозначение эмоции, гипероним смех. XVII в. взрывается раскатами смеха, проявляющего себя в деяниях, в текстах, в жизни. Подспудное народное чувство прорвалось наружу в момент, когда раскалывался мир Средневековья. Россия словно возвращалась к тем временам, когда во всеобщем ритуальном смехе видели единственную возможность преобразовать мир, пробуждая его к новой жизни. Русский смех остался созидающим, но изменился качеством в выражении. Он стал понятием и был осознан как творческая сила.
И природный, и культурный, и социальный смех в своей триипостасности нацелен на сохранение лада. Гармонию не следует нарушать, эти жесты творчески бесплодны. Нужен творческий смех, и потому необходимо ответить на вызов: нужно по-сметь. «На открытое нахальство следует отвечать молчаливым смехом», — советовал Василий Ключевский.
Непонятно утверждение, что «русский смех — личностно направленный, безапелляционно врывается в трагичность личного бытия, беззащитного перед man — способен и Христа на кресте осмеять» ([Тульчинский 1996: 69], — но кто осмеял Христа на кресте — известно) — в отличие, якобы, от смеха английского (построен на языковой игре — номиналистичен), французского (концептуален, построен на игре ума) и даже немецкого, который ситуационен, построен на игре положений (реалистичен).
Русские философы заметили эту черту славянской ментальности — способность оценивать всё с юмористической точки зрения, добавив, что еще и англичане разделяют с нами такую особенность мысли. Такую, да не совсем. У англичан юмор «тоньше», в том смысле, что англичане-номиналисты воспринимают как юмористические конфликты между идеей и словом, им кажется, что о вещи они всё знают, из вещи исходят в своих суждениях, а проверке — через смех — подвергают не идею в отношении к вещи, как мы, а идею в отношении к слову.
Русский смех всегда одинаков — это «взятие на себя»: обращенное чувство. Таковы и скоморошина, и даже юродство. Смех над самим собой. Русский язык слишком долго толкал сознание на этот путь, например пересечением субъект-объектных отношений в общем слове и высказывании, выраженным, в частности, категорией залога. Какую-то роль в этом случае сыграло представление о собирательной множественности согласно принципу соборности, да и различные формы смеха, еще не собранные вместе («ситуационные»), которые по-немецки педантично перечислил В. Я. Пропп [Пропп 1976: 142] — от смеха доброго до смеха от щекотки. Всё это общим имеет признание того, что смех вызывается противоречием между идеалом должного и вещным его проявлением («черствые и тупые не смеются» — видимо, потому, что им трудно согласовать несогласованность идеи и вещи). Духовность и моральное лежат в основе человечного смеха.
Постоянный интерес русского «реалиста» (в философском смысле) к идее, исходящей от вещи, обогащает мысль и развивает саму идею, которая предстает в разнообразии видов, освещенная каждый раз по-разному, многослойно и красочно, сама постоянно изменяясь. В этом достоинство «реалиста». Подобное бифокальное зрение обогащает его новым знанием и о вещи, и об идее в диалектическом движении мысли. Обогащает через личное познание, а не получением информации о чужом опыте через слово. Юмористическое отношение к миру возникает в зазоре между реальным и действительным, между идеей и вещью, а именно в этом, недоступном рассудку, пространстве и кружит воображение реалиста, способного принять этот мир таким, каков он на самом деле: смешным.
Радость и веселье
Реалист ценит смех за минутную радость — чувство освобождения (Алексей Хомяков). Радость и веселье — тоже древняя формула русской жизни, сохранившая представление о совместности личной радости и коллективного веселья: личного переживания эмоции и совместного действия.
Но ученые разделяют эти два слова, говоря о самобытности их существования.
Радость возводят к отглагольному корню в перфектном значении; он обозначал состояние духа человека, возникшее под влиянием внешних причин, которые всегда остаются неведомыми и самому радующемуся. И источник радости, и ее переживание обозначались «как объективное явление, так и субъективное чувство», совмещающее «целевую причину» — тот мотив действий, который одновременно устанавливает цель, ради которой следует действовать, и объясняет причину вызванного этим состояния [Степанов 1997: 306, 308]. Предлог ради, слово радуга и множество других остатков старого глагольного корня сохранились в современном языке, но теперь они специализировали свое значение, даже глагол радѣти > радеть (грибоедовское «ну как не порадеть родному человечку!») — ‘заботиться о...’. По мнению академика Ю. С. Степанова, *rad- значило ‘готовый к благодеянию, его совершению или восприятию’, т. е. (в глагольном воплощении) — делать кого-то веселым. «Ощущение внутреннего комфорта, удовольствия бытия, возникшее в ответ на осознание (или просто ощущение) гармонии меня со средой, „заботы“ кого-то обо мне (это причина; причина здесь может быть и ,,неведомой“), и сопровождающееся моей готовностью проявить такую же заботу в отношении к другому. Это — мотив, цель; как и причина, цель и ее объект — „другой, другое“ могут быть также „неведомыми“, лингвист сказал бы „референтно неопределенными“, — „другое“ здесь, по отношению к которому я проявляю готовность, — это сама жизнь» [Степанов 1997: 312]. В русском языке представлено несколько сочетаний с выражением типичного признака «радости» — беспричинная радость, неожиданная радость, непонятная радость, возникающая в человеческом сердце вдруг и случайно. Социальность этого чувства — известное его свойство. Радость соединяет людей.
Формула радость и веселье также возникла как распространение внутренней формы слова радость: веселье есть уже результат совместной радости, претворенный в действие.
Академик Н. И. Толстой рассматривал символ *ves-el- в реалиях рождения и Рождества, весенних (*ves-na) празднеств (свадьбы, светила, стихии, солнце, радуга и т. д.). Это проявление сакральных, небесных, духовных и потому душевно-внутренних переживаний язычника, которые сохранились в современном представлениях именно благодаря внутренней форме древнего славянского слова; веселый — здоровый и, следовательно, счастливый [Толстой 1995: 316]. «Веселие света сего» — это праздник, потому что праздник — совместная радость, не обязательно смех, но именно радость, взаимная обращенность близких друг к другу, желание быть вместе.
В староанглийском радость — нечто, что обязательно воспринимается зрительно и на слух, т. е. вовсе не внутреннее состояние души человека, хотя также связанное с культовым действом [Феоктистова 1984: 45]; в словах типа wynn, blise выражена идея, близкая к смыслу славянского слова веселье. Петр Бицилли [1919: 45] писал, что средневековая Европа понимала радость — gaudium — как вещь, которая присоединяется к эмоции и многократно может быть усилена, сначала как радуются, потом как радуются радостью, затем как радуются великой радостью. В древнерусских текстах подобное расширение смысла риторическим плеоназмом также возможно. Такое впечатление, будто внутренний смысл древнего слова выпирает наружу, в некоторых случаях не обретая смысловых границ. Великая радость переполняет сердца.
Современные исследователи полагают (ошибочно), будто русское представление о радости ограничивается состоянием удовольствия. Это не так: здесь просто влияние французских слов (например, joie, plaisir), которое семантически распространилось в литературном языке. Русское «испытать радость» вовсе не значит «получить удовольствие». «Русская радость» альтруистична, она избегает эгоистических удовольствий так же, как и не связывает радость со страданием. «Радости нужно страдание, — писал Шеллинг, выражая немецкое представление об этой эмоции, — страдание должно преображаться в радость». Когда Лев Карсавин в своих парафразах выражает ту же мысль, он просто следует за идеей немецкого происхождения. Ни английского внешнего впечатления, ни немецкого страдания, ни французского удовольствия русское состояние радости не несет.
Это чувство единения с миром в естественном состоянии здорового духа.
Грусть-тоска
Русский смех — добрый. Он спасает от горя. И в грусти-тоске тоже происходит «взятие на себя, на себя обращенное коллективное переживание присутствует и в беде. Своеобразное психотерапевтическое средство освобождения. В древнерусской литературе только сугубо положительные личности — герои и святые — наделялись особым чувством душевного очищения в невзгодах — грустью, тоской и печалью.
«Русский энтузиируется тоже по-своему: в такие минуты русская женщина ударяется в слезы, мужчина впадает в грусть» [Ключевский IX: 423]. Старая русская чувствительность, так мешающая трезвой оценке сложившихся обстоятельств. Тот же Ключевский иронически заметил: «Надобно сказать правду об этой идиллической чувствительности: для массы сердец она служила только приправой чувственности, не смягчая чувства» [Там же: 369]. Именно в этом оттенке и следует понимать традиционное русское уныние-умиление, впадающее в душу в самый неожиданный момент. «Необходимо освободиться от старой русской чувствительности, от ложной сострадательности и сентиментальности, от исключительной власти чувств и эмоций, в которых тонет воля и разум. Россия погибает от экстенсивности русской души и русской культуры, от слабой интенсивности труда» [Бердяев 1989, 4: 248].
Не станем множить примеры из текстов и словарей, связанных с обозначением оттенков этого — сначала чувства, потом эмоции. Но исходный первосмысл, на который веками наслаивались образные переносные значения корней, знать необходимо. Совмещение древнего, очень конкретного («ситуативного») значения с благоприобретенным в культуре новым и создавало в старые годы символ, за которым скрывалась целая цепочка внутренних переживаний:
грусть — как отвращение: она грызет
печаль — как забота: она печет, жжет
тоска — как стеснение духа: она истощает (ей сродни и скука)
плач — как битье (в грудь): он колотит
скорбь — как усиленная забота: она загрызает сердце
туга — как тяжесть на сердце: она тянет
мука — как сильное терзание сердца: она давит — и т. д.
Самое новое из этих слов — грусть, оно неизвестно до XVII в. Это неопределенное чувство неловкости, дискомфорта, еще не печаль, но уже и не скука, а первый приступ в переживании, которое усиливается и растет. Грущение в древнерусском, грустко в народной речи то же, что скучно. Чего-то не хватает. Все остальные слова древние, они располагались не только по степеням усиления эмоции, но и по происхождению. Слово скорбь церковно-книжное, но в русском произношении (исконное его звучание скербь), а равное ему по смыслу народное туга почти исчезло, осталось столь же простонародное производное тужить. Туга и скорбь — публичное переживание личного горя; поэтому они и явились извне и поздно.
Цепочка образных осмыслений конкретного переживания — всё обращено в себя, в личное чувство; таково исходное его состояние. Но христианская культура принесла с собою обычное распределение слов, обозначающих разницу между личным переживанием и соборным несчастьем. Родилась собирательная формула горе да беда, горе не беда. Личное горе и совместная, со стороны налетевшая беда. Слова эти также участвовали в выражении чувства душевного смятения, но были как бы вариантами, восполняли выражение «подавленного состояния духа». Горе от гореть, как печаль от печь, тот же смысл — слитность культурного психического переживания, данного как средство приспособления к утрате; беда, по исконному смыслу корня, значит ‘клятва, присяга по принуждению, данная под давлением’. Народное бедою значит ‘по нужде’ (например, о голоде). Горе — переживание, беда — действие враждебных сил, вызвавших такое переживание.
Сочетаний такого рода множество в древнерусских текстах: скорбь и туга, горе-печаль. Они как бы сдваивают эти связанные друг с другом ощущения — горестное чувство и утрату душевных сил, которое вызывает это чувство. Удвоенность переживания — причину и следствие — формулы речи выражают описательно, но всегда понятно, какой конкретно оттенок имеется в виду. Тем более, что чаще всего переживание выражалось глагольной основой: старые формы известных слов были другими — скорбение, тужение, огорчевание, грущение, огорчение и др. С действия «снимались» типичные его признаки, которые сначала уточнялись в двоичных формулах, а затем обобщились в простых именах- гиперонимах.
Исторические исследования показывают динамику горестных чувств [Алексеев 1999].
Многие слова конкретного значения к Новому времени просто исчезли или изменили свое значение. Такие, как желя и сокрушение («сокрушение сердца») изменились до XVII в., трудъ и туга до XVI, но в том же XVI в. явились в этом смысле горесть, кручина и жаль, и в каждом из них сохранялся некий свой подтекст, как, например, в словах печаль (беспокойство, забота, досада), скорбь (боль, нужда и мучение), тоска (стеснение сердца) или уныние (небрежность и вялость сердца). Заметно движение мысли от конкретно телесных переживаний (в боли, в мучении, в тяжком труде) к более чувственным, а затем и душевным в самом прямом смысле.
В современном обиходе почти все эти слова остались, мы даже чувствуем повышение степеней эмоции: скука → грусть → тоска → печаль → скорбь → мука, — но собирательно-общим в этом ряду стало слово горе. Оно обозначает ‘душевное страдание, глубокую печаль, скорбь’, но одновременно и событие, вызывающее такое состояние, и общее понятие о беде вообще.
Это значит, что слово горе, вобрав в себя оттенки других слов ряда, стало гиперонимом родового смысла. Оно выражает идею горести, взлелеянную на массе со-значных слов.
Как и в других случаях, здесь возникает желание сравнивать различные типы ментальностей. А уж относительно «подавленности духа» наговорено много. Анна Вежбицка, например, приписывает русским тоску как коренное свойство, утверждая при этом, что многообразию русских проявлений скорби противопоставлена однозначность английского слова sad (якобы включает в себя значения русских слов грусть, тоска, печаль). Как-то не хочется припоминать английские слова sorrow (печаль или скорбь), grief (огорчение, горе) и т. д. Но верно, что английские слова выражают «личные чувства» (что-то плохое случилось со мною), тогда как русские образы слов содержат указание на то, что что-то терзает, жжет или мучит, а это может быть как плохим, так и не очень.
Интересно также указанное выше понижение степеней от логически определенного гиперонима горе к конкретным его переживаниям, которые выражены гипонимами. Слова «частного» значения эмоционально экспрессивны и выражают личный оттенок чувства. Марина Цветаева и Николай Бердяев много пишут о тоске, Зинаида Гиппиус — о скуке, а Василию Розанову чем-то мила грусть. Скука приходит от пресыщения, тоска — от невозможности («тоска — от рационализма», заметил тот же Розанов), а «грусть выше радости, идеальнее» (он же). Грусть — момент становления «превосходности», грусть на ощупь и вид тепла и иронична, или (что подтверждал Василий Ключевский) «грусть — это торжество печального сердца над своею печалью». Именно грусть, а никак не тоска и не скука — «русское настроение» [Степанов 1997: 693]. «Суть иудейства — скука» [Розанов 2000: 107], а с этой стороны и у нас новое настроение. Что же касается тоски, и она — заносное в русскую душу чувство: при французском angoisse — это неизбывность тоски от первородного греха, как и печаль французов — от тоски одиночества [Степанов 1997: 690].
«Тоска оказывается перманентной структурой человеческого бытия» у персоналистов [Вальверде 2000: 87] — оттуда ее и выудила Вежбицка. Еще одно подтверждение логических неудобств в позиции номиналиста, который домысливает идею при наличии только слова — даже тогда, когда это слово выражает совсем другую, а часто чужую идею!
Личная грусть как отзыв совместной скорби — вот русское понимание не «упадка духа», а «горестного чувства» утраты, которую следует поскорей возместить душевно. Народно-поэтическое слово грусть и церковно-книжное скорбь соединились вместе по старинному обыкновению: личное в общей беде, а беды всех — это тоже грусть.
Смирение и гордость
В средневековой Руси находим обилие слов, тонко разграничивавших оттенки гордыни: надмение, чванство, кичение, презорство, высокомерие, буесть, дерзость, величание, хупание, наглость и другие. Все оттенки осудительны, и неспроста. Образ «надувания» в спеси, похвальбы, выламывания, наглости и тупости — вот внутренний смысл всех этих обозначений «выламывающегося из ряда» представителя племени или народа. Даже основной корень — гърд-ь — передает идею тупости (латинское слово gurdus значит ‘тупой, глупый’). Не только у славян-язычников, но и у христиан гордыня — первая в ряду семи смертных грехов и «мать» всем прочим грехам.
Осуждение — гордыне, и потому, в социальном плане, желание ее избегать. Легко понять изумление русского писателя, когда он говорит: «Европа ополчилась на нас, дабы наказать нашу нестерпимую гордыню. Нашу гордыню — любопытно было бы посмотреть на эту диковину! В чем, когда и где проявлялась она?» [Данилевский 1991: 299]. Западный человек с легкостью смешивает в понятии то, что у русских этически разведено на гордыню и гордость.
Русские авторы постоянно различают гордость, гордыню и гонор. «Гонор — не гордость, а прикрытие ее отсутствия», — заметил Ключевский. Это невроз чести, боязнь оплошать в чужих глазах, иногда до утраты личного достоинства. После польского нашествия в XVII в. это латинское слово известно у нас, и связанное с ним чувство — осуждается тоже (как всякая фальшь вообще).
Гордыня осуждается тоже, поскольку представляет собою богочеловеческое самозванство, лишенное смирения. Раздвоение на гордость и гордыню произошло по общему правилу удвоения сущностей в зависимости от их обращенности к Богу или к человеку.
По мнению Николая Бердяева (он высказал его в биографии Хомякова), гордость, в отличие от гордыни, не отменяет смирения. «Самый смиренный народ — самый гордый народ. С этим ничего не поделаешь. С мессианским сознанием не мирится лишь самодовольство и поклонение голому факту» [Бердяев 1996: 220].
Евгений Трубецкой вообще не видит противоположности между гордостью и смирением. «Если тот или другой народ смиряется перед Богом и вместе гордится высоким призванием, которое он действительно имеет, то тут нет не только антиномии, но даже и противоречия, потому что „гордостью“ в данном случае называется не отсутствие смирения, а просто признание за собою достоинства, что вполне совместимо со смирением. Человек может признавать за собою царственное достоинство по отношению к низшей природе и вместе с тем смиряться перед высшим Божественным миром; тут смирение и гордость даже не сталкиваются между собою и не противоречат друг другу, потому что относятся к разным сферам бытия» [Трубецкой Е. 1990: 215].
Славянофилы (Самарин) полагали, что русское смирение — не покорность, а согласованность в мире и на миру: личность отрекается от себя в пользу всеобщего — состояние душевного примирения. «Смирение и любовь суть свойства человеческой натуры вообще» [Самарин 1996: 482] — не только русской. Но только в русской ментальности это чувство развивается намеренно, и именно потому, что «у смирения есть особое свойство — повышать духовную ценность человека» Это так и есть на самом деле. «Истинному величию причитается простота, доброта, легкость и скромность» [Ильин 3: 517]. Не внешняя покорность и послушание, а сознательный выбор в пользу скромности — внешней, неброской и неяркой, как русская природа. «Смирение есть путь к новому рождению, перенесение центра тяжести извне в глубину» — закончил эту мысль Николай Бердяев в своей «Философии духа».
Культуролог предпочитает говорить не о терпимости, а о его оппозите — нетерпимости [Ахиезер 1998: 296], полагая (скорее всего ошибочно), что нетерпимость «проистекает из страха традиционной культуры перед факторами, могущими подорвать те или иные аспекты, саму основу сложившегося образа жизни, формы социальной организации. Стремление обеспечить прогресс требует постоянного уровня снижения нетерпимости, способности вступать в диалог, совместно формулировать и решать общие задачи с людьми иных культур, постоянно преодолевать монологический характер мышления, смыслообразования». Типичный комплекс нетерпимости автор видит в манихейском мышлении, а это не только Хомейни, на которого он ссылается, но и (в скрытом виде предполагается в сочинениях такого рода) православная ментальность. Вряд ли это справедливо в свете оценок, приведенных выше, и в свете фактов: русские терпят, а Израиль или США никак не желают «решать задачи с людьми других культур», преодолевая свою страсть к риторическим монологам.
Обычная для номиналистов подмена терминов: русское своеволие выдать за нетерпимость. Надо бы почаще вдумываться в интуиции современных мыслителей, выражающих различие между ними. Например, такую: русское своеволие («не как у всех») состоит в убеждении, что одного выбора недостаточно, должен быть еще «выбор выбора», чтобы защитить сам выбор. «Поэтому, чтобы было настоящее смирение, необходимо своеволие. Своеволие мешает выбору застыть...» [Горичева 1996: 246].
Так что и смирение смирению рознь. Всё удвоено, но не раздвоено.
В представлении современного русского человека оттенки эмоций гордыни и смирения смешались настолько, что невозможно понять их относительную силу и качество, их диалектическую связь друг с другом. Можно только догадываться, что и то и другое всё еще держится на внутреннем чувстве достоинства и до поры молчит в глубине сердца. «Всякий настоящий русский, если только он не насилует собственной природы, смертельно боится перевалить свое — и правильно делает, потому что ему это не идет. Нам не дано самоутверждаться — ни индивидуально, ни национально — с той как бы невинностью, как бы с чистой совестью, с тем отсутствием сомнений и проблем, как это удается порой другим. [Пожалуй, такая констатация тоже имеет отношение к характеристике русской духовности]. Но русские эксцессы самоиронии, „самоедства“, отлично известные из всего опыта нашей культуры, тоже опасное искушение. Как отмерить истину?» [Аверинцев 1988: 212]. Действительно, как? Только в опыте жизни, который проходим.
Терпение
В определении этого русского качества Владимир Даль использует 28 глаголов, с помощью которых он хотел бы описать глубинную сущность данного чувства. «Терпенье — сносить, крепиться, мужаться, надеяться и смиряться, не спешить и не торопить» и прочее.
По мнению Сергея Аверинцева, Святые Отцы «учат не терпимости, а терпению — терпению ко злу» [Аверинцев 1988: 233], в том числе и в отношении к еретикам, которых и так «Бог покарает», не человеку вмешиваться (у нас не было инквизиции и костров — диссидентов карали как уголовников, как «духовных убийц»). Да и «что сталось бы с нами, людьми, и прежде всего и больше всего — с нами, русскими людьми, если бы не духовное терпение? Как справились бы мы с нашей жизнью и с нашими страданиями? Стоит только окинуть взглядом историю России за тысячу лет, и сам собою встает вопрос: как мог русский народ справиться с этими несчастиями, с этими лишениями, опасностями, болезнями, с этими испытаниями, войнами и уничтожениями? Сколь велика была его выносливость, его упорство, его верность и преданность — его великое искусство не падать духом, стоять до конца, строить на развалинах и возрождаться из пепла...» [Ильин 3: 355—356].
Святые Отцы учили терпению, а результатом государственного строительства стала терпимость, на Западе почитаемая как толерантность. Уже не терпение, а терпимость — способность терпеть из милости, по снисхождению или милосердию. «Дух человека есть бытие личное, органическое и самодеятельное: он любит и творит сам, согласно своим внутренним необходимостям. Этому соответствовало исконное славянское свободолюбие и русско-славянская приверженность к национально-религиозному своеобразию. Этому соответствовала и православная концепция Христианства: не формальная, не законническая, не морализирующая, но освобождающая человека к живой любви и к живому совестному созерцанию. Этому соответствовала и древняя русская (и церковная, и государственная) терпимость ко всякому иноверию и ко всякой иноплеменности, открывшая России пути к имперскому (не „империалистическому“) пониманию своих задач», — писал Иван Ильин о «наших задачах».
Христианское терпение и государственническая терпимость, духовное и социальное, соединились вместе, дав нигде более не существующий сплав — эмоцию, которую всё чаще называют терпеливость. Терпеливость есть способность, говорил Даль, сносить все беды, ложь, поношения, это — спокойствие духа, рассудительность разума, великодушие снисходительности — всё, чем великая нация отвечает на несправедливые нападки со стороны оборзевших ее критиков, в своем комплексе неполноценности неистощимых на брань. Потому что эмоция эта, внешне и не эмоция вовсе, «происходит, может быть, просто-напросто вследствие великого оптимизма: правда все равно свое возьмет — и зачем торопить ее неправдой? Будущее все равно принадлежит дружбе и любви — зачем торопить их злобой и ненавистью? Мы все равно сильнее других — зачем культивировать чувство зависти? Ведь наша сила — это сила отца, творящая и хранящая, а не сила разбойника, грабящего и насилующего. Весь смысл бытия русского народа, весь „Свете Тихий“ православия погибли бы, если бы мы хотя бы один раз, единственный раз в нашей истории стали бы на путь Германии и сказали бы себе и миру: мечите к ногам нашим всю колбасу и все пиво мира» [Солоневич 1991: 389].
Терпение становится коренной эмоцией природного существования, «Не утратить гармонической полноты, глубины и внутренней свободы своего духа в преследовании задач устроения всяких форм и внешних организаций жизни, так же как и в обезличивающем, сужающем и мертвящем дух беззаветном служении разным внешним интересам и благам, — такова главная и высокая и вместе смиренная забота истинно русского характера. Отсюда и его замечательно непоколебимое благодушие среди всяких житейских невзгод, и его мягкость, и широкая терпимость, очень отличная от буржуазного индифферентизма людей Запада, отлично научившихся в своих парламентах и союзах пользоваться поочередно, как орудиями, всякими принципами, не веря ни в один и ни об одном не заботясь. Отсюда же и его геройское терпение, невероятно спокойно, без ропота и с трогательным достоинством переносящее самые тяжелые испытания, каких немало пришлось вынести ему в тысячелетней жизни своей. Отсюда же, наконец, и его внутренняя крепость, никогда не допускающая его до окончательного, малодушного отчаяния, до очень яркого, трагического и, может быть, красивого, но подкапывающего самые основы нравственной жизненности пессимизма, деморализующего и ожесточающего современный Запад. Не веря в осуществление на земле ни Царства Божия, ни даже „всеобщего благоденствия“, этот характер, весь сосредоточенный в интересах своего внутреннего, духовного мира, „вынесет всё“ и всё прощает, не падая, — с тем знаменитым анекдотическим „ничего“, которое, говорят, когда-то заставило призадуматься великого западного человека над внутренней силой стомиллионного народа, так часто в разных „оказиях“ это слово повторяющего» [Астафьев 2000: 52—53] — слова, написанные еще в XIX в.
Поскольку в этом месте своих рассуждений я намеренно избегаю собственных определений, чтобы избежать обвинений в субъективизме, закончу высказываниями великого писателя, в личной терпимости и терпеливости которого сомнений нет. Он и пишет о том, почему это так: колотят и бьют нас разные люди, а «народ безмолвствует»?
«Мы, русские люди, как голыши окатались за сотни лет в придонной тьме под мутной водой, катимся и не шумим. А что этот нынешний шум — будто бы и не шум... Да и все русские люди одинаковы: дурные, хорошие, лентяи, бездарные и очень интеллигентные. Что меня теперь больше всего останавливает в этом русском народе — это молчание на людях, отделенное несогласием людей... — Нишь можно на людях?..» [Пришвин 1994: 88, 66, 68].
Нешто можно? Да никак нельзя! Верно сказано (о названии программного стихотворения Тютчева), что «„Silentium‘" — credo русского Логоса». Не умолчание, а молчание.
Народ безмолвствует?
Визга не поднимает в бедах — сосредоточимся; истерики нет в печалях — соберемся; озлобленность в поражении не гнетет — задумаемся... Ну как же не раб?! Ведь «мы»-то другие, мы — высшие, нам — подражай и служи нам.
А русский не хочет подражать их истерикам по пустякам, их злобно-завистливой и агрессивной рефлексии.
Терпенье и труд всё перетрут.
Между тем...
Сопоставление эмоциональных признаков русской «наивной картины мира» — «внутреннего человека» — с английской показывает, что у русских признак ‘спокойствие’ выделяется у концептов душа, совесть, дух, сердце, ум. Общий эмоциональный тип «внутреннего человека» образуют такие эмоции, как ‘волнение’, ‘страдание’ и ‘гордость’... По всей видимости, их можно назвать специфически «русскими» эмоциями, отражающими особенности русского этноменталитета.
Для английской языковой картины мира типичными можно назвать такие эмоции «внутреннего» человека, как ‘волнение’, ‘тревога’ и ‘страдание’. Наибольшее количество эмоций приписывается носителями русского языка концептам душа, сердце, ум (у последнего большая часть эмоций имеет рассудочный характер), носителями английского языка — концептам дух, сердце и ум (у последнего эмоции также носят рассудочный характер — ‘волнение’ и ‘тревога’). При этом количество эмоций, отражаемых в английской языковой картине, почти в два раза меньше, чем в русской. Как представляется, это подтверждает особенность англо-саксонской культуры, о которой говорила А. Вежбицкая, что это такая культура, «которая обычно смотрит на поведение, без особого одобрения оцениваемое как „эмоциональное“, с подозрением и смущением» [Пименова 1999: 57].
Таким образом, спокойствие и гордость отличают совокупность русских эмоций от английских настороженность и тревога; причина в различной ценности «концептов» содержания: у русских это душа, у англичан ум. Преобладание эмоций рассудочного характера образует соответствующие эмоции и определяет особенности национальной ментальности. Волнение и страдание оказываются не столь «национальными» чувствами, хотя, в противопоставлении к другим национальным ментальностям, и они становятся различительными, объединяя русских и англичан в общих переживаниях «внутреннего человека».
Вера
Не раз уже сказано о русской религиозности. Называют это чувство по-разному, но идея одна, общая. Русский человек религиозен в высшей степени, хотя вера его проявляется своеобразно. Это может быть и прямой атеизм — естественное продолжение идеи Единого Бога, имеющего много имен — и ни одного истинного. Русский атеизм не безверие, а столь же страстная вера, как христианство, как язычество, как всякая вера. Вера в абсолютный идеал, каков бы он ни был. Николай Лосский, вслед за Соловьевым именуя русскую веру «Иоанновым христианством» (по Четвертому Евангелию — Евангелию от Слова), полагал, что страстное чувство веры русского человека и есть его сущность: искание абсолютного добра; все остальные качества русских всего лишь следствие одного этого.
«Вера есть обличение вещей невидимых», — сказано Бердяевым, а невидимо вечное, общее, идеальное. Потому наше чувство и обращено к абстрактному — к вечному, и нет в таком обращении никакой «суетливости», ибо вечное несуетливо.
Более того, как раз и не религиозная вера в первую очередь захватывает русского человека, душу его наполняя идеей. Хорошо сказал по этому поводу психолог [Касьянова 1994: 197]: русским не свойствен «религиозный фундаментализм», согласно которому все правила заключают в себе определенный момент принудительности к исполнению заповедей. «Мы не имеем удовлетворительного религиозного обоснования нашей морали», — говорит она о современном русском, и потому хотим ей соответствовать, не зная какова цель этого. Возникающее при этом недоумение ограничивает природного в нас человека, и тем самым «этнические социальные архетипы входят в противоречие с христианскими нормами». Переживается это весьма болезненно. Мало-мальски чувствующий и мыслящий человек начинает «искать своего Бога» — и тут запутывается в расчетливых сетях современных рассудочных конфессий.
Вера — это род, в отношении к которому религиозная вера всего лишь вид. Вера для русского чувства многое значит. Это и до-вер-ие к другому, и у-вер-енность в себе самом. Веру и дело нельзя разорвать, это значило бы разорвать таинственные связи между идеей и вещью. «Трупоразъятье позитивистов» (слова Герцена) приводит к отчуждению идеи и вещи друг от друга, и тогда возникает миф о том, что русский человек витает в облаках, не занимаясь делом. «Иллюзионизм» Густава Шпета. Нет, неверно, и вот почему: «Только у ученых вера отдаляется от дела, становится представлением», — замечал Николай Федоров; становится пустым миражом, той самой иллюзией, опустошается. Ибо душа вне тела уже не душа, а дух, а с бесплотного духа какой спрос?
У русской веры, религиозной веры, несколько устойчивых признаков, которые, видимо, не изменялись как жизненные принципы.
Во-первых, русская вера не поддается схематизации, душа для нее важнее духа, который только и может предстать как отвлеченно общая схема всеобщего смысла.
Во-вторых, пороки и добродетели здесь находятся как бы во взаимном распределении, когда «все великие добродетели язычества суть пороки христианства» (тоже слова Герцена). Бытовое и сакральное время от времени меняются местами, и тогда происходит смена оценок. Блуд и пьянство осуждает церковь, зависть, строптивость и лень — суд мирской. При желании можно прожить в зазоре между моралью и нравственностью — между храмом и общиной.
В-третьих, этика явлена не в одной лишь вере (в идее), но и в деле, т. е. в вещи. Еще одна возможность выбора для себя, выбора между идеальным и вещным.
В-четвертых, порок, в отличие от добродетели, именуется не именем (как идея), но глаголом, поскольку порок всегда есть деяние, во всех возможных здесь степенях проявления: как проступок, как преступление, как грех.
Наконец, что важнее всего, из Средневековья пришла широкая вариативность именований как греха, так и добродетели, и в любой момент, в зависимости от обстоятельств, можно оправдаться в слове. А слово и есть та точка, с которой начинается нравственность. Дать слово — значит и поручиться, и обещать, и поклясться.
Семь поворотов души
Тут самое время собрать воедино все уже описанные извороты «душевного недомогания», которые щедро приписывают русской душе. Рассмотрим их в системе. Авось попутно удастся выявить нечто идеально-общее для, казалось бы, и без того идеальных сущностей.
Кстати, есть и предлог. Американский культуролог на основе литературных текстов описывает «семь этапов развития» русского «чувства страха», которое он, в духе психоанализа, рассматривает как «бессознательное чувство страха», идущее из русского детства, как ущерб неверного воспитания [Горер 1962: 147—149].
1. Soviest представлена как внутренний голос чести; у русских очень растяжимое понятие о совести: для бытовых проступков совести можно подыскать формальные оправдания, которые не обязательно могут быть искренними.
2. Vina — нарушение обычая или закона может быть оправдано соответствующим наказанием без всякой необходимости эмоционального изменения; все остается по-прежнему, и в этом отличие от следующего.
3. Grekh — с наивысшей степенью эмоционального переживания, здесь никакие оправдательные эмоции во внимание не принимаются, но и грех можно снять с души — с помощью священника.
4. Stid (shame) — высшая эмоция в отношении к другим (перед которыми виноват-согрешил), причем эмоция искренняя, хотя и она не обязательно требует объяснения. Совесть, вина, грех и стыд вызывают страдание.
5. Stradanyie — «ментальное переживание», например в неразделенной любви, что, в свою очередь, ведет к развитию следующих эмоций:
6. Skuka (boredom, ennui) — тягостное чувство одиночества и бесполезности, тип депрессии; возникает немотивированно, вне давления и помимо желания, но если действовать — скука исчезает.
7. Toska — исключительно русское понятие, в английском нет слова (вот ерунда! десятки), но близко к латинскому desiderium, это немотивированная эмоция, ничего не поделаешь — ждать, пока не пройдет.
Заключая обзор отрицательных эмоций, Горер утверждает, что извне все подобные переживания оцениваются как
8. Pozor (disgrace), понимая, что «это уже совсем другая категория».
Заметим две несообразности самого внешнего свойства. Совесть для автора находится на самом низком (начальном) этическом уровне эмоционального переживания. Номиналист не может выстроить иерархию, потому что не различает идею и вещь, равно как и степени переживания реальности идеала и действительности факта. Поэтому «система» строится от вещи, эмпирически, указанием на степени чувства, где в общем ряду стоят такие, которые можно преодолеть тем или иным образом, и такие, избавления от которых следует тихо ждать. Вторая несообразность не менее важна, она представляет собой обычную подмену недобросовестного классификатора. Не указаны способы выхода из создавшихся затруднений (кроме единственно важного для эмпирика: «в деятельности»). Ничего не сказано, например, о гневе и смехе, не говоря уже о радости или любви (о русской любви, а не о sex’e).
Все остальные поправки можно сделать на основании текстов, рассмотренных в главах, касающихся данных переживаний души. Скука — это английский сплин, о тоске уже сказано, совесть требует действия в обществе (сам себе можешь простить что угодно — это так), вина — причина, а грех — это следствие, страдание верно связывается с любовью; что остается? — только стыд, который еще Соловьев (на примере русских эмоций) объявил исходной эмоцией человека.
Если судить по таким раскладкам «русской души» (а именно ими и потчуют американских студентов), представление о русскости складывается извращенным; если читатель скажет и резче, я соглашусь с ним тотчас.
Любовь
«Терпение и смирение, — заметил Иван Ильин, — свидетельствуют о душевной силе и здоровье и ведут к любви. В результате у человека появляется всё, что ему надо, — покой и радость».
Семь этапов в развитии любовного чувства описывали часто, от древних Отцов Церкви до современных писателей (Стендаль). Чувство восхищения (коханье) сменяется мыслью о любимом (дроле), наступает момент выбора (любовь), происходит завлечение (лаской), развивается идеализация предмета любви (в жалости), на которое не действуют никакие сомнения в сделанном выборе (страдания), — и вот уже наступает она: страсть любви и награда в ней — милость [Колесов 2001]. Все представленные в скобках слова-термины известны славянским диалектам, когда-то они аналитически представляли стадии развития чувства, как его воспринимали окружающие. Именно конкретного чувства, а не идеи-концепта, каким оно стало после того, как разные славянские языки в качестве основного (символического) обобщили какое-то одно из слов — у нас это слово любовь. У поляка восторг первой встречи в kochanie, у чеха завлечение-зарождение чувства в laska, у серба выбор-предпочтение в волети, у нас — предвкушение и надежда в слове любовь; никто не выбрал второй момент (у некоторых славян это неприличное слово), но пятый и шестой — типично русские (конкретные) проявления любви в сомнении и неизвестности: русская женщина жалеет, русский мужчина любит, русский интеллигент страдает.
Василий Розанов описывает свою любовь к жене: «Самая любовь моя к мамочке, несмотря на решительно ноуменальный ее характер, тем не менее не есть и никогда не было „влюблением“, а — восхищением, уважением (позднее), жалостью. Но это совсем не „любовь-ушиб“ (влюбление)... Это — привязанность и дружба. Преданность. Но не „любовь“ в собственном смысле...» [Розанов 2000: 142].
В подобных предпочтениях и кроется различие между народными ментальностями; типологически все этапы являются общими. Их описывают и богословы [Мартенсен 1890, I: 99, 321 и след.]: начиная с влечения через искушение и соблазн путем свободного выбора и испытанием-пробой, минуя сомнения — к «привлекательности»-привлечению. Эта последовательность — сила-форма, так что даже «любовь остается формальным началом, которому содержание дается жизнью, т. е. практическими потребностями и стремлениями человека» [Чичерин 1998: 150]. Любой из моментов любовного чувства может быть опорочен как идея в том или ином представлении. Так, западному человеку неведомо чувство «жалость», и Нина Берберова писала: «Слово жалость... теперь применяется только в обидном, унижающем человека смысле: с обертоном презрения — на французском языке, с обертоном досады — на немецком, с обертоном иронического недоброжелательства — на английском... на русском языке носит на себе печать мелкой подлости» (!) [Петренко 1996: 12].
«Специфика конкретного чувства» в развитии семи его моментов описывается лингвистом на основе русских глаголов [Бабенко 1989]: состояние — становление — воздействие — отношение — деятельность и т. д. Только два русских концепта включают в себя всю полноту возможных признаков различения: доброта и любовь.
Понятие любви не имеет родовой принадлежности — это символ, который не определяется, а описывается [Курашов 1999: 122—140] по признакам деятельности и связи (отношения). Любовь как символ показывает связь любви с огнем, а ненависти — с морозом (постылый) — говорил Александр Потебня.
Опрашивая студентов методом ассоциативной связи слов-понятий, преподаватель предложил им найти слова, смысл которых противоположен значению слова любовь. Большинство девушек назвали ревность, молодые люди — ненависть.
И то и другое верно, но какая разница в понимании символического подтекста слова любовь, в понимании идеи! Конкретно-чувственно в первом случае и резко идеально — во втором.
С другой стороны, любовь и ревность противопоставлены действительно и весьма вещно, а «ревнителям русского народного идеала следовало бы возвыситься, по крайней мере, до той степени нравственного разумения, какая свойственна русским бабам, говорящим „жалеть“ вместо ,любить“, заметил Владимир Соловьев. Это языческое проявление любви, потому что «христианскую любовь нельзя отождествлять с жалостью; христианская любовь верит в великое назначение человека и имеет целью устранить самые причины людских бедствий, а не облегчать лишь страдания, которые признаются неизбежными. Любовь обращается в жалость только при отсутствии всякой веры и надежды» [Федоров 1995: 27]. Здесь столкновение язычески вещной и христиански идеальной систем, и каждый раз, оценивая ту или иную черту русского человека, следует отдавать себе отчет в заданных пределах вариативности. Любовь к лицу не отвергается христианством, но стоит на втором месте — после любви к человечеству. Русский человек человечество любит — но в первую очередь станет помогать конкретному человеку. «Бог есть тайна и свобода, — еще одно свидетельство, — Бог есть любовь и человечность» [Бердяев 1996: 51].
В то же время «евангельская „ненависть“ не противоречит истинной любви, а есть ее необходимое проявление» [Соловьев V: 45—46]. Без ненависти нет истинной любви, ибо нет внутренней готовности защитить любимое от опасности. Ведь «тайна любви в том, что она соединяет противоположности» (Шеллинг), и только в ненависти предельно и ненасытно может раскрыться истинная любовь. Задача состоит в том, чтобы ненависть претворить в любовь, упорядочивая хаос и соединяя разорванное.
Ревность — признак любви, как и любовь — это стремление к соединению; ненависть противоположна любви, но только в том смысле, что они направлены на разные объекты.
Протестантская этика успеха, или ответственности (Макс Вебер; у Канта — этика долга), противоположна этике убеждения, или любви (Лев Толстой). Пост-христианское понимание нравственного поведения исходит всё же из христианских идей. Понимание, явленное в понятии, всегда идеально, но жизнь распорядилась таким образом, что любая новая интерпретация вечных истин кружит в замкнутом трехмерном пространстве: реализм этики любви, укорененный в слове, сущностно ближе к первоначальному — живому — христианству, и номиналист Вебер, опираясь на логику дела и цельность вещи, не случайно ведь полагал, что этика евангельской истины «не сопротивляйся злу насилием» находится в глубинах души любого русского человека, всего русского народа вообще. Ненависть как противоположность любви и борьба со злом — тоже зло, потому что повышает сумму зла (так утверждал Николай Лосский).
Из многих значений слова любовь, в том числе и пришедших к нам через переведенные греческие тексты, для русского чувства, по-видимому, наиболее характерно понимание любви как отношения, а не как связи. Сложилось это исторически и может быть явлено в истории слов.
Как и во всех случаях проявления терминов нравственности, понятие «любовь» прошло те же этапы развития от природного чувства через культурный символ и кристаллизовалось в современной идее эмоции.
Было много словесных корней, выражавших конкретные формы, стадии и оттенки «любви». До сих пор известны слова жаль, ласка, люб, мил, в диалектах кохать, дрочить и т. п. Они выражали — через глагольное слово — разные аспекты поведения в любви: жалеть, нежить, гладить, ласкать, любоваться, наслаждаться... Не было общего слова, которое покрывало бы все проявления любви; не существовало идеи абстрактно общего.
Христианство принесло такую идею вместе с идеей человечности. Родовым по смыслу словом стало слово любовь, потому что любовь существует «сама по себе», вне субъектов ее действия. И потому еще, что это слово стало вбирать в себя все значения переводимых греческих слов. Русская любовь — одновременно и έρως, и αγάπη, и φιλία, то есть любовь, расположение (приязнь) и дружба одновременно.
Не сразу так получилось, и первые славянские переводы использовали корень мил (милосердие и т. п.), потому что любити значило ‘приветствовать’ (целованием), откуда метонимическим переносом значений: ‘приветствовать’ > ‘целовать’ > ‘соединяться’ (и to promise — обещать) [Бирнбаум 1981: 22]. Предпочтение слову любовь было дано потому, что, в отличие от мил и других, оно выражало чувство активное, завлекательное, оно выражало действие, оно соблазнительно яркое, многогранное, это ‘страстное желание, окрыленное надеждой, в которую верят’; с его помощью можно передать идею любви земной и небесной, — следовательно, образовать символ. Любовь земная, телесная — эрос и amor, любовь небесная, духовная — агапе, caritas.
В русских говорах множество слов, сохранивших исходное значение корня. В них любовь и ‘охота’, и ‘желание’, и даже ‘аппетит’; любить — действовать горячо, порывом, самозабвенно. Десятки производных, выражавших народное представление о любви: любехонько — согласно, со взаимным пониманием (полюбовно), любость — в дружеских отношениях, любота — чувство удовлетворения, любо — охота к чему-то. Любовь отличается и от жалости (ближе всего стоит к пониманию половой любви), и от ласки, и от многих других проявлений приязни к Другому. Даже в песнях говорят о совести-любови, а не о любви-страсти. Речь всегда идет о душевном влечении человека к миру и согласию.
Когда стало изменяться исходно синкретичное значение слова любовь, потребовался как бы перевод его смыслов на язык понятий: любовь и братство, дружба и братство, любовь и приязнь, братство и приязнь и другие стали восполнять символический смысл основного слова.
Наложение христианской культуры на народные представления развело отчасти намеченную линию в осмыслении символа. Любовь теперь осмысляется в триединстве символов: вера — надежда — любовь, «более же всех любы, зане любовь не вменяет злаго», — толкует «Лествица» Иоанна Синайского.
Взаимопроникновение смыслов церковнославянского и древнерусского слов — по форме одного и того же слова — в контексте культуры и новых общественных отношений мало-помалу свело их в общем значении. Любовь-отношение как личное чувство и любовь-согласие как социальный долг в современном литературном языке стали общим значением для слова любовь. Но на протяжении всего Средневековья противоположность мирского и христианского восприятий любви настойчиво сохранялась и в семантике производных слов (любой и любый, любимый и любезный — в противоположности друг другу), и в форме слова (архаические формы именительного и родительного любы, любве сохранялись в «книжном» значении слова, новые любовь, любви приняли на себя значения русского слова), и в отношении к грамматической парадигме в целом, даже в ударении форм (исконная подвижность ударения лю́бы, лю́бве и новое наконечное ударение любо́вь, любви́, а в просторечии даже любо́ви), и т. п.
История ключевого для идеологии слова есть разрушение его исходной символической цельности; сначала создание символа путем совмещения двух понятий (образов) в одном материальном знаке — слове, прежде привязанном к известному тексту, но затем собранному из этих текстов в новую семантическую цельность символа. Язык последовательно вырабатывал новое понятие о любви доступными ему средствами, все время ориентируясь на существующую практику любовных отношений. Сначала в глаголах, потом в речевых формулах, позже в определениях, уточнявших значения слова, постоянно формировался смысл нового русского слова любовь. Не только по форме, по значению также любы стала наконец любовью. Винительный падеж любовь, заменив падеж именительный (любы), перенес внимание с субъекта действия, который любит, на объекта, которого любят.
«Существо любви в отказе от всего „своего“, от себя самого ради других, в свободной жертве, в самоотдаче» — в этом процессе, по мнению Льва Карсавина, и рождается любовь. Для славянофилов любовь — основное чувство, восходящее до уровня социального действия; интегрирующая духовная сила. Василий Розанов говорил о христианской любви как о главном герое русской культуры: «Любовь есть чудо. Нравственное чудо».
Иван Ильин описал все признаки русского представления о любви — это «самый важный и самый сильный источник жизни», он пылает в сердце, и «только любовь положительна: созерцая и размышляя, любовь, вероятно, является величайшей познавательной силой человеческой души... Критика без любви и без понимания есть критиканство и зависть». Вообще «любовь — это избранность, в которой часто ничего не ощущается от избрания», и истинной дружбы нет без любви; любовь — это сила и власть, «это воля к совершенству, которая возникает из любви и созерцания». В любви Владимир Соловьев видел высшую точку апофатического склада русского мышления. Он говорил: «Любовь есть самоотрицание существа, утверждение им другого, и между тем этим самоотрицанием осуществляется его высшее самоутверждение» [Соловьев 1988, 2: 234].
Как и во многих других случаях, сегодня мы представляем любовь в искаженном ментальном пространстве (разговор двух подружек: «любовь, а по-русски секс»). Отсюда инстинктивное отталкивание от попыток внедрить в подсознание новые представления об отношении к любви — вот и говорим, в современной манере — аналитически, прибегая к заимствованным словам типа секс, но никак все-таки не допуская соответствующий смысл в значение коренного славянского слова: «это стремление любви, а не выгоды», по слову Ивана Киреевского, равное добру, а не «интересу».
Потому что «любовь» рассматривается (в русской философии, прежде всего у славянофилов) как средство единения, как божественная энергия, определяющая развитие мира сего, и как деятельная солидарность людей. Гармонизация субъект-объектных отношений на основе взаимности: субъект он же объект — таково идеальное чаяние русского человека, для которого субъект и объект взаимны, зависят друг от друга, представляют собою разные формы выражения общей сущности.
Теперь, обобщая сказанное, взглянем на все три этапа формирования идеи любви.
Любовь-жалость как конкретное чувство природно-органического характера, о котором Федоров и Соловьев уже высказались.
Любовь-совесть как культурная эмоция, формирующаяся под влиянием христианства в слове. Об этом говорил Бердяев (которому вторил Семен Франк [1996: 127—128]: «Было забыто, что истина есть любовь, а любовь есть свобода... Свобода утверждается в объединении, а не в любовном слиянии душ». В атмосфере словесных поисков истины рождается идеал нравственности.
Любовь-идея как результат всего развития, в современном понимании «любовь есть акт прорыва повседневности бытия», она ненасытна, но и спасает как дар: «тройная иллюзия и тройной обман» [Тульчинский 1996: 12, 19]. Любовь как сущность человека, как интегральный его признак, а не как внешняя связь, не согласие, не тяготение и «охота». «Без-эросным отношением к объекту» назвал современную идею любви Владимир Эрн [1991: 494]: «Любовь есть выхождение за норму или болезнь... т. е. простая привычка...».
«Итак, любовь есть основная духовно-творческая сила русской души. Без любви русский человек есть неудавшееся существо. Цивилизующие суррогаты любви (долг, дисциплина, формальная лояльность, гипноз внешней законопослушности) — сами по себе ему мало свойственны. Без любви — он или лениво прозябает, или склоняется ко вседозволенности. Ни во что не веруя, русский человек становится пустым существом без идеала и без цели. Ум и воля русского человека приводятся в духовно-творческое движение именно любовью и верой» [Ильин 3: 324].
Чувство — эмоция — идея... европейская сила слабеет, меркнет, распыляется... Русское отношение к этому в согласии первого и второго, человечьей любви и любви-совести: в единстве идеи и мира.
Надежда
Любовь рождает надежду.
Нет более нужного слова в быстротекущей жизни, чем слово надежда. Земное преходяще — есть «чаяние царство Божия» (П. Новгородцев). «У маленьких людей всегда больше притязания, как у несчастных — большие надежды, и наоборот» [Ключевский IX: 309].
В дальней перспективе времен существовало множество слов, конкретных по смыслу, которые передавали чувство ожидания чего-то светлого, надежного, чистого. Надежа—чаяние—упование—ожидание... Каждое в своем оттенке переживаемого чувства передавало общую для всех них модальность пожелания этого «чего-то», устремленность к тому, что необходимо в данный момент и в сложившихся обстоятельствах. Это и есть ожидание, неотступная мысль во всех оттенках древнего корня, к которому восходят многие слова: и жаждать, и жадать (стремиться) и даже жадный. Современный словарь утверждает, что ждать в одном из старых своих значений и имело ‘надеяться, предполагая что-либо, то, что предназначено’, уже готово, чтобы упасть тебе в руки.
Надежа, потом (от глагола) и надея — от корня, до сих пор активного в русском языке: куда деть? чья одежда? Первосмысл корня почти не утрачен, что и помогает подсознанию понять, схватить первородный смысл слова надежда. Первообраз корня связать с действием: делать, накладывать, касаться... облекать. Старинная (исходная) форма слова благодать — благодѣть — в точности соответствует греческому термину и значит ‘облекать благом’, окутывать, касаясь доброй рукою судьбы или, быть может, самой благодати...
Чаянье зависит уже от самого человека. Чаять — думать, (пред)полагать, оценивая свои возможности (соблазнительна связь со словом каять, а через него и с глаголом ценить: оценить — ошибиться — покаяться). Первообраз корня также известен, но теперь почти не осознается: ‘сторожить, присматривать(ся)’. Того же корня слово чекать — ‘ждать в засаде, подстерегать’, словом — быть на чеку. Современные словари полагают, что чаяние — устаревшее и высокое по стилю слово, но в старом языке оно как раз было словом низким, разговорным, именно потому, что передавало покушение человека на самостоятельность в своих ожиданиях. И в разговорной речи сохранились наречные формы чай, чать ‘вероятно’ («Я чать тебе не слуга!»), да и слово чаянье Владимир Даль толкует как ‘предположение’. Не-чаянный — неожиданный, от-чаянный — утративший надежду и веру вместе.
Наоборот, упование — слово высокое, книжное, и потому до сих пор неясное по своему первообразу. Быть может, это ‘очищение’, но, может быть, и ‘крик’ души одинокого человека в безбожном мире (если корень здесь up-, ср. русское слово вопль). Достоверно известно только, что уже в XI в. это книжное слово в Древней Руси произносили по-своему, со своими гласными, именно как упование.
Упование есть твердая надежда на то, что ожидаемое случится («покойная и твердая вера в ожидаемое» — говорит Даль). Тут известна конечная цель надежды, и цель высокая: упование на Божью помощь. Тем и отличается от чаяния; в болгарском языке (откуда попали к нам многие книжные слова) глагол чаять значит ‘идти куда глаза глядят’: на всякий случай ожидаю, высматриваю: вдруг что да будет...
Встречаются в жизни отчаянные — «безупованных» нет.
Подобные многочисленные слова в средневековом литературном языке были заменены общим словом надежда, тем же, что и русское слово надежа, но в церковнославянском произношении. Поскольку все значения конкретных по смыслу слов сошлись в одном этом, а греческие слова такого же смысла тоже передавались им, слово и стало символом, вобрав в себя всю силу предшествующих ему образов.
Причин предпочтения слова надежда много. Слово — среднего стиля в сравнении с остальными, более общего смысла, связано с родственными корнями, которые помогают сохранить первосмысл, а кроме того, может быть представлено в других частях речи, например прилагательным: надежный — верный, несомненный, твердый. От остальных слов прилагательные не образовались, как и сложные имена с суффиксами; могут быть только страдательные причастия (чаемый, уповаемый), что как раз и показывает их несамостоятельность, неспособность передавать смысл объективно, как исходящий извне результат душевного ожидания.
И современный словарь уверенно объясняет, что надежда — ожидание чего-либо желаемого, соединенное с уверенностью в возможности осуществления. Сразу все четыре модальности предосуществления, каждая из которых прежде была представлена самостоятельным словом.
Именно так и воспринимает русский человек сегодня старый символ — в понятии. Благодать не благодеть, но всё же...
Понять символ
Мои коллеги-лингвисты, особенно зарубежные и русскоязычные, часто иронизируют по поводу выражения «русская душа». С лингвистами это бывает. Языковед по природе дела является «номиналистом», основная забота лингвиста состоит в том, чтобы согласовать слово с его значением (словесный знак с его идеей), а тут простора для домыслов хоть отбавляй. «Кто видел „русскую душу“? — вопрошают они. — В чем ее смысл? Каков тут объем понятия?» Справедливо. А — «галльский быстрый смысл»? А — «тевтонский дух»? А — британская «душа чести»? А — знаменитая немецкая «душевность» (Gemii), слепком с которой и является «мифологема» русская душа? Такие неуловимые материи существуют в формах национальной самооценки, и это общепризнанно. Они — выдумки, так почему же «русской душе» отказано в праве на бытие?
Но сначала отметим связи между душой и ментальностью. Здесь лежит и ответ на вопрос.
В свое время М. И. Стеблин-Каменский [1976: 10] говорил о соотношении мифа и символа не в общепринятом духе Леви-Стросса (о нем говорил иронично), т. е. не «концептуально», а «реалистично», как русский реалист. «Пока миф жив, он — действительность, а не символ» той или иной идеи. Тогда миф есть идея-вещь. Тогда миф и есть сам концепт в реальности существования, своего рода понятие, но данное на уровне не личности, а для всего национального социума; символ же замещает миф в момент вытеснения мифа. Миф как действующий концепт всем понятен, а следовательно, он и есть — понятие.
В конце концов в том и состоит смысл нашей задачи: нужно понять миф, то есть истолковать его в понятии. Просто потому, что нашему современнику ничего не понять вне понятия, даже если при этом сам он проживает в мифе (а это так и есть).
Эмоция есть функция социальной самонастройки душевной деятельности, и на различных примерах мы видели, как эмоция формируется в образном представлении чувства, затем кристаллизуется в виде идеальной — культурной — эмоции, с тем чтобы со стороны, понятным для наблюдателя, предстать как социальный аффект, сформулированный на основе вызревшей в ментальности идеи. «Вещь» восходит к «идее», всё более обобщаясь в своих признаках.
Чего больше по каждой из рассмотренных (отнюдь не исчерпывающих) душевных черт в современном русском человеке, в среднем его типе, в типическом проявлении эмоций?
Единого ответа нет, не может быть, как нет и совпадения в реализации по-разному понимаемых эмоций. Многие, слишком многие, интеллигенты прежде всего, — рабы идеи, но не идея заложена в символе слова. Этнические, социальные, культурные слои перемешаны в обществе — равнодействующей нет, взаимное непонимание нарастает, потому что кажется непреложным: вот вам слово — чего ж тут не понять?
Предчувствие возможных бед возникает оттого, что видишь: на фоне общих слов люди живут различными их смыслами. Современники предстают несоединимыми пластами лиц, только по видимости действующих согласованно. Они называют это классовыми, культурными, национальными интересами, и в этом есть доля истины. Трудно понять чужой символ, тяжело понять символ древний (учиться надо!), затруднительно вообще — думать (не всем доступно).
Вот и получается, интеллигентские идеи страха или смеха (ирония) непонятны крестьянину, который живет в культурном пространстве «слова»-символа. Но и интеллигент преувеличивает творческие возможности крестьянской духовности, перенося на неискушенного в книжной премудрости человека свои идеи. Но вернемся к нашим примерам.
Оценка эмоции определяется пониманием вины и греха, принятым в данной культуре. Русская культура отличается максимализмом оценок: на Западе числят семь смертных грехов (да и те творятся, называясь лукаво другим именем: номинализм!), на Руси всякий грех — грех. Суть русской этики можно определить одним словом: трудовая. Всё хорошо, что оправдывает труд на всеобщее благо. И — всё. Даже западный писатель понимает это [Шпидлик 2000: 210], говоря о сути такой этики: 1) дело любви — взаимное исправление душ, погрязших в лаве грехов; 2) служба слова предполагает уважение к слову как факту жизни; 3) милостыня как милость очищает душу, пропащую в мерзостях жизни (речь не о подаянии); 4) обязанность работать как самый высокий долг и плата за свое рождение; 5) благотворительность в высоком духовном смысле (включая труд без оплаты— «общественная работа»); 6) воспитание юношества и 7) аскеза в личной жизни («аскеза обозначает напряжение» духа).
Всё это связано с воздержанием разного рода — в мысли, в чувствах, в желаниях воли. Во мне ничего нет такого, что позволяло бы «выставляться» как особого рода, уникально отличное от других. Скромность, терпение, «делай свое дело». Совмещение напряжений, давно уже названных praxis и ποίησις, т. е. делание и творчество [Шпидлик 2000: 208].
Национальные особенности видны, конечно, и в эмоциях, в их составе, предпочтительности, распределении, интенсивности, но главное все-таки состоит в иерархии их распределения.
Можно соотнести друг с другом любовь и свободу, правду-истину, судьбу и счастье, страх и гнев, радость и веселье, смех и горе, дух и личность и сотни других эмоций. Средневековая мысль так и делала, попарно совмещая содержательно, по общности признака, связанные проявления личной эмоции и социального действия. Но метонимическое движение мысли приводило к осознанию реальных родовидовых соответствий, к пониманию того, что одни из компонентов словесных формул представляют собой содержание, а другие — объем аналитически созданного (для удобства понимания) «понятия», данного здесь в мифе, т. е. в случайной комбинации двух цельностей, но в сочетании обладающих уже совершенно новой ценностью. И тогда оказалось, что один из этих компонентов есть признак-вид, а другой — род.
В самом деле, возможны (впоследствии они и создавались) сочетания типа свободная любовь или счастливая судьба, но никак не любовная свобода или судебное счастье. Точно также явились в одностороннем выделении типичного признака имени истинная правда, страшный гнев, радостное веселье, горестный смех, душевная личность и т. д. Во всех случаях наблюдается общее сходство: душевно-личностное подчиняется социально-общественному, переживание — действию, а реальное (т. е. идеальное в мысли) — действительному в жизни. Эмоция стала оправданием этики. И разве такое предпочтение не выражает объемы русской души?
Велика роль языка в претворении мифа в символ, и тут верно заметил Иван Ильин: «Итак, можно сказать, что русская душа в своей простоте и естественности производит мелодичное и гармоничное впечатление. Этому соответствует и строение языка... Русский язык, подобно итальянскому, избегает всего, что звучит жестко, грубо, скрипуче или шепеляво... Русский язык хочет звучать и петь, быть естественным и выразительным, наслаждаться означаемым предметом, придавать ему фонетическую ценность и тем самым процветать самому. Он живет и раскрывается благодаря созерцающему вчувствованию... Язык же есть фонетическое, ритмическое и морфологическое выражение народной души... Но довольно о русском языке. Его сущности соответствует и речевая артикуляция русских: она естественна, свободна и проста. Естественны и выразительны интонации и жесты; во всем налицо определенная искренность и подчеркнутость чувства, эмоциональная свобода, подвижность, гибкость...» [Ильин 6, 2: 391, 392, 374].
Почеркните здесь каждое слово, соотнесите выражаемую им мысль с описанными эмоциями и решитесь додумать до конца идею неразрывности языка и ментальности. И тогда станет ясно, что «язык и его произведения (тема нашей книги. — В. К.) — самое живое и гибкое, самое тонкое и величественное воплощение национальности, таинственно связанное с ее таинственным существом» [Струве 1997: 66].
Но язык не просто хранитель старинных мифов, мифы он собирает в действующие символы.
Так и «русская душа» тоже — не понятие и не миф. Это — символ, но символ — чего? Об этом и пойдет речь в следующей главе.
Глава третья. Пределы разума: ментальность
Человек менял одежды и идеи, но сам изменялся мало.
Николай БердяевДуховность реалиста
Исторически так сложилось, что русский человек надвое думает» (Ключевский), а со стороны это воспринимается как двоемыслие или даже «двоедушие». Возникает прекрасная возможность распотешиться над «русской идеей» и всем, с нею связанным.
И тем самым показать, что и сам двоедушен, сам исповедуешь «двойной стандарт» в оценке своего и чужого.
Пример. Евгений Барабанов порицает русских философов за «выпячивание самобытности» русской мысли, утверждая, что это опасный симптом. Мало того, что автор не понимает необходимости «перегнуть палку» в другую сторону после того, как она слишком уж вывихнута в противоположную, он и по существу как будто не очень логичен.
«Мир слов отрывается от мира вещей и провозглашается сущностным слоем реальности... где это ожидаемое, некритически приравненное к действительному, служит формой мотивации и оправдания поступков, — возвращает нас к магическому сознанию» [Барабанов 1992: 134, 151]. Точка зрения реалиста (т. е. собирательно русского философа), который рассматривает связи между идеей и вещью, здесь оценивается с позиции концептуалиста, который сам всегда интересовался отношением между вещью и словом, исходя из одному только ему известной отвлеченной идеи. В результате ставится знак равенства между словом и идеей — и вот уже возникает обвинение: идея (понятие, категория и пр.) подменяется словом. Слово-идея, вылепленная концептуалистом, и предъявляется реалисту в качестве обвинения того в магическом сознании. Проблема знания, важная для концептуалиста, заменяет проблему понимания и даже сознания, важную для реалиста (ср. еще: [Шпет 1989: 52—53]). Согласиться друг с другом им невозможно. Конфликт понятен; он даже оправдан. «Знание доказывается всеобщим Делом», — говорил Николай Федоров, а знанию предшествует по-знание, «Философия, определяя себя лишь как знание, тем самым признаёт себя праздным любопытством, из которого ничего не выходит, ни даже знания» [Федоров 1995: 79].
Совершенно прав Барабанов, упрекая «русское сознание» в возвращении к гностицизму (он вспоминает Маркиона); упрек не новый, о русском «манихействе» говорил Георгий Федотов, да и Сергея Булгакова обвиняли в том же грехе. Дуализм сознания есть внутреннее свойство русской ментальности, и верность отношениям эквиполентности составляет яркую особенность русской нравственности. Свет и тьма, добро и зло, наши и ваши и всё остальное в своих пространственных (не временных!) противоположностях суть равноценные реальности. Пантеизм признает неизбежность зла как условие бытия и жизни; только пройдя бездны зла можно стать добрым.
Русские писатели всегда так чувствовали; именно об этом, кажется, говорит Солженицын, замечая, что современные писатели утратили энергию синтаксических связей и в торопливости своей ценят лишь мысль и время, а не пространство слова. Потому что они, как и современные концептуалисты, исходят из готовой идеи (мысли), а не из слова, постоянно эти идеи воз-об-нов-ляющего.
Раздвоенность русского сознания (но только ли русского?) имеет глубокие основания, которые давным-давно обнаружил Иммануил Кант. Николай Федоров, кстати, именно за то и упрекал философа: «Но самое великое зло Канта — раздвоение разума: познающий и практический — и несоединимость вечная их» [Федоров 1995: 84]. Однако, постоянно споря с утверждениями этого немецкого философа, русские мыслители тянутся к его дуализму: разум и чувство, — но в отличие от Канта полагают, что разум и чувство взаимопроникают друг друга, они — неразрывно одно, и потому ничего трансцендентного в природе нет, постигаемы и «вещь» — чувством, и «вещь в себе» (идея) — духом. В отличие от немецкого реализма, который разъединяет, разводит вещь и идею в разломе «семантического треугольника», русские неореалисты утверждают необходимость их совмещения, связи, соединения разбегающихся от Логоса векторов идеи и мира. Еще славянофилы говорили, что «господство формализма в России» есть внедрение на русскую почву теоретического (критика Канта). Теоретическое — насильственное сочетание двух начал: идеального («богословского») и реального («философского»). В результате возникает схоластика как стремление к форме логического заключения «правильным силлогизмом» — «удел рассудочного мышления», аналитически дробящего сущность в пользу сочетания двух форм (см.: [Самарин 1996: 96]).
Разведенность полюсов, на которых обретаются идея и вещь (назовите их иначе: мысль и дело), постоянно сходится в слове, которым как материей мысли и пользуется человек. Николай Лосский говорил о парадоксальной совмещенности в русском сознании мистицизма и земной рассудительности. Всякий парадокс есть глубинная истина, и сегодня мы знаем ответ:
Такое расположение ипостасей Логоса выразил еще Алексей Хомяков [1912, 1: 321]: «Мир является разуму как вещество в пространстве и как сила во времени». «Сила» есть энергия идеи, вовлекающей мир в действие (время), ибо, по формуле Ключевского, «сила есть акт, а не потенция»; «вещество» есть материя вещи, создающей пространство мира. Мир сущностей и мир явления взаимопроникновенны, постигаемы один посредством другого; в признании этого — отличие от Канта, допускавшего познание мира вещей, но отрицавшего возможность познания мира идей («вещей в себе» или, точнее, «вещей для себя»).
Внешнее заимствование тех или иных философских идей не полезно для национальной философии. Каждый народ нуждается в собственной философии, потому что в процессе ее разработки идет и рост национального самосознания, идет изнутри себя самого, а не путем внешнего заимствования. Вот этой-то возможности и лишен русский народ, вынужденный в результате прилепляться к разным чужеродным идеям, модным на каждый нынешний день. Владимир Соловьев писал, что мы прошли все три отвлеченных направления мысли, питающих европейскую мудрость: и мистику, и гуманизм, и натурализм. Пора уж идти и своим путем, так что заверим всех словами русских мыслителей: «Мы еще не осмелились ни разу хоть вежливо, хоть робко, хоть с полусомнением спросить у Запада, всё ли то правда, что он говорит? всё ли то прекрасно, что он делает?» [Хомяков 1912: 91]. «Тогда как, по-настоящему, надобно сказать себе: „Какое нам дело до того, что о нас думает Европа?“ — когда же мы это поймем?!» [Леонтьев 1912: 181]. — Вот и получается, что «наша деревня, как терпеливая наседка, сидит на яйцах-идеях, и она бы высидела их непременно, если бы не мешали извне» [Пришвин 1994: 95].
Всё ли понятно из трех цитат, намеренно поставленных рядом?
А в традиции русской мысли всё те же источники: во-первых, «жизнь» тела-вещи и, во-вторых, духовная сила слова.
Схема реальной действительности в русском сознании очень проста:
«Реальная действительность» в единстве ее составов есть гармония идеи и вещи во взаимообращенности их энергий — через Слово.
Движение от точки «действительность» в точку «реальность» проходит через слово, ибо (и это верно) именно «слово создает из действительности реальность» [Чернейко 1997: 27]. Ссылка дана на лингвистический текст, в котором собраны все философские интенции. И можно еще добавить вот что.
Коллективный разум в упор не «видит» того, что не обозначено словом, особенно если «то» невидимо, незримо, неощутимо (что такое любовь — кто скажет?), и в то же время личный разум вовсе не разум, а просто рассудок, подверженный всем колебаниям формальной логики в мысли. Обе посылки сходятся в точке вещь, из которой слово и мысль видны как сущности равноценные. Мы уже знаем, что эта позиция взгляда есть номинализм.
Реализм же исходит не из вещи, а из самого слова, в котором содержится коллективный разум (всеединство, соборность, мир... — подбирайте другие слова), основываясь на котором человек уже по собственной воле оценивает мысль-идею в ее отношении к вещи (но также и наоборот). В его проекции частное — личная мысль — проверена общим разумом в слове и верифицирована в вещи. Чувственное как ощущение вещи и рациональное как осознание в идее только совместно могут дать полную и точную информацию о мире. Одним ведь глазом плохо видно.
О «чувственности» русской ментальности столько написано... необходимо уточнить. Всё Средневековье исполнено внутренней борьбы между чувственно-вещной (еретики-язычники) и духовно-абсолютистской (христианство) формами со-знания и по-знания, это никак не могло исчезнуть в культуре, оно и не исчезло, а после XV в. обернулось «русским реализмом», совместившим то и другое в общем взгляде «от слова». Но ни чисто вещное (эмпирическое) чувство, ни чисто идеальное (мистическая интуиция) не даны в своих абсолютных проявлениях. Более того, они несводимы друг к другу по качеству, потому и вместо понятия русская мысль творит понятием образным — символом (чувство + разум в общем наведении на объект). В. В. Мильков удачно определил смысл средневековых влияний неоплатонизма («Ареопагитики») на русскую ментальность: «Оригинальная гносеология, согласно которой методы чувственного и рационального познания дополняются способами мистико-символического постижения действительности» [Мильков 2000: 212].
Реализм contra номинализм
Такова позиция реальной человеческой личности, ибо в таком случае Слово оказывается равным вещи (слово — тоже «вещь») — это линия материальных отношении по горизонтали движения; и одновременно Слово равно идее (оно тоже имеет смысл) — вот линия идеального отношения по временной вертикали. При логичности указанных связей важно, что только словом владеет человек, тогда как всякая вещь находится вне его (он и сам — «вещь»), а идея всегда над ним (у него ведь тоже имеются свои «идеи»). «Итак, Логос, или Слово, есть единственное объективное, то есть для другого существующее, начало бытия и знания» [Соловьев 1988, II: 243].
Между прочим, до XVI в. и в звучании это были два разных «слова», а именно слово, которое слышат слухом, и глагол, который изрекают в речи. Расхождение между словом и речью отражало предметно-вещную действительность, столь милую номиналисту (каковыми и были древние русичи). Совмещение этих терминов в общем слове (родово в Логосе) знаменует переход к новому измерению — это взгляд от слова, уже обобщенного именно как единственность Слова. Такова точка зрения реалиста (в философском смысле), каким и стал русский человек после духовных метаний XV—XVI вв. Теперь людей все больше объединяет «речь в широком смысле слова», заметил В. М. Бехтерев. Подробное описание этих процессов см.: [Колесов 2001].
Позиция реалиста кажется предпочтительней позиции концептуалиста, который отождествляет человека с идеей (какое самомнение!), и номиналиста, который отождествляет человека с вещью (какое убожество!).
Напомним, что в прошлом веке славянофилы ухватились за учение позднего Шеллинга, в мистических его озарениях углядев нечто, родственное своим туманным представлениям о реальности. И ранний евразиец Лев Карсавин подхватил их мнение, утверждая о Шеллинге, что его идеи — уже конечный предел развития европейского ratio, за которым оно возвращается в первозданный хаос первосмысла; Шеллинг вернул русской философии право на миф [Барабанов 1992: 149], и это верно, но не в том смысле, какой имеет в виду критик русской мысли (мифотворчество якобы застилает сознание русского человека: и опять — только русского?), а в смысле возникновения возможности приникнуть к священному источнику животворной идеи, именно — не к внешнему понятию логического мышления, но к его первообразу, к внутренней его сути — к концепту. «Мир постижим лишь мифологически», — очень точно выразил мысль реалистов Николай Бердяев. Россия развернута не к Логосу, но к Софии, утверждал Георгий Федотов, тем самым символически обозначив то, что русская мысль, устремленная к идее-Софии, на самом деле исходит из Логоса-слова. Шеллинг просто вернул неуверенной в своей правоте, сомневающейся, как обычно, в себе русской философии уверенность в том, что не ratio рассудка, иссушающе схематичного, следует признавать венцом человеческой мысли, но животворящий в слове разум-Логос.
Трагедия реалиста в другом — в том, что не всякой идее верить должно, ибо «идеи как ложное солнце, немного сдвинуты в сторону от светящегося живого тела, и если метиться в тело, ставя прицел на идею, то снаряд пролетит мимо. Так, идея Прекрасной Дамы приводит Дон-Кихота даже не к Альдонсе, а к какой-то безобразной девке на осле... Так создался Дон-Кихот. Светило Прекрасной Дамы уже погасло, и Дон-Кихот следовал только принципу Дамы, призрачному и несуществующему, как ложное солнце, как долетающая до нас форма давно погасшего тела» [Пришвин 1994: 177].
Трагедия русского неореализма в том, что научное знание сегодня ассоциируется с номинализмом во всех его оттенках. «Номинализм, — напоминал Алексей Лосев, — явление, весьма характерное для многих современных концепций языкового знака. Можно сказать, что он вообще соответствует исконной потребности буржуазной филологии сводить все человеческое знание только на одни слова с полным отрывом от всякой внесубъективной предметности... Поэтому, додумывая всё до конца, номинализм не мог оставаться на почве субъективизма, должен был постулировать какое-то нейтральное бытие» [Лосев 1982: 185] — третий мир, вне человека. «Номиналистическое» толкование «реалистических» идеалов выворачивает последние, дискредитируя их и искажая. И такое искаженное теперь выдают за реальность!
Например, когда язык формализован, он перестает быть языком и становится кодом — отвлеченной системой знаков; тут уж совсем легко совершить подстановку и утверждать отсутствие в языке национального, подчеркивая лишь его «общечеловеческие ценности». В высшей степени это было присуще московско-тартуской семиотической школе, об основной категории которой Алексей Лосев сказал совершенно точно: «Сам-то термин знак во всяком случае имеет для многих наших современников номиналистическое происхождение» [Там же: 243].
Например, когда известный культуролог Пол Фейерабенд заявлял, что «с развитием терминов происходит отвердение теории», он также утверждал номиналистическую точку зрения, согласно которой вся теория и есть всего лишь система специальной терминологии; поскольку термины строятся не на национальных языках, мы и здесь, и снова вперяем взоры в заоблачные выси абстрактно «общечеловеческого». Образование «метаязыка науки» (сверхъязыка) — фокус, в результате которого новый термин свободно можно подводить под любой объект, как и обратно, и тогда всё сведется к «функциям» и «отношениям», при полном истреблении самих «вещей». Слово начинает играть роль понятия, замещая его.
Например, когда историк Арнольд Тойнби утверждал, что реальность общества есть отношение между личностями, а не совокупная множественность конкретных индивидов, он тоже пытался околдовать «логически строгой» увязкой идеи и слова (теории и термина), начисто выбрасывая за борт истории человеческие индивидуальности.
Полвека русские философы заклинали нас не идти на поводу у западноевропейского номинализма.
«Вообще марксистское понятие „класса“ может быть истолковано только номиналистически, а не реалистически», он «превращает классовые интересы в общечеловеческие идеалы» («самый передовой класс» и т. д.: [Бердяев 1907: 127]). Николай Бердяев возвращался к этой теме не раз. «Марксизм вполне номиналистичен по своему философскому мировоззрению, а в народ — пролетариат верит, как в реальность. Но ведь этот пролетариат никогда и никем эмпирически не может быть воспринят, такого факта не существует, это реальность тоже мистического порядка, и восприятие ее есть вера, обличение вещи невидимой»; «реализм должен победить номинализм, как в жизни, так и в мышлении. Классы, в том числе и класс „интеллигенции“, имеют значение феноменологическое, эмпирически выводное и подчиненное, в то время как личность и нация имеют значение субстанциональное и реальное, и потому им принадлежит центральное место в нашем миросозерцании. И личность, и нация — живые организмы, корни которых заложены бездонно глубоко, они неистребимы, классы — преходящие образования» [Бердяев 1910: 90, 3]. Резкие реплики по тому же поводу можно найти у Николая Лосского, у Семена Франка и у других мыслителей Серебряного века русской культуры.
Поскольку «номиналисты утверждают, что классы вещей суть связки индивидуальных явлений, нарастающие в силу ассоциации вокруг одного и того же слова», тогда «класс» и отождествляется со «свойством», которое и приписывается вещи [Лосский 1908: 244].
Интересное наблюдение сделал Илья Эренбург, описывая двух кудесников русского слова, классиков Серебряного века — Андрея Белого и Алексея Ремизова. Он заметил, что, «вдохновляясь корнями слов», один из них «мудрил», а другой «чудил» в своих произведениях. Наблюдение точное, но не объяснено по существу. А объяснение очень простое, оно вытекает из противоположных движений от слова, которым, как природные «реалисты», писатели играют. Это ведь путь в заоблачную туманность идеи— и Белый мудрит, путь другой — в телесность «обезьяннего царства» — и Ремизов чудил в своем вещном мире. Поиски новой формы влекли то на взлет, то на вспых — и не соединились они еще в мерную ладность идеала. То же у третьего стилиста той поры — у Василия Розанова, у которого, по словам Пришвина, был постоянный «страх перед кошмаром идейной пустоты (моровое крушение) и благодарность природе, спасающей от нее» — страх перед вечной идеей, который исчезает при всякой возможности проверить ее на природной «вещи».
Подобное движение мысли можно проследить на многих примерах. Идея растет в слове, и рост происходит — постоянно.
Удвоение сущего
Следовательно, и русское сознание не раздвоено; наоборот, это у него всё удвоено.
Особенности языка свидетельствует о том непреложно. У нас всегда существовало как бы два языка — литературный, сакрально важный, в прошлом даже церковно-славянский, а с другой стороны — язык бытовой, народно-разговорный, для контраста с первым его называют профанным. Первый — литературный — работает в сфере абстрактно-обобщенных смыслов, высоких идей, отвлеченных мыслей, основная текстовая его единица — это символ, который в наше время стремится к понятию, заменяется понятием в виде иностранного термина-слова, как бы воссоздающего смысл гиперонима. Что это так, можно видеть на примере современных переводов Евангелия [Колесов 1995]. Старинные символы высокого стиля нынешние «точные» переводы стараются перенести в однозначный план понятия, для того чтобы неискушенный читатель мог без особого напряжения мысли понять текст. Скажем, теперь, оказывается, не годятся слова типа ризы или сандалии, их следует убрать, а вместо них поставить слова одежды, обувь или даже (верх номинализма!) слова рубашки, сапоги и т. п. Многосмысленность старого символа в слове высокого стиля, соединяющего вещь с идеей, подменена родовым обозначением вещи, гиперонимом. Слово и вещь современным концептуалистам представляется более важной связью, чем отношение идея и вещь, данное в слове.
Второй язык — бытовой — служил и служит для обозначения конкретных вещей, событий, действий и лиц, переданных, обычно, в образных формах; здесь движение мысли от вещи к образу. Вещь пре-образ-уется в образ. Здесь нет никаких «понятий», потому что раскрытию смысла, пониманию, служит ситуация, характер действий — вообще мир вещей, которые с нами и вокруг. Такие вещи предстают в своей цельности, воспринимаются слитно в синкретизме собственных свойств. Образность выражений — выдающаяся черта народной русской речи, очень объемно ее бытование в России показал в словарях Владимир Даль. Сегодня эту особенность обычной речи стараются сохранить писатели-«деревенщики», что понятно: они отражают то, что описывают, а в русской деревне находятся и теперь носители русской речи.
Почти каждая структурная особенность русского языка указывает на то же удвоение. Даже в звучании, в произношении можно найти особенности, неизвестные другим языкам. Например, трудно усвоить иностранцу русское противопоставление согласных — твердые последовательно противопоставлены мягким. Мать и мять, сад и сядь и многие другие (все такого рода) пары иностранец станет передавать по-своему, скажет, например, мьять или сьять, аналитически, двумя звуками передавая символический синкретизм русского мягкого согласного. Крайности мягкого и твердого звучания — те же крайности характера; даже не все славянские языки в полной мере сохраняют эту особенность устной речи.
Каждое слово четко делится надвое, в нем основа и окончание. Простейшее правило, известное школьнику с ранних лет. Однако в этом противопоставлении тоже заключена великая двойственность. Основа слова (корень с суффиксами) несет значение смысловое, лексическое, тогда как окончание передает значение грамматическое, указывает на связь слов в высказывании. Лексическое значение всегда конкретно, оно обслуживает нужды образа, символа и понятия, тогда как грамматическое значение отвлеченно-абстрактное, служит для указания на класс и род, к которым относится слово и само по себе, и в контексте речи. Та же самая противоположность — между конкретностью вещи и отвлеченностью идеи. Но в слове и конкретность вещи, и отвлеченность идеи мы сопрягаем совместно, воспринимая их единство как единство самого слова.
В европейских языках, по крайней мере в большинстве их, подобная двойственность выражения — значение и смысл формально разведены — утрачена, и им приходится налегать на логику, потому что в мышлении язык не помогает мысли. Логичность суждения перекрывает психологические недостатки предложения. Петр Бицилли полагал, что путаница в предложно-падежных формулах заставила англичан отказаться от склонения форм — и тем самым как-то улучшить язык. Ошибка привела к положительному результату. Датский лингвист Отто Есперсен считал, что результат был заложен в духе самих англичан: освободиться от лишней формы. Одномерность формы не дает однозначности смысла. А «в русском языке от любых слов одной категории можно производить слова любой другой. Это совсем не то, что в английском языке, где у имен и глаголов одна и та же внешняя форма и где поэтому смысл слова определяется в каждом данном случае тем, что перед ним стоит: to [перед глаголом] или the [перед именем], — или же, наконец, просто его местом во фразе. Для того, что называется „духом“ русского языка, характерна способность любого „корня“ обрастать любыми приставками, суффиксами и окончаниями — точнее говоря, не корня, а слова» [Бицилли 1996: 590]. Английская конструкция логична — и суховата; в ней отсутствует логика духа.
В русском предложении могут сходиться разные, иногда совершенно противоречивые формы, отнесенные к реальности, но это только увеличивает образную силу суждения. В древности такая особенность речи очень заметна. У протопопа Аввакума: «Он меня бранит, а я ему рекл: Благодать тебе в устех твоих да будеть!» В романе Андрея Белого «Петербург» совершенно разрушены не только временные, но и причинные связи, но это тоже лишь помогает дискурсу выразить объемность смысла.
В сущности, все примеры, которые приводятся в этой книге, иллюстрируют мысль об удвоенности сознания через слово. Например, когда речь заходит о парах слов типа стыд и срам, радость и веселье, правда-истина, путь-дорога, совет да любовь, мы воочию видим противопоставление отвлеченно-идеальных срам, веселье, истина, путь, совет и конкретно вещных, временами даже «телесных», соответственно стыд, радость, правда, дорога, любовь. О каждом из них сказано в своем месте; здесь заметим, что первый ряд имеет отношение к стилю высокому, а второй — к обычному, даже низкому. Давно замечено наше пристрастие к обильному заимствованию чужих слов, смысл которых будто бы тот же самый, что и в коренных словах родного языка: отвлеченный—абстрактный, предмет—объект, полный—абсолютный, действительный—реальный, понятие—концепт... Вот и Петр Бицилли защищает слово проблема (ныне без этого слова — никак!). «Зачем проблема, когда есть вопрос? Но проблема не просто — вопрос», можно сказать и задача, но разница в том, что проблема — вопрос теоретический («умозрительный»), а вопрос — практический [Бицилли 1996: 611—612]. Так полагали полвека тому назад. Потом проблема стала «вопросом, который требует разрешения», а в наши дни, говоря: «проблема» — имеют в виду и вовсе «неразрешимый вопрос».
На частном примере мы видим движение мысли, направленной реальной точкой зрения, от слова. Разведение двух почти однозначных слов, русского и заимствованного, укладывается в привычную схему удвоения сущностей. Проблема как теоретический > требующий разрешения > неразрешимый вопрос расходится со смыслом русского слова, все дальше вступая в вектор идеи.
Оказывается, язык идет наравне с нашей мыслью; более того, «мысль направлена словом» (прекрасные слова Александра Потебни). Как в мысли идея сопрягается с «вещью», так и в языке смысл слова сливается (и непременно!) со стилем. Немудрено и понятно: всё оценивая с точки зрения нравственной, русский человек и значения слов оценивает в отношении к стилю. Как будто согласен с известным выражением: «Стиль — это человек», а смысл, конечно, это уже личность.
Во многом такое слияние смысла и стиля — реального и действительного — объясняется складом русского языка, образного по характеру и риторичного уже по структуре. В одной и той же словесной форме могут соединиться внутренне противоречивые значения, и мы не ощущаем их взаимной несводимости (оксюморонности), опуская знание о том в свое под-со-знание. Жемчуж-ин-ами с суффиксом единичности при окончании множественности; стро-ящ-ий-ся — причастие с суффиксом действительного залога при «страдательном» ся; трижды крикнул — указание на повторяемость однократного действия (при суффиксе -ну-); иду я себе вчера — настоящее время при указании на прошедшее и личное местоимение я при возвратном себе — и многие другие примеры такого рода из школьных учебников по русскому языку. Нашу речь пронизывают оксюмороны, плеоназмы, гиперболы и прочие риторические тропы и фигуры. Плеоназмы типа служба сервиса, патриот Отечества, внутренний интерьер создаются во множестве, поддерживаемые особенностями русской речи. Стоят новые столы — трижды передана идея множественности. Вновь заимствуемые слова также подвергаются удвоению смысла. Суверенитет понимается как независимость нации (вещно) или государства (идеально), демократия воспринимается как власть народа (вещно) или избранного народом меньшинства (идеально) и т. д. Отсюда возникает подмена понятий, выгодная той или иной стороне.
Сравнение с другими языками тоже показательно. Так, в народном фольклоре англичан за всеми обозначениями, например, лица или цвета «чувствуется субстанциальность», т. е. намеренное обозначение признака как вещи, тогда как «русский фольклорный менталитет за цветом видит смыслы, а потому и цветообозначение приобретает статус сущностной характеристики» [Петренко 1996: 52—53], т. е. не вещи, а ее идеи. И «лицо человека видят оба этноса» по-разному: английское слово face «используется функционально: лицо как способ передачи информации, русское лицо — экран эмоциональной жизни, сигнал красоты, причем у каждого народа присутствует своя особая «точка красоты» — у англичан это щеки и губы (вещно), у русских — идеально глаза [Там же: 97].
Все такие сопоставления в области «низовой культуры» позволяют понять отсутствие подобий при наличии внешних сходств. Земное тяготение обязательно долит и англичанина, и русского мужика, но в разной степени. В представлении русского в каждой земной вещи соприсутствует нечто божественное, что становится идеалом. «Нерасторжимое единство божественной и природной сфер бытия» в русском сознании философы отмечают с XV в., а это «свидетельствует о пронизанности невещественными обожительными силами материального бытия, о соучастии божественной силы в пронизанности и оживотворении всего сущего», т. е. в сущности пантеизм, который противоречит «каноническим воззрениям христианства об онтологической несовместимости идеального и материального начал» [Мильков 2000: 252].
Отступление в философию
Оно уже началось, это отступление. Ничего не поделаешь, придется продолжать, коль скоро речь зашла о «невещественном», но вещи при-сущем: о мета-физическом.
Русские философы постоянно утверждали, что да, идея для русской ментальности важнее факта-вещи, а бытие существенней со-бытия; концепт значительнее понятия, и будущее нас влечет больше, чем настоящее, и символ — чаще, чем понятие, да и действительность нам кажется неправильной, если она не соответствует реальности — идее идеала. Современные культурологи объясняют просто: идея есть образец, спроецированный внутри, даже — изнутри, это увековечивание «я» в предметности мира, а уважение к себе сохранить важно, особенно если «идея рассматривается нами как любовь» — всеобщая сила единения [Петраков, Разин 1994: 8]. Из действительности вещи слово создает реальность идеи.
То, что на Западе называют понятием: совмещенность содержания и объема, — у нас как бы двоится на содержание-признак и на предметность-объем; в этом русская гносеология: содержание есть идея, а объем равновелик вещи. Об этом говорит философ конца XIX в.: «Знание предметное все насквозь, с начала до конца, опосредовано субъективным. Истина предметная, к приобретению которой оно стремится, есть не вся истина, но только часть ее, еще вопрос, важнейшая ли даже часть ее. Ведь кроме предмета, к которому познающий субъект стоит и должен, по основному предположению предметного знания (определенность предмета, независимая от случайного восприятия его, случайной мысли о нем), стоять в отношении внешности, остается еще самый этот субъект, который тоже ведь знает нечто о себе, и знает первее, непосредственнее»; знание постигает феноменальное, а вера субъекта постигает «знание самого существа», «полной истины» [Астафьев 2000: 407] — в концептуальном признаке.
Реальная рефлексия по этому поводу должна отражать историческую действительность развития. Любой философ представляет это себе вполне ясно. Используем сводную схему [Пелипенко, Яковенко 1998: 147 и коммент. на с. 166, 190]:
Таковы уровни «первотектональных интенций» субъекта, первые три сверху охватывают лично-психологические, два следующие — социальные, два нижних — природно-физические свойства (в синкретизме представлений). Вопрос в том, какие уровни принадлежат ментальности и до каких пределов распространяется менталитет того или другого этноса? Концептуальная зона распространяется на все уровни, кроме двух нижних, которые вообще не следует открывать, ибо это «убьет трансцендирующий импульс» [Там же: 152] — что совершенно верно. Это — разведение Природы и Культуры, опосредованное социальным статусом той и другой. Остальные фазы «семиотического цикла» авторы представляют в такой последовательности:
1. Целостное нерасчлененное апофатическое переживание;
2. Распад единства под действием отчуждающей рефлексии;
3. Первичная семиотизация в замещенной форме («имянаречение»);
4. Обретение адекватного кода;
5. Окончательное смещение к знаковой структуре;
6. Замыкание знаковой структуры полностью в себе.
«Семиозис всегда догоняет» — но что? Он догоняет жизнь.
Все этапы пройдены русским языком, оформившим национальную ментальность. При этом социально-национальные формы выработаны в эпоху Средневековья, а верхние уровни «семиозиса» формировались в Новое время. Так сложилась триада «интуиций» русского подсознательного, которую Николай Лосский назвал (сверху вниз) интуицией интеллектуальной, мистической и чувственной, а Иван Лапшин (соответственно) — инспирацией, интуицией и инстинктом. В таких определениях легче постичь сущность русского разума. Во всех случаях это именно интуиция, которая охватывает все уровни «семиозиса», но каждый из них отличается видом на общем роде интуиции. Это восхождение от вещи к идее, как оно представлено исторически.
Ум за разум
Особенности русского ума приводят постороннего наблюдателя в отчаяние. Иногда ему кажется, что ума-то и нет, в наличии нечто иное.
Таким «иным» представляется ум своеобразный, то есть, в понятиях западного человека, опять-таки не ум вовсе. «Особое место среди этих оценок и установок занимает уникальный русский ум, инструмент для поиска выхода из сложнейших жизненных ситуаций. Не потому ли именно русские всегда были способны выживать в тяжелейших условиях, придумывая нетривиальные решения и используя их все не по назначению, но поистине гениально, не потому ли именно „русские мозги“ так высоко ценятся и представляют собой дорогостоящий, но искомый товар для цивилизаций, держащихся за прагматические принципы (номинализма. — В. К.)? И не в силу ли названных ранее причин русские сами не понимают или не желают понять, какой замечательной вещью они обладают, и не могут оценить ее по достоинству?» [Голованивская 1997: 163].
Понять-то понимают, как не понять... Оценить не могут: за морем товар лучше. Уж ежели там и бананы растут — что уж нам...
Что же касается «названных ранее причин», речь идет о понимании ума как инструмента или природного ресурса, как основы жизни, на которой стоит человек, как вместилища самых различных душевных свойств, включая совесть. «В современном языке... ум ассоциируется в первую очередь со способностью человека принимать решение, то есть порождать новое знание» [Там же: 158]. А это не разум, не рассудок, даже не мудрость, которые связаны с обыденными способностями наблюдать, сопоставлять и мыслить о вещах и событиях. Ум охватывает сферы идеи — тех высших сущностей, которые в случае необходимости способны направить человека на путь истинный. Душа и совесть — живые, они «переживают» и судят, тогда как ум кажется неодушевленным инструментом, чем-то вроде топора и пилы, с помощью которых можно прорубаться сквозь чащу или построить дом. Многие пословичные выражения наталкивают на эту мысль автора [Там же: 134—138]. Однако в подобном несходстве таится обман. Обманывает родовая принадлежность слов: душа и совесть женского рода, ум — мужского («женское, детородное, хаотическое, эмоциональное — основа жизни»). Именно такое впечатление и можно вынести из русских словесных форм. Русское сознание предстает одушевленным. А холодная деятельность рассудка ничем не одушевлена.
Вот почему «в русских умах есть какая-то философская свежесть» [Струве 1997: 265], и это, конечно, связано с языком. Еще Вильгельм фон Гумбольдт заметил, что «язык народа есть его ум, а его ум — его язык; мы никогда не можем достаточно постигнуть всю их тождественность».
Также и в интуиции русских философов XX в. можно заметить постепенно усиливавшееся отталкивание от традиционной троичности «ум—душа—дух» в пользу «этимологического», согласно номинации двоения «дух—душа». Впечатление такое, будто интеллектуальный компонент духовной троицы остается за пределами допустимых оценок.
Впечатление ошибочное.
На основании материалов «Толкового словаря» Владимира Даля показано [Фархутдинова 2000], что в русском представлении ум не только интеллектуальная, но и нравственная сила; ум — то, что делает человека личностью и предстает как «жизненная колея» (доходить до ума, сходить с ума и т. д.). Ум и есть, в конечном счете, душа, одинаково можно сказать чужой ум и чужая душа — и то и другое потемки. Ум определяет линию поведения, он может отчуждаться, как и душа, и в этом состоит подвижность и гибкость ума, дарованного человеку судьбой. В народной культуре «русский ум осмысляется как поведенческая категория» [Там же: 118]. Ум в проявлениях воли, тогда как разум понимается как простой рассудок, как способность к отвлеченной мысли, соотнесенная с памятью, понятием и суждением (у Даля это intellectus, Vernunft). Разум тут скорее средство, некое явление, а не сущность, тогда как ум, конечно, и есть душа.
Русский ум особенный. Даль говорит о нем, как о заднем уме. Русский человек «задним умом богат». Можно подумать, что задний ум всегда отстает от уже совершенного дела или испытанного чувства — осмысляет «задним числом» событие. Однако этнографы XIX в. показали, что в русском представлении задний ум объясняется скудостью специальных знаний, недостатком достоверной информации и даже отсутствием разделения труда. Современное о нем представление «как итог, который русский человек подводит в результате самоанализа» [Там же: 119] делает упор на рефлексию «самоедства» и представляется слишком натянутым, привязанным к узко интеллигентскому пониманию дела; это ведь интеллигент комплексует по всякому поводу. Задний ум у самого Даля скорее соответствует общему смыслу слова задний — то, что следует потом, а не сзади (задним умом догадлив — только после ощущений и чувства). Тут приводят и слова Лермонтова: «Богаты мы, едва из колыбели, ошибками отцов и поздним их умом» — с запозданием развившимся? Пространственное задний заменено временным поздний. Но, как замечено, «русский народ, как и всякий народ, задним умом крепок» [Шульгин 1994: 193] — всякий народ; кроме того, критичность заднего ума не столь уж бесполезна, а слова Саваофа в древнем переводе Ветхого Завета: «Увидишь задняя моя!» — очень часто повторяли в средневековой Руси с амвонов. Для Михаила Пришвина [1986: 363] несомненно:
«Итак: 1) Задний ум (природа).
2) Общий ум (человек).
3) Свой ум (сам-человек)».
Апелляция к природе не столь уж и плоха в критический момент, когда лишь природа и спасает.
Русский ум
В поисках признаков «русского ума» философы определили, что ум не следует смешивать с понятливостью, с образованностью и тем более с хитростью — вообще ни с каким формальным или внешним его проявлением. Как всякая идеальная сущность, «ум» не суетен и не навязчив. Ум есть достоинство человека в своих положительных признаках, «русский ум есть ум безличный по преимуществу» (Чаадаев), а русские одарены «слишком острым умом» — «на их несчастье» (Федотов), потому что русский ум в конце концов «укоренен и центрирован в сердце» (Вышеславцев), а русский умен инстинктивно, «он растолкует, не ломая головы, даже то, что приводит в тупик умников» (Гоголь). В средневековых текстах человек есть орган «мыслящей души», явленный прежде всего в зрении, и современный философ как бы восстанавливает этот образ: «Русский ум связан с душой», у русского «ум — это умное смотрение на мир из одной точки» [Гиренок 1998: 301, 253]. Всю русскую культуру и русскую историю «и все наше теперешнее сознание создал только наш, русский, ум» (Шелгунов), действие которого состоит именно в соединении совестного акта с действительностью фактов. С одной стороны, «замечательно, что самые замечательные умы, если в то же время они были явно порочны, не были полные, сытые умы» (Розанов); с другой стороны, «русский ум есть ум преимущественно практический; русский простолюдин, крестьянин, может быть круглым невеждою, но у него врожденное практическое чутье, которым он пробавляется и делает свое дело», да к тому же «в русском уме есть жилка шутливости: мы более насмешливы, чем смешливы...» (Петр Вяземский). Отталкивание «от фактов» или, как говорил когда-то Нил Сорский, «восходим» от вещи к идее, — важное свойство русского ума. «Ум наш требует фактов, доказательств; фраза нас не отуманит, и в самом блестящем и стройном создании фантазии мы подметим слабость основания и произвольность выводов. Фанатическое увлечение идеей вообще, сколько мне кажется, не в характере русского народа. Здравый смысл и значительная доля юмора и скептицизма составляют, мне кажется, самое заметное свойство чисто русского ума» [Писарев 1949: 74]. Именно такое недоверие к «идее», не проверенной в опыте, опасно: и «в русском уме есть что-то, что мешает ему идти дальше. Это „что-то“ — идейная пустота» [Шелгунов 1895: 589]. Революционные демократы и пытались заполнить эту пустоту — заемными идеями. В действительности же это — чисто русское отвращение к накопительству: у нас «ум есть, но нет накопительства его», и следует усилить «накопление разума», ибо у западных европейцев такое накопление завершено «и они ближе к возможному пределу развития», у них разум «из отвлеченной силы вследствие накопления сделался силой действующей, idee force» [Меньшиков 2000: 533—534].
Русский ум проявляется в действии, в момент соединения идеи и вещи, а это процесс интимный и посторонним невидим. Это вызывает подозрительность иноземца, который говорит о ментальной и культурной «запутанности» русского ума, основанного на неоплатонизме. Русский ум ищет интенсивной тотальности во всем (а это и есть идея!); например, «понятие правды пропитывается этическими и эстетическими содержаниями, выражая единство правды, справедливости и красоты» [Брода 1998: 98].
Щедрость сердца и требовательность к себе способны вызвать вспышку подобного слияния идеи и вещи («настоящий ум скромен» — слова Розанова), так что «в России быть умным гораздо труднее, чем где бы то ни было», говорил Николай Шелгунов, и потому «накопление разума» осуществляют заведомо случайные люди — собирательная посредственность. «Вся история нашего умственного развития во все ее многовековое существование проходит в борьбе двух слоев интеллигенции — собирательной посредственности с средним человеком. В этой борьбе и проходит собственно вся наша умственная жизнь, — жизнь, подчас просто невыносимая, уносящая силы на повторение тысячный раз того, что, казалось, было уже совсем решено и принято. Вот, кажется, уже окончательно решено, что просвещение — свет, а непросвещение — тьма... и тут опять собирательная посредственность подняла голову и раздается клич, что нам не нужно ни образования, ни просвещения... Гёте говорил, что люди, узнав слово, воображают, что поняли и его смысл; но есть такие слова, в которых именно и заключается весь их смысл. Такое слово и есть „собирательная посредственность“» [Шелгунов 1895: 966—967 и 970].
Уточним признаки русского ума сравнением с западноевропейским ratio.
Традиционное мнение о нем сформулировал знаменитый психолог в начале XX в.: «Западный ум холодный, эгоистичный, человеконенавистнический. Он слишком подавляет добрые чувства. Он смеется над самопожертвованием. Он презирает милосердие и сострадание» — и потому нам противен, в противоположность ему нам следует «развивать русский ум» [Ковалевский 1915: 60]. Непоследовательность в суждении понятна, вообще-то ум нехорош, но русский ум окажется лучше. Может быть, и так, но если признать, что русский ум — это душа.
Центральным органом мышления в понятиях русский язык признает ум, во французском это esprit, т. е. дух как сущность человека, у русских данная в образе души. Во французском языке нет точного эквивалента русскому слову ум, но и русский ум не соответствует французскому esprit, который, скорее, практический разум в образе, например денежной наличности [Голованивская 1997: 162]. Для всего свои резоны (raison из ratio) — вот установка французского ума, который согласуется с европейским пониманием ума: рассудок как способность рассуждений и разум как способность целеполагания [Там же: 123]. Слово sens (способность восприятия органами чувств) в свою очередь «развивает линию esprit» Там же: 264], соединяя в общих усилиях ощущение, чувства, эмоции и разум.
В английском способность размышлять и знать приписывается душе, совести, духу, сердцу и уму, а уму, сверх других качеств, принадлежит и свойство воображения [Пименова 1999: 59]. Это в отличие от русского ума, которых (мы это видели) на самом деле два: сердце как табуированное название души и солнечное сплетение как сосредоточие совести («брюшной мозг» по Далю) [Там же: 78, 86]. Существенный признак ума — его движение (быстрый ум, подвижный ум и т. д.). Отчуждение чувства (души) от области познания симптоматично — оно устраняет из умственного процесса нравственное начало. В этом смысле английское понимание ближе к русскому, чем французское. Человек вообще не мыслит отстраненно от предмета своей мысли. «Человек мыслит, чувствует и хочет» — одновременно. «В мышлении всегда мыслящий противополагает себя мыслимому, девственное единство сознания распадается тут на субъект и объект. Рождается из целостного единства переживаний объективное мышление — познание. Субъект всегда психологически и индивидуально триедин, он — мыслящий, чувствующий и хотящий, но гносеологически он един, он — только мыслящий, т. е. познающий. Познавать — значит в конечном счете — только мыслить... Логическое долженствование есть принудительность не sollen, a müssen» [Струве 1997: 351, 355].
Мы говорим об уме как способности познавать, но русский ум неполон без соединения с высшим его проявлением — с мудростью.
Английское wisdom — здравый смысл, проницательность в данном деле; французское sagesse — благоразумие и даже послушание — чем не «рабское» понимание высшей степени ума? Русское слово мудрость возводят к древнему корню *men-/*mon-, известному и по другим славянским словам, например муде. Свидетельство авторитетного этимолога В. Н. Топорова: «Согласно архаическим народным представлениям, modo и есть средоточие мужского начала, мужской силы, энергии, которые проявляются как в умственной, так и в сексуальной жизни человека» [Понятие судьбы: 45]. Противопоставление знания непосредственного знанию глубинному или, как иногда говорят, внутреннему, понятно в речах русского реалиста, но недоступно пониманию рационалиста и эмпирика. Внутреннее знание, писал Петр Астафьев, по своей полноте, достоверности и глубине нисколько не зависит от внешних и случайных различий. «Людям простым, неученым, рабам и нищим это внутреннее знание, мудрость, столь же доступно, как и людям властным, богатым и с высоким научным образованием», и даже доступнее, ибо не обременено вторичными и сомнительными теориями. «Эта-то ничем отвне не смущаемая, непобедимая в доверии к своему неизменному внутреннему достоянию, самодовлеющая недоступность сомнению внутреннего знания человека о себе самом, о началах своей внутренней жизни, и составляет то, что называется "чистым сердцем" и "простым сердцем" и что справедливо почитается условием мудрости...» [Астафьев 2000: 424].
Выводы в заключение
Прервем изложение, чтобы показать основные характеристики «умственной сферы деятельности», как они представлены в русской ментальности. Используя многие суждения русских мыслителей, обозначим границы и грани.
Ум — одновременно и смысл, и самое вещество мышления человека, потенциальная возможность в одухотворенном хотении со-знавать (внутри и совместно) и по-знавать (самому и вовне); подчиняясь логике практической полезности и явленности, ум воплощается в разуме («ум без разума — беда»), отливается в законченные формы рационального рассудка и затем, в полном единении с душой и сердцем, по желанию и влечению постигает мудрость («разум душевный»); ум предполагает ум-ение в раз-уме, здравомыслие в рас-суд-ке и ум-озрение в мудрости. В нравственных установках русского человека ум является боговдохновенной энергией, которая в борениях личной воли и насланного извне искуса порождает раз-ум — красоту и добро, рас-суд-ок — истину и пользу, мудрость — благо и спасение, так чисто метонимически мы переосмысляем ум как воплощение предвечной силы в уме каждого отдельного человека; именно в этом смысле «русский ум не исходит из мысли, как ум германский, а из самой жизни приходит к мысли как к орудию жизни» [Бердяев 1989: 260].
Разум — первое воплощение ума, уже чисто человеческое его качество, предполагающее целесообразность и полезность мысли, слова и дела в их единстве как отношение субъекта к объектам мысли. Это ум-раз-ум, приближающий к практически ориентированному рассудку; ясность и чистота мысли определена способностью творчески мыслить по собственной воле и с личной целью. И относительно разума Николай Бердяев выразился в том смысле, что «большая часть научно позитивных направлений совсем не признает разум. В разум верят метафизики» [Бердяев 1918: 59], что верно, поскольку разум воплощает мысль предметно-образную, а не схематично-понятийную — сферу деятельности рассудка.
Рассудок — полезная способность ума-разума к осмыслению мира в четких оценках суждения, воплощенного в слове; это рациональное сопоставление признаков и явлений в категориях здравого смысла, когда доводы целесообразной полезности уже полностью вытесняют всякие чувства сердца и ощущения души; рассудочный человек рассматривает явления в логической их последовательности, т. е. чистому взгляду на цельность мира предпочитает аналитически выстроенные схемы и модели; при всем том рассудительность воспринимается как практически необходимое свойство умного человека. По мнению Алексея Хомякова, рассудок — это «окончательное сознание», за которым не может быть никакого посвящения в духовность первосмысла, т. е. возвращения к единству Ума (греческое словоνους обозначает не только ум, но и дух, это ‘умный дух’ или ‘духовный ум’).
Мудрость — целокупность ума-разума и веры, личной совестью сплоченных в надличностное знание (с возвращением к Уму); несет в себе глубинное понимание мира, воплощенное в абсолютных величинах символов; в отличие от разума мудрость опирается не на практическое умение, но на совесть — совместное ведение истины. Мудрость состоит не в конкретности здравого смысла (это рассудок), но в умозрительности, которая позволяет осознать и целостность бытия, не нарушая его единства, и движущие этим миром силы. Только мудрость в сплаве ума, духовности и сердечности иррационально способна достичь Премудрости, тем самым возвращаясь в божественное лоно Ума. Таково соотношение этих категорий в русском сознании, интуитивно понятое многими, например Гоголем и Львом Толстым. Возвращаясь к описанным ранее концептуальным квадратам, мы легко заметим, что разум обретается в области образа, рассудок имеет дело с понятием, а мудрость правит символом.
Мышление и мысль
В одном из романов Сергея Залыгина находим типично русское рассуждение: «Тогда уточним: мысль или система мышления? Это очень разные вещи, иной раз так прямо противоположные, так что мысль чувствует себя в системе мышления словно в карцере».
Принципы русского типа мышления в традиционной научной среде академик Моисеев [Моисеев 1998] обозначил так:
1. Это всегда системное мышление, исключающее как схематизм чистой идеи, так и схоластику словесной эквилибристики. «Первые немецкие учители приучили нас в науке к строгости конкретных наблюдений», на основе которых традиционная русская системность вызвала стремление «к построению широких обобщающих конструкций» [Там же]: 38]. Такая «системность» исходит из идеи целого как живого; попавший в систему элемент неминуемо получит свой особый различительный признак и тем самым формально встроится в систему, став своим элементом, не отчуждаясь как чужеродный.
2. Следование принципу Гейзенберга («невозможно отделить исследователя от его объекта») заложено в структуре русского языка, в котором субъект-объектные отношения передаются разнообразными способами, но всегда предполагают координацию между субъектом и объектом; даже категория залога здесь многомерна и многозначна. В связи с этим указывают на отличие русского сознания от французского: мышление в русском понимании на Западе вообще отсутствует, там от античности действует идея отражения, нам чуждая, поскольку русское мышление неспособно к отражению. Это связано, в частности, с распределением понятий в словесном знаке: «французское сознание более подробно членит пространство большей части понятий» (в языке больше слов), за чем стоит «особая чувствительность французского сознания к двойственности мира, к его подразделению на объективное, высшее, и субъективное, человеческое» (русское сознание и то и другое полагает онтологически объективным), а уверенность в существовании непреложных законов здесь подкрепляется строгостью судебных законов; «за русскими понятиями [о мышлении] стоят этимоны, восходящие к родовому строю (род—виды), за французскими — к государственному», и, «таким образом, французское сознание в большей степени склонно искать точное знание, нежели русское» [Голованивская 1997: 221].
3. Три принципа, обеспечивающие стабильность (по-русски — лад) в устойчивом равновесии мира, Моисеев представил в виде математических принципов: 1) невозможно всем быть — 2) чтобы быть, должно существовать разнообразие миров и культур — 3) компромисс должен быть таким, чтобы все остались уверены, что их не надует партнер. Все три принципа вполне выражены в категориях и формах русского языка, как они сложились с течением времени. Академик подчеркивает ту истину, согласно которой даже в области точных наук заметна тенденция к усилению национальной дифференциации работников, что обеспечивает «плюрализм духовных миров», создающий здоровье общества и общую возможность выжить [Моисеев 1998: 192—193]. Очень важное утверждение, которое прямо-таки взывает: русские тоже имеют право на кристаллизацию «национального само-сознания в сознание».
Каждый народ привносит в философию «не какое-то известное воззрение, а мыслительную способность, склонную к тому или другому способу познания, смотря по характеру народа» [Чичерин 1998: 268], а принятое всеми «получает характер общечеловеческий».
Очень бы хотелось того же и для русской ментальности.
Исследователи общественного темперамента заметили [Бороноев, Смирнов 2001: 8—12], что представление о национальном характере любого народа, кроме русского (но в том числе и у русских) всегда конкретно и создает вполне определенный образ эмоционально нейтрального содержания, тогда как иностранцы о русском характере имеют самое неопределенное, неустойчивое представление — от восторженного до самого уничижительного, с преобладанием все-таки «стереотипа удивления или недоумения» перед «загадочной русской душой» со всеми ее интеллектуальными особенностями. Казалось бы, нонсенс: русский с его «символическим мышлением» лучше понимает европейца, чем европеец с его пресловутым ratio понимает русского.
Никакого парадокса в этом нет.
Еще Екатерина II, немка, жившая в России, отмечала достоинство русского типа мышления «в остром и скором понятии всего» — безошибочно интуитивном прозрении сути по едва намеченным, но обязательно-фиксированным в слове внешним особенностям объекта. Ratio неспособен к целостному восприятию. Аналитический подход к постижению объекта в дискурсе его осмысления дробит цельность по различительным признакам, внешне несоединимым, диалектически противоречивым, антонимически несводимым в единство; речь идет не об отдельных людях системы ratio, а об их ratio — интуитивный тип возможен у любого народа, иначе не было бы и такого разброса мнений о русских. Неопределенность знания о русских начинается с самого термина русские — это признак этатического, а не этнического характера, примерно той же ценности, что и средневековое именование московиты, и тот и другой создают путаницу в понимании. Неопределенность определений (принадлежность к Московскому царству или к Руси-России) вызывает смещенные ассоциации. Иностранец не знает, что этнически русский — великоросс, он сформировался «под другую цивилизацию» со всеми ее особенностями [Бороноев, Смирнов 2001: 11], и оценивать его признаки по своим собственным лекалам нельзя.
Эти различия определяются уже особенностями языка. «Язык — не только средство передачи мысли. Он прежде всего — орудие мышления», он дает средства, «сберегающие, накопляющие умственную силу» народа, потому что «уже грамматические категории суть отвлечения. Но важнейшее действие абстракции сосредоточено не в формальных частях слова, а в его материальном (лексическом) содержании: конкретные представления обобщаются либо в типичные образы (искусство), либо в отвлеченные понятия (науки и философия)» [Овсянико-Куликовский 1922: 36, 37, 41]. Сжатое изложение принципов действия мысли в языке, данное здесь, подчеркивает важность как грамматических изменений, так и накопления в лексиконе. И то и другое в настоящее время в русском языке достигло высочайших пределов.
Что и обеспечивает особенности современного русского типа мышления.
Рассудок и разум
Но вернемся к суждению иноземца, дважды напечатанному по-русски.
«Древнее философское разграничение двух познавательных сил — рассудка и разума, — первая из которых делает возможным познать относительное, земное, определенное, а вторая — абсолютное, божественное, вечное, — получает в России особую культурную весомость, служа одновременно положительным контрастом для своей страны (а также православия) по отношению к Западу (и западному христианству). „Рассудок“, оцениваемый как „сухой“, абстрактный, поверхностный, „аполитический“, доминирующий якобы в Европе, противополагается свойственному России „разуму“ (интегральному), одобряемому как общинный, глубокий, интуитивный, который способен достичь уровня синтеза и который не входит в противоречие с религиозной верой. В корне гносеологическая, оппозиция рассудка и разума наполняется в русской культуре этическим, духовным, общественным, религиозным и историософским содержанием, ибо „рассудочности“, воспринимаемой как результат упадка, приписывается отрыв от нравственного начала, а также ее негативное (дезинтегрирующее, десакратизирующее и обособляющее от церковной общины) воздействие на жизнь личности и общества. В постулате возрождения интегральности разума, духовной и общественной жизни особенная историческая роль остается за Россией. Преодолевая одностороннюю „рассудочность“, разум способен постичь понимаемую в духе „мистического реализма“ сверхэмпирическую, высшую реальность и теряет, таким образом, свой сугубо человеческий характер; он познает и выражает божественность, выходит за рамки раздвоенности и изоляции, наполняясь эсхатологическим смыслом» [Брода 1998; также: Идеи, 2: 330, 332].
Ирония автора — от польского гонора, который выдает позицию. Мистическая и религиозная веры здесь смешиваются намеренно — или по забывчивости, как это и случается порой у концептуалиста. За каждым словом автора (и за ключевым словом словарного текста) видится самостоятельная идея, она разведена, тогда как в русской традиции рассудок и разум существуют в органическом синкретизме, представляя собою разные ипостаси одного и того же:
раз-ум божествен, это сверх-ум, но только в соединении с рассудком (разум по собственным свойствам ниже ума);
рас-суд-ок — земное его проявление, он судит в суждении путем рассуждения (собственно, это эквивалент ratio).
Раздвоенное проявление ума, данного как рассудок и разум, Мариан Брода связывает с неприятием на Руси «аристотелевского ratio»: «Согласно одной метафорической формуле, отличие России от Запада сводится к тому, что эта страна „не прочитала“ Аристотеля» — тогда как на Западе аристотелевский номинализм создал основную мыслительную традицию в концептуализации действительности [Брода 1998: 95]. Сказано верно, но неполно. На самом деле для России аристотелизм — это давно пройденный и уже в XV в. отвергнутый этап в развитии мышления. О нем с неодобрением говорили часто уже первые славянофилы: «Кажется, ум западного человека имеет особое сродство с Аристотелем. В самое начало западноевропейской образованности заложено было сочувствие к его мышлению» [Киреевский 1911: 233]. Исторически на Западе после XIII в. «Аристотель одержал полную победу над Платоном. И как он положил, так остается лежать до нашего времени» [Шестов 1912: 58].
Между тем отличия в позициях значительны. В то время как (нео)платонизм исходит из единства целого, западное (неотомистское) мышление опирается на аристотелевскую традицию, согласно которой «обособленность, ограниченность, конфликтность, дифференциация, преходящесть, случайность и т. п. считаются здесь состоянием, с которым принципиально можно и необходимо считаться, концентрируя свои усилия на — создающем в свою очередь неуклонно новые проблемы — решении конкретных проблем» [Брода 1998: 95].
Соотношение рассудка и разума в русской ментальности глубже, чем это понял польский философ и вообще западный читатель. Разум — не понятие и не идея, а символ («сверх-ум»), который легко соотносится с верой, с волей, с совестью, то есть проникнут идеальными признаками бытия-знания. «Рассудок дает «предметное знание», тогда как вера (один из предикатов разума) «составляет самую душу, движущее начало нравственной воли», — писал Петр Астафьев. «Рассудок сам по себе ничего не полагает, не творит, но лишь познает то, что ему дано, перед ним положено. Сфера его действия ограничена пределами данного опытного факта... Безвольный и бесстрастный, он занят только вопросом о том, что есть, но не о том, что должно быть... Там же, где нет ни веры, ни идеала, ни этого стремления, определение цели принадлежит простой потребности, данной как факт» [Астафьев 2000: 392—393].
Объемы вещны и легко постигаются при первом же с ними соприкосновении. Содержание же вещей, их смысл и ценность не-обо-зримы, и потому «разум не может не быть связан с Логосом. Пустое место, зиявшее в русской душе именно здесь, в „словесной“, разумной ее части, должно быть заполнено чем-то» [Федотов 1989: 88], и оно заполняется чужеродным навязанным, если в разуме отсутствуют собственные цели и ценности.
«Существо разума состоит в том, что он внешнее разнообразие явлений сводит к общим категориям, составляющим собственные его определения как деятельной силы. Содержание он получает из опыта, но формальные начала, к которым сводится это опытное содержание, установляются им самим. Как относительно познания, так и относительно деятельности основное требование разума состоит в подведении эмпирических данных под эти общие формальные начала, составляющие его сущность. Поэтому, как разумное существо, человек должен действовать не на основании тех или других частных побуждений, а на основании закона, общего для всех» [Чичерин 1998: 141]. Разведение ума на разум и рассудок является двоением отражения, аналитически представляя единство опыта и сознания. Потому что «западная культура ставит вопрос о знании, восточная — о бытии» [Астафьев 2000: 404], и это определяет расхождение в форме его постижения (множественность фактов в единстве восприятия или единство факта в двоении восприятия — «бифокально».
Иван Ильин особенно подчеркнул это различие между западным и русским стилем мышления. Современный духовный кризис состоит в том, что «мысль утратила свою первозданно-глубинную почву; она заблокировала себе накрепко доступ к духовному опыту, она ухватилась за чувственный опыт, за наблюдение явлений и событий с их внешней стороны — описание их, исчисление и уяснение причинности. Поэтому мысль стала абстрактной и мертвой; это уже не разум, а голый рассудок. И этот абстрактный рассудок — без сердца и проницания — превратился в единственный источник правды и культуры.
Благоразумие и вера исчезли, кризис стал необратим», потому что «рассудок знает только чувственный опыт. Он имеет дело только с материей — с материей без жизни, без живительной тайны, без духовности, без цели, без Бога. Одним словом, материя, слепая механика, анализ, а коль анализ — все разлагается на части, все умерщвляется» [Ильин 6, 2: 22]. «Разум, таким образом, — это творческая прозорливость в восприятии и творческая сила оценки в единстве, разъединении и упорядочении воспринимаемого. Он предполагает способность к концентрации и силу интуиции. В его власти охватить сущность всего и целесообразно оформить его. Поэтому разум не сводится к „мышлению“. Умный — это умный человек в целом: у него также умное сердце, умная воля, умная фантазия. Только тогда он умен: только тогда дышит в нем сущность мира, только тогда его разум становится мудростью» [Ильин 3: 162—163].
В этих кратких определениях выражена суть русского представления об уме вообще и о двух его проявлениях в частности. Кроме того, становится понятным внимание к традиционным формам русской ментальности: «кто захочет понять Россию и русскую культуру, тому придется иметь дело с этим духом» [Ильин 6, 2: 22].
Именно с этим, и никаким иначе.
Мысль и дума
В свое время Чаадаев вопрошал риторически, сам себе отвечая: «Во Франции на что нужна мысль? — чтоб ее высказать. — В Англии? — чтоб привести ее в исполнение. — В Германии? — чтоб ее обдумать. — У нас? — Ни на что! — и знаете ли, почему?» [Чаадаев 1914: 155]. Знаем: твоя мысль — не моя мысль.
Потому что русская мысль — это дума, именно в ней «сильнее и сильнее начинает пробегать струя русской мысли», — говорил Алексей Хомяков. Соборный характер русского мышления, диалог как внешняя реальность (действительность вещи), способствующая — посредством слова — воссозданию реальности внутренней (идеи). Слово, идея и вещь сопрягаются в едином событии, создавая уверенность в правде, которая достигнута в результате такого мыслительного акта. Коммуникативная роль диалога раскрыта именно на русских текстах — Михаилом Бахтиным на произведениях Достоевского.
«Русские не могут жить и думать в одиночку», — заметил современный автор (Л. Г. Тульчинский), и это верно: думают соборно, потому что исконный смысл слова дума ‘говорить советуя’.
В древнерусском языке мысль всегда индивидуально вещна, тогда как дума идеально соборна, и русский скажет, различая: думать и мыслить. Разница в том, что мысль и мыслить связаны с личным желанием, намерением в деле (переводят и греч. βούλομαι ‘хотеть, желать’), и только думати значило размышлять в идее [Действие 1993: 30—40]. Мысль может быть опредмечена, явлена, дума — нет. И мысль и дума для авторов цитируемого сборника статей — гиперонимы, а это не совсем верно. Мысль — слово-гипероним на фоне идеи-символа, мысль включает в свое содержание все признаки умственного напряжения; дума же — символ, в котором все признаки различения — отрицательные [Там же: 9—10]. Мысль есть результат думания посредством ума; так возникает последовательность источник—действие—результат.
Приятно ум чужой своим проверить.
На меру взять и на вес; глупость мерить —
Напрасно труд терять,
— говорил не кто-нибудь, а мудрый царь всех берендеев.
Русские писатели чувствуют концептуальное различие между мыслью и думой: русский «мужик всегда чувствует хорошо, потому он и думает хорошо», тогда как «одичавшая в одиночестве мысль утрачивает живую восприимчивость, упругость и гибкость и костенеет до того, что для нее не существует никаких других мнений — ни отдельных лиц, ни целых народов» [Шелгунов 1895: 357]. Вот почему, добавлял Николай Шелгунов, «мы, русские, давно уже составили себе репутацию людей, для мысли которых не существует ни границ, ни пределов, ни пространства, и неудержимой смелости нашей мысли всегда изумлялась Европа» [Там же: 599]. Современный писатель, Сергей Залыгин, о своем герое уточнил: «Между прочим, отношение к мысли, как он выяснил, оказалось вопреки первым впечатлениям очень чувственным», а «истинная мудрость состоит в том, чтобы мысль знала свое место, не совалась бы куда не следует», поскольку «по закону равенства действия и противодействия столько же, сколько накапливалось в мире ее, могущественной мысли, столько же появлялось и антимысли, то есть бессмыслицы». Ясно, почему такое накопление глупостей происходит: мысль формальна, и всё может о-с-мысл-ить.
Не множа цитат, обобщим ироническими словами Андрея Платонова: «Мысль у пролетария действует в чувстве, а не под плешью».
Разум различает истину и ложь, мудрость — добро и зло, ум — хорошее и дурное (прекрасное и безобразное). «Если мысль должна действительно родиться, она должна зреть в тишине, пока не потребует слова» — «это внутренний духовный заряд», который «приходит в мир как реальность внутреннего» [Ильин 3: 158].
Именно потому, что в современном своем состоянии мысль оторвана от думы, всё дальше от нее отсекается, и происходит (не только у нас) замеченное историком еще в начале XX в.: «Мысль стала развязнее, не сделавшись деловитее... Мыслят так быстро, что не успевают подметать своих мыслей... Телефонное мышление... Спорт — единственный метод мышления» [Ключевский IX: 444, 386, 437].
Из прошлого русские получили идею «умной души», то есть духа, в душевности думы (задуманного, задумки) осветляющего решение проблемы также и с нравственной стороны. Роль общественного мнения чрезвычайно велика, но это, конечно, не усредненное мнение «средств информации», а неформальное общественное мнение, которое — в русском духе — обычно не в ладах с такими «средствами». Личное чувство стыда постоянно проверяется осудительным мнением окружающих (по-срам-лением с их стороны), своя совесть — соборной справедливостью, а правда, даже не личная, а, например, партийная, — божественной силой истины.
Затем важно еще и то, что русская философия не приняла «претензию европейской философии на универсализм логически организованного мышления, наделившего Запад техникой господства над человеком и природой», и осуждает западного человека за «готовность повиноваться указаниям разума», поскольку логическая принудительность такого Разума является специфической формой насилия [Барабанов 1992: 145]. Сам автор цитаты полагает, что «в этом пункте русская мысль отчасти предвосхищает проблематику „Диалектики просвещения“ Т. Адорно и М. Хоркхаймера»; трудно согласиться: почему «отчасти» и почему только «в этом пункте»? Повиновение разуму в ущерб природе — головная боль западного человека, которую вот уже два века своими заклинаниями пытается снять русская философия. Зависимость светлой идеи надежней держит человека в миру явлений, чем гнетущее рабство под человеческой мыслью. Мысль земная, бренная, тленная — в ней нет идеального. Без идеи она мельчает, и вот вам — «мысль стала развязнее...».
Тут расхождение между русским и западным человеком налицо.
Понятно почему. Западная мысль взяла из Логоса только часть его — «мысль», но метонимичность сознания в православной среде по-прежнему в Логосе — в целом — видит часть его, именно слово, то есть язык как воплощение мысли.
Архетипы русской мысли
Непонимание архетипов русского менталитета сегодня достигает невероятных пределов. Я раскрываю томик московских лингвистов «Логический анализ языка. Ментальные действия» (1993) и вижу сразу несколько статей, связанных с нашей темой. Один автор показывает историческое развитие глагола мыслить — и никак не соотносит его семантическое изменение с близким по смыслу глаголом думать; тот дан во вторичных только своих значениях. Другой автор изумляется той интеллектуальной «неопрятности», которую находит в русском сознании, когда речь идет о глаголах мышления.
В западноевропейских языках, оказывается, всё логично, процесс и предмет мышления обозначены общим корнем. В русском же языке — полный разброд: вот «центральное поле: думать и мысль, англ. to think и thought, idea, франц. penser и pensee, idee». Забавно: русского слова идея как бы нет; мыслить и дума — также. Для русского человека всё это странно, испокон веков говорят думать думу, потому что думать можно только совместно, это соборное дело, это — диалог. Мысль заменяет думу как выражение индивидуально-личного результата рационального мышления.
Третий автор соединяет общим смыслом слова думать и считать как одинаково выражающие предположение (я думаю как я считаю) — но такое значение глагола думать является семантической калькой с выражений типа I think so (исконно думать значит ‘говорить (выражая мысль)’. В чем тут дело: в непонимании? в желании изменить семантическую траекторию русского слова? Дело ненужное, оно непредсказуемо по последствиям.
Типологический подход к суждениям о языке и мышлении вряд ли продуктивен.
Филологу вообще кажется очень точным определение мысли как заботы (Sorge), данное Мартином Хайдеггером [Арутюнова 1993: 3]. В этом смысле русский человек действительно оказывается совершенно беззаботным. Мысль для него обязательно связана со словом, и как таковая она противоположна реальной вещи. Даже глаголы речи, подбирая их исподволь, в течение многих веков, русские люди извлекали из сферы, в которой словесный корень обозначал простое сотрясение воздуха посредством шума: глаголать значит ‘болтать’, говорить — ‘бормотать’, речешь (тоже архаическая форма) — ‘выть, кричать’, и только, пожалуй, глагол сказать ‘раскрыть тайное’ имеет некоторый содержательный смысл и важен в передаче жизненных ситуаций (Скажи мне всю правду!) Все прочие абсолютно «пусты», если не освящены той мыслью, которая содержится в высказывании.
Вдобавок русская мысль никогда не есть суждение, потому что она избегает понятия истинности. Всегда говорится: верная мысль, правильная мысль, хорошая мысль, даже удачная мысль — так что каждую мысль можно оспорить, отвергнуть, заменить другою, может быть тоже верной, правильной и хорошей. А если так, следовательно — это уже не мысль, а дума. Ее точность проверяется соборно.
Нет, несправедливо было бы отрицать за русским сознанием неприятие мысли вообще. Мысль есть, она всегда присутствует, но не она в особой чести.
Мысль понимается как воплощенное подобие идеи, и потому, как всё на земле, она несовершенна. «Мысль изреченная есть ложь...»
Конечную цену имеет лишь триединство идеи, слова и вещи — это Логос, который соединяет всё.
Слово как воплощение мысли не допускает никаких излишеств в форме, избыточно риторических фраз и фигур, красивостей и длиннот. Красноречие прежде всего красота, а не красивость, внешнее подобие красоты. Лаконизм и содержательность — вот что важно, и ценится тот, кто скажет умно и кратко, отзываясь на слово Другого, а не в гулкую пустоту безлюдья. Монолог неприемлем, он оскорбляет (вводит в скорбь) остальных, лишенных слова.
Слово как воплощение мысли уже тем самым содержит в себе весь смысл. Поэтому русское высказывание — «дискурс» — есть профетическая фраза, призванная убедить, а вовсе не доказать. Странно слышать, что русский писатель Розанов «не доказывает, а ругается» только, как будто с его стороны это всего лишь «стилистический бунт против всяческой „нормализации“ — в жизни и в языке» [Синявский 1982: 277]. Дело, конечно, не в стиле, даже не в розановской манере писать. Андрей Синявский не заметил слов, сказанных тем же писателем: «нельзя ничего понять не „мое“. Вся русская философия основана на посылке, что «своим ничего не нужно доказывать» (Бердяев), что «если нужно что-то доказывать — доказывать ничего не надо» (Мережковский) и что вообще «доказательства не нужны для соборного сознания. Доказательства нужны лишь для тех, которые любят разное, у кого разные интуиции. Доказывают лишь врагам любимой истины, а не друзьям», потому что — вот опять! — «доказанное — навязанное, неотвратимое, необходимое» (опять — Бердяев), а именно это и неприемлемо прежде всего.
Думать думу
Процесс мышления несвободен от чувств-ощущений и всегда связан с делом. Думая, мы чувствуем и действуем одновременно. Говорить отвлеченно о мышлении как об изолированном акте сознания столь же неверно, как и утверждать, будто русская мысль хаотично чувственна.
Сказанное и понятно, и хорошо известно, но приходится повторять, приводя в доказательство утверждения вроде следующих: «Думать, настоящим образом думать человек начинает только тогда, когда он убеждается, что ему нечего делать, что у него руки связаны. Оттого, вероятно, всякая глубокая мысль должна начинаться с отчаяния... Но думать— ведь значит махнуть рукой на логику; думать — значит жить новой жизнью, изменяться, постоянно жертвовать самыми дорогими и наиболее укоренившимися привычками, вкусами, привязанностями, притом не имея даже уверенности, что все эти жертвы будут хоть чем-то оплачены... Думающий человек есть прежде всего человек, потерявший равновесие в будничном, а не в трагическом смысле этого слова» [Шестов 1991: 113—114] — глубокая мысль рождается из глубины чувств. Выражено иронически, но подмечено точно: нормальный человек не думает, а живет.
На Западе «целевое мышление» есть форма мысли властного человека — этика императива; у русского человека «выразительное мышление» — этика импульса: мышление не извне согласно обстоятельствам, а изнутри, из души, причем «ценность выражения для него выше ценности познания... вечное можно только выразить» [Шубарт 2003: 100—101]. Западный человек отдает мысли предпочтение перед жизнью — русский наоборот. От западных привычек «думать, будто живешь» (cogito ergo sum) русское обыкновение думать отличается установкой на слово. Со слова начинается мысль, им же она и завершается, поскольку «это — барьер, поставленный самой нашей культурой: процедуру мышления не открывать, всю коммуникацию вести на дискретном уровне» словесных знаков [Налимов 1995: 29].
Существует множество наблюдений над разницей в мышлении представителей разных народов. Даже близкие по языку иногда отличаются друг от друга типом мышления, из чего можно заключить, что характер мышления зависит еще и от культурных традиций.
Сравнивая идиомы русского, белорусского и украинского языков, описывающие интеллектуальные действия человека [Морозова 1999], мы видим, что в русском языке сохраняется гипероним ум, тогда как в украинском и белорусском его заменяет розум-разум, ср. раскидывать умом — повертати розум — раскідаць разум; выжить из ума — выживать з розуму и т. д. Русский говорит о голове — украинец о мозге или думке: приходить в голову — впадати на думку и т. д.
Украинский и белорусский в своих литературных вариантах зависят от польского, а в нем rozum одновременно и ум, и разум, которые не различаются, как различаются они в русском языке. Основная идея здесь связана не с обозначением интеллектуального «аппарата» или процесса разумения, а понимания уже в готовом виде. Это вполне католическая идея ratio: думая — уже понимает! У русского противопоставление ума и разума сохраняется, «ум за разум» не зашел. Понимание-разумение достигается в процессе мышления, в действии ума, цельность ума не представлена его частью — разумом. Метонимические замены в русских идиомах возможны, например голова > мозг > ум (приходить в голову — приходить на ум; шевелить головой — шевелить мозгами), но это синонимы вторичного происхождения, равно как и новое представление о понимании типа доходить до сознания — белорус. дойти до разума. Все грубые выражения типа голова пухнет — голова кругом — мозги набекрень и подобные — вторичны. Их наличие особо подчеркивает, что славянское понимание мышления соотносится с головой и проходит в неисчезающей атмосфере чувственного восприятия мира. Попарное соотношение по принципу «внутреннее—внешнее» также характерно, ср.: голова—ум, голова—думка, розум—думка и т. д. «Процедуру мышления не открывать» — значит выражать этот процесс описательно — через внешнее, символически — через вещь.
Еще выразительнее отличия между русским и западноевропейскими языками [Митрофанова 1997]. Русские и английские обозначения выделяются по признакам:
Эмоциональность английского ментального действия подчеркивает направленность процесса на субъекта — личность думает, тогда как в русском внимание обращено на сам процесс протекания ментального действия (объективация на действия, например через глагольную категорию вида). Думать — это рефлекс коллективного мышления, объективированного в речи, здесь нет индивидуума, как в случае мыслить. О русских вариантах исследовательница забывает, говоря о том, что в английском языке много вариантов выражения процесса с помощью наречий (лексическая вариативность типа thought deeply, reflected drowsily или специальные глаголы to think, to consider и др.). В русском действительно мало самостоятельных глаголов-вариантов, но множество оттенков действия передаются с помощью приставок (об-думывать, про-думывать, за-думывать и т. д.); для русской ментальности важно различать вещественность конкретных видов при идеальности общего корня-рода (гиперонима думать), хотя возможны и порассуждать, поразмыслить. В русском языке присутствует морфемный способ экспликации смысла и детализация оттенков, образно показывающих разнообразные виды действия. Личное присутствует и в русском высказывании, но выражено оно не напрямую, а косвенно, можно сказать — уклончиво. Это понятно в случае коллективного рассуждения, когда невозможно обидеть собеседника.
Обратим внимание на различие в маркировках по признакам самого действия. Русский думает напряженно и сосредоточенно (интенсивно), направленность присутствует у обоих, но у англичан не на цель, а как бы многовекторно, у русских же целенаправленно, потому что соборное мышление не «растекается мыслью». Если бы автор использовал для сравнений глагол мыслить, он вполне вероятно получил бы картину, близкую к английской, но предпочтение глагола думать верно: сегодня это основная форма выражения процесса мышления, и она отражает все ментальные свойства русского типа мышления.
Пренебрежение русским принципом удвоения сущностей в исследованиях современных культурологов — обычная вещь. Сравнивая с другими языками, в которых есть лишь одно слово для выражения концепта, исследователи забывают о русском двоении на вещное и вечное. Говоря о свободе — забывают о воле, говоря об истине — забывают о правде, говоря о сознании — забывают о совести... Так, А. П. Барчугов [1999] говорит о существующих в каждом языке «языке сознания» (обозначают объекты внешнего мира) и «языке самосознания» (мира внутреннего), но при этом исследует принцип знать, полностью забывая о принципе ведать; именно их противоположность и выделяет внешнее знание и внутреннее ведение. Концептуальное расхождение и в этом случае определяет сущность ментальности, которая сохраняется в подтексте всех производных, достаточно сравнить смысл современных слов типа совесть — сознание, ведьма — знаток: проведать ‘навестить’ — прознать, поведать — познать, поведание — познание и т. д. — глубинный и поверхностный слой одного и того же интеллектуального действия. Возможность разграничения двух уровней уже на лексическом материале способствует действию интуиции присутствия — исследователь и наблюдатель находятся как бы внутри изучаемой реальности, одновременно постигая ее сущность и описывая ее проявления. Русская герменевтика, (столь модная сегодня в западном мире герменевтика!) содержится в самом языке, и ментальность показывает движение мысли.
Думать можно не только с другим в диалоге и не только с самим собой; думание происходит со всеми вместе и сразу — в языке, сохранившем связь поколений, соборно.
Русская мысль
Сложность и многогранность проблемы заставляет нас возвращаться к теме, обдумывая ее с различных сторон и подкрепляя свои выводы авторитетом русских мыслителей и поэтов, которые тонко чувствовали эти проблемы, переживая их в самих себе.
Глубокую мысль Людвига Фейербаха [1974, 2: 254 и след.] тоже нельзя упустить: «Естественный, то есть чувственный, человек боится мысли как смерти» — он индивидуум больше, чем современный «интеллектуализированный» человек, потому что живет личным чувством, а не коллективной, объединяющей всех, мыслью — «коллективным чувством». Поскольку мышление вообще является принципом объективности в человеке, то и в качестве мыслящего существа «я» уже не отдельный инди-вид, а общее существо. Русские мыслители постоянно рефлексировали по этому поводу, и особенно если при этом «мыслили» на французском языке: «Если не согласиться с тем, что мысль человека есть мысль рода человеческого, то нет возможности понять, что она такое» [Чаадаев 1914: 87]. Вот почему мысль отдельного человека вовсе не мысль, а скорее со-мнение. Родовое выше инди-вид-уального, потому что «мысль приходит в молчании и тишине», но затем, «дробясь еще сильнее, Мысль переходит к умам практическим (техника, дипломатия, политика и т. п.). И так, все мельчая и мельчая, Мысль становится хитростью» [Пришвин 1986: 439]. Этого не понимают теперь, но понимали в Древней Руси. Личная мысль, не становясь Мыслью, — всего лишь замысел, не свободный от до-мыслов и греховного помысла, но уж если мышление — дело коллективное, то и «общая мысль» должна представать как дума. Само по себе состояние мысли — не «замыслю», а — «задумаемся, брат».
Человек задумался — хорошо, человек замышляет — неладно.
Мысль мечется в хаотическом движении, юрко проникая в голову, подобно мышке. В древнерусских текстах встречается незаметная взгляду подмена слова мысль словом мышь (мысь в северном произношении); иногда это считают фонетическим диалектизмом, иногда — метафорой (как в списке «Слова о полку Игореве», известном нам).
Наоборот, дума системно организована и в конечном результате лишена эмоциональных подтекстов, хотя и выработана, может быть, в сильном духовном напряжении.
Мысль обладает и другой особенностью: «Наклонность к априорному мышлению находится в обратном отношении к величине запаса данных, каким располагает мысль: чем меньше этот запас, тем сильнее априорность» [Потебня 1976: 446]. Подобный «запас» может быть очень малым, да чаще так и бывает. Возможность поступления ошибочно-обманной мысли возрастает. Дума своим диалоговым действием пополняет объемы знания (опыт, прецеденты, традиция), и только тогда содержание мысли обретает точность понятия, пойманнного мыслью и тем самым понятого. Учение о диалоге как форме коллективного мышления не случайно явилось в России.
Третий «порок» раскрепощенной личной «мысли» для русской ментальности немаловажен. Дело в том, что «мысль не может породить веру», «мысль первична только в логике» [Ильин 6, 2: 426]. Уже для Нила Сорского в XV в. мысленное делание есть диалог с Богом, это высший предел всякого познания на основе интуиции. Именно в этом пункте (единение в слове через Бога) образуется то единство бытия-знания, которое отличает русскую «мысль» от западной (там бытие и знание разведены в известной формуле Декарта). «Французские слова заряжены мыслию или, по крайней мере, блеском, похожим на мысль», — замечал Петр Вяземский в своих записных книжках, а Лев Толстой добавлял, что по-французски говорить — расхожими мыслями сыпать, а вот ежели задуматься надо, тут только русский язык поможет. Французское слово pensee — субстантивированное причастие от латинского слова со значением ‘взвешивать’ > ‘оценивать’, и до XVII в. обозначало мысль, соединенную с чувством; после этого только «чистая мысль». Это то же, что и русская мысль, но не размыто-неопределенная (поскольку поддерживается «структурированным» дума), а внутренне структурированная [Голованивская 1997: 193]. Совершенно верно замечено, что в русском сознании мысль и слово, ее выражающее, как бы разведены из-за несводимого вместе византийского и западноевропейского (позднего) влияния, но образы в словах мысль и pensee общие: вода, осязаемость, опора, хотя русский тип сознания скорее интуитивен, а французский рационален [Там же: 222]. Тут небольшая поправка: взвешенность французской мысли и стихийная мощь порождающей новое (знание) русской, выраженные в словесном образе корней, все-таки различаются. Образы — различные, но понятия во многом совпадают (а это результат влияния в XVIII в.). Расхождения в символическом компоненте словесного значения также существенны, они определяются различием в культурной истории, связанной с различием в культе.
«Если мысль должна действительно родиться, она должна зреть в тишине, пока не потребует слова. Греческие философы знали различие между словом „изреченным“ (т. е. произнесенным) и „существующим внутри“. Последнее не имеет ни звука, ни формы. Это скорее внутренний, духовный заряд. Он дремлет под сводами душевного царства теней; но оно пробудится. Это уже мысль, но еще не слово; но оно станет словом, оставаясь мыслью сердца, воплощением чувства, идеей воли. Тогда и только тогда оно станет истинным словом, которое приходит в мир как реальность внутреннего; лишь высказанное, но уже деяние; подобно дитю рожденное, но уже созревшее; простое, но насыщенное смыслом настолько, что может стать роковым; не существующее само по себе, но проявляющее невидимую, возможно, божественную власть» [Ильин 3: 158]. О сущности концепта — смысла, не обретшего формы, — и его явлении «внутренним духом», пожалуй, лучше не скажешь. В этом изложении представлены все характеристики действия русской мысли в ее традиционном виде.
Из данного определения можно идти в разные стороны, расширяя его присущим ему скрытым, таинственным смыслом символа.
Например.
«Такого рода отчет в содержании своих понятий получает мысль, когда, не принимая его в том виде, как оно ей непосредственно дано, разлагает это содержание на его последние элементы и затем снова из них сознательно построяет. Из этого двоякого процесса она убеждается, что при данных элементах и условиях построения не могло получиться иного содержания целого понятия, как такое-то...» [Астафьев 2000: 419]. «Построение целого понятия» опирается на проверку символа образом предмета и самим предметом мысли. Отчуждение от природы естественной к культуре помысленной с выработкой нового содержания (понятия) в процессе идеации, т. е. осмысления сущностных признаков предмета. В этом действии без интуиции веры не обойтись, и Петр Астафьев указывает почему: только вера дает уверенность [Там же: 428]. «Отсюда и необходимость принимать некоторые недоказуемые начала и положения в основании всякой науки, принимать их непосредственно, на веру, хотя бы и только условно, только для того, чтобы исследование и знание в данной области было возможно. Эта необходимость недоказуемых далее оснований всякой цепи доказательств, положительных начал всякого рационального знания, признаваемая еще с Аристотеля (и ранее), и легла в основу противоположения веры... знанию» [Там же: 422].
Но «опасность» новой мысли, не удосто-вер-енной общим про-дум-ывани-ем, в другом. «Если вы хотите погубить новую мысль — постарайтесь ей дать наивозможно широкое распространение. Люди начнут вдумываться в нее, примерять ее к своим текущим нуждам, истолковывать, делать из нее выводы — словом, втиснут ее в свой готовый логический аппарат или, точнее, завалят ее сором собственных привычных, понятных мыслей, и она станет такой же мертвой, как и все, что порождается логикой. Может быть, этим объясняется стремление философов облекать свои мысли в такую форму, которая затрудняет доступ к ним большой публике» [Шестов 1911: 35]. Действительно, как замечал Одоевский, «часто мысль, начатая великим поэтом, договаривается самым посредственным».
Аналитичность мысли вызывает к ней особое недоверие синтетически ориентированного русского сознания: «Мысль... в первых своих приемах всегда неизбежно имеет разлагающее свойство: самая этимология слов рас-суждатъ, раз-бирать показывает, что она необходимо начинается с анализа, с разъятия предмета на части. К этому надобно прибавить еще другую характеристическую черту: мысль всегда, непременно является в бесчисленных формах, высказывающих о предмете или различные, или противоположные суждения, — истину или ложь, всего чаще истину с примесью лжи или ложь с примесью истины. Ложь составляет такую же необходимую, органическую принадлежность мысли, как истина, и чем разнообразнее и полнее выражается и та и другая, тем больше, лучше выясняется предмет» [Кавелин 1859, 3: 14].
Петр Лавров вообще полагал, что история мысли есть элемент истории данной цивилизации и с самого начала опирается на историю культуры. Сказано в 1870 г., когда история русской мысли только набирала обороты и нужно было решить, какая именно культура должна стать основой русской мысли. При этом история цивилизации примет проявления истории мысли по мере их влияния, а не за глубину и значимость. Это верная мысль, но и опасная своей правдой. В истории русской цивилизации влиятельность часто достигается самыми подлыми средствами. А Иван Киреевский [1911: 151—152] объяснил, что получается, когда в процессе «формирования мысли» происходит отрыв от народной культуры: «Если мы оторвемся от народных убеждений, то нам не помешают тогда никакие особенные понятия, никакой определенный образ мыслей, никакие заветные пристрастия, никакие интересы, никакие обычные правила», но тогда мы не сможем влиять на чужие культуры и не получим ни сочувствия, ни общего для всех языка. «Уничтожить особенность умственной жизни народной так же невозможно, как невозможно уничтожить его историю. Заменить литературными понятиями коренные убеждения народа так же легко, как отвлеченною мыслию переменить кости развившегося организма...» «Ибо что такое народ, если не совокупность убеждений, более или менее развитых в его нравах, в его обычаях, в его языке, в его понятиях сердечных и умственных, в его религиозных, общественных и личных отношениях, одним словом, во всей полноте его жизни?»
Риторический вопрос.
Мысль и дело
Идея предмета уже известна — поэтому важно движение. Мысль и дело т. е. со-бытие, которое само является как конкретная вещь, пробуждая идею, и тогда идея, как род, объединяет виды вещей. Видимо, такое движение мысли имеют в виду, когда говорят о «господстве пассивного чувства» русского человека (Щапов), его инерционности (Касьянова) и т. д. В западных языках глагол передает само действие — процесс идет. Европейца изумляет русская речь: почему у вас действие всё время только начинается (процесс пошел), каждый раз как бы снова, развиваясь, не заканчивается? Выражаясь словами того же оратора: «Важно на́чать, потом углу́бить...» А вот кончать будут другие. Но в нашей речи именно со-бытие пробуждает к деятельности, оно соединяет идею и вещь — в дело. Это — дело, а точнее Дело — и есть то главное, что соединяет векторы слова: «соединение двух разумов в общем деле» [Федоров 1995: 95]. «Слова в конце концов больше связывают и закрепляют, чем дела», — утверждал Сергей Аскольдов в знаменитом сборнике «Из глубины». И таково общее убеждение русского сознания.
Поэтому в русском сознании мысль и расценивается как дело, за мысли можно судить так же, как и за совершенное дело. Опредмечивание мысли в слове стало формальным основанием для борьбы с ересями, что трагически отозвалось в событиях нашей истории. Для каждого русского философа мышление предстает как своего рода «проект дела», следовательно — уже реального дела или, говоря точнее, «общего дела» [Федоров 1982: 529, 540 и след.]. А дело это — природное: «В природе русской мне больше всего дороги разливы рек, в народе русском — его подъемы к общему делу» [Пришвин 1994: 56].
«Вещь» в общем смысле поддается осмыслению чувством, с которого и начинается движение самого со-вместного и у-местного со-бытия. Психолог верно замечает, что важным оказывается не результат, а чистота и ясность замысла — «схемы действия» («надо разобраться»); оценивается не исполнение, а намерение («хотели как лучше») [Касьянова 1994: 225]. Мысль настолько сложное дело, что уже и сама по себе есть дело. Но только если это творческая мысль, т. е. начатое на деле движение к идее.
Однако здесь снова возникает искажающая ментальную перспективу чужеродная помеха. «Когда практические люди Запада, — напоминают нам, — говорят, что Советский Союз — страна слов, а не дела, мы сталкиваемся с типичной классификационной (!) ошибкой. Так же неверно упрекать слона в том, что он такой большой, а не летает. В советском обществе слово — и есть дело» [Вайль, Генис 1996: 328—329]. Не «классификационная», а логическая ошибка авторов основана на том, что в своей книге они описывают лишь одну часть общества, а это, как можно понять из текста, даже не русский, а среднестатистический «российский интеллигент» [Там же: 305]. Исходя из слова (что верно), настоящий носитель русской ментальности вовсе не стоит на слове, а вот именно опираясь на смысл слова, пытается увязать заложенную в нем от века идею (содержание понятия) с предметной реальностью (объем понятия), с тем чтобы приступить к делу-вещи как идее или к идее как к вещи-делу. Ссылка на великую русскую литературу как на свидетельство неиссякаемого «словоизвержения» тоже не доказательство; не раз показано, насколько «точно» литература отражает русскую ментальность, и особенно современная русскоязычная литература. Привожу это высказывание как образец одной из возможных «правд», но никак не соответствие истине.
Дело — соединение мысли с вещью, явленное в слове. Так и духовность — это не рассуждение о душе, а практическое дело по претворению в жизнь идеала, имеющего духовный характер [Платонов 1994: 136]. Таков уже древнерусский «Домострой», призывавший к делу, исполняемому в реально-вещном мире на основе христианской идеи. «Домострой» впервые в нашей писаной истории аналитически представил все три ипостаси жизни, идущие от слова-Логоса: идею-идеал, материю-вещь и связывающую их нить полнокровного дела.
Все это отражает синкретизм восприятия внешнего мира и представления его как мира феноменального. Чувственный синкретизм восприятия основан на отмеченном уже единстве прагматического и мистического отношения к действительности. «Наблюдая особенности нашего национального характера, легко заметить, что чисто русский даровитый человек отличается именно крайним недоверием к силам и средствам человеческого ума вообще и своего собственного в частности, а также глубоким презрением к отвлеченным, умозрительным теориям, ко всему, что не имеет явного применения к нравственной или материальной жизни. Эта особенность заставляет русские умы держаться по преимуществу двух точек зрения: крайнего скептицизма и крайнего мистицизма» — так эту противоположность между вещным и идеальным понимал Владимир Соловьев. Нигилизм и мистицизм предстают как крайности в восприятии несоединенных векторов Логоса.
В принципе, ничего нельзя составить из различных систем, «как вообще нельзя составить ничего живого. Живое рождается только из жизни» [Киреевский 1911: 172].
Живой — действующей — признается целостная вещь, а не элементы отношений, порождающие такую вещь в сознании. Кстати сказать, именно из этой основополагающей идеи исходит и русское понимание системности. Не переосмысленная на европейский манер система как относительность чистых отношений (идея иудейская, по авторитетному мнению Осипа Мандельштама), но живое целое, органическое единство. Дело в том, что только исходя из целостности вещи мы можем полагать, что она открывается «как бы сама собою», не требует объяснений с помощью специального логического аппарата. Что «целое первоначальнее элементов», что «элементы способны существовать и возникать только в системе целого» — это основные положения русской гносеологии [Лосский 1917: 7], основанной, между прочим, и на языковой интуиции.
Также и цельность как принцип составляет главное достоинство русского ума и характера. Отсюда проистекает не раз отмеченная философами принципиальная системность мышления как русская традиция, т. е. «стремление к построению широких обобщающих конструкций», примеры которых приводятся: Лобачевский и Менделеев [Моисеев 1998: 38]. Это — глубина системности, а не формальность системы.
Для русского сознания первична не множественность, но единичность цельного. Единственное число ни в спряжении, ни в склонении не воспринимается как числовая мера, оно абсолютно и в принципе многозначно, т. е. может обозначать и собирательное множество (ср. вещь как один предмет и вещь как всякая вообще вещь).
Выйдя из языка, мысль опять возвращается в его глубины.
Мысль направлена словом.
Познание всегда идет от целого к его частям. Если мы идем от части (т. е. момента целого), мы забываем о целом и низводим целое на степень внешней системы элементов: это удобно для формального познания, но нарушает логику живого, т. е. искажает реальную картину. Эти мысли Льва Карсавина очень важны: системами дорожат только те, кто не видит живого, и тогда «жалкая оболочка системы» заменяет им живое целое [Карсавин 1992: 163—164]. В высшей степени точно выражает отношение к позитивистским системам ироническое замечание Ивана Тургенева: «Системы похожи на ящерицу: только, кажется, ты поймал ее за хвост — ан уж он у тебя в руке, а у нее новый вырос!»
Традиция средневекового описания целого — через части — всегда оправдана прагматически. Д. С. Лихачев говорит о «панорамном зрении» средневекового автора «Слова о Русской земле»: единство и целостность Русской земли описываются через ее части, но все части имеют смысл только как ее части.
Земля в смысле ‘государство’ показана как земля ‘твердь’ с ее лугами, реками, полями... В принципе, и любое произведение русского искусства обладает тем же эффектом синкретичной целостности, его невозможно распылить на фрагменты без риска утратить целое; в этом отношении аналитичность модерна неприемлема так же, как невозможно и понимание системы в виде набора различительных признаков. Более того, и русскую философию постоянно упрекают в антисистематической форме самой рефлексии, что якобы «мало способствовало выработке собственно философского языка» [Барабанов 1992: 149]. «Русский философский дискурс» действительно отличается от западного — но от того он не перестает быть философским. Систематическое изложение есть изложение нормативное, то есть уже и предписывающее. Русская же философская традиция долго понимала систему только как «систему мнений» о чем-то и по поводу чего-то. Совершенно внешнюю сторону дела, результат анализа, а не самый объект такого анализа. Однако не секрет: всякое мнение внушает со-мнение.
Сходства и подобия
Напротив, для русской гносеологии релевантны только сходства и подобия, т. е. не изолированные и самодостаточные элементы различия, а те элементы структуры как системы, которые соединяют нечто в слитное целое, не разрывают на части живое тело предмета. «Подобное познается подобным. Внутреннее родство субъекта познания и объекта познания — обязательное условие истинного познания» [Бердяев 1985: 253]. Дифференциальные, различительные признаки несущественны, поскольку их нет в «вещи», они привнесены извне, сознанием, феноменально ее представляя, но сами по себе они не составляют природы объекта, который воссоздается субъектом в рефлексии. Так можно сформулировать сугубо нравственное запрещение установки на «разъятие живого».
Точно так же и развитие системы ведет не к кумулятивному накоплению признаков (свойств, отношений и прочего), как понимает дело позитивист, а к перемаркировке наличных элементов целого в границах данной системы — преображение цельности и единого, основанное на том, что различные степени ценности таких элементов изначально существовали в самом целом. Изменение есть преображение, потому и воспринимается слиянно с нравственной оценкой этого изменения.
Таким образом, для синкретичности русского сознания в действии синтезирующего его языка более подходит модель синтеза — в противоположность аналитической процедуре выявления различительных признаков, частиц, элементов целого. Движение мысли от общего к частям. Неприятие анализа («трупоразъятья позитивистов», по слову Герцена) определяется несколькими причинами, из которых важнейшая, как кажется, опять-таки нравственная. «Только живой душой понимаются живые истины» — формулирует ее Герцен. Познание ценно лишь «в совершенно внутреннем свободном соединении, или синтезе» [Соловьев 1988, 2: 174] (ср.: [Там же: 177]). «Всеобщий синтез» Николая Федорова зиждется на том же идеальном основании.
Александр Потебня любил повторять в своих лекциях одну справедливую мысль: язык синтетического строя, каким является и русский в числе славянских, не может эффективно изучаться аналитически, равно как и с помощью такого языка опасно классифицировать «вещи» — всегда есть риск впасть в типичную ошибку «умножения объектов» на пустом месте.
Остается только одно, и это тоже заявлено: диалектика развития важнее идеи материальности мира; материальность вообще двузначна — не обязательно это «материя» или «материал» природы. Феноменальное столь же материально, как всякая вообще «вещь». Диалектическое восприятие жизни выступает в нескольких своих ипостасях, но главное в том, что признаётся: весь мир — борьба, состязание, спор, всё есть действие, всё — деяние, всё — создает действительность. Отсюда, между прочим, особая роль глаголов в русской речи, что постоянно подчеркивают писатели. При этом всё изменяется в частностях, присутствует в вариантах (в границах своей формы), но остается незыблемым по существу как инвариант. Ведь оно, это всё, существует не только само по себе как законченная вещь, оно еще и обвито аурой мысли о ней, преисполнено той идеи, которая и воплощает в мысли сам принцип инвариантности. В этой слиянности вещного варианта и сущностного инварианта можно найти объяснение многим, иначе непонятным, русским пристрастиям.
А истина — инвариант частных правд, истина — идея Правды.
Как всегда в таких случаях, недоброжелательный в отношении к русскому реализму номиналист немедленно совершит подстановку терминов и на их основе, как говорится, выворотит полушубок мехом наружу, как делают это шутники в новогоднюю ночь, пугая детей бесами. Так и здесь. Нам говорят, что в области социоэкономики у русских господствует иждивенчески-патерналистская идея, а в области организационно-политической основа всего — холуйски-паханский комплекс: «нам бы хорошего и сильного пахана!» [Тэневик 1996: 152]. Термин пахан в данном случае родовой, он заключает виды: это и император, и генсек, и президент, которым именно и «нужна холуйская среда». Как бы идея «царя» в новых социальных условиях. Поразительна всё же эта местечковая злость, направленная против русских идеалов; даже навязанные извне идеи ассоциируются с русскими идеалами и приписываются целой нации. К сведению теневых мыслителей: именно авторитетов-то русская ментальность и не приемлет. Для русского человека они не имеют никакой цены, они презираются. В уголовной среде, в которой нам подыскивают параллели, авторитеты имеются, есть и паханы, но ведь состав «русской мафии» всем хорошо известен. Российский отнюдь не русский.
Интуиция и опыт
«Мир постигаем лишь мифологически» — интуицией. При этом «нужно сказать, что область подсознательного в душе русского человека занимает исключительное место»; неожиданным извержением мыслей, поступков, действий «он чаще всего не знает, чего он хочет, куда его тянет, отчего ему грустно или весело, — мы не можем определить направления (своего) хотения» [Вышеславцев 1995: 113]. Как и все такого рода ностальгические определения русского характера, это основано на русской сказке («сказка — это наши сны»): «пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Однако безмерность русских желаний, определяемую бескрайностью российских просторов, это высказывание передает точно.
Какую-то рыхлую неопределенность в выражении мысли отмечают критики русского менталитета. Русской мысли присуща иррациональность, говорит Анна Вежбицка, потому что в ней начисто отсутствует каузация; отсюда и выходит надежда на русский авось и прочие игралища судьбы. Мы еще вернемся к каузации и к авосю, столь любезным западному интеллектуалу, сейчас нашей неупорядоченной мыслью зацепимся за «иррациональность».
Да, говорит и Георгий Федотов, у нас «в познании, разумеется, — иррационализм и вера в интуицию» [Федотов 1981: 94].
Да, подтверждает и Николай Лосский, у нас развит именно интуитивизм, но как «способность к высшим формам опыта (не в каузально-чувственном смысле)».
Не следует пугаться страшных терминов. Все три типа интуиции: чувственной, интеллектуальной и мистической — в одинаковой мере служат человеческой мысли, обогащая ее и облагораживая своим устремлением к идеалу. Это — всем известные инстинкт, интуиция и инспирация (вдохновение), не раз описанные петербургскими философами [Лапшин 1999: 211 и след.]. Или, как предпочитал говорить Николай Лосский, интуиция чувственная, интеллектуальная и мистическая. Подсознательное и сверхсознательное в равной мере присущи всем, но особенно, быть может, как раз тонко чувствующим людям. Генная память поколений служит современным людям, потому что «мы ничего бы не знали. Если бы всё не предчувствовали» [Розанов 2000: 24].
Для Семена Франка несомненно, что «в основе русского познания лежит интуиция», согласно которой что-либо узнать — значит приобщиться к этому посредством осознания и самопереживания: познание и жизнь в высшем понимании — одно и то же. «Умственная трезвость и логическая ясность» интуитивного опыта русских достигнута посредством православной аскетики, полагает Франк, что и отличает такой опыт от европейского эмпиризма и рационалистического опыта; у нас нет ни субъективизма, ни формализма, свойственного рационализму, особенно французскому. У русских логическая взаимосвязь и очевидность тоже присутствуют в познании, но они характеризуют предмет только внешне, вещно, а не сущностно. «Русская гносеология интуитивна и антирационалистична, но не иррационалистична», мысль русского в типичном выражении «остра, проницательна и трезва, полна... здравого смысла, в простом „прозаическом“ смысле правдива и метка, обладает всеми качествами добросовестно-строгого, никакими предложениями не замутненного эмпирического познания» [Франк 1996: 25, 253]. Вообще же, по мнению скептика Солоневича, «спор между разумом и инстинктом — это выдуманный спор», поскольку разум и есть соединенный с сердцем и совестью рассудок (та же мысль у Ивана Ильина, ср.: [Ильин 3: 423—424]).
«Непосредственной данности нет, — утверждал Андрей Белый, а есть интуиция: интуиция — слово, создавшее мир». Это не научное утверждение. Это подсознание русской ментальности. Здесь смещены цели. Интуитивное познание русских направлено не на искание абстрактной истины, а на нравственные характеристики добра и зла — это не гносеология, а этика [Марцинковская 1994: 19]
В русском сознании, замечал по этому поводу Семен Франк [1926: 8—11], причудливо сочетались мистический интуитивизм веры (не только веры в Бога — вообще веры) как источник глубинно сущностного ведения, и чувственное «живознание». Русская гносеология, полагал философ, есть соединение чувственной очевидности, которая служит ключом к разумению (духовное ведь нужно изъяснить через доступное понятию вещное), и совершенной очевидности мистического бытия. Это, конечно, не английский эмпиризм, а именно «русская эмпиристичность». В основе русской ментальности лежит нечто, что Франк пытался передать немецким словом Lebenserfahrung — в конечном счете, критерий истины именно в этом. Через живой человеческий дух познается духовное.
Норма опыта и идеал идеи сталкиваются в момент познания, подобно тому как сталкиваются в нем интуитивное и рассудочное. Но имеются и различия.
«Религиозно-нравственные идеи нельзя адекватно выразить в нормах и в „кодексе нравственности“... Последнее объясняется смешением ее с правом», а только право нормативно [Карсавин 1995: 144]. Законченность форм приобретается в установлении норм, а это уже — ограничение свободы. Нравственность — зона свободы, свободы воли. Умственное состояние, об(в)язанное рассудочными нормами, закостеневает в видимости свободы, тогда как интуитивный порыв не препятствует мысли в открытии нового. Вот почему, по мнению Бердяева, наше умственное состояние и не приемлет классицизма, оно враждебно классицизму, но одухотворено романтическим порывом («и тем привлекательно»). Постоянное изменение форм в порыве творчества со стороны кажется отсутствием формы, но это сознательная неприемлемость законченных форм, которые способны остановить бег творчества. Форма — уже вещь, а законченность идеи в вещи останавливает процесс творения. Да и то сказать: «Почему статуи холодны? Потому, что тут законченность; где законченность, там холодность, и нет действия», — заметил мудрец Пришвин. Оформленное до конца — умирает.
С точки зрения реализации идеи возникает проблема техники и творчества. Технология действительно связана с рациональным, но творчество всегда соотносится с интуицией. Хорошо Г. Л. Тульчинский показал это на перерождении научного метода в технологию раскроя художественной ткани текста: «Благодаря ОПОЯЗ’у (Общество по изучению языка, действовавшее у нас в 1930-е годы. — В. К.) были обнажены корни рационалистических притязаний техне на творчество. После него творчество уже не могло идти этим путем самозванства. Идея сделанности выпала в экологическую нишу структурного и семиотического анализа, заняв единственно возможное место научной аналитики. Творчество же не сводимо к рациональной сделанности», видимая научность этих методов всего лишь паллиатив научного метода «в мифократическом идеологизированном обществе» [Тульчинский 1996: 201].
Интуиция на основе образа порождает понятие, каждый раз необходимое именно в данный момент познания.
Сущность познается не через саму вещь и не через опыт; следовательно, говорил Петр Астафьев, без помощи логического. Феноменальное чувственное знание направлено на вещь — но оно никогда не доходит до «мистического ноуменального» [Астафьев 2000: 418, 421]. Из рассуждений философа следует, что имя существительное как вещь — дано, а имя прилагательное или глагол как признаки выделения вида — заданы, и потому в сочетаниях типа «белый дом» или «дом белел» совмещены содержание данного конкретного понятия и его объем — аналитически; их соединение в речи и составляет внутреннее знание, т. е. мудрость [Там же: 424].
Вообще говоря, «откуда взялась уверенность, что дискурсивное мышление более общеобязательно, чем интуиция? От понижения уровня духовного общения до минимума? Дискурсивное мышление есть царство середины, никогда не начало и не конец. Концы и начала всегда взяты в интуиции», тогда как дискурс представлен формально автоматическим [Бердяев 1985: 64]. Высказываний такого рода множество в традиции русского философствования. «Основная же ошибка „рационалистов“ в том, что они искусственно проводят черту между инстинктом, навыком и разумом и потом рассуждают, исходя из этой ограды, вовсе не существующей в природе вещей» [Пришвин 1986: 304].
Интуиция слова
Русская ментальность ближайшим образом отражается в словах. Именно слова быстрее всего отзываются на изменения, происходящие в жизни и в сознании человека. Но они же и сохраняют в своем образном подтексте старинные свои смыслы — образные в своей «внутренней форме» и символические в устойчивых сочетаниях слов, данных с типичным признаком определения. «Англичане и особенно американцы не понимают речи собеседника при малейшей ошибке произношения, потому что внимание их сосредоточено на внешней стороне речи, на звуках ее. Наоборот, русский человек, обыкновенно, понимает собеседника даже и при значительных недостатках произношения; объясняется это тем, что он направляет свое внимание сразу на внутреннюю сторону речи, на смысл ее, непосредственно, т. е. интуитивно-улавливаемый им» [Лосский 1991: 258].
Отсюда непонятная иностранцу традиция непрекращающегося процесса «освежения внутреннего образа» слова, т. е. возвращение к образному первосмыслу, заложенному в словесном корне искони, но по какой-то причине утраченному в обиходной речи. То ли из-за утраты производящего корня, который «наводил» сознание на определенный смысл, то ли по причине искажения самой формы (изменилось произношение слова).
Особенно это относится к словам эмоционального содержания, которые выражают не только понятие, но и отношение к нему — в связи с оценкой того, о чем речь. Без восстановления «нутряного» образа тут не обойтись никак.
В последовательной замене по существу однозначных форм кажется—выглядит—смотрится точно передано отношение говорящего к тому, что является перед ним с показной стороны. Образ-подтекст (ментальная доминанта) все время сохраняется, но с каждой новой формой происходит эмоциональное усиление в выражении качества и вместе с тем удаление от объекта. Две последние формы — «культурного» происхождения, соответственно из немецкого и английского языков. То, что просто кажется, и в действительности может быть таковым (во что надо верить); то, что выглядит, отчасти уже притворяется, скрывая свою сущность, хотя не исключено, что оно и впрямь таково; но тому, что в наши времена просто «смотрится», доверять не следует, оно обманчиво и вызывает обоснованные подозрения в ложности. Отчуждение личности от природного мира подлинности не есть черта русской ментальности, она привнесена сюда изломом заимствованных форм и речевых клише.
Древняя форма обаятельный последовательно заменяется равнозначными ей словами очаровательный (чарует) и обворожительный (завораживает). И здесь тоже внутренний образ первосмысла сохраняется, в переборе определений и на их фоне он даже усиливает эмоциональную энергию выражения. Обаятельный заколдовывает словом (баяти — баян), очаровательный чарует внешним видом, обворожительный — делом, манерами, поведением. Понятия другие, но образ всё тот же, да и смысл предыдущих близкозначных слов сохраняется, они не исчезли, фактом своей синонимической сопричастности они поддерживают смысл каждого нового в этом ряду слова, оттеняя его потаенные смыслы.
«Собирание ума» — в голове и «собирание души» — в сердце двунаправленным движением создает духовное пространство русского со-знания. Не случайно со времен Григория Сковороды, а может быть, и гораздо раньше, когда на Руси постигли, что образами Логоса являются разум и совесть (Климент Александрийский), русские философы настаивают на единстве и равноценности разума и интуиции. Николай Михайловский утверждал, что народники — не враги народу, «ибо сердце и разум наш с ним. Сердце и разум — заметьте это сочетание» [Михайловский 1900: 938]. А писатель ту же мысль выразил образно:
«Можно усердно молиться годами Господу Богу и просить у него пищи на каждый день и сделаться очень хорошим человеком, но в то же время знать о своей планете только, что она есть блин.
И можно сосчитать звезды и знать подробности движения светил, но не уметь у Бога попросить себе хлеба: чувство и разум» [Пришвин 1994: 301].
«Первый раз в жизни спросил себя определенно и прямо, в чем же разница между нами и ими? И ответил: в формальности души и существования у них и в эссенциальности души и существования у нас» [Розанов 1998: 149]. И это важно. Стремление обратить русских от интуитивного к формально-рассудочному есть лукавая попытка поставить русских вровень с собою. Те, которые лишены такой интуиции, вынуждены прибегать к помощи рассудка, сепарируя мысль и язык, пытаясь проникнуть в тайны сущности извне языка.
Образ и символ
У русских философов, говорит Барабанов [1992: 149], не понятие, а метафора и символ суть основные аргументы.
Верно. И более того. Русские философы, обобщая интеллектуальные традиции русского сознания, никогда не ориентированы на рассудочное понятие. Основным героем нашей философии и культуры действительно является символ — образное понятие. Русскую философию не случайно называли «философией образа».
Конкретное и образное русский менталитет предпочитает умственному и рационалистическому. Именно потому, что оно образное, в нем нет расклассифицированной единичности. Толкование конкретного как материально единичного вытекает из номиналистического взгляда эмпирика и полностью соответствует современному уровню научного позитивизма. Менталитет русского — не ratio, но и не односторонний сенсуализм, хотя некоторые русские историки (например, Щапов) и пытались уверить в склонности русского человека к чувственному восприятию мира («всё хочет пощупать»; как раньше об Аввакуме («всё хочет понюхать»), а позже о Розанове («всё хочет полизать»). Никакого восхождения от конкретного к абстрактному и наоборот подобная форма познания не предполагает, поскольку для нее абстрактное воплощено в конкретном — в единосущности с ним, присутствует в конкретном, которое само по себе есть всего лишь знак отвлеченного и всеобщего. «Односторонняя рассудочность западной линии развития носит в себе не общественный дух, но дух личной отделенности, связываемой узлами частных интересов и партий... забывавши о жизни целого государства», которому иногда просто необходимо подчинить личное, несмотря ни на что; вот почему у русских «это стремление любви, а не выгоды» [Киреевский 1911: 123]. Волевое усилие к творчеству направлено не интересами выгоды, но необходимостью любви.
Андрей Болотов в своих суждениях сознательно отказывается от строгости логического понятия, в конце XVIII в. уже известного русским интеллектуалам, по традиции он опирается на образное понятие (символ), с помощью которого возможно не просто дать знание, но и соз-дать счастье — действуя на ум через сердце [Артемьева 1996: 90, 96]. О том же говорит и современник Болотова — Григорий Сковорода. Понятийное знание пусто, оно не приносит счастья соучастия — в нем отсутствует этическая составляющая по-знания.
В таком случае понятно и предпочтение, которое оказывает русский ум символу. Такое предпочтение основано не только на силе традиции, ведь и сама традиция сложилась на неких исходных разумных основаниях. Основания эти — позиция реалиста в русском смысле слова. Русского неореализма.
«Форма всеобщности неосуществима вне слова, которое есть „символ“, т. е. знак, совмещающий в себе наличную единичность с его всеобщим значением» — эти слова Владимира Соловьева мы помним. Слово удерживает исчезающее. «Символизирующее сознание» эпохи Средневековья — высшее проявление действий такого типа символа посредством символов-образов, заменяющих логическую отточенность и мертвенность понятия. Современный человек далеко отошел от подобной формы мышления, но у русских простых людей осталось наивное убеждение в том, что Творец и тварь в каком-то смысле едины, что Создатель живет в своем создании, а это и определяет формы собственных его, человека, сознания и творческой деятельности. Посредством символов происходит удвоение опыта трудовой деятельности, потому что делают уже вмышленное — символ становится вещью наравне с другими вещами, произведенными человеком по велению идеи. Средневековый принцип познания — «принцип двойного отражения» (одно познается посредством другого, идея — через вещь) — привел к построению мира, в котором и нет ничего, помимо символов. Мир символов, созданных человеком в творении его, есть его культура. Таково практическое исполнение завета: мысль есть дело.
Человек сам постигает суть своего Дела, и никто ему в том не помощник. Символы заданы — слово дано, и... и примерно так: «Вопрос: что обозначает слово родина и слово отечество — какая между ними разница? Ответ: родина — место, где мы родились, отечество — родина, мною осознанная... без знания своей родины она никогда не может быть для нас отечеством» [Пришвин 1994: 300]. Мы исходим из слова, с тем чтобы через него понять символ.
Образность символа, данного как синкрета, предопределяет и предпочтения в характере мышления. Образ — это символ, следовательно, из мышления устраняется элемент формализации, ведь только в понятийном мышлении «формальная сторона везде преобладает над сущностью мысли» (Петр Лавров). Свои опасности возникают и при таком, одностороннем, ходе мысли. Если на Западе развивается схоластика, в православии — догматизм. Вариантность форм не покрывает сложности и разнообразия содержания, и формы множатся, не всегда попадая в светлое поле сознания. Образ, расшифровывающий символ, у каждого свой, и в этом, быть может, единственная причина разногласий, возникающих при обсуждении важных дел. Каждый по-своему понимает, что такое «демократия», «свобода» или «рынок».
Символизм познания, по существу, остается методом религиозного мышления, как его определял Лев Карсавин на примере средневекового символизма: «Каждый лепесток скрывает в себе какую-то тайну, эту тайну и надо раскрыть путем символического толкования и обнаружить отражение общего в единичном». В этом, по-видимому, кроется недоверие к науке в современном ее виде: слишком уж она злоупотребляет «моделью анализа». Роль символа в современном познании все больше начинает исполнять научный термин, но, в отличие от символа как такового, термин однозначен. Он не синкретичен и поэтому безобразен. Дискретность терминослов представляет мир аналитически дробным, рассеченным на составляющие его частицы.
Быть может, в том же и причина высокой в русской культуре роли художественного слова, слова вообще. «Русский народ по складу ума несколько фантастичен, условно говоря — „сказочен“, затейлив и художественно изобретателен» [Синявский 1991: 60]. У него на всё и про всё свой собственный разговор.
Такова же и русская философия. Это философия не «школьная» типа немецкой, вся она — в образах и символах, исходит из слова откровенно, а не исподтишка, и философствование Сократа или Григория Сковороды для нее понятней, чем зауми Канта. Даже русская литература глубоко философична, но только она дает не ответы (готовые «вещи» или вызревшие «идеи»), а ориентиры в глобальных идеях, на основе которых строится мировоззрение и человека, и народа в целом [Франк 1926: 4—7]. Русская философия онтологична, уже в самой себе она допускает познаваемость мира, воплощенного в идее-вещи; теория познания разработана мало или вообще обходится вниманием. Отсюда устойчивое неприятие «непереработанного» Канта. Русская философия этична, поскольку гармонию идеи и вещи она понимает как основной закон существования. Всё христианство этично, скажете вы, и будете правы, но важен оттенок. Православное христианство этично эстетически, не словом и делом, но красотой («красота спасет мир»). Даже математик, решая трудную отвлеченно мыслительную задачу, говорит (академик Колмогоров), что ищет не истины, а красоты решения, — и когда задача решена, оказывается, что «красивое решение» одновременно есть и самое правильное. Русская философия сильна не в умствованиях логического ряда, но в красоте поэтического слова. Напрасно среди русских философов искать создателей целостных философских систем, школьных компендиумов, схоластических «сумм». Изучая русскую философию, вы наткнетесь на Достоевского, Льва Толстого, Владимира Соловьева, великих поэтов России. «Легенда о Великом Инквизиторе» из романа «Братья Карамазовы» признается вершиной русского философствования на вечные христианские темы. Сотни людей пытались разгадать тайну притчи и не преуспели в этом. Не смогли уяснить, что истолковать ее — значит понять суть мира и жизни, не смогли постичь, что символ через понятие понять невозможно.
Sum ergo cogito
Постоянно возвращаясь к болезненной для русских философов формуле Декарта cogito ergo sum (мыслю, следовательно существую), эти философы полагали, что русский дух признаёт путь от cogito к sum совершенно искусственным: верный путь лежит только от sum к cogito [Франк 1926: 12], и только слово соединяет мысль и мыслящего, cogito и sum.
Отталкивание от ratio декартовского утверждения характерно для многих; идею существования как предшествие помышлению разделяли Керкегор, экзистенциалисты, Хайдеггер... многие. Всегда осознавали, что «есть что-то, чем можно думать, но с чем нельзя жить» [Бубер 1998: 29].
Русское представление о связи мысли с жизнью не нуждается в столь хитростных заключениях. В то время как западные люди «отдают мысли предпочтение перед жизнью», русские поступают совершенно наоборот: «тезис cogito ergo sum для него неприемлем» [Шубарт 2003: 101], что определяет и различие в философии: западная философия гносеологична (для нее важна теория познания), русская — онтологична, это философия жизни. Друг Пушкина — мистик Владимир Одоевский полагал, что «мыслить не значит жить, ибо мысль есть следствие жизни. Действовать не значит жить, ибо действие есть следствие мысли». Соедините эти точки линиями напряжения — и вы получите законченный контур русского реализма. Это утверждение справедливо хотя бы в отношении к «мыслить», потому что обратное (мысль как следствие действия) есть известная нам соборная операция «думать». «Мысленное делание» Нила Сорского — тоже диалог, но диалог с Богом, так что и в этом случае диалог как действие (как поступок) есть основа бытия: «Ego—sum, alia—non sunt», т. e. «Я есмь, иначе — не существую» [Розанов 2000: 125], или, еще раз: «Сначала надо быть, потом действовать и только потом — философствовать» [Ильин 6, 3: 61]. Подобных суждений можно много выбрать из трудов русских мыслителей, что удостоверяет одновекторность их представлений в данном вопросе. Осознание действительности этого мира — подлинно и очевидно, следовательно — истинно? ибо в противном случае, «признав за иллюзию свое „я“, свое сознание и свою волю», человек, «оставаясь последовательным, должен перестать и мыслить, и чувствовать, и двигаться — должен перестать жить» [Астафьев 2000: 460]. Прежде чем начать познавать, человек должен опереться на знание, но sum основано на чувственном ощущении, которое есть знание.
Сила русского философствования состоит в единовременном осмыслении всех трех компонентов семантического треугольника. С XVIII в. русские философы говорили о «слове помысленном», т. е. об идее, о «слове произнесенном», т. е. о слове (знаке), и о «слове, воплощенном в деле», т. е. о «вещи» как она есть. «Я существую, пока я действую, — мог бы сказать российский Декарт. — Если я бездействую, разум мой спит» [Артемьева 1996: 87]. Таков строй мышления, соединивший слово с поступком, ставящий знак равенства между словом и делом («Слово и дело государевы!»), причем «дело» здесь есть осуществленная связь (со-отношение) между идеей и вещью. Триединство связей исходит из Слова, становясь и словом, и условием безусловного — жизни, которая дана вне мысли и действования.
Жизнь — это большая посылка всякого умозаключения, которую при случае можно и опустить, но забыть — невозможно.
Всегда полезно сравнить собственные представления с понятиями других ментальных культур. Сравним русское sum с католическим cogito.
Подсчитано, говорит историк европейской мысли, что в «Opera omnia» Фомы Аквинского имеется 13x106 терминов — больше, чем в какой-нибудь отрасли современной техники [Попович 1979: 159]. Понятийный уровень познания здесь разработан досконально и дотошно, т. е. до предельного конца и исключительно точно.
Например, согласно Фоме, прежде чем вещь станет предметом рассуждения, она должна существовать, а коль скоро она существует — дальнейшее является делом ее сущности, но при том, что «Бог даст». Если карета наехала на камень — сломается колесо, но совсем не обязательно: без Божьей воли камень на дороге не появится» [Там же: 160]. О причине ли говорит здесь Фома? Вряд ли, он говорит о другом.
Вещь существует в своей сущности — идее, но проявление сущности в существовании вещи зависит от сути — а это и есть Божья воля. Бог — единство сущности и существования, его воля заложена, следовательно, в Логосе, в слове. Откуда появится камень на дороге? Ведь камень — тоже вещь в ее существовании и в своей сущности...
Цепь причин и следствий начинается с существования (sum), а мыслящий субъект существования, естественно, задумывается о своей сущности (ergo cogito). Человек — «мыслящий тростник», он задумывается. Другое дело, что при этом он совершает ошибки. Например, не в том находит сущность существования. Ведь карета потеряла колесо просто потому, что его плохо прикрепили, или кучер недоглядел, или... да мало ли чего sum одновременно с тобой!
Исхождение из слова
«Русский дискурс» вполне проявляется в текстах писателей, не порвавших связи с народным типом мышления. Время составления текста значения не имеет. Аввакум и Андрей Болотов, Александр Шишков и Федор Достоевский, Андрей Платонов или Василий Белов — при всем различии в таланте, манере и даже в тоне письма, условий, в которых каждый из них творил, в своем выражении русскости они одинаковы. Дело ведь не в оттенках, не в вариантах, обусловленных психикой или эстетическими особенностями вкуса и характера. Дело в инварианте — в особенности общерусской. Такой инвариант досужие критики видят в своеобразном «манихействе» русского сознания: имеются в виду богомильские истоки русского сознания, которые возрождались постоянно, потому что были укоренены в событиях реальной русской жизни. Подобный дуализм сознания выражен в русских текстах, является своеобразным признаком русской словесной культуры.
Основные особенности этой культуры мы всё время и обсуждаем; они отразились в языке. Об этом постоянно напоминали славянофилы, например — Алексей Хомяков: «Язык наш, м[илостивые] г[осудари], в его вещественной наружности и звуках есть покров такой прозрачный, что сквозь него просвечивается постоянно умственное движение, созидающее его. Несмотря на те долгие года, что он уже прожил, и на те исторические случайности, которые его отчасти исказили или обеднили, они и теперь еще для мысли — тело органическое, вполне покорное духу, а не искусственная чешуя, в которой мысль еле может двигаться, чтобы какими-то условными знаками пробудить мысль чужую» [Хомяков 1988: 339—340], т. е. передать, обозначить холодное тело понятия, уже извлеченного из доступной сознанию идеи. Ему вторит Константин Аксаков: «Вспомним, что язык, в составе своем, есть воплотившаяся мысль; язык есть разумный мир. А потому мы должны понять язык и построить его на основании в нем выразившейся мысли. О том, что в языке не получило особенного своего язычного выражения, своей словесной формы, — о том говорить нечего» [Аксаков 1875: 530].
Такова исходная точка русского философствования, выраженная славянофилами; эта точка зрения, отталкиваясь от слова, через поэзию и беллетристику, затем через публицистику, к концу XIX в. оформилась в философские системы, отражающие, в первом приближении, русскую ментальность. Заложенные в категориях языка, они являются в следующем виде.
Во-первых, это совмещенность субъект-объектных отношений, выраженных синтаксически — через высказывание — в категориях переходности, возвратности и залога. В любом описании заметна включенность «чувствующего субъекта» в объективный мир, в среду, и одновременно в контекст диалога. Всегда это духовность беседы (в старорусском смысле слова, обозначающего основательное и продуктивное действие в слове), а не формальное общение рационально мыслящего индивидуума. Взаимопроникновение чувства и мысли, чувственного и интеллектуального, вообще присущее человеку, у нас составляет органическое целое, и ни одно из слагаемых не существует без другого. Есть мысли головы, но есть и мысли сердца, — заметил некогда Григорий Сковорода, родоначальник отечественной философской рефлексии.
«Но вот именно тут-то и возникает вопрос очень трудный, как укрыть субъект и сделать объект псиологическим», — в словах Михаила Пришвина высказан самый опасный для рационалистической мысли вопрос: как соединить вещность объекта с идеальностью субъекта? Как скрыть личностное чувство в высказывании и одновременно «психологизировать» логическую реальность объектов в речи?
Как свести в гармонию идею духа и реальность вещи?
В языке то же самое.
Субъект-объектные отношения в истории русского сознания можно проследить на формах имени. Грамматическая форма субъекта — именительный падеж, объекта — падеж винительный; в древности эти формы различались почти по всем парадигмам и для всех имен, независимо от качества и формы «предметности». Именительный — винительный в противопоставлениях, например мати—матерь, дочи—дочерь, любы—любовь, кры—кровь, свекры—свекровь... Особенность русского мировосприятия, поведшего к обобщению одной из этих форм, заключалась в совмещенности соотношений между субъектом и объектом в их амбивалентности, что и привело в конце концов к устранению одной из форм — либо падежа субъекта, либо падежа объекта. Именительный сохранился для обозначения активных существительных деятельности, а винительный — для существительных отношения. Мати > мать, дочи > дочь, тогда как формы отношения матерь, дочерь из литературной речи исчезли. Наоборот, в нерасчлененном смысле именительно-винительного остались слова типа кровь, любовь, даже свекровь — поскольку они служили для выражения отношения к другому, а не деятельности. Такого же характера категория одушевленности, которая развивается в старорусском языке у имен мужского (затем и женского) рода для обозначения активно действующих субъектов, ставших объектами речи (вижу стол — вижу отца).
Всё это безусловно важно. В плане современных философских идей — отхода «от дихотомической модели субъект-объектных отношений к модели отношений системных... Это принципиальная слабость излишне сильной абстракции в противостоянии субъект—объект. Оно элементарно грубо и грубо элементарно — нечто вроде соотношения подлежащего и сказуемого (подмена тезиса: сказуемое — не объект. — В. К.) — не более. Недаром в психологии и управлении всё больше говорят о субъект-объектных отношениях. Возможно, что субъект-объектная модель в теории познания и социального действия — одно из проявлений самозванческих интенций европейского рационализма» [Тульчинский 1996: 156], чего, как мы видим, в русском языковом сознании никогда не было.
Иногда приводят слова Макса Борна о том, как сменялись стили научного мышления в истории человечества; это смена способов отражения мира в сознании человека с точки зрения осмысления связей между субъектом и объектом, между помысленным в разуме и реально вещным [Кукушкина 1984: 136]. Антропоцентрический стиль соответствовал древнейшим представлениям о природе, основанным на неразличении субъекта и объекта; для ньютоновского стиля мышления характерно стремление к «исключению» субъекта из представлений об объекте; современный стиль мышления основан на признании внутреннего единства субъекта и объекта. Конечно, «стиль мышления» не связан только с физическими представлениями о мире, но это — крайняя точка «слияния с веществом». Указанные этапы развития стилей мышления показывают ступени развития мысли в определениях детерминизма, затем вероятностных и теперь «кибернетических». После временной поляризации субъекта и объекта человечество вновь заинтересовано в их схождении.
Проблема субъект-объектных отношений в границах русского языка всегда решалась иначе, чем на Западе, и очень близко к современным научным представлениям о мире. Совмещенность субъекта и объекта в сознании, нерасчлененность их в совместном действии проявляется в «загадочной категории залога»: возвратность-переходность в передаче действия представлены как взаимообратимость, обращенность действия на себя. Не связано ли это с характерным для русской ментальности свойством: «грызет себя», «самоедство» — повышенная степень рефлексии на фоне прямой обращенности к объекту?
Русское слово в стиле речи
Нельзя понять смысла русского слова, не чувствуя его стилистического оттенка. Чувство и мысль, стиль и семантика настолько переплетены взаимными связями, что невозможно их разорвать без ущерба для самого смысла. Одну и ту же, даже самую простую, мысль оказывается возможным выразить различными способами, и отношение личного чувства к излагаемой мысли подчас оказывается важнее самой мысли. Моя супруга почивает — моя жена отдыхает — моя баба дрыхнет — моя вайфа спит (русскоязычный в Америке) — мысль одна и та же, смысл — разный. Англичанин ту же мысль передаст средним стилем (моя жена отдыхает), но вокруг навертит множество уточняющих слов от себя лично, как бы устраняясь от самого факта, подвергая его неявному сомнению: I guess it's true... «Я избегаю таких выражений, как мы, нам кажется, всякому понятно и т. д. Кого этими изворотами и „приличиями“ обманешь? Мне кажется, что в подобных случаях говорить прямо от себя и только за себя — гораздо скромнее и приличнее» [Леонтьев 1912: 226]. Такова русская точка зрения на этот вопрос.
Ее обсуждает Георгий Гачев, сравнивая русское высказывание с болгарским. «В Болгарии трудно мышлению быть отвлеченным. В России, например, интересует: что говорится (словно само собой, безлично), в Болгарии: кто — что говорит», вообще «формулы (структуры) русских истин и максим есть вопросы или утверждения — несбыточно категоричные, на внешний взгляд замахивающиеся объять необъятное. Но именно потому такая структура мысли источает гигантский волевой напор. Это словно приступ к бытию с ножом к горлу: „Даешь!“ А каким еще способом прикажете орудовать, чтобы освоить, постичь бесконечность русской жизни?» [Гачев 1988: 107—108, 144].
Слиянность мысли и чувства — смысла и чувства — обнаруживается уже в момент создания нашего литературного языка. Традиция, которая сложилась в течение столетий, требовала неукоснительного соблюдения этого правила. К красоте и изяществу слога призывал Николай Карамзин, к силе (славянского) слова — Александр Шишков. «Красота» через слово порождает образ, словесный образ явлен в народной традиции; сила церковнославянского слова привносит символ культуры. Понятия — нет, понятие задано, потому что понятие — образный символ — складывается из одномоментного совмещения в слове культурного символа и народного образа. Понятие задано смыслом символа — силой речи — и красотой образа — его изяществом (тоже в старинном смысле слова: как особностью и выразительностью).
В рассказе Юрия Нагибина Пушкин-лицеист беседует с простой девушкой, и они не могут, чисто эмоционально, понять друг друга. Наталья обмолвилась, что подруга ее «тяжела» от графского племянника, улана...
«— Тяжела — гадость! Улан ее обрюхатил, — сказал он резко.
— Фу, Александр Сергеич, ну и язычок у вас! Мы простые и то говорим „тяжела“, а вам приличнее выражаться „беременна“.
— Брюхата! — вскричал Пушкин. — Неужели ты сама не слышишь? „Брюхата“ — полно и округло, „беременна“ — клекот какой-то! А „тяжела“ — вовсе мертвечина».
Именно такая последовательность стилистически сменявших друг друга выражений описана академиком Виктором Виноградовым, откуда, вполне вероятно, и заимствовал свои рассуждения писатель: беременна—тяжела—брюхата (сам Пушкин всегда предпочитал последнее слово).
Слово в грамматическом контексте также не существует само по себе, и «чувство грамматики», и смысл слова неразделимы, потому что незаметны переходы от семантики слова (в степенях повышения отвлеченности — до уровня понятия) и семантики предложения (в степенях повышения абстрактности — до уровня категории). Слово в контексте становится символом, потому что, указывая на одно, имеет в виду совершенно иное.
Внешняя форма слова, его звучание в определенно заданном ритме высказывания, всегда согласована с внутренней его формой, с тем первосмыслом его, который во всяком новом контексте порождает всё новые и новые значения. Особенность эта является в поэзии, но не только в поэзии. Ритмичность русской прозы также своеобычна, у каждого хорошего писателя она индивидуально прекрасна.
Высказывание строится так, что одновременно ты видишь чувство личное, изнутри рожденное — и понимаешь саму мысль, поданную как бы извне, но при этом не механически пристегнутую к фразе, а отраженным семантическим светом освещающую глубинную суть исходного чувства. Возьмите любую строчку русского поэта, и вы увидите в ней двоящуюся перспективу: туда и обратно, но в целом — цельность мысли, одухотворенной чувством. Трудно передать на другом языке подобное соединение двух оборотов мысли, но эстетическое и этическое слились — и мысль состоялась.
Внутренний ритм — это время, сам дискурс создает пространство. Внутреннее время говорящего, чувство движения, охватывает внешнее пространство бытия, входит в него, его преображая. Преображение в слове есть цель, которая — ставится. Цель достигается, если идея как идеал, пройдя через личное чувство телесно и вещно, становится мыслью. Той самой, искомой мыслью, ради которой затеялась речь.
Потому что рождают двое. Одному и одной не под силу, чего-то нет, не хватает, мало. Семени нет концепта — или лона речи, в которой зачатие осуществимо, где состоится оно как творческий акт рождения мысли мирской из идеала идеи, сотворенной не нами.
Вот он, тот пресловутый дуализм манихея, который не нравится посторонним. Не врага он ищет, как полагают часто, но единства в экстазе творения. И не женская это стихия только (как постоянно толкует Бердяев) — но женская жажда рождения, творчества жизни, всегда — с любимым.
Русские писатели все как один со своим особенным складом речи. Переводить их трудно, не «русскоязычных» с их усредненным языком и четким до истончения оттенков слогом. Неважно, с какой стороны подходят они к словотворчеству: от мысли или от слова. Словотворчество Солженицына внешне напоминает то же свойство в прозе Достоевского. Но разница есть, и большая. Профетическая органичность фразы Достоевского недостижима — у Солженицына фраза назидательно сконструирована. Его слова как бы выдуманы, в языке их нет. Наставление вместо пророчества, как это у Достоевского. Перед нами школьный учитель математики, а не вдохновенный пророк. Это не осуждение, не умаление жизненного подвига писателя. Утверждение другой точки зрения на то же самое: точка зрения от вещности слова, а не взгляд со стороны его духа.
Вот Платонов. Андрей Платонов. Он пишет сердцем, не забывая о мысли. Специалисты говорят, что этот писатель открывает новую главу в художественном исследовании русской ментальности. У Достоевского — диалектика чувства, у Льва Толстого — диалектика души, у Платонова — диалектика характера.
Читать Платонова трудно, нужно быть таким же, как сам он, по чувству и мысли — не меньше. Потому что он не говорит, а сказ-ывает, и от читателя требует он труда со-переживания.
Какая-то косноязычная речь, на поверхностный взгляд, речь юродивого, во враждебной ему среде посильно, словом, отстаивающего свое право на правду. Но какая русскость стихийного слова, словно влитого, впаянного в ткань фразы! И чувство его важнее мысли, да мысль и рождается этим чувством, с которого и начинается сближение с писательским словом — стоит только его почувствовать. Не понять, а почувствовать.
То, что со стороны кажется дремуче-неповоротливым, на самом деле глубинно-содержательно, хотя и не сразу прорывается в сознание, привыкшее к мысли формальной, публицистически заостренной «для дурака». Ритм народной речи плавно ведет за собой, как волшебный клубок в заповедные чащи Бабы-яги, завораживает, чарует, отталкивает и снова притягивает. Не нервически метафоричная речь, но основательно метонимичная: не романтик говорит нам, но классик.
Лаконичная точность слова, смысл которого как бы прорастает из грамматики текста, из синтаксиса соединенных против их воли слов. Взглянешь и охнешь: дикая чаща, невспаханное поле, на котором всё сплелось — не разобрать! — в законченном единстве природного мира: и корни, и мурава, и соки земли. Обрамленное вещностью текста, слово утяжеляет свой вес, ложится в благодатную почву, прорастает смыслом, которого и не ждали. Каждая фраза почти символична, в ней синкретизм нерасчлененных со-значений, и тут не до логики фразы в формальном ее соответствии тогда и теперь, причина и следствие, хорошо или плохо. Одновременно одно и то же ты как будто видишь с разных сторон, в перспективе прямой и обратной, сверху и снизу и сбоку: ты включаешься в этот мир не телесно, но чувством — через слово, которое у Платонова и объемно, и ярко.
Глава четвертая. Ментальность: формирование рассудка
Познай, где свет, — поймешь, где тьма...
Александр БлокСгущение мысли
Чтобы понять, чем отличается современный принцип распределения словесных знаков в памяти человека от древнего и старого, сравним особенности двух эпох — древнерусской и нынешней; разрыв между ними в тысячу лет, век по старинному счету. Так яснее станет и само различие, и темп сгущения мысли в слове.
В древности все слова распределялись по фонетическому признаку, то есть формально, в зависимости от характера основы; имена существительные имели основы на согласные, на гласные (всегда определенные, числом до двенадцати), глаголы — на гласные, и т. д. Язык-то был устный, важно было на слух и сразу определить, к какой группе слов относится данное имя, потому что от этого во многом зависел смысл высказывания: к одной группе основ относились термины родства, к другой — названия животных и растений, к третьей — социальные термины, и т. д. Даже заимствованные из других языков слова предпочитали тот или иной тип «склонения» слов в предложении, в зависимости от языка, из какого они пришли.
Наиболее древние основы включили в себя слова, родственные германским, более новые — заимствованные из греческого, и т. п.
Все слова, восходящие к одному корню, общностью смысла гроздью собирались в подсознании, одно от другого отличаясь то ударением, то каким-нибудь, для нас уже невнятным, призвуком, то чередованием гласных в корне. Удивительный слух был у наших предков! Скажем, один и тот же глагольный корень с различными звуковыми «наращениями» давал варианты (назовем лишь известные сегодня) будить—бдеть—(про)буждать—*возбнуть (в церковнославянском)—блюсти—бодр. С помощью одного и того же корня можно было передать самые разные смыслы одного и того же явления: и состояние, и длительность, и повторяемость, и начало действия, а также побуждаемость к действию, как это и представлено в приведенных примерах.
Развитие мысли по направлению к нашему времени всё больше отдаляет прежде однокоренные формы слов, к тому времени прямо обросшие звуковыми распространителями и суффиксами. Такие формы становятся самостоятельными словами, как то случилось и в современном языке со словами блюсти и бдеть, будить и бодр.
Но одновременно — и это важно! — те же «слова» порождают множество новых слово-форм, появляются их «варианты»; у глаголов возникают формы спряжения, у имен — формы склонения. Создается парадигма склонения или спряжения, и теперь из числа других слово выделяется не фонетически, по форме, звучанием на слух, а по смыслу, представая как категория мысли. Важнейшим условием такого сгущения мысли в каждом отдельном слове стало появление письменности, теперь человек не просто слышал, он мог и видеть слово в авторитетном — даже священном — тексте. Освященное слово — писано, его следует по-читать. Прочесть и почтить — одно и то же как действие, выраженное общим глагольным корнем.
Но в то же время (всё происходит параллельно) в формах слова образовались разного рода сокращения, упрощения в звучании, замены одних звуков на другие, призванные облегчить речь, упростить ее форму. В результате каждая такая форма получила свой собственный знак принадлежности к известной грамматической категории, например:
рук-а: руч-ка, руч-ной, в-руч-ить и пр.
грех: греш-ки, греш-ный, греш-ить и пр.
Всегда выделены вторичные формы, образованные от основных, потому что завершающим корень согласным у них выступает другой звук. Неизменность исконного корня становилась признаком его устойчивости, на фоне новых слов делала его архаизмом, а всякий архаизм воспринимается как слово высокого стиля, в смысловом отношении самое важное и значительное. Тем самым оно непроизвольно сосредотачивало в себе идею символа. Рука — символ власти, все остальные слова данного корня только выражают различные оттенки действий и признаков, раскрывающих смысл символа. То же самое и слово грех — символ вины, и все остальные, столь же древние слова. Теперь очень часто трудно осознать, что разные слова современного языка в прошлом суть одно и то же слово. Луг и лужа, коза и кожа, кут ‘угол’ и куча, и т. д.
На основе подобного разведения смыслов на словесном знаке происходило сворачивание многочисленных типов основ в ограниченное число их склонений, т. е. конкретности вещного мира сгруппировались в идеальные формы типов. В современном русском языке три склонения в единственном числе и только одно — во множественном. Различие знаменательное, если учесть, что существительное в форме единственного числа выражает скорее идею предметности, а в форме множественного числа показывает саму предметность: дом — понятие, образ, символ, а до́мы или дома́ уже конкретные «вещи», отличающиеся только тем, что форма домы выражает раздельную множественность предметов, а форма дома — собирательную их множественность. Точно так же, как, например, ду́хи и духи́ или во́лосы и волоса́: девушка расчесывает волосы (важен каждый волосок), но если кто-то вцепился в волоса — тут уж во всю прядь сразу. Тем самым искони присущая русскому «реалисту» тяга одновременно обозначить и телесность вещи, ощущаемой чувством, и идею этой вещи в мысли получает оправдание в языке путем различения полупарадигм единственного и множественного чисел. Так что прав славянофил: «В известном смысле, всякое мышление отвлеченно; ибо существенное условие его есть отвлечение, или возведение предмета в слово» [Самарин 1996: 413].
На многих чередованиях такого же рода можно видеть, как в парадигме- системе появляются формы, выделяющиеся из массы других форм, и тем самым становятся — автоматически, поначалу без всякой на то заявки — существенно важными в речи. Так, форма 1-го лица единственного числа глаголов настоящего времени всегда отличается от остальных форм парадигмы:
виж-у: вид-ишь, вид-ит... вид-ел, вид-еть, вид-евший...
любл-ю: люб-ишь, люб-ит... люб-ил, люб-ить, люб-ивший...
Так выявляется идея «я» на фоне всех прочих «мы» или «ты».
История русского языка хорошо показывает, как из употребления исчезают некоторые категории, а другие, напротив, развиваются в новые идеальные типы. Ментальность развивается.
Чувствительность понятия
Русское мышление обвиняют в подмене фактов эмоциями, русском языке практически невозможно выразиться спокойно, однозначно и объективно. Ты сразу погружаешься в стихию оценок, эмоций, страстей. Русские речь и письмо тропированы (образны), но не терминированы. Поэтому, когда надо выразиться безоценочно, терминологически точно, приходится сплошь и рядом заимствовать иностранную лексику. "Засоренность" русского языка иностранными словами, как известно, вечная тема русской культуры» [Тульчинский 1996: 256]. Но всякая речь вообще эмоциональна, в отличие от системности языка, так что здесь имеет место обычная для формального ratio подстановка, поскольку только логику мысли он почитает за факты.
Только что цитированный автор согласен с этим: «Мир европейского рационализма — это механизм, принципиально чуждый свободе, бездушно и внеличностно противостоящий человеку...» [Там же: 115]. Еще славянофил осуждал Запад («корень западной ошибки») за то, что рассудок там приняли за целостность духа, тогда как «принимая понятие за естественную основу всего мышления, разрушаешь мир» [Хомяков 1900: 110]. Понятие — не единственная и потому не всеобъемлющая форма мысли.
Имеет значение и характер языка. Чем меньше в нем символически заряженных элементов, тем больше схематизм понятия порабощает разум. Это всегда понимали, и, например, Петр Бицилли [1996: 625] утверждал: «Я хочу лишь еще раз подчеркнуть, что чем больше в современном языке элементов, характерных для „поэтической“ стадии культуры, тем для цивилизованных людей труднее им пользоваться так, как надо, т. е. употреблять „собственные“ слова в их собственном значении, тем больше соблазна отказаться от истинной свободы — права и обязанности выбора и понять свободу как произвол». В частности, обилие в устной речи вариантов ударения слов по видимости усложняет язык, но если узаконить каждое отдельное ударение в угоду логическим требованиям рассудка, то «никогда не будет возможности» ни обогащать смысл оттенками (то есть творить новое), ни получить свободу в их пользовании [Там же: 599]. Ясно, о чем речь: жесткое нормирование смысловых оттенков разрушает мир словесных образов.
Речь также о том, что формализация мысли понятием закрепощает мысль и ограничивает свободу отдельной личности на выбор собственной модели речевого поведения, — ведь только словесный образ принадлежит личности, тогда как понятие усредняет личное мнение в надличностном суждении.
Как раз русская ментальность ближайшим образом отражается в словесных образах, слова быстрее всего отзываются на изменения, происходящие в жизни, но они же сохраняют в своем содержании исконные свои смыслы: образные — во внутренней форме слова, а символические — в устойчивых формулах речи. Вспомним примеры типа обаятельный—обворожительный. Даже роковой в этом случае еще продолжает развитие русского первообраза, тогда как всякие пикантные уже слишком гастрономичны для русской ментальности.
Собственно имя
В этом отношении интересны также русские личные имена. Уж они-то точно представляют собою образные понятия, в которых сохраняется первообраз смысла, хотя бы и в искаженном виде. Например, Владимир не «владеет миром», а «владеет мерой»: исконная форма Володимѣръ.
Но одновременно личные имена в своей системной совокупности являются и понятиями.
В звучащей речи они предстают как паспорт лица: указаны национальность, вероисповедание, место рождения и принадлежность к определенной группе — к семье и роду (фамилия). Логическое следование имени — отчества — фамилии отражает метонимический результат растягивания исходного имени: имя собственное — имя семейное — имя родовое. Александр Сергеевич Пушкин. Среди старинных фамилий еще часты формы родительного падежа, указывающие принадлежность к роду: Дурново, Сухово — из рода Дурновых, Суховых, ср. и книжную форму того же падежа типа Живаго, Мертваго. Также и сибирские формы множественного числа: Сухих, Черных, Чистых и прочие. Более поздние фамилия указывают и место происхождения, при этом иногда сохраняя и родовой суффикс: Осип-ов-ск-ий, Петр-ов-ск-ий. Суффикс -ов- указывает на принадлежность к роду, суффикс -ск- к местности.
Четко расписан ритуал вызывания имени, чтобы назвать лицо. Не одно и то же сказать Саша, или Александр, или Александр Сергеевич. Можно сказать Александр Пушкин, но затруднительно Алексей Толстой: Алексей Константинович и Алексей Николаевич все-таки разные, известные на Руси, писатели. Если совпадали все три имени, добавляли: Второй, Третий... Старший, Младший... Например, в роду Романовых Константин Константинович Старший и Константин Константинович Младший. Важна и традиция. Можно сказать Александр Македонский (родом из Македонии), но Александр Филиппович Македонский скажет разве что юмористический герой.
Родовые и семейные имена русские люди получали по великой государевой милости, да и не все разом, а по численному порядку, по «месту» в иерархии. Сначала семейные — по отчеству — получили князья: Юрьевичи, Ольговичи, Всеволодовичи и прочие владетельные; затем — бояре, потом — дворяне, заморские гости-сурожане (торгующие с иноземцами), купцы простые — уже при Петре I, и т. д. Потом стали известны имена родовые, тоже поначалу у родовитых, главным образом выходцев из Литвы, из Орды, из чужеземных краев. Иначе просто не признали бы их, пришедших из-за порубежья: чьих вы будете? Многие родовые, по прозвищу или профессии дедов, по дедине, кажутся непочтительными: Кобыла, Лапоть, Баба... Но это прозвище, а прозвище, пусть и худое, все же лучше, чем звание по расхожей профессии: Поповых да Кузнецовых эвон сколько, а Кобылиных? А Сухово-Кобылиных?
Постепенное отдаление семей и родов друг от друга и в произношении требовало какой-то отличительной меты. Того же «знамени», которым знаменуют единство полка в его победах и поражениях, или знака, которым метят свою собственность. Анна Вежбицка отметила одно отличие русских личных имен от американских, «более демократических». Русский взрослый мужчина отзывается на Ивана Ивановича, американец откликается и на простецкое Джон — в любом обществе, не только среди близких. Более того, говорит Вежбицка, уменьшительные русские имена получают форму женского рода, они как бы смягчаются, становятся «более домашними», возвращая взрослого мужика в детство. Борис — Боря, Дмитрий — Митя, Станислав — Слава... Конечно, это не уменьшительные, а сокращенные имена, потому что (автор этого не знает?) уменьшительным нет числа: Славка, Славочка, Славчик, Славунчик... Между прочим, в России еврейские фамилии восходят к сокращенным личным именам. Не Борисов, а Борин, не Дмитриев, а Митин, не Станиславский, а Славин и т. д. Когда такие фамилии давались, они и воспринимались как «уменьшительные».
В англо-американской практике обращений (не имен!) возможны формы типа Боб вместо Роберт, Дик вместо Ричард, Алекс вместо Александр, Билл вместо Уильям и т. д. Вежбицка в простоте своей полагает, что такими и должны быть энергично-мужские, мужественные имена, в отличие от «женственных» русских Ваня, Саша и прочих. Оказывается, американские обращения не только демократичнее, но еще и мужественнее. К тому же они и короче — единственное условие, признаваемое в сфере делового обращения. Тем более, что и американцы говорят (даже в отношении к президенту) Джонни, Джимми, Томми, да и русские не употребляют «женственных форм» в официальном общении. Правда, демократия потребовала своих издержек, так что и у нас начинают обращаться к кому-нибудь Влад! — получая требуемое «дополнительное мужское значение», но утрачивая при этом ясность. Кто этот Влад — Владислав, Владимир? Лицо скрывается за пустым звучанием, образа не имеющим. Для русского человека сокращенное имя типа американских — не имя, в «котором все есть», а кличка; так зовут и поросенка или щенка.
Основное предназначение имен в том, что русское именование открывает человека навстречу общению, сообщая о нем по возможности все, что необходимо для первого знакомства. Распахнутость души — это надо ценить, и в ответ самому отнестись к разговору столь же откровенно.
Продолжая рассказ, мы еще не раз коснемся многих сторон языка, которые отражают именно образно-содержательный его аспект. Русские неокантианцы, приступая к изданию журнала «Логос» (1910), в первом же томе на первых страницах обозначили «основное противоречие русской мысли — противоречие сознаваемой цели и подсознательного тяготения». Осознаваемая цель — это, конечно, лелеемое авторами понятие, «подсознательное тяготение» — к образу. Построение понятий невозможно без образов (об этом и Кант говорил), создание знания — без сознания, общего — без личного, и т. д. Обилие уменьшительно-ласкательных и грубо-осудительных слов, которые постоянно множатся в лексиконе самых разных слоев общества, подтверждает ту мысль, что движение к логически-строгому понятию, способному удоволить всех, начинается с лично освоенного словесного образа традиционной русской речи.
Символика понятий
Не только словесный образ способствует кристаллизации понятия в русском слове. По мнению Семена Франка, «голое понятие» способно убить религиозный опыт, а Василий Розанов полагал, что вряд ли только понятие есть единственная категория мышления: «В какие логические формы может быть уловлено чувство радости, которое мы порою испытываем?» [Розанов 1990: 135].
И образ, и понятие одинаково представлены в слове, но не только они обретаются в нем. Зинаида Гиппиус записала в дневнике: «Любить, может быть, слишком глубокое слово для нашего теперешнего сознания: ведь чтобы полюбить — надо раньше понять и еще раньше захотеть понять» [Гиппиус 1999, 1: 269]. «Захотеть» через личный образ «понять» понятие... но «любовь» — не понятие и не образ, это образное понятие, то есть символ. Символ как особая форма знания замещает в слове и личный образ, и логическое понятие, обозначая одно — указывает на другое. Символ в полной мере уже не предметность «вещи», а идеальность «идеи».
Например, представления о равенстве, справедливости, правде являются целиком идеальными, они определяются известной идеей, а не опытом жизни. «Опыт не дает нам ничего, кроме неравенства» — ведь люди различаются по своим способностям и действиям. То же относительно правды-справедливости. Поэтому и равенство «есть не более как метафизическое требование во имя мыслимой сущности» [Чичерин 1998: 89]. Борис Чичерин добавлял к этому, что в XIX в., когда все метафизические понятия подверглись отрицанию, идея правды вместе с другими была сдана в архив. Таково требование номиналистов-эмпириков вообще, они готовы «сдавать в архив» все идеальные символы человеческой жизни.
Отличие природного «реалиста» от номиналиста в том, что он почитает идеи общего (сущностного) содержания по крайней мере наравне с противоположным им жизненным опытом. Он верит в достижение равенства, справедливости и правды. Таков русский человек. Вот о нем уж не скажешь, что он смешивает свободу (тоже «метафизическое начало») с волей (проявлением свободы в жизни), и потому он никогда, например, не станет подменять «метафизические идеи — прагматической пользою», когда «основным началом права признается интерес» [Там же: 80]. «Очарованный странник» живет не житейским «успехом», не животным «интересом», не материальной ценностью, а идеей. «Человек, взыскующий смысла» отвергает житейскую бренность мира — вот в чем особый тип современного ratio: рациональность по ценности, а не по цене [Василенко 1999: 81].
Образ в слове представляет признаки значений; говоря стол, мы выражаем признак настила, настланного, столешницы — вот содержание понятия о столе.
Понятие является в слове, когда кроме признака мы знаем объем понятия (все типы столов, возможные в природе или известные на основе личного опыта).
Символ замещает понятие в целом, но главным образом он имеет дело с объемом понятия, это для него важнее. Престол — тот же стол, но в символическом смысле (трон).
Целостность представления возможна в символе замещения, образность мысли и понятность вещи сливаются в цельности символа. Символ по-русски прост: «Чтобы выносить что-то и создать, русский должен чувствовать, любить и созерцать, иметь пред собою живой (одновременно чувственный и сверхчувственный) образ» [Ильин 6, 2: 578]. Такой образ, соединяющий «чувственное и сверхчувственное», и есть символ.
Слово — тоже символ. Слово создает эту цельность мысли. Не «дискурс» в речевом потоке, а именно слово. Для русской ментальности слово важней предложения.
Платон (и русский реализм) исходит из цельности слова, Аристотель (и западный номинализм) — из суждения, в дискретности предложений развивающего мысль, уже заложенную в слове.
Реалист выявляет ряд аксиом, последовательно воспроизводящих слово- символ [Лосев 1982: 83 и след.):
1. Общая аксиома сознания: всякий языковой знак есть акт человеческого сознания — проживания.
2. Аксиома переживания: всякий языковой знак есть результат определенного переживания той или иной предметности.
3. Аксиома понимания: всякий языковой знак есть акт понимания той или иной предметности.
4. Аксиома предикации: всякий языковой знак есть предикация того или иного понимания обозначаемой предметности в отношении самой этой предметности.
5. Аксиома языковой валентности: всякий языковой знак есть акт человеческого мышления, отражающего ту или иную систему смысловых отношений в мыслимом им, но независимо от него существующем предмете.
Вот последовательность включения мысли в опыт жизни посредством слова — скольжение от цельности идеи к конкретности вещного мира.
«Этот процесс можно назвать процессом сгущения мысли; он производится не только при помощи поэтических произведений, не ими одними, но между прочим и ими (в образе. — В. К.). В виду этого можно положительно сказать, что поэтическая деятельность мысли есть один из главных рычагов в усложнении человеческой мысли и в увеличении быстроты ее движения... Искусство вообще, в частности поэзия, стремится свести разнообразные явления к сравнительно небольшому количеству знаков или образов, и им достигается увеличение важности умственных комплексов, входящих в наше сознание...» [Потебня 1894: 97—98].
Святая правда: системность мышления усиливается благодаря созданию все новых обобщенных образов мира.
Русское понятие
«Опредмечивание мира» в русском слове осуществляется многими средствами языка. Обычно это происходит путем создания имени существенного (существительного), например, с помощью суффикса -к-, который способен образовать имя от любой части речи, начиная с глагола (перестроить—перестройка) и кончая наречием или частицей (авось—авоська).
Одновременно это суффикс уменьшительности, так что всё, явленное в предметности (вещности, телесности), немедленно уменьшается в размерах, принижается до малых степеней. Древнерусские полновесные чара, чаша, вила, дева... становятся чаркой, чашкой, вилкой, девкой, то есть по смыслу своему чарочкой, чашечкой, вилочкой, девочкой...
Опредмечивается не мир — мир предметен; опредмечивается идея в мыслимом образе мира. Тут возникают два пути: логико-терминологический и образно-символический. В первом случае — однозначность (поверхностное значение), во втором — многозначность несводимых к общему виду значений (глубинный смысл). В отличие от языков западных, русский выбрал второй путь. Его понятие есть символ. Иначе не должно быть у народа, исповедующего жизнь как основную категорию бытия: «Жизнь усекается понятием», — говорил Павел Флоренский. Понятие омертвляет.
Тут уместно указать проблему, которой в последние годы жизни был озабочен великий филолог, один из основателей современной лингвистики Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ. В год его смерти (1929) на немецком языке вышла последняя его работа, как бы завещание, «проект» исследований в области научной филологии (сегодня это «гендерная лингвистика» — об этом еще скажем).
Здесь он, в частности, писал о сексуализации человеческой мысли, через категории языка претерпевшей многие изменения.
Грамматическое различие по роду передает творческую силу в различные области поэзии, искусства, культуры и даже науки. Все мы в подсознании чувствуем зависимость от рода имени, которым названа вещь, а точнее — идея вещи. Например, во всех языках война или смерть обозначены словами женского рода, «чем пользуются художники» в своих целях, но «родина», во многих языках тоже слово женского рода, во французском может быть мужского, в русском и немецком — среднего (das Vaterland, Отечество) (добавим: Родина, Отчизна). То же различие и в названиях по национальности [Бодуэн де Куртенэ 1929: 262—263].
Снабжение каждого имени знаком родовой принадлежности — кошмар, «эротический грех», мучение языка: «сексуальная идея полонила сознание». Средневековье, которое в своем вербальном мышлении исходило из слова, было охвачено «эротической мистикой», а борьбу с языковым сексуальным искушением и галлюцинациями на этой почве описывают многие легенды (о святом Антонии, об отце Сергии). «Эротический грех вызывал наибольший ужас и отвращение, и грамматический род тут играл особую роль, усиливал, вызывал эротическую мистику», особенно у аскетов [Там же: 269]. Сексуализация (головного) мозга, перемещение сексуальной жизни в голову с одновременным усилением самого чувства стала основой рыцарского служения «даме сердца», вызвав, между прочим, лирическую поэзию — явленность чувства в слове. Множество психопатических искривлений сознания происходило в то время, но такая же точно «эротическая мономания» в искусстве и науке совершала чудеса, в сублимации чувства создавая немеркнущие в веках духовные ценности.
С подобным «языковым уродством» (выделены слова Бодуэна де Куртенэ, по предкам — француза) стали бороться различным образом, в том числе и с помощью языка. Во многих европейских языках исчезла категория среднего рода, а культурная атмосфера, сгущая словесные формы выражения реальной сексуальности в отвлеченность идеи, привела к известному ныне «освобождению от кошмара секса» — путем его распространения в жизни. Русская женщина (над ней смеялись), сказавшая, что «в России секса нет», была абсолютно права. Права в том смысле, который так важен для Запада: такого «секса» действительно нет; сохраняется, во всей своей силе, русский символ любовь, который своей многозначностью очищает мирские, вещные, телесные по простоте значения понятия ‘секс’.
Тут сразу же возникает и «вопрос о гигиене нашего русского языка», как заметил Петр Бицилли. Вообще «возникновение национальной литературы кладет известные пределы дальнейшему развитию языка», он становится «мертвым», поскольку длительное накопление языковых средств приводит к крайнему изменению, и «количество здесь переходит в качество» [Бицилли 1996: 605].
Литературный язык, по определению — язык интеллектуального действия, есть язык с предпочтением гиперонимов, слов родового смысла, с помощью которых легко построить суждение, то есть мыслить логически. Тем самым литературный язык отличается от языка литературы (Петр Бицилли не прав, смешивая их). Пока в России останутся талантливые поэты, чувствующие слово, будет развиваться образная глубина языка, — ведь символы, заключенные в его словах, по смыслу своему неисчерпаемы. Литературный же язык устремлен к понятию, им насыщен, дышит его испарениями. Его утеха — логические операции: Жучка — это собачка... Собака есть животное... Животные — это флора... Вот и дошли до предела, до «масла масляного»; это и есть идеальный случай с точки зрения логического закона тождества: Л=Л, и чего же больше?
Язык становится мертвым, когда от него остаются одни лишь классические тексты, которые требуют истолкования, и когда на языке говорят лишь ученые (мечта современных «сциентистов»). Примеров много: вот латинский язык. Его смысловые корни, лишенные цельности народного образа, используются для новых понятий науки, но сам по себе он мертв.
Дело в том, что за понятием можно скрыть непонятое беспонятие, еще не обретшее точности идеи, а вот за символом — нет.
Расширение понятия
Символическое значение возникает в слове в сочетании с типичным признаком, который мысль приписывает данному объекту, и когда такое сочетание превращается в идиому, скрытый смысл выражения становится ясным, но вместе с тем требует истолкования — а это тоже важный признак символа. Вот старинные речения типа добрый молодец или красна девица. Нужно знать исконный смысл каждого имени отдельно, чтобы восстановить песенную символику данных выражений, и не все на это способны. «Внутренняя форма» слов утрачена, затерта временем. Помогает «расширение» смысла. Мо́лодец здесь не просто молоде́ц, а молодой человек, начинающий свой жизненный путь, крепкий и здоровый, способный завести семью. Де́вица также не просто деви́ца, в ней подчеркиваются те же признаки красоты и здоровья. Добрый в смысле добротный, крепкий, во всех отношениях справный. Красная — красивая, даже пре-красная, то есть добротная, крепкая, в возрасте невесты.
Белый дом, желтый дом, большой дом, модный дом, торговый дом...
В Средние века был просто Дом — это все жители его, всё хозяйство под общим кровом и во владении хозяина. Тот самый Дом, о котором сказано: «Чума на оба ваши дома!» Современные обозначения совершенно иные. Указания на людей и хозяйство даются по внешнему признаку, а это уже чисто символический прием шифрования смысла высказывания. Не то, что старинный белый свет — он-таки белый, что золотое солнце — оно ведь оранжевое, или что великий князь, который в ряду всех прочих действительно набольший.
Дело в том, что современное наше сознание уже не извлекает типичный признак из ключевого имени, а приписывает имени признак почти случайный, выдавая его за сущностный.
Роль определения чрезвычайно важна, ему придавали особое значение. На протяжении всего Средневековья «прилагательное остается производным существительного» [Карсавин 1997: 21]. Именно о таком прилагательном академик Алексей Веселовский сказал когда-то, что «история эпитета есть история развития человеческой мысли вообще». Суждения, вынесенные из русской ментальности.
Но именно в отношении к определению — прилагательному — эпитету наметилось много расхождений между народным русским и литературно-книжным языком. Народная речь (и словесность) предпочитала постоянный эпитет, с помощью которого легко можно истолковать традиционный символ. Что такое свет — божий свет? Да это светлый свет, а еще точнее — белый свет. Письменная (искусственная) речь особо ценит идеальный эпитет, желательно метафорический, прежде неизвестный, авторски выдуманный. Белое безмолвие, белое братство и так далее. Расхождение между высоким и низким стилями речи дополняется еще позицией нормативного языка (среднего стиля), преимущественно профессионального, связанного с публицистическим или научным стилем. Такой стиль требует точности понятия и потому, в отличие от двух предыдущих, предпочитает реальный эпитет, с помощью которого уточняется содержание понятия. Сравним:
белый свет — выделение сущностно типичного признака,
белое безмолвие — выделение идеально мыслимого признака,
белый дом — выделение реально внешнего признака, который, тем не менее, становится идеальным и типичным в известных обстоятельствах (Белый дом — резиденция президента или дом правительства).
Если количество (объем понятия) выделяется на основе предметности, то качество проявляется в результате действия, оно осознается в процессе преобразования. Например, древнерусские обозначения больших чисел сорок, сто, копа, тысяча и др. образованы от имен, обозначавших конкретные предметы. Напротив, горети > горе > горький; беда > бедный; горе не беда > горькая беда; любовь да ласка > любовная ласка и т. д. От чего может зависеть различие между реальным и идеальным признаком, показывает сравнение двух поэтических строк:
у Жуковского:
Ах! не с нами обитает…
гений чистый красоты
у Пушкина:
как мимолетное виденье,
как гений чистой красоты
Чистый гений и чистая красота не совсем одно и то же: гений точно гений, а красота — непорочна. Многосмысленность древнего славянского слова чист помогает создать и тот и другой образ, но в различных проекциях его предъявления. Без определения исчез бы поэтический образ.
Количество не столь важно в быту, но имеет сакральное значение; почти все числа символичны. Качества, напротив, существенны в восприятии мира, они подвижны и легко заменяют друг друга. Смысл познания состоит в том, что изменяются, уточняясь, всё новые и новые признаки определения — содержание понятий.
В романских языках прилагательные обладают большей предикативностью, способствуя указанию на новое качество (они рематичны — выступают сказуемым о предмете), в русском же языке они, и особенно полные прилагательные, обозначают скорее признак постоянный, следовательно, участвуют не в образовании суждения, а в создании понятия.
Вот испанские фразы:
Una casa nueva — новый дом = дом нов (здание построено)
Una пиеѵа casa — новый дом (новое жилье)
Одновременно с изменением позиции в отношении к имени происходит изменение смысла; прилагательное перед именем указывает на постоянство признака, и это уже не просто здание, а отвлеченно жилье.
В русских высказываниях дом нов, дом новый (здание новое) и новый дом — (новое здание) смысл не изменился, но характер сообщения уже иной. Сначала сказано о новом, а затем — о здании. В первом случае — с утаенным неопределенным артиклем (в русском языке формально артиклей нет), во втором — как бы с определенным артиклем.
Метонимическая глубина русского имени в высказывании не раскрывается, как это имеет место в романском языке. Для этого нет оснований. Метонимия связана с передачей объема понятия, а он собран в словесном знаке и за его пределы не выходит. Чтобы выявить подобные объемы — предметные значения слова, — необходимы дополнительные классификаторы речи, с помощью которых можно выделить метонимические доли слова. В русском языке для этого используются местоимения, тоже своего рода артикли. Сравним слово дом в сочетании с разными местоимениями: этот дом — это здание (дом стоял на горе); мой дом — мое жилье (кров: мой дом — моя крепость); весь дом — все домочадцы (всё смешалось в доме Облонских); свой дом — свое хозяйство (дом вести — не лапти плести); и т. д. Метонимический ряд со-значений выявляется в последовательности смежных определителей: здание > кров > домочадцы > хозяйство.
Русский язык богат определениями, они различаются по качеству и отношению к предметному слову:
дом отца — принадлежность дома-здания; отцов дом — относительная принадлежность (кров);
отцовский дом — относительность отношения (домочадцев — к крову и хозяйства — к зданию).
Земляной, земельный, земной, земский... Мирный, мировой, мирской... Все это относительные прилагательные, но по смыслу они различаются, выражают разные типичные признаки «земли» и «мира». Такие признаки вычленялись сознанием в определенные исторические моменты, когда именно они казались проявлением сущности земли или мира.
А кроме относительных есть еще качественные, они не только обозначают признак, но одновременно содержат в себе его оценку, отчего у них становятся возможными степени сравнения: красный, краснее, краснейший...
Разработанность области определений в языке, особенно в категории имен прилагательных, не случайна. Это отражение особо важного для русской ментальности содержания понятий.
Соотношение объема и содержания понятия в словесном знаке известно философам, оно извлечено из категорий и форм самого языка. Философы говорят, например [Риккерт 7], что сочетания типа зеленое дерево выражают представление о явлении в виде атрибутивной связи слов, а дерево есть зеленое (дерево зелено) — дерево дается сущим как зеленое: это уже суждение о сущности (идее). Та же мысль излагается Александром Потебней — на русских примерах. Язык различает сущность в предикативно-логических и явление в атрибутивно-психологических формах, но в русском языке такое различие проведено четче, ибо: белый дом — стремится к смысловому синтезу в виде переносных значений; дом бел — всегда аналитично, переносные значения не развиваются, между частями формулы либо связка есть, либо ритмическая пауза (на письме тире).
В первом случае соединение содержания и объема, во втором они разведены. Сознание в виде мышления (одновременно и представление, и суждение) направлено и на явление, и на его сущность, но, кроме того, важно следующее: понятие как явление концепта (Генрих Риккерт называет это «долженствованием») отталкивается от суждения. В суждении мы находим содержание понятия, а в понятии его опредмечиваем как предметное значение (объем понятия): дом — бел — нашли содержание, белый дом — устоялось понятие.
Во всех случаях мы имеем общее направление семантического обогащения слов — от вещи, а не от признака. Восхождение к идеальному начинается на грешной земле — в миру.
Воображение мысли
Образность русской мысли проистекает из особенностей слова, которым пользуются для ее оформления. «Мысль направлена словом», — справедливо утверждал Александр Потебня.
Преимущественная особенность русского слова в том, что с постоянной неизбежностью оно порождает переносные значения, основанные, впрочем, на корневом смысле концепта — на словесном образе. Мы встретим такую способность русского слова во многих примерах.
Настоящий одновременно и настающий для будущего, и действующий сейчас, а потому и действенный, а значит, и действительный — подлинный... В определенном уточняющем контексте, который исполняет роль «вещи» (он облекает смысл в явленность формы), сознание отслаивает от общей идеи отдельные со-значения, и в горниле словесного знака отливается новая, необычная мысль, которая попадает в изложницу текста и речи, застывая там афоризмом или метким выражением, впечатанным в язык на века. Речь и текст непостоянны, текучи, меняются от человека к человеку, от момента к моменту, и потому создается впечатление, будто русская мысль бесформенна и невнятна. Дело вовсе не в том. Русская мысль предстает всегда разной, не повторяясь в формах; наяву творясь — она со-творяется.
Сравним суждения, основанные на русских предложениях: Иду. — Он идет. — Ему идет.
Первое нарушает метонимическую смежность слов (я иду), возникает суждение без формального субъекта, без я. Третье метафорически нарушает сходство сопряженных форм, дательный ему не адресат действия, но субъект такого действия; и здесь суждение без субъекта, но только по смыслу, потому что формально он представлен (ему). Происходит постоянное смещение объема и содержания понятия; содержание обращается в объем, и наоборот.
Среднее суждение нормативно, стилистически нейтрально, оно правильно передает мысль, не воспаряя в метафору и не сжимаясь в классический лаконизм суждения: «Иду на вы!» — воинственный клич Святослава.
Призыв следовать логике равнозначен требованию отменить и высокий стиль классической фразы, и празднично-яркую разговорную речь, которая — в нашем случае — может завершиться задорным ответом-согласием на предложение к необычному действию:
— Идет!
Перевод словечка на другие языки, быть может, займет несколько строк, но... «своим ничего не надо доказывать!».
И вот еще что.
Язык синтетического строя, каким остается русский, по существу своему направлен на свободу аналитических операций в мысли. Синтетический язык нельзя исследовать аналитически, предупреждал нас Потебня, и в своих четырехтомных «Записках по русской грамматике» сам никогда не анализировал славянского предложения; он истолковывал предложение герменевтически — так, как толкуют символ.
Падежная система русского языка — это целый мир соответствий, который постоянно держится в памяти как источник возможных перекрестных соотношений, то и дело возникающих в момент речи. Каждая форма как бы «распята» на кресте идеальных, помысленных соответствий:
В горизонтальном ряду — соответствия по категориям, в вертикальном — по формам в парадигме склонения. Каждое сопоставление мысленно снимает с неопределенно-синкретичной формы кости какой-нибудь один грамматический смысл, всё более уточняя единственность данного конкретного значения. И тогда становится ясным, что данная в точке скрещения форма кости — не множественного числа, не именительного падежа, не мужского рода, не первого склонения, а... (и следует утверждение) перед нами имя третьего склонения, женского рода в форме родительного падежа единственного числа. Апофатическими отрицаниями в метонимической смежности форм мы получили искомый ответ и теперь уже можем воскликнуть вслед за простодушным отроком: «Ну!» — утверждая справедливость построения формы в прицеле смысла.
А каждое включение формы в конкретный контекст способно извлечь из слова добавочное значение, — быть может, еще неведомое, но вместе с тем абсолютно понятное всем без обсуждений. Такое значение понятно, потому что искони содержалось в свернутом виде, в идеальном образе слове, и только теперь про-явилось в самостоятельной форме, в оправе кон-текста.
Вот почему в языке исчезают старые формы и возникают новые.
В древнерусском языке, например, указание на время действия можно было передать самыми разными грамматическим формами одного и того же слова: местным падежом пространственного значения зимѣ, предложным падежом активного действия по зимѣ или неопределенным по смыслу творительным времени зимою. Сегодня в нашем владении только последняя, третья форма, потому что — и это понятно — в общем со-знании происходило уточнение и обобщение идеи времени. Представление о времени отслоилось от пространственных его наполнений, а затем разошлось и с указанием на действие, на движение, которым измерялось время, — и вот оно перед нами в сегодняшнем, вполне отвлеченном от конкретности, виде: зимой.
Примеров такого рода множество; собственно, из них и состоит русская морфология, насыщенная смущающими нетвердые души «исключениями» из правил. Но «правила» — это логика, ищите ее в другом месте; у нас же правит язык.
Так оказывается, что развитие мысли идет не от фразы к фразе, не в речи, не в конкретном «дискурсе». Мысль мужает в языке, откладываясь в грамматических категориях. История — да! история логична, как логична в своем развертывании идея. Конкретность вещи не вправе с ней спорить, опровергая ее, ибо вещь преходяща. Об этом и слово славянофила, сказавшего так: «Рассудок зреет в человеке гораздо легче, чем разум» [Зеньковский 1955: 85] — но разум есть сущность, а сущность — не в вещи.
Сущность в идее. И потому нам следует «прежде всего одолеть соблазн рассудочного формализма» [Ильин 1: 295].
Вернемся к упрекам в том, что русская ментальность страдает «отсутствием формы», «образным мышлением», впадает в «интуитивизм» и прочее. Всё перечисленное — вовсе не пороки языка и мысли, но и не добродетели русской ментальности. Это просто другая ментальность, которая не так уж и чужда Европе. Понять это можно по преобладанию в той или иной культуре философских пристрастий. Например, русской ментальности близко лейбницианство (Лейбниц по происхождению славянин), а философия этого ученого связана с истолкованием момента выхода из монады-концепта в первоначальную форму — в образ. «Отсутствие формы» предстает как гармония еще не порушенного концепта, который явлен (и понимается) как суть идеи, вещи и слова. Готовых понятий еще нет, они постоянно воссоздаются путем слияния родового (культурного символа, данного в слове) с видовым, каждый раз оригинальным и новым (субъективно-интуитивный образ в том же слове). Конструирование «понятий» происходит безостановочно и потому не может быть законченной их системы. Система предстоит в свернутом виде, как семантическая синкрета концепта в живой цельности смысла.
Но отсюда же возникает и отмечаемое многими русское стремление к практическому приложению идей. Идеи вообще признаются лишь действенные, действительные, они непременно должны воссоздаваться в жизненном потоке действительности. Идеи всегда уже есть, их не нужно выдумывать (русская «нелюбовь к абстракциям»), ими следует осветлять и жизнь («этическое выше гносеологического») в конкретном вос-про-из-вед-ении концептов (пресловутый психологизм русской ментальности).
Бесформенность сущего
Заметной особенностью русской ментальности является избегание законченных форм. «Русские совсем почти не знают радости формы», так что «гений формы — не русский гений» [Бердяев 1918: 63]. Никакое культурное движение в защиту «чистой формы», структурализма, формализма неприемлемо, что удивляет западного человека, в выразительности формы усматривающего содержательность смысла. Многие русские писатели попросту непонятны на Западе, и именно по этой причине. «Иностранные наблюдатели не подметили того, что форма есть и у нас — только это другая форма. Может быть, даже форма, находящаяся несколько в другом измерении» [Солоневич 1991: 273].
Андрей Синявский говорил, что Розанов в высшей степени национален «в своей бесформенности». Русский национальный гений состоит именно в «бесформенности», что проявляется и в жизни, и в культуре. В этом и преимущество, и недостаток русского сознания. Но причину видят в одном: «бесформенность связана с нашей духовностью, ибо дух не имеет формы, как об этом говорит и Розанов. С той же бесформенностью связана и широта русской натуры, и стихийность русской души... Но с другой стороны, поскольку нам не хватает именно внутренней формы, внутренней структуры, мы, чтобы не расплыться и не рассеяться ветром, держимся подчас сильнее других народов именно за внешнюю форму как за какую-то узду или коросты. Отсутствие внутренней формы возмещается формой внешней» [Синявский 1982: 197].
Вряд ли верно, что внутренняя форма есть внутренняя структура. Форма оформляет содержание, тогда как структура (не избежать банальности) структурирует пространство. Для русского сознания внутренняя форма слова имеет первостепенное значение. На ней крепится символ, ею определяется содержательный смысл слова — она структурирует духовность. Русский человек не разбрасывается словами попусту; и не случайно столь развиты у нас народная этимология, игра словами, всякие парадоксы, основанные на переосмыслении коренного значения русского слова. Особенно много такой языковой игры в произведениях народной поэзии. Иногда «освеженная» внутренняя форма слова дает начало новому символу. Вот пример.
Старинное выражение на курьях значит ‘на заводи, на старице (реки)’, а на корных — ‘на обкорнанных, обрезанных’, на курных ‘задымленных’ (курные избы — дома без трубы, дым очага курится по полу). Соединение всех трех выражений позволило объяснить утраченное первое (‘домик на сваях’) и создать известный символ народной сказки: избушка на курьих ножках, в котором Баба-яга растапливает свою ужасную печь. Внутренняя форма организуется словом — равным образом и пространство души структурируется идеей. «Форма есть деспотизм идеи, готовой разбежаться», — говорил Константин Леонтьев, и смысл его слов искажается, если не привести их полностью (как и поступает Синявский [Синявский 1982: 297]).
Иллюзия отсутствия внешней формы объясняется и различным пониманием формы. Форма как норма и стандарт непонятна русскому: нормализация обедняет возможности выражения и насилует волю. Она, действительно, «структурирует», но делает это извне, со стороны — принуждением. А всякое понуждение ненавистно русскому человеку. Характерный исторический пример. Постоянная забота государственных органов добиться абсолютной грамотности путем механического овладения «нормами русской орфографии» никогда не достигала даже относительного успеха. Любой школьник всю школьную науку проклинает прежде всего за насильное внедрение «структурирующих» живое его ментальное пространство письменных норм. Подобное внедрение вообще опасно, потому что одновременно вызывает отвращение и к самому языку — главному хранилищу категорий родной ментальности.
Сущность формы
По-видимому, говоря об отсутствии формы, имеют в виду формализацию знания, уже готового, полученного и осмысленного. Если структура структурирует, а система систематизирует — форма формализует, но как таковая она и неприемлема для русского сознания. Западный рационализм есть «системоверование» (Флоренский), и для него порождение схем — дело привычное. Русская мысль все время в поиске, любое затвердение в схему она воспринимает как остановку процесса. Для нее важно не готовое знание, но постоянное познание творческим сознанием. По этой причине у русских и присутствует постоянное колебание между бесформенностью (в этом внешнем смысле) и «анархической радостью разрушения сложившихся форм» — в эмпирической жизни [Франк 1996: 199].
Форма сама по себе ничего не значит. Содержание творит свою форму. Смысл порождает форму. Но душевное чувство, которое такой смысл схватывает, овладевает в восприятии целой «вещью», а не отдельными признаками, с помощью которых «структурируют форму» в сознании. И отсюда также возникает впечатление «бесформенности», рассыпанности, восточной несобранности русского представления о «форме». Все дело в том, что «мы жаждем прекрасных форм и умеем любить их как никто» [Вышеславцев 1995: 121], а если прекрасных форм в наличии нет, «мы все стремимся, если возможно, обойтись готовыми формами, потерпеть и лучше ничего нового не вносить» [Касьянова 1994: 260]. Потому что мечта об идеале всегда остается недостижимой мечтой, и не всякая внешняя форма идеал заменит.
«Бесформенность русской мысли» определяется основным элементом мысли. Это образное понятие — символ, поскольку уже и само слово — тоже символ.
Всегда ощущается попытка проникнуть в содержательность идеи, или, иначе, концепта: о монадах первосмысла говорят все русские философы, независимо от того, что они думают о «монадах» Лейбница. Но каждая попытка проникнуть в содержательность концепта есть либо выход из концепта — в образ, либо возвращение в концепт посредством вызревшего культурного символа [Колесов 1999]. В первом случае имеем процесс оформления идеи в образ, во втором — процесс преображения идеи (символ — миф). Одинаково отрицая Канта, русские философы даже стилистически не всегда отличались от писателей. Трудно установить, где Лев Толстой или Достоевский писатели, а где они же — философы. Точно также Бердяев или Розанов, даже Соловьев — где они поэты, а где — философы? Происходит это не по неопрятности неприкаянной и обесформленной русской мысли, а путем постоянного метания такой мысли между далеко расходящимися в разнонаправленных движениях «дугами» идеи и вещи, приземленной вещи и воспарившей идеи. Одни склоняются перед вещью — другие воспаряют к идее. Предпочтение одного другому способно вызвать неправильное представление об «изменении» философской позиции, взглядов, идеологии и т. п., что не раз и случалось с русскими философами. «Впадение в протестантизм» приписывали Хомякову, в католицизм — Соловьеву, о гностицизме или манихействе Бердяева говорили все кому не лень, как и о нравственных метаниях Розанова, и даже основательного С. Булгакова заподозрили в арианской ереси, когда он, вслед за Соловьевым, возвел Софию в ранг Четвертой Ипостаси. Однако все это — проявления интеллигентской тоски по идее, с движением к разуму от самого разума, движением, восполнявшим недостатки в осмыслении мира и человека от чувства.
Соображая всё это в единстве, невозможно отделаться от впечатления, что подобное раздвоение мысли — диалектическое ее со-творение — есть исторически оправданное о-сознание себя в мире. Осознание, проведенное и представленное дробно-аналитически, потому что и разум действует аналитически, в отличие от чувственных синтезов явленного мира.
Что же касается природной русской мысли — «народной мысли», — то она в принципе амбивалентна. Направленная Логосом-словом, она «ширяется» в просторах между идеей и вещью и страшно озабочена тем, чтобы сблизить далеко разбежавшиеся стороны, сведя их в единую линию, — ввести в гармонию лада.
Мы уже замечали не раз, что в русском интеллектуальном усилии всегда присутствует как бы две силы. С одной стороны — устремленная к идее, с другой — к миру (к вещи). Две формы языка — литературного и разговорного — ведут к тому же: они разводят сознание в сторону идеи или вещи. Мысль оказывается разведенной между двумя языковыми формами мышления, и от того мысль также кажется неоформленной. Но только кажется, потому что параллельно идут два важных процесса: термино-понятийное мышление на мирском уровне и символически-высокое мышление — на идеальном. Никакая научная форма изложения не в силах соединить два потока, внешне не связанной, мысли — только форма художественная, только образ и символ. «Поэт в России больше, чем поэт...» Например: «Проза Розанова строится на соединении мгновенного и вечного. Отсюда и такая широта, возвышенность, одухотворенность его текста, и в то же время крайняя его заземленность» [Синявский 1982: 235]. Это крайний случай русской афористичности, символически изъясняющей земное через идеальное — и наоборот. Да и афоризм — разве это не форма? Лаконизм символа в энергии глагола.
Разве в том беда наша, что извне, со стороны образ представляется бесформенным понятием? Обычная подмена понятий, присущая чисто логической форме мышления.
Оформленность содержания в принципе есть завершенность процесса порождения форм и исчерпанность идеи — что невозможно себе представить, исповедуя цельность жизни и признавая духовность высшим мерилом формы.
Следовательно, нужно идти и идти — встречь солнцу. Нужно творить, а уж потом — доделаем...
«Материя исчезла»
Миф о бесформенности, неоформленности русской мысли настолько распространен в зажатом «логицизмом» западном мире, что обрушивается и на самого русского, внедряя в его подсознание новый комплекс неполноценности. Напрасно и, скажем сильнее, — зря. Отсутствие той формы не есть еще полное отсутствие формы. Да и что такое форма? Вот Людвиг Витгенштейн, распубликованный во многих томах (в университетских библиотеках Запада полки ломятся), утверждает, что форма есть структурированное пространство. Согласимся ли с ним? С тем, что всё — структура и всё — пространство? А вот мнение скромного русского мыслителя: «За форму Европа. Там вообще защита мировой формы. Если стать на европейскую точку зрения, то можно оторваться от своего народного, от природы, Отца» [Пришвин 1994: 164].
Форма материальна, нет формы... возглас «Материя исчезла!» снова звучит как набат. Тут каждое лыко в строку, в том числе и в русском языке. Вот одна из подобных «лычин».
Неоформленность русской мысли утверждается, между прочим, и на основании большого числа русских безличных предложений. Европейскому сознанию непонятно, как это можно описывать действие без точного указания на прозводящее данное действие лицо. Анну Вежбицку раздражают русские высказывания типа его переехало трамваем. Ее раздражает, а русские писатели стоят на своем: Берлиоза переехало трамваем, а Анну — Каренину — поездом.
Подобные выражения вовсе не обязательно должны быть доказательством того, что русское сознание признает мир непознаваемым в его таинственной загадочности. Быть может, перед нами одно из предпочтений русской ментальности, которая в противопоставленности лица — вещи в качестве прямого объекта избирает именно вещь, уклончиво избегая прямого обвинения конкретного лица. Это неопределенность предварительного суждения, еще не аргументированного фактами. Говорится о «нем», о потерпевшем, и это главное, а вовсе не трамвай, связанный с действием какого-то водителя. В русском высказывании вещь становится одушевленной в пространстве между потерпевшим и виновником события.
Точно так же нельзя сказать молния убила его, его убила молния, это не очень точно как утверждение. Молния — только часть ситуации с неприятными последствиями, с помощью слова молния можно метонимически точно выразить первое впечатление (чувственное восприятие) от события. Интерес представляет только «он», поэтому и говорится: его убило молнией.
Ни молния, ни трамвай, вопреки мнению Вежбицкой, не являются «непосредственной причиной события» — это у-слов-ия такого события, которые только и можно что выразить в слове. Уклонений от истины тут нет, как нет и неверия в то, что можно постичь действительную причину случившегося. Что есть, так это убежденность в существовании сущностных о-правда-ний того, что случилось. Если угодно — судьбы, а скорее — рока, который, как известно, тоже кто-то или когда-то из-рёк. «Аннушка уже пролила масло...»
Но Вежбицка права: постоянный рост безличных конструкций в русском языке отражает особенности русской ментальности («и вообще русской культуры»). Но это особый большой вопрос специального свойства. О нем Замир Тарланов написал прекрасное исследование, основным результатом которого стал справедливый вывод: «По беспрецедентному развертыванию типологии предложения, расширению выразительных возможностей, развитию такой категории как категория обособления, выработке собственно синтаксических способов реализации модальности русский язык к исходу Средневековья далеко ушел вперед по сравнению не только с древнерусским, но и со всеми другими индоевропейскими языками... В качестве доминирующих его свойств, по данным синтаксиса, должны быть отмечены открытость, лояльность, чуждость эгоцентризма, рассредоточенность, противодействующая тотальности, устремленность к объективированию и объективности» [Тарланов 1999: 193]. Избыточная субъективность, например, английского предложения (для Вежбицкой — эталонного) русской ментальности неприемлема.
Оказывается, форма (форма предложения) — это тоже логика.
Логическое суждение должно управлять предложением языка, и тогда признают, что форма в наличии. А уж коли такое предложение своенравно лезет поперек, расползаясь в стороны, — формы нет! Вот и являются в России «непонятная логика (Александрийская, Византийская), загадочные корни в православии... ясность в Европе... интеллигенты и европейцы...» — в тишине иронически размышляет Михаил Пришвин. Для европейца, действительно, русская логика — слабая логика: она устанавливает степень ценности, а не истинности.
Это старый упрек русской ментальности. Томас Гоббс говорил об увечности мысли, которая в суждении не использует связки есть.
Однако «грамматическое предложение вовсе не тождественно и не параллельно с логическим суждением», — когда еще говорил Александр Потебня [Потебня 1989: 68]; язык реальнее логики (логика идеальна и возникает на основе языка) и материальнее ее (логика формальна). Подлежащее и сказуемое в предложении добыты (не заменяются друг другом), а в логическом суждении сочетаемость или несочетаемость двух понятий может изменять направление вектора (субъект и предикат взаимозаменяемы). Грамматических категорий тоже больше, чем логических, они активнее изменяются, отличаясь от языка к языку, чем и украшают мыслимый мир, обогащая его.
Увы! Всё время и во всем русское сознание выше логики, тесного вместилища расхожего знания в явленной форме — формальной логики. Символ и образ ему как-то ближе. Ближе потому, что в словесные сети ловит оно не понятие, а концепт, не мысль — но идею, а идею понятием не ухватишь, не определишь границей, не втиснешь в рамки «S есть Р».
Потому и язык таков, всё время как бы раздваивается. Например, имена означают предметность, вещность мира, телесность явленного впаяна в корень слова, хотя, конечно, слово-имя всегда двулико: очи возведены горе в поисках идеи, но веки на всякий случай приспущены, чтобы не упустить из виду и вещь, брошенную у ног.
Наведение на мысль
Описывая историческую последовательность в развитии типов мышления, Алексей Лосев [1982] убедительно показал преимущества современного европейского, которое основано на категориях индоевропейского языка.
Палеоазийские языки инкорпоративного строя сохраняют нерасчлененное слов-предложение, не выделяют самостоятельных категорий мысли в виде отдельных частей речи — это чистый синтаксис семантически аморфных элементов при отсутствии морфологии, синтаксис, который оперирует «неанализируемыми чувственными пятнами» внешних впечатлений, воссоздающих мифологическое сознание.
Языки «посессивного строя» показывают отделение действия от субъекта, но действие не исполняется субъектом (активно), а только описывается как ему принадлежащая вещь; принадлежность понимается как замена причинности: «отца взятие его» — отец берет.
Языки эргативного строя уже разграничивают подлежащее и сказуемое (как внутреннее и внешнее, как известное и новое, и т. д.), но и то и другое «мыслятся еще очень чувственно»; однако морфологические категории и формы развиваются, а субъект вещи отделяется сознанием от самой вещи (анимизм). Всякое действие понимается как страдание, всякая причина есть основание; это «родово-общинный тип сознания».
После нескольких промежуточных типов мышления развивается номинативный строй языка, который дает возможность представлять максимально абстрактные сущности, — это наиболее свободное из возможных «правильное» мышление, которое европеец только и признает за образцовое.
Номинативное мышление представляет закономерный переход от явления к сущности; оно мыслит предмет именно как таковой, с тем чтобы узнавать его в массе и отождествлять с ним же самим; это освобождение мысли от ограниченности ее теми или иными конкретными областями действительности [Лосев 1982: 367].
Язык направляет мысль, не давая ей уклоняться в сторону.
Но язык формирует разные логики. Доаристотелевская логика отличалась и от древневосточной (например, египетской; ср.: [Вассоевич 1998]), и от аристотелевской, в атмосфере которой живет Европа.
Хотя и нельзя абсолютизировать связь мышления с предпочтением тех или иных физических свойств человеческой популяции, преобладание того или иного типа заметно. Разные состояния сознания создают различные возможности в описании объектов и при передаче информации [Бескова 1995: 81], т. е. не как закон природы, а просто как норма самой жизни. Например, существенная для современного европейского сознания идея причинности понимается по-разному: одни представляют ее безличной силой, для других она существует, у третьих ее заменяет условие, и т. д.
Доминирует левое полушарие головного мозга — и всё воспринимается дискретно, в последовательности связей, разграничении объектов, главного и второстепенного, определяющего и зависимого — в иерархии свойств, в логичности связей, в ясности мышления вообще.
Доминирует правое полушарие — и объекты предстают в их живой цельности, даны в образах различной модальности, а самими ими оперируют как целостными мыслительными конструктами разной ценности [Там же: 77—78]. И. А. Бескова определяет ментальность непосредственно по типу ментальных действий, данных как реакция чувств на внешний мир. Это либо прямое вчувствование («индивидуальное бессознательное» в образе), либо опосредованное («коллективное бессознательное» в символе: «общее в восприятии отдельного»). «Бессознательное» есть свойство всякой национальной ментальности, которое заставляет оценивать чужих по собственным способностям и считать их по меньшей мере варварами в случае отклонения от «нашего» бессознательного.
Сопоставляя особенности русского мышления с западноевропейским, мы не увидим особых различий в характере мышления; языки родственные, общие исторические переживания, склад характера и отношение к деятельности. Развитие типов мышления продолжалось долго и у нас, и на Западе, а «наша многовековая историческая жизнь была жизнью только факта и бессознательного мышления. Двигали нас обстоятельства налево — мы шли налево; двигали направо — шли направо» [Шелгунов 1895: 896] — и это верно для всей Европы. Но та сторона мышления, собственно мысли, которая связана с «бессознательным», развивалась под давлением не только языка, но и производных от языка культурных фактов. Например, религиозных, экономических и политических. Соотношение между левополушарным и правополушарным, как и соотношение между индивидуально-бессознательным и коллективно-бессознательным изменялось. И в этом причина расхождения в типах мышления.
О русском типе историки говорят, что «умственная русская нация только начинает жить», для нее характерны особенности «молодой свежей мысли»: быстрота и точность восприятия, сообразительность, «понятия у русских точны, ясны и конкретны» благодаря близости к представлению, «может быть, и односторонни, но не туманны» [Ковалевский 1915: 34—36]. Отличия налицо: француз любит форму изложения, немцы — туманность и сложность изложения, а русские — обстоятельность и полноту. Даже русское остроумие отличается: оно ниже тонкого французского, но выше тупого немецкого — русский «смеется, но не насмехается». Это важно: не насмехается. Направление мышления у русских — исключительно реальное, без отвлечений в метафизические дебри («они живут живою жизнью»), развит здравый смысл при национальной черте — скромности. Выводы русского точны и несомненны, хотя и проявляется в них «какая-то нерешительность и некатегоричность. Русский как бы боится, чтобы его не обвинили в преувеличении и самонадеянности. По своей скромности нередко русский делает вывод не полный, и нередки случаи, когда из данных автора ценные выводы делали другие авторы» — у русского какая- то «национальная особенность — казаться ниже, чем есть» [Там же: 36]. «Умственная мощь русских — капитал будущего» [Там же: 38]. Еще точнее определяет «свежесть» русского мышления академик Овсянико-Куликовский [1922: 106]: «Наше мышление орудует не «чистыми» понятиями и представлениями, а понятиями-словами и представлениями-словами, следовательно, и образы, входящие в психологический состав или «механизм» понятий и представлений, суть не просто образы, а образы-слова», такая «мысль — словесна».
Действительно, такая мысль исходит из слова и им определяется, она заряжена энергией словесного знака, что вызывает естественную реакцию на каждый образ: «Обыденное сознание мыслит образами, и тогда заговорит совесть... зашевелится грусть, навернется слеза, или вдруг промелькнет ирония, послышится смех...» [Там же: 93].
В действительности же, как можно судить по различным данным, индивидуально-бессознательное и коллективно-бессознательное присутствуют в любой ментальности, являются основой всякого движения сознания к логически оправданной мысли. Образное понятие (символ) минус образ и есть понятие, предстающее как логический конструкт любого мышления. Истолкованный посредством сохраненного в слове словесного образа, культурный символ и создает впечатление явленного понятия. Образ огня и солнца в его лучах помогает уразуметь символ божественного Света — и понятие наполняется объемом при явной общности содержания в значениях славянского слова.
Наведение на семантическую резкость понятия и есть движение в сторону мысли.
Рассуждение о суждении
Немецкие корни Ивана Ильина то и дело возвращают его к ratio, заставляя рассматривать рациональное на фоне русского логоса. Не поленимся прочесть выдержки из книги «Путь к очевидности» — очевидность реального достигается подлинностью действительного.
«Пока человек живет, он должен воспитывать и укреплять свою силу суждения. Ему необходимо организовывать свой внутренний мир и окружающую его внешнюю среду. Ему необходим строй и порядок... И в основе всего этого лежит процесс суждения как необходимое и творческое выражение жизни.
Суждение совсем не есть "привилегия" отвлеченных мыслителей. Судит каждый человек — образованный и необразованный, умный и глупый, теоретик и практик... И это искусство — во всем схватывать существенное, все связывать существенною сопринадлежностью и согласно этому "строить жизнь" — есть искусство суждения, столь необходимое для всякой жизнеспособности, для творчества или для человеческого счастья...
Ибо сила верного суждения лежит в основе человеческой культуры... Ибо каждый жизненный поступок есть суждение; и обратно, каждое суждение есть деяние, есть жизненный акт, который неудержимо передается во все стороны... Отсюда возникает готовность — воздерживаться от суждения всюду, где нет достаточной компетентности.
Только при соблюдении этого требования есть надежда на удачу: человек сможет попытаться выразить воспринятое в словах. Это нелегко. Это может удаться, но не совсем; это может отчасти и не удаться...
Вот почему всем крупным, призванным мыслителям свойственно как бы вечно цветущее мышление, ибо у них всякое понятие, всякое суждение, всякое слово — вскрывает новые связи, развертывает новые ходы, как бы отверзает новые двери, ведущие к предметным источникам и колодцам, в предметные шахты. Такие мыслители — качественно всегда подлинны; по объему и материалу — всегда новы; по огню своей мысли — всегда "искренны". Их мысль никогда не впадает в релятивизм; но она всегда незакончена...
И посему всем нам и повсюду, и особенно нам, русским, которым еще предстоит воспитать в себе национальный духовный характер, — нам надо упражнять и крепить свою силу суждения, нам необходимо судить свободно и ответственно и высоко ценить аскетическое начало в мысли. Нам надо помнить, что беспредметные суждения и противопредметные рассуждения слагают гибельную болтовню, за которую множество людей будет расплачиваться долгими и жестокими страданиями» [Ильин 3: 438—444].
«Исходная подлинная честность» мыслящего человека должна сойтись с «предметной очевидностью» объекта; субъект освобожден от субъективности страстей в аскезе мысли, а объект очищен от феноменально случайного. И вот что еще важно: очевидно подлинная мысль всегда остается незаконченной.
В логике суждения особенности русской мысли весьма принципиальны.
Русское суждение
«Славянофилы были теми русскими людьми, которые стали мыслить самостоятельно», и, может быть, потому «мысль русская имеет религиозное призвание», — полагал Бердяев [Бердяев 1996: 6, 10].
Недоверие русского человека к логическим схемам — факт известный, и понятно почему: «В логике мышления следствие рождается от своей причины; в логике чувствования следствие рождает свою причину» — так определил расхождение между двумя типами «мышления» Василий Ключевский [IX: 398].
И вот эта-то рожденная вчувствованием вещь-причина и есть искомая сущность, и царь всех берендеев, обращаясь к своему советнику, понимает это:
В суждениях твоих заметна легкость.
Не раз тебе и словом и указом Приказано, и повторяю вновь,
Чтоб глубже ты смотрел на вещи, в сущность,
Проникнуть их старался в глубину.
Но сущность идеи и вещь соединяет слово, поэтому так важен язык как средство оформления суждений. Язык важнее логических схем хотя бы потому, что «синтаксические формы живого языка — шире логических, целиком в последние они не вливаются» [Шпет 1989: 406]. Поверим феноменологу на слово, ведь и он постигает сущность именно через слово.
Специально «русским суждением» занимался Семен Франк. Он много писал об этом, стараясь, быть может, войти в феноменальный мир русского подсознания. По его мнению, отвлеченное мышление вообще «страдает недостаточностью, грубостью, упрощенностью, присущими всем отвлеченным противопоставлениям» [Франк 1996: 315]. Дело в том, что в творческом созидательном процессе логический этап доказательства — всего лишь краткий момент, а основное падает на «неконтролируемое мышление» (вызревание мысли в чувствовании, озарение, открытие, завершение интуитивного осмысления и т. п. [Гулыга 1995: 36]. Не всегда свое «открытие» русский человек и хочет сделать всеобщим достоянием, по скромности полагая, что все это и без него знают; да у него и желания нет кому-то что-то доказывать. Правда сама себя покажет. Поэтому русское мышление, продолжает Франк, «абсолютно антирационалистично», хотя и не иррационалистично, «умственная трезвость и логическая ясность как раз очень характерны для русского духовного склада», поскольку через религиозный свой уклад он имеет «стремление к умозрительности, к философской глубине и основательности. Духовная трезвость, воздержание от всякого рода восторженных состояний, экзальтации являются одними из характерных требований национальной русской аскетической практики»; просто «русский не доверяет одной лишь логической очевидности», не доверяет логическим схемам [Франк 1996: 165, 525].
Для русского суждения основным является именно связка есть: всеобщие связи не подтверждаются чувственной очевидностью, и речь идет «о самом смысле есть» [Там же: 63]. «Имеется оборот речи — обычно употребляемый неосознанно, — который с острой наблюдательностью будто бы непосредственно народного мнения свидетельствует о том, что нам теперь открывается (в вещи. — В. К.). Каждая констатация — а любое познание, в конечном счете, является констатацией (а не определением понятия или термина. — В. К,) — выражает свой смысл в обороте "имеется то или это" (сравните с франц. il y a или англ. there is). „Это“ ни в коем случае не является пустым словом: все, что мы знаем, происходит действительно оттого, что мы стоим в отношении к "это"... Данное остается прочно укорененным в "этом", но "это" является тем, что мы ранее назвали непостижимым. Непостижимое является не чем иным, как Абсолютным». В дело вступает различие по лицам. 1-е лицо — субъект, 3-е — объект, но «невыразимое единство противоположностей» субъекта выражается в «я-ты-отношении — в "переживаемом мы"». Соотношение между я и ты Франк понимал как глубинную связь реального и действительного (в наших терминах — идеи и вещи): «Абсолютное, понимаемое как ты, есть Бог...» [Франк 1996: 66, 72].
Мы постоянно говорим об интеллектуальной силе суждения, и это в общем верно. Суждение в немецком предложении выражается объемно: предикат-глагол помещен в конец предложения, так что всё оно выступает в мысли как уже данный ей субъект. Французские обороты речи с особым выделением предикатов (определение после определяемого) делают французскую речь и ясной, и краткой. Английское предложение состоит из готовых речевых формул, предикативные сочетания даны в виде ясных схем, которые заполняются необходимыми для данного случая словами. Русское предложение свободно, и говорящий волен размещать слова в произвольном порядке, каждый раз выделяя нужные. Я пишу эти строки и слышу женскую песню с кассеты: «Никогда позабыть я его не смогу!» Растерянность западного интеллектуала перед этим воплем я вижу так ясно! Сам он не скажет подобным образом и даже в печали по утраченному фразу составит «правильно». Сердце для него (утверждал еще Гоббс) — «источник процесса восприятия» — восприятия в чувстве, а не воспроизведения в мысли. Но для русской ментальности важно, что ценности связаны не с суждением разума, это суждения сердца: «И сердце имеет свою логику, которая неизвестна разуму» [Вышеславцев 1994: 293]. В этой песне важны никогда и особенно не смогу, они и выделены как предикаты суждения в возможных изворотах высказывания.
Чувство направляет логику.
О том, что не следует переоценивать дискурсивную силу мышления, говорил Иван Ильин. Такой образ мышления подобен падающему камню, он увлекает за собою, и тогда тебе только кажется, что ты мыслишь самостоятельно, на самом же деле ты во власти наезженной схемы: "Движение" мысли здесь обманчиво: на самом деле происходит топтание на месте. И тем самым "дедукция" является образом мыслей ограниченности» [Ильин 3: 162]. Предметное и верное суждение всегда связано с чувством ответственности, компетентности, сосредоточенности, и «только при соблюдении этого требования есть надежда на удачу: человек сможет попытаться выразить воспринятое в словах» [Там же: 434, 441].
Русский язык создает возможности для объемного суждения. Об этом также многое сказано.
Например, свободный порядок слов в предложении, сохраненный русским языком, «дает возможность сплавлять целые ряды образов в один образ... Логика сознания, имеющего дело с понятиями, требует иного порядка», наше же «восприятие всего данного в условиях реальной длительности (речь идет о глагольном виде. — В. К.), а не абстрактного времени, мышление идеями в буквальном смысле, т. е. образами, а не понятиями, — такова сущность поэтического конкретизирующего сознания. Теперь, надеюсь, ясна связь между двумя главными особенностями русского языка: свобода в употреблении глагольных и отглагольных форм и свобода расположения слов. Русский язык в этом отношении может быть назван поэтическим по преимуществу». Даже «когда в Россию проникло европейское "любомудрие", русское мышление сохранило свою конкретность», «конкретное мышление охватывает жизнь во всей ее полноте; для него нет объектов, а только тенденции, возможности энергии — и потому ему открыто то, что возможно в будущем» [Бицилли 1996: 618, 623]. Разумеется, речь идет о русском суждении и оформляющем его типе предложения; в литературном языке «французский язык влиял своей общечеловеческой, общелогической стороной. Его влияние оказалось освобождающим, способствующим эволюции русского языка в сторону большей логичности, ясности, удобопонятности» [Бицилли 1996: 137—138].
В последовательности цитат выражена та мысль, которая и должна иллюстрировать особенности русского суждения. Добавить к этому нечего.
Утверждение отрицанием
Поскольку в русской ментальности роль понятия исполняет символ, то есть обогащенное образом понятие (образное понятие), то в исходной точке суждения символ означивает синкретическую цельность предмета (дела). Важна ведь не внешняя связь понятий, а потаенная «истина умозрения», «правильность внутреннего состояния мыслящего духа» (мысль Ивана Киреевского) — как субъекта мышления, который адекватно отражает невозмутимость мира. Понять — одновременно значит с сочувствием отнестись к тому, что понято («Я так тебя понимаю!»), а вот это-то и невозможно в иных типах «мышления».
«Строится и выражается понятие отрицательно, и в глубине его оказывается и положительное содержание... Идеал строится путем отрицания мира и в этом отрицании приобретает или обнаруживает свое положительное содержание, понимаемое или как душевный строй, как духовная бедность, или как внешнее выражение отказа от мира» [Карсавин 1997: 192, 218], «ибо всё испытывается своим противным» [Соловьев 1988, 21: 236]. Внутреннее и внешнее: отказ от минуса прежде чем утвердиться в плюсе; апофатическая логика мышления как движение к сущности путем отрицания внешнего, явления.
Такой тип мышления отражается уже древними средствами языка: утверждение качества путем отрицания части его форм. Например, с помощью отрицательных префиксов, сначала у-, затем без- и уже после всего (под влиянием греческих конструкций — в литературном языке славян) не-. Убогий, увечный вовсе не отрицательные характеристики человека, они показывают только малую степень наличия качества — путем отрицания всего качества. То же и в отношении не-. Непщевати значит ‘думать сомневаясь’, и это не отрицание, а утверждение отрицаемого как целого за счет его части. Души в нем не чаял — наоборот, очень даже любил. Самые древние формы с таким отрицанием передают утверждение малой степени отрицаемого качества: нелюди, неклен и пр. [Марков 1981]. Русский апофатизм проявляется также в обилии отрицательных частиц и наречий типа нечего, немного, негде, ничто, и в отрицательных сравнениях: не одна во поле дороженька пролегала... не ветер, вея с высоты... Удивляющее не только иностранца русское «ничего» в ответ на вопрос «Как жизнь?» — из того же ряда языковых явлений. Символ — понятие в образной форме. В литературных текстах характерными деталями маркирован не положительный герой, а всегда враг, вообще — собирательно злое; в отталкивании от него, его отрицая, высвечивается и утверждается моральная победа истинного героя. Оппозиции даны не статичными, уже определенными (рационализированными), они не описывают, а показывают развитие признака в становлении, в действии. Не голубой герой, чистая форма добродетели (такой «герой» оценивается отрицательно за бесстрастие, отсутствие жизненной силы, отторженность от людей — он «эстетически бездарен» [Синявский 1982: 295], а именно герой, то есть защитник, спаситель, святой заступник.
Так и роль суждения в русском мышлении исполняет отрицательное перечисление признаков, которые в данном случае не подходят под объем понятия, но соответствуют его содержанию. Человек — это не то... не это... не... и не...
Лев Карсавин эту особенность суждения описал так: «Строится и выражается понятие отрицательно, а в глубине его оказывается и положительное содержание». Подобные высказывания мы найдем у Владимира Соловьева, у Семена Франка, у Николая Бердяева и других. Они не просто знали — они это чувствовали, именно так и мысля.
Современный философ поражен: «Русский дискурс на удивление нерационален — в том смысле, что не озабочен рациональной аргументацией (что с неизбежностью сказывается, кстати, на правовой и политической культуре). Это и повергающие иностранцев в шок иррациональные глубины русского „ничего“ (например, на вопрос: „Как дела?“ или „Как живешь?“) или „Да нет“. Логическая культура российским духовным опытом востребована мало. Да и какая в ней необходимость, если „Закон что дышло...“, „Ты начальник — я дурак, я начальник — ты дурак“. Обездоленность лишает собственности, а значит, интересов, произвол власти лишает смысла их обсуждение. Дискурс, аккумулируя духовный опыт, лишь адекватно реагирует на опыт исторический» [Тульчинский 1996: 255]. Ни исторический опыт, ни дискурс здесь ни при чем, это — только следствие сложившихся способов мышления.
Другая логика, а не отсутствие логики.
Кажется, это начинают понимать.
Если нет несовместимости, то нет и отрицания: «Когда мы мыслим некрасное, то мыслим синее, белое, желтое и т. д. — всё то, что несовместимо с красным, но не мыслим сухое. Поэтому сухое не может быть отрицанием красного» [Степанов 1991: 10]. Отрицанием мы одновременно утверждаем множество «да», совмещенных с «не», то есть метонимически (а именно метонимией и раскрывается символ) через типичную часть обращаем внимание на все виды того же самого рода, но при этом не навязывая обязательно уже утвержденное моим сознанием рациональное одно. Остается известная свобода выбора, предпочтения, в соответствии с мерой ценности, исповедуемой собеседником. Все апофатические утверждения суть намекающие гиперонимы в момент, когда реальный, словесный, гипероним для обозначения рода еще отсутствует, а отсутствует он всегда, поскольку развитие в сторону степеней отвлеченности продолжается неуклонно: в этом и заключается рост научного знания о мире.
Да и нет
Апофатичность русского мышления Иван Ильин описывал в оппозиции да—нет. «Определяемое понятие сначала, как пилкой, обтачивается со всех сторон нет: оно не этот, не это и также не тот. И горе тому, кто знает лишь логическое нет: его понятие останется неопределенным, как если бы он подразумевал ореховую скорлупу без ядра...
Вот в чем сущность дела; нет само по себе не путь, не цель, не решение проблемы. Нет здесь лишь для того, чтобы служить да.
Отвергай, отвергай многое, но всё же сохраняй и утверждай существенное, святое, больше всего любимое!» [Ильин 3: 184—185].
Нет — подготовительная работа, основание суждения. Да — творение утверждения, главное. Нет разрушает. Да созидает. К сожалению, как заметил тут же Ильин, «современный мир более Нет».
Вечное нет в мышлении создает завистливо-ненавидящего эгоиста, это — развал и смерть... Для русского мыслителя это так ясно, ведь «да не существует без нет, и наоборот», справедливо утверждал Герцен.
А к чему может привести абсолютизация нет?
«И все тосковали люди. Плакали. Молились.
и всё из „да“ переходило в „нет“.
Преобразовывались. Преобразовывались.
И видишь — одни щепки.
Человека и цивилизации.
Щепки и сор» [Розанов 1998: 235].
Пророчески...
Да, конечно, русское суждение апофатично, утверждает в отрицании, и «есть высшая и очистительная Истина апофатической теологии» [Бердяев 1996: 50], к принципам суждения которой и восходит русская форма логических суждений. Они апофатичны, ибо неимоверно трудно в конкретном дискурсе из цельности вычленить нечто, различающее и дробящее такую цельность.
Уже сказано о перифразе Солженицына жить не по лжи на месте традиционно русского жить по правде и христианского жить по совести. Отрицательность утверждает сильнее, чем простое номинативное утверждение. В бытовом диалоге в ответ на вопросы о качестве (то ли это?.. то ли?) слышишь последовательно не-а... не-а... не-а... ну! — если наконец попал в точку. Ошибки быть не может, она исключается потому, что перебрали все возможные признаки и остановились на одинаково для всех приемлемом типичном как окончательном. Иначе — как же? почем я знаю, что прав? почему я должен верить другому?
Когда Даниил Андреев хочет дать определение своей «интеррелигии», он говорит, что это «не иерократия, не монархия, не олигархия, не республика: нечто (так!) новое, качественно отличное от всего, до сих пор бывшего» [Андреев 1991: 16], — но что же именно? — а «мистический разум», а «духовное делание», которые привлекаются для пополнения мысли, хотя и сами по себе нуждаются в определении. Только «аксиомы не доказываются, — утверждал Ключевский, — их истинность доказательна своей неопровержимостью». Аксиомы оформляются в афоризмы — типично русский способ выговорить окончательное мнение, но не логически прямым образом, а косвенно — символическим уподоблением сущего присущему.
Такую особенность мышления Андрей Синявский находил у Василия Розанова. Афоризм последнего строится «по схеме: сначала дается утверждение, после чего следует отрицание. Или — наоборот: сначала отрицание, а потом, немедленно, утверждение. После „да“ говорится „нет“, а после „нет“ — „да“. Мысль развивается по закону контраста, по закону противоречия», это доказательность без аргументации: сначала все аргументы против того, что он собирался сказать, «и в результате сказанное в конце становится непреложнее именно в силу своей непреднамеренности и неожиданности» [Синявский 1982: 252]. И даже больше, при усилении отрицания одновременно звучит и «да», и «нет»:
— Да нет же!
Разумеется, подобное суждение не дискурсивно. Оно и не может быть линейно последовательным, потому что обслуживает объемный символ; оно вообще противоположно дискурсивному, «выводному» (по слову Бердяева) из самого себя.
Апофатический способ доказательства распространен у русских мыслителей, например у Алексея Лосева («Диалектика мифа»), да и современные неореалисты прибегают к нему же. Вот как определяет категорию «личность» современный автор: личность — не сущее, не existentia, не дух, не субстанция, не идея, не материя и не сознание, не феномен и не ноумен, не общее и не особенное, не бытие и не ничто: это нечто суверенное, самостоятельное, самоуправляемое, заключающее в себе самом собственный смысл и ценность, онтологически содержательная и онтологически суверенная в предельной своей открытости и явности; каждый человек есть овеществленная «тяга к трансформации в Личность» [Хоружий 1994: 287—289].
Языковые формы апофатического выражения мысли в русском языке представлены обильно [Булыгина, Шмелев 1997: 305 и след.]: да, но... действительно, однако... верно, хотя... не спорю, но ведь... правда-то правда, ан... Возражение под видом согласия, согласие с общей установкой, которая безусловна в высказывании другого, но отрицание выводов, сделанных этим другим на основе установки. Переключение внимания с формально-логического на содержательно-этическое.
«Этическое» выдает происхождение апофатики русского реализма: «Византийский опыт апофатики существенно определил стилистику православного богословия, русского экзистенциализма и персонализма» [Идеи, 1: 48] — и не только, как видим, их. Во всех случаях в высказывании сохраняется обращенность к сущему, до конца неясному, «представления о трансцендентном всегда тяготеют к апофатике, к фигурам умолчания или, уже как компромисс, к предельно широким номинациям типа Бог, Единое, Абсолютное и т. п.» [Пелипенко, Яковенко 1998: 41].
«Безлюбовная апофатика» присуща и современной западной философии, об этом пишет Татьяна Горичева [1996: 101]. Например, у Дерриды «это метод, ставший целью», который уничтожает, ничего не утверждая; «остается мертвый след, "присутствие", оно всегда повторяет самое себя». «Сизифов труд повторений» отличается от русской апофатики утверждением («отрицает только для того, чтобы описать положительное»), тогда как западноевропейская апофатика при удвоении отрицания не дает диалектического утверждения: Другое Другого, Внешнее Внешнего, Выбор Выбора и т. д.
Согласие в отрицании
«Мировоззрение, — писал Лосский, — которое исходит из апофатической сущности, есть символизм. Раскрытый эйдос сущности есть символ». Апофатический тип утверждения сущности связан с необходимостью дважды сказать об одном и том же: сначала снять поверхностный слой «не то», а затем утвердить наличие сущности. Дуализм головы и сердца, одинаково творящих суждение: «разум отрицает, а сердце пламенеет» [Трубецкой Е. 1913, I: 39].
На текстах Розанова и других авторов мы видели, что апофатичность суждения в интеллигентской речи может проявляться и на терминологическом уровне, в слове, тогда как утверждение одной идеи определяется ее отношением к положительной реальности конкретного свойства (к вещи). В этом снова проявляется скрытое, самому говорящему незаметное, в слове представленное соотношение между идеей и вещью, но отрицание предшествует утверждению, как бы уготовляя слушающего к особенно ясному уразумению утверждаемого. Оно, утверждаемое, — это часть того общего, которое в целом отрицается; отрицается чувство в пользу рассудка или наоборот — смотря по тому, что выходит на первый план понимания (в смысле — схватывания мыслью). Вот, например, у Гоголя: «Назови всем, чем только не хочет быть русский человек, и перед тобой предстанет то, что русский человек есть».
Что такое неяркая красота, неброская внешность и т. д.? Красота без яркости? не привлекающая внимания? Но это все же красота, ее признаки абсолютны. Всякие признаки красоты являются ее конститутивными признаками, именно они создают красоту. Утверждение отрицанием есть представление нерелевантного признака как признака диагностирующего. Он нерелевантен в другой системе, а здесь он очень даже важен. А что сказать о выражениях типа непыльная работа или нетоварный мужчина? Изменяется смысл путем указания на признак, перенесенный в другую систему ценностей. Отрицательное не уже не отрицательный признак, а перевод самого признака в другое качество, утверждение сущности того, что не может быть выражено иначе. Неплохо! — значит, хорошо; ну, не знаю... уже знаю; не думаю — сомневаюсь, и т. д. В известном анекдоте профессор говорит: «Можно утверждать, отрицая и утверждая, можно отрицать, утверждая и отрицая, но нельзя отрицать, утверждая дважды». В тишине раздается с задней скамьи: «Ну да, конечно!» — опровергая смысл утверждения двойным согласием с ним.
— Татьяны Алексеевны нет?
— Нет, она здесь, но еще не пришла...
Бытовой диалог, обычный для русских общений. Круговое движение мысли, которая всем понятна.
Апофатичность утверждений в момент поиска точных определений сущего совершенно необходима. Об этом много писал Мартин Хайдеггер [1999: 25 и след.]: «Отрицающая форма положения говорит более ясно, чем утверждающая», причем положительное решение есть герменевтическое раскрытие смысла слов, принимаемых в качестве ключевых для данного круга понятий. Исходить из слова — значит быть «реалистом», но то, что на Западе есть научный метод определения, в русской ментальности является обычным способом мыслить. Движение мысли идет круговращением идеи с оглядыванием назад, «такое мышление движется по кругу», «здесь некое начало, которое уже есть завершение» [Там же: 62, 38]. Мысль рождается на ходу.
Противоположностью апофатике является также «нетовщина» — «самый крайний вывод... максимум апокалиптического отрицания. Благодать взята и отнята вовсе» [Флоровский 1937: 70]. Так в идеальной части. В материально-вещной то же предстает как нигилизм. «Что такое нигилизм? Нигилизм есть последовательный материализм, и больше ничего» [Данилевский 1991: 292]. Это занесенное с Запада поветрие, получившее в России невозможное искривление, ибо «если в нигилизме есть что-нибудь русское, то это его карикатурность» [Там же: 293]. Это примерно то:
«— Ничего!!! Нигилизм!
— Сгинь, нечистый!» [Розанов 1990: 424].
Но то же и русский тип отрицательных предложений. Никто никогда никому ничего не должен — «первая заповедь здравого смысла». Другие языки тоже могут дать в предложении несколько отрицаний, но не более трех (в испанском), обычно же одно-два, не больше. Отрицается только нечто, а не всё. Отсюда, нас уверяют, проистекает бытовой нигилизм русских. Вряд ли так; особенность языка, который требует точного указания на то, что отрицается, а здесь отрицается всё.
Но точно так же указывают и на русское «ничего!» как на основу русского терпения.
Таким образом, отказ от утверждения при сохранении отрицания не является русской формой согласования сущего с должным.
В основе подобных «согласований смысла» могут лежать различные источники.
Сергий Булгаков [1917: 92] представлял божественное Ничто в трех ипостасях: άπειρος ‘безграничный’ — жест, порыв в движение; μη όν ‘не сущий’ (отрицание возможности) — рождающее слово (чистая потенциальность); ουκον (отрицание факта) — пустая мысль (полное отсутствие). Мэон — «беременный идеей», укон — бесплоден. Это три типа отрицания одного и того же — концепта: мэон — Ничто как Нечто, укон — чистое Ничто. В русской ментальности нет ни того ни другого. Ничто у нас одушевлено, мы говорим: «Ничего!».
Никита Толстой [1995: 341—344] то же представлял с точки зрения русского языка, отразившего особенности мифологического мышления. НЕ здесь не просто отрицание, но и утверждение: табуистическое — чтобы не сглазить, усилительное — чтобы проняло, ироническое — на всякий случай: «А он выпить-то не любит!» — «И будет вам совсем неплохо!»
Рассуждение
Русский силлогизм — энтимема, незавершенный силлогизм с опущенной большой посылкой.
В каждой культуре энтимема как способ сокращения умозаключения присутствует, но у нас такой способ выражения мысли может проникнуть и в логически взвешенный научный текст. В этом случае важна пресуппозиция, контекст, в котором сделано заявление. Именно пресуппозиция играет роль большой посылки.
Все мужчины обманщики — это всем ясно;
Мой Вася мужчина — в этом я уверена;
Мой Вася... ой!.. — ах, вот как!
Мой Вася изменщик, потому что он мужчина — идея приравнивается к вещи (пресуппозиции). Таково умозаключение, которое исключает из рассмотрения конкретные обстоятельства дела, оправдывающие Васю (или смягчающие его вину) и вызывает известную каждому категоричность суждений русского человека.
Таким образом, исходным в рассуждении является все-таки чувство. Чувство постоянно проверяет идею, доверяя ей безусловно. Из воспоминаний Зинаиды Гиппиус мы знаем [Синявский 1982: 207], что у Василия Розанова «нет „мысли“ — непременно и пронзительно физическое ощущение», которое и есть мысль, не понятая, не схваченная понятием. В своей нобелевской речи Солженицын точно выразил самый дух русского менталитета, заметив: «Не всё — называется. Иное влечет дальше слов... Посредством искусства иногда посылаются нам, смутно, коротко, — такие откровения, каких не выработать рассудочному мышлению» [Солженицын 1981: 8].
Но именно об этом и толкует русская мысль. Она и подсказывает формулы вроде только что приведенной.
Такого рода сжатые суждения способствовали в XVII в. развитию различных типов придаточных предложений, совершенствуя синтаксические связи между высказываниями и тем самым — логические формы мысли.
В качестве пресуппозиции выступает не конкретная ситуация, а отвлеченная от прошлого опыта идея. Малая посылка, напротив, всегда отражает ситуацию высказывания, т. е. толкует о конкретной вещи. Возникает типичное для понимания реалиста положение: взаимно поддерживая и обосновывая друг друга, идея и вещь сопрягаются и предстают в слове. Слово сказано в ergo. Другие типы умозаключения развиваются сходным образом, но различаются в степенях категоричности. Может быть, поэтому в нашем обиходе столь редки аналитические суждения, в содержании которых уже содержится заключение. Каждое суждение несет новую информацию в суждении синтетического типа. Потебня полагал, что это правильно: язык синтетического строя (каков русский — в отличие, например, от английского) строит высказывания синтетические. Не одно и то же: Щенок — это молодой пес и Молодой пес — это щенок.
Роль понятия в слове русское мышление заменяет символом (символическим образом), во всей совокупности присущих ему признаков. Слово, важное для мысли, всегда оказывается символически заряженным, оно исполнено таинственной силы, исключающей однозначность строгого понятия. Щенок — не только молодой пес, и синтетическое суждение раскрывает нам содержание символа в уточнении понятием: речь идет именно о молодом псе. Постоянное стремление русской интеллигенции множить количество иностранных слов есть тоска по однозначно точному и всем понятному термину-понятию.
В суждении помогает и синкретизм союзов и союзных слов; например, когда — одновременно и условие, и причина, и время действия. Условие как словесно выраженная причина, действующая в известное время. Когда бы жизнь семейным кругом я ограничить захотел... Когда? если бы? потому что?
То же в суждении. Анна Вежбицка порицает русское суждение за безличность и экспрессивность, но основное требование научной терминологии, как его формулируют европейские лингвисты, состоит в безличности, объективности и рассудительности [Балли 1961: 191]. Безличность представлена в пресуппозиции, объективность — в малой посылке, рассудительность — в целом суждении, уточняющем связь между двумя посылками. В своем неполном оформлении русское суждение никогда не метафорично. Оно избегает впадения в метафору, поскольку является своего рода раскрытием образного содержания ключевого слова.
В русском языке два типа безличных предложений: с неопределенным деятелем (Мне поручено сделать это) и с устраненным деятелем (В комнате прибрано и светло); предполагаемый член высказывания имеет отношение к металепсису, опущенный в высказывании — к катахрезе [Колесов 2001: 244]. Это синтез новых отношений, произведенный на основе известных идей и фактов. Многое предполагается, потому что предполагается известным. «Своим ничего не нужно доказывать». Конечно, это не одесские выражения типа «Вы хочете песен — их есть у меня», или «вас тут не стояло», на которые, видимо, и обратила внимание заслуженная лингвистка, но подобные речения русским несвойственны.
Русские безличные, неопределенно-личные, обобщенно-личные и прочие типы предложений создают уникальное, часто непереводимое на другие языки представление о зыбком внешнем мире, который является отражением мира другого, реального, существующего в сознании человека до встречи с миром внешним.
Все типы придаточных предложений, развиваясь на совершенно различных основаниях, имеют общим то, что они как бы сгущались из словесной массы высказывания на основе 1) известной модальности и 2) определенности высказывания, а также 3) предикативности (наличия единого предикативного центра). Поэтому только в целостном высказывании модальность и определенность как категории и проявляются, а отдельно как отвлеченные идеи носителем русского языка не воспринимаются. Четкость мысли, надо понимать, определяется не логической структурой формального силлогизма, а типом самого предложения, насыщенного модальностью переживания и определенностью идеи, и уже цельность предложения направляет мысль по известному руслу суждения. О французском философе Владимир Одоевский сказал: «Хорошо было Кондильяку: для него вся философия состояла в искусстве рассуждать; он забыл только одно: что глупцы и сумасшедшие часто очень логически рассуждают, но одного они не могут себе логически доказать: сумасшедший, что он сумасшедший, а глупец, что он глуп» [Одоевский 1981: 184].
Русские мыслители «от славянофила до западника» питали «некоторую инстинктивную ненависть к сухому и строгому мышлению, стремились переплеснуться через логику», — писал Александр Блок. «Переплеснуться через логику» очень важно в поисках нового решения, потому что сама по себе «отвлеченная мысль уходит, а частности остаются в отчаянии и страданиях оттого, что их не взяли с собой» [Пришвин 1994: 89]. Даже Чаадаев, сначала утверждавший, что «силлогизм Запада нам неизвестен... Лучшие идеи от недостатка связи и последовательности как бесплодные призраки цепенеют в нашем мозгу», на склоне лет писал другу: «Кто-то сказал, что „нам, русским, недостает некоторой последовательности в уме и что мы не владеем силлогизмом Запада“. Нельзя признать безусловно это резкое суждение о нашей умственности, произнесенное умом огорченным, но и нельзя также его совсем отвергнуть. Никакого нет в том сомнения, что ум наш так составлен, что понятия у нас не истекают необходимым образом одно из другого, а возникают поодиночке, внезапно и почти не оставляя по себе следа. Мы угадываем, а не изучаем; «мы живем не продолжительным размышлением, а мгновенною мыслию...» [Чаадаев 1914: 211].
Квантор существования
Уже не раз, обсуждая различные темы, мы коснулись вопроса о связке есть, о личных местоимениях, о неуловимой силе русского словесного подтекста. Соединим вопросы в общую проблему.
Слово психолингвисту: «По многим признакам именно сейчас наступает время массового и быстрого осознания той мировоззренческой установки, которая выработана соборным опытом русского народа и закреплена в языке» [Шишкина 1998: 275]. Сегодня как никогда роль языка огромна. Каждый ощущает на себе эту силу, не имея возможности в ней разобраться (с ней разобраться).
Другая лингвистка (изучает западные языки): «Продуктивность бытийных предложений служит основанием для отнесения русского языка к так называемым языкам бытия (to be-languages), противопоставляемым языкам обладания (to have-languages), таким, например, как романские и германские языки», а это «свидетельствует об общей ориентации русского языка на пространственно-предметный аспект мира, определяющий ряд других его черт», потому что такова «этнокогнитивная специфика русского языка» [Арутюнова 1998: 790—791].
И это тоже не новость, но теперь уже ощущается многими, что, конечно, отрадно.
Включая в обсуждение голос философа (любого, я полагаю), добавим, что «бытийственность — основная категория сущего», она предстает как принадлежность человека к миру природы в его сущностных формах, т. е. не просто «предметно-пространственно», как полагает номиналист, а идеально-предметно, чем русская ментальность и отличается от западной. Ведь в подсознании русского человека слиянно даны две схемы сущего:
я — есть = у меня — есть I am I have
В русском важно усиление роли личного местоимения при полной утрате спрягаемых форм бытийного глагола быть: яз есмь — ты ecu — он есть — мы есмъ — вы есте — они суть.
Центробежно разлетающиеся по сторонам личные обозначения переходят к центростремительной модели с разверткой на глагол:
Это есть является совершенно отчужденной формой 3-го лица, в русском языке возникшей уже в историческое время из форм местоимения указательного (Вон там!). Это максимальная объективация всех связей, которыми местоименные формы могут выразить картину внешнего мира.
«Обобщение бытийственности свидетельствует о непреходящей значимости самого существования для русского человека. В результате каждое из лиц как бы получает квантор существования [есть]. Личные местоимения с этого момента не просто обозначают конкретное лицо, но подчеркивают его реальность и значимость...
Социологические следствия этого очевидны. В народном сознании произошло качественное обобщение повседневности (быта. — В. К.); бытие представлено в нем во всей своей полноте в непосредственной связи с целым, а человек оказывается в состоянии при определенных условиях не только осознать значимость своего существования (в есть. — В. К.), но и взять на себя ответственность за поступок» (я — ты и другие. — В. К.) [Шишкина 1998: 274—275]. Чутье, как обычно, явлено в личном, а интуиция извлекается из бытия. Постоянная прикрепленность разума и рассудка к общему стволу культуры лишает русского современной сладости эгоизма или, как писал Вальтер Шубарт, отличает его от западного человека с его манией сравнения себя с другим с обязательным выходом в надменность и в зависть в бахвальстве («театральность и позерство»), когда каждый «стремится скрыть свою нужду, от которой страдает, и имитировать счастье, которого нет»; и всё потому, что «русский переживает мир, исходя не из я, не из ты, а из мы [Шубарт 2003: 124—126].
Следствия не только социологические, но и этические. Как и должно быть и как всегда есть.
Русский силлогизм
Призывы Чаадаева к укреплению умственной методы имели успех в интеллигентской среде. Но не в народе, по-прежнему действовавшем не суждением, а «мыслию». Сущность русского умозаключения хорошо показана в притче, слишком похожей на правду.
Деревня. Отец говорит сыновьям: «Какой-то урод украл у нас корову». Младший: «Раз урод — значит, маленького роста». Средний добавляет: «Раз маленького роста, значит, из Малиновки». Старший заканчивает умозаключением: «Раз из Малиновки — значит, Васька Косой». Пошли в Малиновку, надавали Косому как следует — а он не отдает корову. «Не крал», — говорит (без всяких умозаключений: он один).
Повели Ваську к мировому судье, тот спрашивает: «А почему вы решили, что это Васька Косой?»
«Как почему?» — отвечают братья и излагают свое совместное «умозаключение». «Интересная логика, — говорит судья, — ну да ладно. Что вот в этой коробке?»
«Квадратная коробка», — сказал отец. «Значит, в ней круглое», — сказал младший. «Круглое — значит, оранжевое», — сказал средний. «Оранжевое — ясен корень, что апельсин», — сказал старший.
Судья достал из коробки апельсин и сказал, задумчиво глядя на Ваську: «Косой, блин, верни им корову!»
Выделим особенности русского «акта мышления».
Это серия «мыслей», внешне вроде бы не увязанных в рас-суждение. Мысли нижутся в цепочку, поданные в совместном рас-суждении, в диалоге, каждый момент движения мыслей и их сцепления можно проверить и оспорить. Три брата — субъекты коллективного суждения — представлены как персонифицированные последовательности самого суждения; отец дает «установку» — он озвучивает пресуппозиции (его роль — в описании видимого, данного для слушающих притчу). Впрочем, большая посылка в каждом фрагменте рассуждения в принципе отсутствует, а предыдущее высказывание для последующего служит как бы средним членом умозаключения. Катахрезы и металепсисы — опущенные и предполагаемые моменты мысли, — пронизывают всю последовательность мысли, которая явным образом не фиксируется, потому что формальная сторона дела никого не интересует. Пресуппозиции всюду предметны, так что мысль постоянно отталкивается от фактов, которые хорошо известны субъектам рас-суждения. Важен результат, который и выдает старший сын в момент, когда и без него уже всё понятно. Цепочка невнятных бормотаний, основанных на неясных умозаключениях и на незаметных фактах, дала результат в виде правильного ответа.
Для кого невнятных и почему незаметных? И внятных, и заметных, но только «своим».
Вернемся к притче.
В процессе коллективного мышления важны все три сына, последовательно они отмечают вещь, ловят слово и ухватывают мысль, т. е. идею. В разговоре проявляются все три мыслительные позиции: «бытовые» номинализм, реализм и концептуализм. Мышление представлено объемно в трех координатах. Алогизм внешне проявляется в том, что ни один из братьев не заканчивает суждение, следующий начинает в том месте, где остановился предыдущий. Это серия энтимем — незавершенных суждений. Русская мысль соборна — это не мысль индивидуума, а коллективная дума. И происходит так потому, что для русской ментальности основной содержательной формой концепта является не мимолетное понятие, а устоявшийся символ — одно вместо другого в значении третьего. Без «собрания» и не раскусишь! Отсюда непонятность для посторонних, неясность намерений и вообще «двойственность позиции».
Примеров русского «косноязычия» можно привести множество. Любое суждение свободно становится рас-суждением. Летчик Михаил Громов говорил о философской речи деревенского мужика («Русские слова в деревне»): «Оно, конечно, ежели как что, а коснись это дело, оно и пожалуйста!» Очень глубокое рассуждение, как раз в духе европейских философских суждений, но только выражено оно не в латинских терминах, а в русских междометиях.
Вдумаемся: это конкретность всеобщего. Здесь есть всё, и притом всё сразу. Схема высказывания строится только на вспомогательных словах, символических в своей совокупности (коснись — пожалуйста), но глагольностью своей (предикативностью) представленная как воплощенное уже дело. Да, это суровое, нужное, тяжелое дело деревенского мужика, который думает именно так и так поступает. А раскрывать свою душу перед всяким он не станет. Душа-то — это мысль и есть. А сколько раз он за душу открытую пострадал? а какие горести испытали дед его и отец, и родичи все? Думай, человек, над тем, что сказано — в слове вся правда, в слове. А русское слово, нелишне напомнить, заряжено символом — и символ всякую мысль выстреливает.
Аналитическое раскладывание высказывания в силлогизм, т. е. формально-логическая передача мысли, в русском языке прошло те же этапы, что и в западноевропейских языках, но отлилось в иных формах. Исходный семантический синкретизм слова позволял все умозаключения передавать в сжатом виде словесной формулы. Историк языка такие формулы назовет, например, «предложно-падежной формой», ср.: из-за жары, от жары, при жаре... А потом — Жара утомляет человека... Стояла страшная жара, и она не пришла... Дифференциация форм выражения состояла в последовательном представлении логических указателей (маркеров), которые выделялись из избыточных в высказывании союзов, частиц, предлогов и остатков глагольных форм:
Всякая жара утомляет человека, но тогда стояла страшная жара, поэтому она не пришла, — умозаключение, избыточное формально и потому вызывающее появление энтимемы: Она не пришла, потому что стояла страшная жара (обсуждение см.: [Кривоносов 1993: 253]). В современной речи, именно в речи, а не в парадигмах народного языка, побеждает средняя ступень реального умозаключения, т. е. не синкретизм формулы и не развернутость силлогизма, а энтимема — но уже без особых маркеров: она не пришла — стояла страшная жара.
А. Т. Кривоносов отметил, что в русском употреблении распространены только три логические формы умозаключения из 19 возможных правильных силлогизмов и представлены они «с различной степенью логической четкости» ([Там же: 255] по убывающей показаны на с. 258).
Основой причинно-следственных связей является «концептуальное, семантическое значение предложения», т. е. структура речевой схемы-формулы, существуют определенные алгоритмы для построения силлогизмов, но не в этом самое важное. Оказывается, семантические значения предложений в функции заключения невозможно свести к каким-то общим семантическим полям. Эти заключения всегда конкретны, индивидуальны и могут стать источником любого логического заключения. Ну что такого обобщающего содержится в примере из Куприна, который приводит автор? «Круглов! — позвал он сторожа. — Отвори. Хочу в сортир!» Энтимема конкретна по смыслу (предметна), но заключена в обобщенную идею:
1. [Всех, желающих в туалет, надо выпустить.]
2. (Он пожелал в туалет.)
3. Его надо выпустить.
Следствия посылок бесконечны, как бесконечен мир вещей и явлений, но «они не случайны, а порождены многообразием причин из жизненной практики, отраженных в естественном языке» [Там же: 265]. (Это тоже важно: мы все время говорим о естественном языке, а не о различных его «окультуренных» формах). Множество конкретно-вещных следствий охвачено единой (родовой) причиной-идеей, т. е. уже и не причиной даже, а условием следствия — словесно выраженным случаем. И опять получается, что слово, которое насыщено образными понятиями, символическими со-значениями, в определенной речевой структуре вспыхивает необходимыми для данного случая своими смыслами — с тем, чтобы в сжатой формуле выразить уже готовое в мысли заключение. Мысль искрой пробежала от ключевого слова («среднего термина силлогизма») к внешней рамке высказывания — и вот результат: «мысль изреченная есть ложь»...
Именно так оценивает подобные речевые умозаключения русский поэт- мыслитель. Силлогизмы рождаются правильные — но не всегда истинные. Потому что смысл слова — коварная ловушка для поверхностного ума, и русская мысль это знает, формальным силлогизмам не доверяя. Русское суждение эксплицирует внутреннюю речь, поэтому у русского человека есть страшный порок (с точки зрения западного человека): он всегда говорит то, что думает.
Давно замечено, что языки Европы изменялись прямо противоположным образом в отношении к системе основных грамматических категорий и частей речи.
Либо формально сужалась категория имен — в то время как сложная глагольная система сохранялась и даже увеличивала число формальных единиц, тем самым усиливая часть речи, которая обслуживает тему — предикат, сказуемое, — таковы западноевропейские языки. Для них существенно в мысли то, что только еще рождается, в момент мышления становясь знанием; что является как заданное в норме и выражено в тут же создающемся суждении посредством глагола как предложения мысли. Либо, напротив, сжимались глагольные категории, сокращаясь формально, в то время как имена расширяли сферу своего употребления, тем самым увеличивая мощность той части речи, которая обслуживала тему — субъект, подлежащее, — а это славянские языки, и прежде всего русский. Для них важно то, что уже дано как цельность и ценность готового знания и выражено в законченности образного понятия посредством автономного имени.
Ориентированность на синтетическое суждение исключает веру в априорные истины и во врожденные идеи, но усиливает роль и значение ключевых слов. Разграничение суждений на суждения идеи (формально-логические установки на истину) и на суждения факта, согласно Лейбницу— «последнему реалисту Европы», вяжется с чисто русским отношением к самим суждениям: суждение идеи и суждение факта сходятся в точке пересечения того и другого — в слове, в котором одновременно представлены и образ вещи, и понятие идеи, — в образном понятии. Современные логики утверждают (и, видимо, справедливо; см. примеры в кн.: [Степанов 1997: 733, 183]), что «определенное суждение будет аналитическим или синтетическим лишь относительно данной языковой системы», т. е. только в границах данной ментальности. Следовательно, «трудно понять друг друга», ибо то, что русскому ясно как «врожденная истина» (синтетическая идея), то американцу нужно втолковать, что естественно, поскольку западная ментальность «рассуждает по Канту», разграничивая аналитические и синтетические суждения согласно собственным системам языка.
Доказательность
«Два суждения образуют силлогизм, множество суждений — доказательство». Похоже, это утверждение Томаса Гоббса соответствует и русской ментальности, согласно которой «много силлогизмов — уже доказательство», и чем их больше, тем лучше.
Доказательность требует последовательности в развитии мысли, и это кажется справедливым. «Логически корректное мышление должно быть ясным и отчетливым, для чего и обязано опираться на закон тождества. Только тогда, когда одно утверждение логически тожественно другому, из которого оно выведено или которое обусловливает, между ними нет логической щели и связь суждений безупречна в логическом отношении. Но в этом случае доказательство абсолютно тавтологично и никакого смысла не имеет. Но оно не имеет и доказательной силы...» [Библер 1975: 16]. Все прочие логические законы равным образом опровергались русскими философами «петербургской школы» (например, Александром Введенским и Семеном Франком). Этот скепсис разделит любой представитель русской ментальности; например, «не следует переоценивать так называемую последовательность мышления. Прямолинейная последовательность может импонировать, увлечь и прельстить; но не следует забывать, что такой образ мышления подобен падающему камню, что он задействован пассивной силой тяжести, что это наиболее легкий вид мышления и особенно присущ людям полуобразованным. Первичный заряд мышления задан, и нужно лишь решительно использовать его. Общий закон установлен, и надо только подводить его к различным конкретным случаям. "Движение" мысли здесь обманчиво: на самом деле происходит топтание на месте» [Ильин 3: 162].
Столь же проблематична доказательность логической законченности, «ибо логическая законченность — это такой же идол, как Перун. Есть борода и усы из серебра и золота, но Бога нет» [Шестов 1966: 43].
Вот несколько тезисов, развивающих тему. Они, конечно, не доказательства, а только намеки на доказательства.
Первый тезис: логическое доказательство — всего лишь момент познания. «Логическое сознание — теоретическое и практическое — есть лишь небольшая и производная часть сознания алогического, светлый клочок, выделяющийся на необъятном фоне безотчетной, непосредственно инстинктивной душевной жизни» [Франк 1910: 87].
Второй тезис: доказательны только факты, и без того понятные. «Очевидно, что указать и доказать возможно только то, что существовало, существует или будет существовать, но доказать то, что должно или обязано существовать, не по силам никакой теории» [Аскольдов 1902: 201].
Третий тезис: доказательства дробят цельность истины. «Странные люди — европейские люди, странно-неинтересные. Им всё нужно доказывать. Я никогда не ищу доказательств. Я всегда вижу мысль сразу — или не вижу ее совсем. Как бы то ни было, доказательства играют для меня лишь ту роль, что иногда они не мешают мне увидеть мысль» [Бальмонт 1911: 15]. А всё потому, что «логическое познание имеет дело с элементами, которые были дифференцированы из целого; оно всегда бывает абстрактным и относится к более низкому уровню бытия, дискретно и безжизненно; оно дано нам через посредство созерцательной интуиции» [Лосский 1991: 341].
Четвертый тезис: доказательство навязывает истину. «Доказанное — навязанное, неотвратимое, необходимое; быть может, доказательство стоит на пути познания истины как препятствие встреченной необходимости» [Бердяев 1985: 76—77].
Пятый тезис: если нужно доказывать — доказывать ничего не надо. «Взаимно научно доказывать и юридически обязывать друг друга должны лишь люди далекие по духу, внутренне разобщенные. Родному по духу, другу моему я не должен доказывать и не должен обязывать его, мы видим одну и ту же истину и общаемся в истине... Доказывать нужно врагу и врага нужно обязывать. С другом же я общаюсь в созерцании единой истины, в осуществлении единой правды» [Бердяев 1926: 162—163]. «Доказательства не нужны для соборного сознания. Доказательства нужны лишь для тех, которые любят разное, у кого разные интуиции. Доказывают лишь врагам любимой истины, а не друзьям» [Бердяев 1985: 78].
Подобно тому, как суждение редуцируется до понятия-символа (из него исходит), а силлогизм сжимается в энтимемы, так и аргументация на основе «многих силлогизмов» в практическом акте мышления сокращается за счет иных, весьма необходимых впрочем, членов. Еще одна уловка хитроумного пиара, наводящая послушный «электорат» на неверные выводы.
Аргументация как последовательность действий:
На митингах аргументация редуцируется до минимума и предстает в связке Д-Г-3:
Д: в государственных магазинах нет товаров;
Г: в частных магазинах за границей изобилие товаров;
3: если приватизируем магазины, у нас появится всё.
Опущены момент аргументации О (доступность цен при малых зарплатах) и К (климатические условия и число работающих). Недостаток «русской мысли» состоит в неспособности различать реальную цельность идеи и кванты ее воплощения, также поданные как бы в законченно-цельном виде. Подразумевается или опускается самое главное в аргументации, в результате чего неискушенному в софизмах человеку трудно осуществить синтез полученной идеи.
Он обманут.
Спасает здравый смысл.
Здравый смысл
Вообще-то «под здравым смыслом всякий разумеет только свой собственный», — ехидно заметил Ключевский. Но и верно заметил: во-первых, здравый смысл есть всего лишь низшая степень развития всякого мышления, в том числе и научного, все мы в какой-то мере люди «ученые»; во-вторых, всё дело опять-таки в языке, ибо здравый смысл основан на ментальных категориях языка. Здравый смысл гласит: «Солнце всходит и заходит... Солнце — огненный шар... Земля плоская — на ней всё стоит, не падая... Прямо — это не сворачивая ни вправо, ни влево...»
Здравый смысл ошибается, и мы это знаем. Наукой доказано: «Солнце неподвижно — Земля вращается вокруг него... Солнце не отражает света — оно черное (состоит из железа!)... Земля по форме ближе к шару... прямая — кратчайшая линия между двумя точками...»
И так далее.
Давно замечено, и не нам повторять, что в научные истины надо верить, тогда как реальность ошибочна, но очевидна. Русская ментальность ищет не истинности, а очевидности, т. е. подлинности. Ей нужна правда, а не холодная истина, которая формальна по существу. Реальное становится нереальным и потому, в сознании, подменяется ирреальным, что становится почвой для прорастания иррационального. Иррационализм русского сознания часто посрамляет ratio, ибо вне веры нет науки, так же как нет и самой веры без точной науки.
И это тоже пример разведения мысли на идею-веру и на вещь-науку. «Таким-то образом анализ, сокрушив людскую гордость, принуждает ее просить у веры того, чего не в состоянии дать ей один разум, действующий по законам логики, но оторванный от других духовных сил» [Хомяков 1912, 2: 90].
Французский здравый смысл для русского — буржуазная умеренность и «закисание духа», он не дает простора мысли, не творит новых миров.
Чтобы быть уверенным в истинности сказанного, следует перехитрить истину. Язык поможет в этом.
В языке своя «манихейская» логика (не она ли сохраняет вживе гностическую правду в веках?). В языке — говорю о русском — форма удваивается с тем, чтобы смысл мог — раздвоится. Тогда-то эту холодную истину мы обойдем горячей своей правдой: с флангов, с боков, с двух сторон. Увидим одновременно и вместе идею и явленную вещь; мы уже заметили это на примере с Единственным и Множественным числом: одно и то же имя охватывает мысль со стороны идеи и со стороны предмета — сразу. Подобный феноменологизм сознания у русского человека есть свойство его языка, который в речи удваивает слова — удваивает не форму мысли, но содержательность формул.
С глубоким отвращением русский человек отбросит связку в любом отвлеченном суждении, поскольку «и так всё ясно».
Он глуп — он был глуп(ым) = он дурак — он был дурак(ом). Форма настоящего времени (состояние в настоящем) передает не предположение-пожелание будущего и не фиксацию прошлого действия, но предполагаемый реальным, то есть действительно настоящий, факт, событие, действие. Одновременно это и точка отсчета в системе глагольных времен: указание на момент речи. Форма настоящего времени в системе русских глагольных времен по смыслу самая неопределенная и потому способна обозначать любое время, прежде всего — вневременное, постоянное, вечное действие. Входившая в особую парадигму спряжения связочная форма по происхождению есть 3-е лицо единственного (есть) или множественного числа (суть). Они отвлеченны как выражающие нечто, объективированное вне меня. Конкретность форм 2-го лица, с которым я вступаю в диалог, и столь же определенная ясность 1-го лица (я — всегда «я») входит в противоречие с отвлеченностью, известной идеальностью, предполагаемостью здесь и теперь отсутствующего 3-го лица. Оно многозначно, поскольку обобщает любую связь любого со всяким, т. е. существует чисто формально, не будучи наполнено вещностью собственного смысла. По этой причине уже в древности связка 3-го лица опускалась в именном сказуемом и вовсе не являлась в глагольном, типа перфекта. Есть стало словом, обозначающим всякое присутствие (имеется): у меня есть... вместо привычных европейцу оборотов типа я имею. Суть стало высшей формой выражения сущности. Все присвязочные глагольные формы, в модальности конкретного высказывания, отрываясь от исходных своих контекстов, становились модально-временными частицами или союзами (да бы, что бы):
она рванулась было, но чьи-то сильные руки...
а буде Иван придет, ино дать ему... (в случае если...).
Во всех таких случаях важно указать не лицо, которое данное действие производит, а род и число — категории, как известно, не глагольные, а исконно именные. Глагольные формы и категории в истории русского языка постоянно сокращаются, сжимаются, словно съеживаются, уступая место формам и категориям имени. Потому что для русского сознания и «понятия» не вещность действия важна, а идея, которая в имени-символе и помогает русскому человеку «переплеснуться через логику».
Здравый — значит нормальный, смысл — всеобъемлющий. «Под смыслом мы подразумеваем примерно то же, что „разумность“. Разумным же в относительном смысле мы называем все целесообразное, все правильно ведущее к цели или помогающее ее осуществить» [Франк 1976: 43]. Не тратя времени на цитаты, воспользуемся обобщенным определением здравого смысла, на основе многих высказываний данным в: [Пукшанский 1987]. Здравый смысл — это свободное, могучее и правдивое выражение мысли, сознание на основе «неявных концептуальных конструкций — правил, убеждений, принципов действия», на основе долгого коллективного опыта явленного как общее чувство, т. е. чутье естественного человека: способность души соединить в цельность показания сразу всех органов чувств и выдать их в четком ритме лаконичной мысли. Здравый смысл соединяет в себе чувство, разум и опыт в общем движении интуиции; это рассудок, осветленный идеей. Здравый смысл имеет свою логику, которой не нужны ни «безумные идеи», ни «мужицкая грубость» (это слова Гегеля).
Русскую «здравость» Петр Астафьев [2000: 43] видел в «ненарушении гармонической полноты своего духа». Практический здравый смысл русского человека, по его мнению, отличает русского «и от индийской бесплодной созерцательности, и от не менее характерного фанатизма формальной логики в ранней схоластике, и от необузданного рационализма какого-нибудь Гегеля».
Здравый смысл у всех народов действует одинаково; на одной из указанных «крайностей», на буддизме, это показал В. Б. Касевич: каждодневная деятельность человека основана на формальной логике — это действия согласно прототипам, стереотипам и типичным ситуациям, так что обыденное мышление в принципе не может быть «нелогическим» потому лишь, что часто избегает логики (или кажется, что избегает) по причине недискурсивности логических операций сознания. «Недискурсивность как холистское мировосприятие, синтетическое, а не аналитическое, можно считать неизбежными чертами обыденного — и мифологического — мышления. Обыденное мышление призвано ориентировать человека в текущей ситуации» в целостном схватывании ситуации [Касевич 1996: 90, 92], то есть — в доверии чутью в тот решительный момент, когда размышлять и некогда, и не нужно, и поздно.
Глава пятая. Явленность воли: характер
Самобытный тип русской души уже выработан и навеки утвержден.
Николай БердяевПредставление характера
Ходячие представления о характерах народов составлены небрежно или под преобладающим влиянием наших симпатий или антипатий», — записал Николай Чернышевский мудрые слова, осторожно-взвешенные, национально-русские в русском человеке. И продолжал: «Понятие о народном характере очень многосложно; в состав его входят все те различия народа от других народов, которые не входят в состав понятия о физическом типе. Всматриваясь в это собрание множества представлений, можно разложить их на несколько разрядов, очень неодинаковых по степени своей устойчивости. К одному разряду относятся те умственные и нравственные качества, которые прямо обусловливаются различиями физических типов; к другому принадлежат разности по языку; далее, особые разряды образуют разницы по образу жизни, по обычаям, по степени образованности, по теоретическим убеждениям. Устойчивее всех те различия, которые прямо обусловлены разницами физических типов и называются темпераментами... [Если большинство народа флегматики, тогда] господствующими качествами должны быть медленность движений и речи; в действительности мы увидим, что очень многие из них имеют противоположные качества, считающиеся принадлежностью сангвинического темперамента... Но всматриваясь, мы увидим, что медленность или быстрота движений и речи у людей этого народа находится в тесной связи с обычаями сословий или профессий, к которым принадлежат они, с их понятиями о своей личной, фамильной важности или низкости своего общественного, семейного, личного положения...» [Чернышевский 1986: 606—607]. Самое спокойное по тону высказывание о «народном характере», которое удалось найти в литературе, описывающей такой характер. Только со стороны, извне, народный характер кажется качеством психологическим — позиция взгляда изнутри точку зрения изменяет. Темперамент оборачивается характером. «Темперамент — возбуждаемость, сумма и степень ощущений и желаний», а «характер — сдержанность, степень самообладания» [Ключевский IX: 396].
«Так что же такое характер человека? Под именем характера разумеют обыкновенно те особенности, которые отличают одно лицо от другого. Сюда принадлежат вкусы, привычки, наклонности, страсти» [Чичерин 1999: 138—139]. Но это — характер лица. «Характер не есть также совокупность общих свойств известного вещества, принимающего многообразные формы и вступающего в разные соединения с другими, каковы, например, свойства физических тел или химических элементов (т. е. как идеальная совокупность отдельно взятых черт. — В. К.). Характер есть исключительная принадлежность единичного существа, то, что отличает его от всех других. Характер можно приписать только постоянному, единичному субъекту, который таким образом перестает быть пустым вместилищем разнообразных ощущений и представлений, а сам становится определяющим началом своих действий... Как скоро мы в своем анализе дошли до воли как власти, господствующей над характером, так мы не можем уже пробавляться одними эмпирическими данными; мы должны принять во внимание и те метафизические начала, которые для огромного большинства людей служат высшим руководством в их деятельности, и чем более в нем проявляется эта сила, тем более он становится истинным человеком, т. е. разумным существом» [Там же: 51]. Ощущение-чувство, осветленное разумом и подводящее к действию воли, — последовательность в «шлифовке» характера. Личного характера человека.
Народный же характер — явление сложное, но не только и не столько психологическое (Налимов [1995: 20] видит в нем всего лишь общность психических генотипов по «кластерам»), как общественное, социальное; он сложился исторически и представляет собою концентрированный опыт народа.
Греческий χαρακτήρ обозначает своеобразную черту, некую особенность, у славян уже тысячу лет переводится словом образъ. Но образ чего-то или кого-то может быть самым разным, отсюда явные колебания в обозначении «образа человека» или «образа народа» в целом. Из всех характеристик ментальности характер ближе всего к такому образу относится. Характер — «самая стойкая черта нации» — считал в начале XX в. психолог и социолог П. И. Ковалевский. Характер образует стойкое сочетание социально важных черт: настойчивость, энергию, способность владеть собой, непобедимое упорство, способность жертвовать собой для идеала, ненарушимое уважение к закону, — «все вообще проявления воли», потому что воля и есть основная черта национального характера: «Народы гибнут по мере того, как портятся качества их характера, составляющие основу их души» [Ковалевский 1915: 28—29].
Постоянное смещение мысли с «образа человека» на «образ народа» и обратно вполне укладывается в представление реалиста о связи индивидуально-личного (эмпирического) с идеально-общим (помысленным); не случайно поэтому и «нация выбирает ту веру, которая больше способствует ее характеру» [Там же: 30]. Иногда русские мыслители просто не различают индивидуального и общего: «Человеческая личность не есть только интеллект, но прежде всего воля, характер, и пренебрежение этим жестоко мстит за себя. Разрушение в народе вековых религиозно-нравственных устоев освобождает в нем темные стихии, которых так много в русской истории, глубоко отравленной злой татарщиной и инстинктами кочевников-завоевателей» [Булгаков 1911: 217].
Одно дело «русский характер» в проявлениях отдельной личности, другое — идея «русскости», которую тоже понимают по-разному, действительный образ превращая в исследовательскую модель.
А. Вежбицка как идеальные признаки русскости выделяет эмоциональность, иррациональность, неагентивность и любовь к морали, что совместно «является описанием понятия „русскость“ в терминах общей и социальной психологии» [Фархутдинова 2000: 65]. Эмоциональность Вежбицка путает с эмотивностью, иррациональность — с интуитивностью, «любовь к морали» заменяет у нее этичность, а неагентивность — пассивность. Сама Фархутдинова называет определение Вежбицкой лишенным пошлости объективным определением, с чем трудно согласиться уже и по указанным терминологическим заменам, подменяющим сущность национального характера оценочностью с другой стороны. Попытки представить национальный характер только как «культурное понятие» (что нужно для устранения «великодержавного шовинизма»!) приводит не только к извращению ценностных ориентиров (как у Вежбицкой), но и к отрицанию «усредненного типа русского характера» (как у П. Сорокина), а то и к этнографически-лексикографическому его представлению (как у Фархутдиновой — по предметности вещей: русская рубашка, русский чай, русские блины, водка, зима и т. д.). Отсюда деление русскости на две «страты» — культура элитарная и народная. Для многих представителей современной «элиты» характер — не этническое, а только культурное понятие.
Сложность изучения национального характера определяется этим тройным двоением: характер личный — характер национальный; характер народный — характер элитарно-культурный; характер действительный — характер, моделированный точкой зрения извне (с перемаркировкой оценок).
О расхождении «личный — национальный» уже сказано: это предпочтение вещи или идеи, частного или общего, явления или сущности. Другие двоения того же рода, с той лишь разницей, что место «национального» занимает ограниченно окультуренный (даже узко социальный) или исследовательски моделированный, вторичный или третичный уровень осмысления «национального». Такими «двоениями» можно пренебречь как искусственно-идеологическими оценками реальных соотношений.
Понятие национального характера разное у различных ученых.
По мнению Льва Гумилева, национальный характер — миф. Это вообще обычное утверждение для защитников других национальных типов или их представителей. Как-то трудно им признать «инаковость» и «равноправность» русского с другими национальными «характерами»; в крайнем случае говорят о «русскости» в плане принадлежности к идее «Руси-Родины» [Фархутдинова 2000: 80].
Другие утверждают, что «характер есть определенное соотношение (структура) устойчивых черт субъекта (личности или общности), проявляющихся в его поведении» [Сагатовский 1994: 32]; или: характер — «определенные нормы, традиции, формы реакций на окружающий мир, нормы поведения и деятельности», то есть способы нормативного реагирования на ситуацию во внешнем мире [Бороноев, Смирнов 1992: 17]. Особенности русского характера видят в том, что этот народный характер складывался в ситуации неравномерного развития, внутренними толчками и тычками извне, что и обусловило неравномерность различных сторон и культуры, и характера, причем на более узком наборе ценностей; например, характер не оттачивался на ценностях типа Дело как личный бизнес. Богатство как собственность и Мастерство как профессия. В русском представлении характер не результат, а динамический процесс становления характера; отсюда возникает ошибочная точка зрения (например, у Канта), что русский характер еще не сформировался. О «безграничности, бесформенности, непостижимости» русского характера для западного наблюдателя говорил Николай Бердяев. Для иностранца спокойная уверенность русского, его чувство собственного достоинства предстают в искаженном виде: «русский характер: доминируют добрые и ленивые» [Сикевич 1996: 46].
Русский характер
Существует множество перечней национальных добродетелей и пороков, якобы выражающих ключевые признаки русского характера.
Они таковы, как пишет о них Чернышевский. Либо хула, как у Ракитова, либо полная апология: «Сам русский характер народный... наша открытость, прямодушие, повышенная простоватость, естественная непринужденность, уживчивость, доверчивое смирение с судьбой, долготерпение, долговыносливость, непогоня за внешним успехом, готовность к самоосуждению, к раскаянию, скромность в совершении подвига, сострадательность и великодушие... Отразилось всё и в языке, зеркале народного характера...» [Солженицын 1994: 175].
Утверждают, что разные социальные слои формировали различный характер; отвага русского солдата и отвага русского аристократа — различные проявления мужества, но в родовом их определении и то и другое — одинаково отвага. Описание отрицательных черт национального характера может быть переформулировано другими словами: беспечность, недальновидность, терпимость, пьянство, лень [Сикевич 1996: 83] — так ли уж они всеобщи? Основной материал для подобных суждений — «этностереотипы сильны в фольклоре» — служит дурную службу исследователям, которые опираются на такие тексты. Пословичные выражения концептуальны, т. е. представляют фиксированный в символическом выражении запрет на «беспечность, недальновидность, терпимость, пьянство, лень» и т. д. Они не описывают национальный русский характер, а осуждают соответствующие проявления характера.
То же касается и обратного — сведения всех черт к формуле «святости».
«Если свести все эти уже отмеченные черты к их самому общему и принципиальному выражению... то мы получим следующее определение самобытно-русского национального характера: глубина, многосторонность, энергическая подвижность и теплота внутренней жизни и ее интересов рядом с неспособностью и несклонностью ко всяким задачам внешней организации, внешнего упорядочивания жизни и соответствующим равнодушием к внешним формам, внешним благам и результатам своей жизни и деятельности. Душа выше и дороже всего: ее спасение, полнота, цельность и глубина ее внутреннего мира — прежде всего, а всё прочее само приложится, несущественно — таков девиз „святой Руси“, преподносящийся ей в отличительно русском, как признает и г-н Соловьев, идеале „святости“ [Астафьев 2000: 42].
Безусловно, многие черты характера русского человека свойственны и другим народам, но здесь они описываются не как специально русские признаки, а как конститутивные признаки русской ментальности. Кроме того, называем их одинаково как идеи характера (идеально они действительно могут совпадать), но в действительности есть разночтения и оттенки, которые также следовало бы различать. На сравнении русской и еврейской ментальности мы это уже увидели, общие черты оказались наполненными различным содержанием. Есть еще и разные именования таких оттенков, что также следует учитывать. Василий Ключевский в своем опыте исторического исследования видел, в частности, что: «откровенность— вовсе не доверчивость... чувствительность есть подделка чувства, как диалектика есть подделка логики... мнительность — не наблюдательность, а причина ее отсутствия... самолюбие чистое без примеси честолюбия — голый зуд личного интереса без всякого чувства чести», и т. д.
Кроме оттенков есть еще и доминанта национального характера. Доминанта русского характера: попав на чужую землю, цыган станет кочевать, еврей торговать, «а русский постарается усесться на землю или на службу» [Солоневич 1991: 168].
«Самобытность русского народа, — развивает ту же мысль Ильин, — совсем не в том, чтобы пребывать в безволии и безмыслии, наслаждаться бесформенностью и прозябать в хаосе; но в том, чтобы выращивать вторичные силы русской культуры (волю, мысль, форму и организацию) из ее первичных сил (из сердца, из созерцания, из свободы и совести). Самобытность русской души и русской культуры выражается именно в этом распределении ее сил на первичные и вторичные: первичные силы определяют и ведут, а вторичные вырастают из них и приемлют от них свой закон. Так уже было в истории России. И это было верно и прекрасно. Так должно быть и впредь, но еще лучше, полнее и совершеннее» [Ильин 1992: 325]. В этом разъяснении содержится та же мысль: в динамике характера необходимо сопрягать данное и заданное, идею и вещь. «Своеобразие русской души» — в различии «между первичными и вторичными душевно-духовными силами» [Ильин 6, 2: 410]. Иван Ильин постоянно возвращается к идее «русского характера». Формы народного творчества создают «усилие над развязыванием узлов национального характера. В них — начало формирования национального мироощущения и познания жизни» [Ильин 6, 3: 58]. Различие между французскими, немецкими и русскими сказками подтверждает эту мысль писателя.
«Было бы правильным вообще не подходить к оценке характера как голой формы, ибо она всего лишь первая ступенька, лишь строительные леса сооружаемого здания. Самородный характер выражает вовне не просто свою „стабильную форму“, он содержательно проработан, он являет собой живую целостность, и эта целостность требует всего человека... Удается русскому такой характер — он становится поистине великаном, ибо материал чувств, страстей, темперамента, который он переработал, велик и глубок...» [Ильин 6, 2: 399]. Развитие на Руси «нерусского менталитета» идет сверху, от «абсолютно жестокосердого правительства». А «среднему русскому человеку совершенно не свойственны характерные, например, для англичан поведение и выправка — это искусство самообладания и самодисциплины. Это не значит, что русский человек „бесхарактерный“. Ведь национальный характер русского возник из терпения, а это такой способ утверждения стойкости, подобно которому не найти во всей человеческой истории. Высшее выражение этого стойкого терпения, этой внешне, быть может, „угнетенной“, но внутренне непоколебимой и в конченом счете торжествующей надежности проявляется в России в религиозном мученичестве и в солдатском подвиге, чему примеров более чем достаточно» [Там же].
В общем, «своеобразный национальный характер русской нации до сих пор не определен самими русскими и совершенно не понят иностранцами» [Ковалевский 1915: 39]. Характер — «самая стойкая черта нации». На основе мнений различных иностранных наблюдателей и собственного опыта профессор П. И. Ковалевский определенными чертами русского характера (к которым восходят все остальные) признавал доброту, прямоту (честность и отсутствие лицемерия) и слабость воли; о последней он писал: «Воля есть диагональ между двумя душевными силами: мышлением и чувством, или страстью» [Там же: 47]. Поскольку у русских преобладают чувства (доброта и пр.), то часто разум уступает, отсутствует решительность к исполнению, но тогда спасают трудолюбие, неутомимость, терпеливость, выносливость. Поскольку чувственная сторона характера преобладает, отсюда — страстность и легкая возбудимость, исключающая раздражительность и озлобление, но развивающая запальчивость (все такие реакции характера — кратковременны). Если же русского довели до крайнего ожесточения — русский может быть беспощадным, особенно в классовом отношении (разрушает идеал общины); быстрая смена настроений вызывает легкомыслие и порывистость (благодушие или, наоборот, молодечество и удаль). «Грустные качества» русских Ковалевский не обходит стороной: многовековый гнет убил в русском чувство собственного достоинства, вызывал чувства недоверия к себе (нет самолюбия), неуважение к собственности (все равно отберут), лень, обман, отсутствие чувства долга, неуважение к человеку, откуда и постоянные ссоры между собой, препятствующие единению в идеале общины. «Самоумаление — наш порок», и тут мало утешают максимы Достоевского, сказавшего, что это — черта великого народа. К числу основополагающих относится и убеждение в том, что в мире нет равенства — но каждый имеет право на равенство: однако равенство каждый должен заработать сам! Характерно указание на то, что русский идеал «стремится не к пользе, а к добру» [Ковалевский 1915: 60], что, между прочим, фиксируется и в языке: категории Блага — соотношение истины, красоты и пользы — толкуются как истина, красота и добро.
«Русский во внешности приличен и прост, чистоплотен, часто небрежен, редко неряшлив, враг немецкой прилизанности и далек от французского франтовства. В отношении с людьми вежлив и предупредителен — но далек от немецкого высокомерия и французской изысканности. По отношению к старшим все славяне выражают почитание и уважение. Они несколько угловаты, не всегда общительны, но без хитрости и подвоха. Русский — представитель порядочности без хвастовства, — враг всего нечистого и открыто относится с презрением ко лжи и заискиванию. В нем вы не заметите гордости и самомнения. Нередкость нерадение, изредка невежливость и невежество. Никогда не встретите тяготения к надменности и стремления к агрессивности, — он скорее склонен к подчинению, а не к захвату... При встрече с неизбежным он идет покойно навстречу без растерянности и волнения. Тоска и уныние встречаются, но больше на севере и западе» (т. е. в зоне соприкосновения с другими народами. — В. К.) [Там же: 53—54]. Ковалевский цитирует иностранных наблюдателей русского характера: сердечность, отсутствие лицемерия, благожелательность, щедрость, жалость, сострадание, милосердие — черты, которые на Западе в дефиците и потому отмечаются благожелательными наблюдателями. Щедрость: «скупость и скаредность не свойственны славянской натуре. Даже расчетливость ей противна... Расчетливость французская стоит посредине между славянским радушием и немецкой скупостью» [Там же: 40]. Рад душой.
Но самое главное (отмечает Ковалевский) — и беда и счастье русского человека — «у него инстинкты общечеловечности. Он носит в себе начало примирения кажущегося непримиримым. Самокритика — одна из черт нации. В силу присущего русской нации человеколюбия, она бескорыстно проливает свою кровь за счастье и свободу других порабощенных народов» [Ковалевский 1915: 59]. Удивительно это — других.
Символика характера
Русское представление о Троице символически выражает диалектику развития национального характера.
Именно в такой последовательности уясняется логика развития представления о Боге: сначала Отца-Создателя, затем Сына-Творца и наконец Духа-Спаса. Бог Отец создал тварный мир. Бог Сын облагородил этот мир духовным страданием, и только тогда явился в мир чистый Дух, осветляющий жизнь любовью и всеобщей связью.
Тройственностью признаков, данных символически, определяется русский характер в его развитии и противоречивости. Творческая деловитость — сострадательность терпения и жертвенность — доверчивая открытость. Так уже в средневековом «Домострое», но в обратном движении показанное на композиции текста: духовное — социально-этическое — хозяйственно-деловое. По-разному можно оценивать этот ряд и его составляющие, но важно, что вершиной здесь признается Дух, потому что только дух присутствует во всех ипостасях божества, соединяя их.
С.О. Прокофьев описал эту связь иначе, как наложение нескольких пластов культуры.
Чистота, сострадание, со-чувствие приходят из язычества; безграничное терпение, страдание жертвенности — от христианства, и только «эзотерическое течение Скифиана» порождает духовную мудрость: вот «три основные душевные способности восточнославянских народов — сострадание, терпение и жертвенность», вызвавшие «феномен исключительного развития совести в этом народе» [Прокофьев 1995: 140—146].
Неясно существование «Скифиана», поэтому и набор ключевых признаков русского характера, данных здесь, кажется неточным.
Христианство возводит человеческое чувство в степень волевых проявлений, требующих от человека осознания норм, то есть проведения их через разум: не понятия, а осознания в образце. Неуклонность такого движения мысли видна и на истории слов.
Народные парные формулы этического содержания заменялись высокими словами христианского символа. Стыд и срам > совесть, радость и веселье > торжество, правда-истина > справедливость, горе да беда > скорбь и мн. др. Совесть, торжество, справедливость, скорбь выражают не просто соединение личного чувства (стыда, радости, горя, правильности) и соборного разума (общественные идеи осуждения, веселья, беды и истины), как было это представлено в языческих старых формулах, аналитически разъединявших в сознании личность и общество. Новые термины передают слиянность нравственных переживаний в субъект-объектном единстве с выходом их в действие, в свершение, в исполнение предначертанного. Возникали разумные основания новой морали совершенно нерасчетливого характера. Нрав натуры, то есть чувство, и нравственность разума в совместном усилии порождают мораль, достойную свободной воли. Пытаясь сегодня понять логически прозрачное течение нравственных категорий русского сознания, их стараются перевести в понятия, передавая с помощью иностранного термина, и тем самым срезают тонкие нити символических соответствий, скрытых за их динамическими переходами. Ну что такое фестиваль вместо традиционного торжество, трагедия вместо скорбь, коллективизм вместо соборность, харизма взамен благодати?
Приступая к описанию сложной области — народного характера, заметим, что именно здесь различные точки зрения на русскость особенно противоречивы и слишком резки. Пока речь идет о чувстве и мысли, тут нет особых противостояний — только непонимание, которое можно и простить, ведь каждый судит о другом по себе, немудрено ошибиться, не понимая чужого понимания, не принимая субъективности чужого чувства.
Кроме святости лика и совести личности, у человека есть еще один облик — его лицо. Лицо возвышается его достоинством, — говорил Соловьев, — то есть буквально его со-стоянием со всеми, его положением, собственной ценою, какую можно было бы дать за конкретное «лицо». Поэтому справедливо говорят, что «с национальным характером связано понятие достоинств, лежащих в основе народной нравственности, — чести, патриотизма, доброжелательства, уважения к другим и т. д.» [Бороноев, Смирнов 1992: 16]. Достоинства русского в его достоинстве. Даже в борьбе за свободу народ требовал для себя не освобождения, а службы, но службы непосредственно царю и отечеству, как это было у дворянства [Федоров 1995: 23]. В службе государству, обществу и народу, но не другому лицу. Идее, а не персоне.
Так сложилось в Средние века, что образцом — идеалом — всегда становился образец, обладавший достоинством духовным и праведным. Достоинство и создавало те первичные свойства характера, которые развивали характер.
Иное дело сам характер. Это выход в действие, в дело, в действительность. Тут все друг другу соперники, тут схватки острее, озлобленность гуще. Но, как сказал Георгий Федотов, «нельзя обобщать также и волевых качеств русского человека» [Федотов 1981: 89] — они весьма разнообразны, а именно воля и определяет характер.
Приступая к изложению конкретных черт русского характера в его проявлении к воле, порядок изложения тем примем исходя из давно известной схемы «причин». «Первая разновидность понятийной категории основы целедостижения концентрирует внимание на источнике действия, или на воле. Вторая — на ресурсах действия, на том, с помощью чего и чем осуществляется действие (польза, добро как ресурс, средства, сила). Третья — на первообразе, т. е. на алгоритме или на программе действия (судьба, провидение). Четвертая — на цели (благо, добро как нечто чаемое) [Ильин 1997: 84]. Толчок всякому действию — в проявлении воли, материя движений — в средствах, форма-план-идея-предначертания — в судьбе и свободе, и т. д. Это номиналистический порядок действий, идущий от вещи. Неоплатонический порядок был бы другим — от первообраза действия, от формы — действие направлено судьбой.
Возможны и другие последовательности в представлении признаков. Например: полнота жизни — в благе, в смысле и в цели, причем ее проявление в благе — это любовь, в смысле — это свобода, в цели — это счастье [Франк 1976: 50—52, 61].
Впрочем, эмпирическое рассмотрение признаков возможно в любом порядке. Система сложится сама по себе. Начнем со смысла.
Парадоксы свободы
Наиболее распространенный на Западе миф — миф о рабском характере русского человека, миф о России как стране рабов, не представляющих себе ценности свободы. О «русской рабской душе» написано много, со вкусом и сладострастием — о «нравственном мазохизме» русских, об обреченности в рабстве пребывать вечно; даже Маркс в своей публицистике утверждал, что в слабости своей — в рабстве — Россия как империя нашла принцип своей силы... Александр Солженицын не раз одергивал западных культурологов за их попытки даже коммунизм объявить результатом «извечного русского рабства»: «Россия решительно осуждается за всё, в чем она не похожа на Запад» [Солженицын 1981: 309].
Как и во всех других, подобных этому, случаях, миф основан на логической подмене понятий, столь обычной в культуре ratio, что являет собою намеренную ложь, и на различиях в ментальности, существующих между нами (непроизвольный самообман). Можно понять недоумение современного богослова, митрополита Ленинградского и Ладожского Иоанна: «Как же русский народ, столь склонный (если верить нашим горе-историкам) к анархии и произволу, столь ленивый, косный и непредприимчивый, столь равнодушный к личной свободе и правовым нормам общежития, сумел построить величайшую в мире Державу... самую устойчивую исторически, вот уже пять столетий подряд являющуюся „гармонизатором“ огромного евразийского геополитического региона? Как этот невежественный народ сумел создать богатейшую культуру, плодами которой... до сих пор питается одряхлевший и изверившийся Запад?» — и только в мистически «духовном разумении жизни» такое можно было бы понять.
Но так уж сложилось исторически, что на Руси государственность — внешняя по отношению к этносу и обычно чужеродная сила — стремилась подавить все остатки природной славянской вольности, в том числе и естественное чувство личной свободы, которое на Западе склонны почитать единственно свободой. Русский человек говорит о свободе застенчиво, как о любви, любви неразделенной и горькой. Слишком интимное чувство, чтобы о нем говорить на людях. «Теперь даже самый простой человек не скажет просто о свободе, потому что свобода — это тайна личности, выскажи тайну — и свобода со всеми своими прелестями, надеждой, верой, любовью разойдется в общей жизни, как дым...» [Пришвин 1986: 106].
Да и что о ней говорить, о свободе, если «страстный темперамент и природная гармоничная свобода отличает образ русской души, причем темперамент проявляется не всегда, а естественная свобода — всегда» [Ильин 6, 2: 397].
Но общество-община в своем противостоянии государству отстаивало всегда ту форму вольности, которую и признают за свободу на Руси — в границах дозволенных обществом проявлений личной воли. Церковь в разное время вела себя по-разному, но в моменты без-властия она всегда становилась на сторону общества и помогала ему выстоять в противостоянии очевидно чужеродной власти. Так было и при монголо-татарском иге, так произошло и в великих неустроях века ХѴІІ-го, после революций ХХ-го; так случалось часто. Но как вела себя церковь в периоды, когда государственная власть была сильной, — лучше не вспоминать. Вера и церковь расходились тогда столь резко, что церковь фактически стояла на рубежах измены православию; так случилось в XV в., когда по вине иерархов и с согласия власти Россия колебалась перед принятием католичества или иудаизма, а чуть позже и протестантизма, пока в XVII в. не прорвалась — в государственной церкви под личиной никонианства, а затем и Петра — с отменою тайны исповеди и прочими покушениями на свободу совести. Совесть поступила на службу дворянской чести. Но многие духовные силы были при этом растрачены и утрачены.
Православие уцелело благодаря народной вере и убежденности в том, что церковь и вера — не одно и то же.
Горячая вера, вера сердца — не разума, вопреки всему — даже разуму — доказывает, что личной свободы и на Руси достало.
Нужно вообще удивляться тому, что века подневольного состояния под иноземным игом — то одним, то другим — не разрушили веры русского человека в свободу, не в личную только свободу, нет — но в свободу народную, — и сохранили чувство личного достоинства человека перед лицом враждебных ему сил. Следует вспомнить героев прошлого, которые умирали стойко, с поднятой головой, едким прищуром глаз казня суетливых врагов.
Сохранение чувства нравственного достоинства тоже доказывает, что личной свободы на Руси достаточно. Воли нет.
Если же под свободой понимать нервические всхлипы об утеснении того да этого, тех или этих — всегда избирательно только своих, без внимания к нуждам других, — такую «свободу» русская ментальность не приемлет. Например, современное диссидентство у русских не в чести, поскольку оно связано не с идеей свободы, а со шкурным интересом для «своих», то есть с обязательными изъятиями кого-то из среды «свободных», что исключает саму идею свободы. Всем! — таково категорическое требование в идее: свободу — всем. Но свобода всем и каждому есть не свобода, а воля — вольность, вольница, в конечном счете ведущая даже к распылу нации, беспредел. «Но свобода только личная — призрачная свобода; свобода только от существ разумных — мнимая; в действительности она — лишь общее рабство перед силою неразумною, рабство, из коего действительное освобождение в отдельности им невозможно» [Федоров 1995] — вот русское отношение к свободе, которого, видимо, не понимают (или не желают понять) критики «русского рабства». Удивительная вещь: на русском языке философствовали многие, писали о свободе тоже, но точку зрения вроде изложенной выражали только русские люди. Остальные понимают свободу как индивидуальную волю; типичное выражение такого взгляда у 3. Мамардашвили: «Свобода — это сила на реализацию своего собственного понимания „так вижу и не могу иначе“... Таков парадокс свободы: говоря о свободе, но требуя ее для себя лично, тем самым утверждают истину, давно известную на Руси: свобода для всех — не сознается свободой! И потому „борцы за свободу“ либо лжецы, либо провокаторы. Свобода только для себя и лишь для „своих“ — из такой свободы рождается фашизм».
Типичная ошибка подмены тезиса.
Второй постоянный парадокс свободы, понятой в личностном плане, также отчуждает понятие свободы от русского символа свободы. «Представление об абсолютно свободном человеке лишено смысла. Представление о свободе воли может быть осмысленным только для несвободного человека. В этом парадокс свободы» [Налимов 1995: 42]. Подмена содержательных форм национального концепта: символ уточняется понятием.
Еще один парадокс, сформулированный Бердяевым на критике концептуалиста: если свобода есть осознанная необходимость (Гегель > марксизм), то свободы — нет, потому что это — свобода универсального, а не индивидуального, свобода реальной идеи, а не действительной жизни; «свобода Гегеля есть рабство человека, есть апофеоз силы и насилия... Мировой дух Гегеля, саморазвивающийся к свободе, есть самый страшный враг человека» [Бердяев 1996: 83—84, 171]. Несведенность «вещи» и «идеи», их разорванность в понятии, уничтожает идеальный смысл свободы, потому что, как давно известно, абсолютное требование свободы требует свободы и от Абсолюта — а это уже и не вольница даже, а полный мрак холодного одиночества.
Подмена имен.
Общество — саморегулирующаяся система. Пределами личной свободы оно ограждается от распадения. В русском сознании государство потому и враждебно человеку, что, исполняя ту же функцию собирания, оно не дает человеку ни свободы, ни воли. Все революции, бунты, мятежи на Руси осуществлялись на обществе, на общине, на общественном мнении — и только тогда свергали нашкодившую власть. Тот же церковный иерарх, говоря о «технологии катастроф» в России, заметил, что ни один словарь не дает точного значения слова смута, «никак не определяет ее глубинных механизмов и фундаментальных основ»; психологически русская «смута есть прискорбное помрачение русского самосознания», когда нарушается гармония жизни, — отсутствие благодати.
Оправдание свободы
В свое время известный столичный публицист заметил, что не всякая свобода имеет право на развитие. Например, свобода духа граничит с анархией, свобода воли — разрушительна для обязанностей, свобода совести — с подавлением чужой совести, а свобода любви... о том уже помолчим [Меньшиков 2000: 288—290]. И это говорят о свободе, которая, по определению, ограничена свободой других.
Стоит привести основания, по которым немецкий культуролог полагает, что русские свободны больше, чем западные европейцы [Шубарт 2003: 77—90].
— Европеец в своем существовании зависит от множества мелочей — какая уж там свобода; русский свободен от оков всего преходящего, бренного, тленного.
— «Идея всепрощающей любви неразрывно связана со свободой — идея отмщающего права — с зависимостью».
— Собственность овладевает человеком — и «в богатстве чахнет свобода души». «Капиталисты — рабы», а русский свободен «среди своих».
— «Свобода немыслима без смирения, и русский свободен, пока он полон смирения»: «Велика Россия смирением своим» — говорил Достоевский.
— Мысли русского направлены на конец — отсюда «никогда не притупляющееся в нем чувство вины», он даже преувеличивает свои слабости в покаянии; отсюда и жертвенность как основная идея русской этики.
— «Когда русский свободен, он действует инстинктивно, из слепого стремления к свободе... в то время как прометеевский человек (западный. — В. К.) добивается высшей точки доступной ему свободы только сознательным напряжением воли» — отсюда на Западе воля к власти.
— На Западе изначальный страх перед всем, в том числе перед природой; это культура уставов, норм порядка, диктатура рассудка — у русского изначально доверие свободному духу: это логика жизни, гармония космоса, импровизация судьбы. Но «изначальный страх есть проклятье, а изначальное доверие — милость».
— Озабоченный и расчетливый европеец живет «для создания припасов», на нем тень забот, проникших уже в философию.
— Свобода на Западе — это предельная индивидуальность, конкуренция при равных условиях, тогда как «русский признает закон мгновенья» — укоренен в вечном, не любит норм «из благоговения перед бесконечностью».
— У русского человека свобода не в том, что под свободой понимают на Западе: «у русского не напряженность, а раскрепощенность».
Десяток тезисов (их число могло быть и больше) показывает те границы, в которых пребывает европейское ощущение свободы — свободы духа, свободы веры, свободы любви и так далее. Идея свободы и там в чести — конкретно в жизни свободы нет.
Но и всё перечисленное не охватывает возможности личной свободы у русского человека, это хорошо понимает каждый русский. Если на Западе свободы действительной нет, у русского нет свободы реальной. Западный человек утверждает свободу в идее, русский делит ее с другими в общем отношении к жизни.
Свобода по-русски
Русское понимание свободы представляют как личностно рациональное воплощение конкретных интересов: в персонализме разрешается конфликт между обществом и лицом («зрелой личностью»: [Тульчинский 1996: 343]). Вряд ли верно: персонализм — не русская точка зрения. Свобода как ответственность проявляется иначе.
Русское представление о свободе основано на символе и является органически природным. На это указывает само слово — хранитель символа. Конечно, это вовсе не с-в-обод(а), т. е. якобы «соединение в ободе (вокруг колеса)»! Корень термина здесь тот же, что и в словах свой, собственный — тот, который определяет ответственность человека в кругу своих близких. Свобода есть ограниченность личной воли в пользу общины.
Именно так понимает суть дела Иван Ильин: «Русскому человеку свобода присуща как бы от природы. Она выражается в той органической естественности и простоте, в той импровизаторской легкости и непринужденности, которая отличает восточного славянина от западных народов вообще и даже от некоторых западных славян. Эта внутренняя свобода чувствуется у нас во всем: в медлительной плавности и певучести русской речи, в русской походке и жестикуляции, в русской одежде и пляске, в русской пище и в русском быту. Русский мир жил и рос в пространственных просторах и сам тяготел к просторной нестесненности. Природная темпераментность души увлекала русского человека к прямодушию и открытости (Святославово „иду на вы“...), превращала его страстность в искренность и возводила эту искренность к исповедничеству или мученичеству...» [Ильин 1992: 325].
Эта «внутренняя свобода» и есть то качество, которым отличается русский характер, — внутреннее достоинство. Признание за человеком его достоинства, ценности его в общем раскладе общественных сил, и есть русское понимание свободы как выражение его воли. Только так он способен понять, например, демократию, в границах которой он сам своим делом и словом может принять участие по силам и разуму. Сам — без посредников.
Понятие свободы не соотносится с символом свободы. В русском представлении естественность поведения, социальная независимость и духовная раскрепощенность составляют три признака настоящей («внутренней») свободы, данной человеку «от мира». В этом отношении русский человек редко когда бывал свободен по-настоящему, и всего менее — в средневековом обществе. Тут историк не прав, утверждая: «Киевская Русь — дух свободы во всех отношениях» [Вернадский 1996: 26]. Социальная независимость — самое слабое место русской свободы, говорим ли мы о XVII в. (тогда «свободен» только царь), или о XXI в. Символическое понимание свободы вообще предполагает постоянную подмену одного ее признака другим, в данный момент особенно нужным и выгодным. Так и духовную раскрепощенность, вытекающую из природной естественности, можно понять как несвободу. «Свобода религиозная, свобода совести не есть право. В подобной постановке вопроса нет ничего религиозного, это — политический вопрос. Свобода в религиозной жизни есть обязанность, долг. Человек обязан нести бремя свободы, не имеет права сбросить с себя это бремя» [Бердяев 1911: 213].
Наоборот, «внутренняя свобода» оказывается корнем русского представления о свободе: «В целом русскому свойственна внутренняя свобода, для него не существует искусственно придуманных запретов. Он живет без усилий, „в нем бьется жизнь“. Он чересчур эмоционален и экспансивен, в большинстве случаев весьма общителен, участлив, дружелюбен, снисходителен и совсем по-особому гостеприимен. Его любезность не придуманна, не церемонна, не фальшива; напротив, она непосредственна, изобретательна, импровизационна, легко переходит в деликатное нежное чувство. Если заглянуть к нему в душу, возникает впечатление, что в ней как бы слышится внутреннее безмолвно звучащее „пение“, мелодичное и ритмичное. В самом деле, русские в высшей степени музыкальны» [Ильин 6, 2: 389].
Противопоставляя «западного человека» русскому (православному), Ильин выделяет маркированные признаки «свободы». Он говорит: «Западный человек — детерминист, который борется за политическую свободу. Восточный человек — индетерминист, который достигает политической свободы путем религиозного очищения. Два различных менталитета, две различные судьбы. Восточный христианин верит, что он призван к само-бытию, к само-стоянию, к само-действию — к свободе» [Там же]. Не иметь, а быть — вот свобода. Социальная свобода — «свобода тела», которая действительно зарождалась в Средние века. Георгий Федотов оценивает дело так: «Из двух равноценных ипостасей „свободы“: „абсолютная ценность личности (души)“ и „свобода выбора пути“ — Средневековье ограничивалось принудительным воспитанием первой и исключало второе. В этом, по-видимому, и заключается нетерпимое отношение к Домострою в XIX—XX вв., когда встал вопрос о необходимости второго пути — к свободе личного выбора. Свобода мысли в истории новых веков сменила свободу веры... Свобода веры предполагает свободу неверия. Но когда свобода неверия (сомнения, исследования) становится центральной, меняется всё человеческое содержание ее» [Федотов 1989: 226]. Такова диалектика развития всякого рода «свобод», о которой забывают критики, например, «Домостроя». Беспредельность личной свободы уже и сегодня подвергается сомнению, поскольку «свободная игра гигантски выросших производительных сил привела не к гармонии, а к разрушению. Вот почему задача освобождения сменилась задачей организации» [Там же]. Свобода общества снова стала важнее свободы личности.
Свобода как личное удовлетворение в своей деятельности (Гегель) тоже понятна русскому человеку. Свобода вообще состоит в гармонии личного и общественного (Иван Ильин) — в естественности, т. е. в возможности при любых обстоятельствах быть самим собой без вранья и притворства, «без игры». «Свобода есть собранность, а не распущенность духа, свобода сурова и трудна, а не легка. Свободная жизнь есть самая трудная жизнь, легкая же жизнь есть жизнь в необходимости и принуждении»; более того— свобода порождает страдания и трагедии [Бердяев 1926: 216].
Здесь выражено русское представление о свободе. Цельность духовной собранности, направленная на выбор достойной цели — общественного служения. Развитию такого рода свободы препятствуют собственные грехи: «Вот где истинная угроза свободе: зачатие рабства заключается в преступности народа» [Меньшиков 2000: 218].
Современные толкования символа «свобода» столь же многообразны, но уже не составляют органического единства традиционной русской ментальности. Свобода понимается как физическое вещество (необходимо для жизни), как ценность (ее необходимо сохранять), как простор для самой деятельности [Чернейко 1997: 191—192]. Конечно, слишком наивно особенности речевого поведения соотносить напрямую с характером народа. Но все-таки что-то есть и в том, что в отличие от многих других языков русский сохранил свободное и подвижное ударение, обилие однозначных синтаксических конструкций и лексических синонимов, дающих свободу выбора в изъявлении мысли, чувства или воли. Даже русская песня — многоголосие, внешне неприбранна (каждый тянет свой мотив наособицу), а в целом — та же песня. Свободный выбор и гибкость формы не соотносятся ли с полным ощущением свободы? Ведь что на уме — то и на языке. А современное понимание свободы — возможность действовать без ограничений по собственному усмотрению [Ментальность 1989: 270].
В своей речи для определения свободы в понятии каждый волен предпочесть либо объем, либо содержание — вещь или идею, и лингвист полагает справедливо: «Внутрипространственное семантическое напряжение» слова свобода создается двунаправленным давлением от 1) произвола, воли, анархии, права и т. д. и 2) от закона, запрета, совести, долга и т. д. — с постоянным воссозданием «ассоциативных контуров» смысла [Чернейко 1997: 190]. «Контуры» такие могут быть разными. Например, мужчины чаще выбирают как ценность именно свободу, тогда как женщины наполняют свои представления о ценности содержанием, связанным с милосердием, с духовностью, с любовью и прочими вечными ценностями [Ментальность 1989: 78]. Значит ли это, что женщина и до сих пор — раба? Вовсе нет. Тут проявляется обычное расхождение между мужским и женским представлением об одном и том же: женщину привлекает объем понятия, а не его содержание. Не общая идея свободы, а ее проявления в жизни.
Понимание свободы как осознанной воли (идея, а не чувство — логическое, а не психологическое) очень близко к русскому пониманию свободы; не как «осознанная необходимость», а как осознанная личная воля [Бердяев 1926: 198]. Впрочем, это не специально-русское представление о свободе. Католический философ также полагает, что «обладать свободой может лишь нематериальное», и потому «нет подлинной свободы без соотнесенности с истиной. Но в капиталистических обществах больше любят полезное и удобное, чем истинное. И в этом — их главное несчастье» [Вальверде 2000: 361, 266]. Современный русский философ (Федор Гиренок) напрасно думает, что «не свобода, а порядок определяет строй ума русских», потому что «там, где порядок, там и порядочность». Это едва ли не двойная подмена понятий, основанная на переносе в логическое («строй ума») и этическое.
На смертном одре Карамзин записал: «Для существа нравственного (т. е. духовного. — В. К.) нет блага без свободы; но эту свободу дает не государь, не парламент, а каждый из нас самому себе, с помощью Божией...» — если «повезет».
Твердость и крепость
Как же, скажут, — а крепостничество? Крепостное право в России не всегда четко определяемое понятие (на это указывал еще Ключевский); за словами не видят различия в сути дела. Типичная ошибка номиналиста. Последние исторические исследования, например И. Я. Фроянова и О. А. Платонова, прояснили ситуацию и с крепостничеством.
На Руси никогда не было рабства в том его виде, как было оно в Европе. Само же имя славянина, во многих языках ставшее именованием раба, к славянам отношения не имеет. Это их похищали и продавали в рабство, зная их надежную силу и трудолюбие; в целом это тоже факт, подтверждающий существование рабства в Европе. Да и откуда еще оно появилось в Америке?!
Древнерусское холопство есть личная зависимость вне прикрепления к земле; это не крепость, а твердость хозяйственных связей. Ключевский полагал, что холоп — крепостной, но это вряд ли верно, ибо земле он не крепок. Толкуя о «крепости», не следует забывать и о «твердости», русская земля на ней и держалась. Есть какая-то неясная связь между событиями истории и преобразованием смысла слов в прямо противоположном направлении. Древнерусское слово твердый значило ‘крепкий’, а слово крепкий — ‘твердый’. Взаимообратимость смыслов — верный знак символической нагруженности терминов, способных преобразовывать свое содержание согласно необходимости.
Отмена Юрьева дня в 1592 г. прикрепила крестьян к земле, но и это было еще не «крепостное право», а твердость хозяйственного организма, и в «классическом» (западноевропейском) виде это еще не «рабство». Крестьянин прикреплен к земле, но не к землевладельцу: «Посредник между правительством и крестьянином — помещик — создан в XVIII в., после 1762 года» [Ключевский VIII: 360]. Благодетельный дар бедняги Павла III, или, как предпочли говорить дворяне, «крепостное право установилось вследствие потребностей государства» [Чичерин 1998: 112].
Потребностей государства, а не общества. С 1762 по 1802 г. 30% населения — рабы на западноевропейский манер. И не XIX, а XVIII в. — век Просвещения и рационализма — виновен в этом. И потому следует внести поправки в слова Николая Бердяева: «Многие черты XIX в. должны быть преодолены как порождение крепостного права. И должны раскрыться новые черты — дисциплина характера, способность к действию, к организации, чувство ответственности, реальное понимание действительности. Но всегда остается вопрос о вечных чертах русского духа» [Бердяев 1991, 2: 29]. Если отсутствие указанных черт — порождение рабства у тех самых 30 процентов, неужели и все остальные «проценты» в течение века утратили «дисциплину характера, способность к действию» и прочее?
«Крепостное право, — говорит историк, — не свойственный для России институт, пришло к нам с Запада через Польшу, с которой близко соприкасалась правящая верхушка западнорусских земель. Именно по настоянию этого слоя феодалов в конце XVI в. отменяется Юрьев день, а во второй половине ХѴІІ-го происходит закабаление около половины свободных русских крестьян» [Платонов 1994: 145]. Уложение 1649 года давало помещикам некоторые возможности осуществлять это, но личный произвол помещика развился только в Петровские времена; сравнение списков Уложения из «Петровских коллегий» с самим Уложением показывает, как происходил процесс закабаления крестьян. «От реформ Петровской эпохи начинается закрепощение крестьянства и рождается шляхетство; слой, категорически противоречивший государственным традициям России» [Солоневич 1991: 208]. Но «государство» полагало, что западный опыт следует учесть, — и ввело крепостное право.
Случилось это на исходе Средневековья, и русская община еще не была умерщвлена, как на Западе в момент закабаления крестьян. На севере вообще крестьянин оставался свободным — потому что крепили сначала к земле; старообрядцы сохранили традиционно русское отношение к земле, да и земли на севере мало кого привлекали, помещиков здесь не было. Свободолюбивые люди уходили в казаки, добывая себе волю — не от общества, от государства; государство воспринималось как сила, служащая для подавления и организации граждан, общество — как сила, структурирующая жизнь и ментальное пространство народа. Остатки прежних свобод постоянно возобновлялись в виде традиционных русских соборов, Веча и даже Думы.
«Вся историческая сущность крепостного права» (слова Ключевского) в России укладывается в традиционную схему отношений, в свое время уже описанных Юрием Самариным (1857):
Постепенно развивались отношения зависимости как от земли — крепость, так и от лица — твердость, с постепенным переходом только к последней, личной зависимости от «владельца» того и другого. «Рабство может менять форму и название, но суть его остается прежней. Эта суть выражается в следующих словах: быть рабом — значит быть принужденным работать для другого, так же как быть господином — значит жить за счет труда другого» [Бакунин 1989: 97]. И тут крути не крути, а всем ясно: капитализм для многих — тоже рабство.
В России как только все степени зависимости от других перешли в одну лишь «идеальную» сферу отношений, не подкрепленных материально, началось «освобождение» крестьян от твердой руки владельца, но без земли.
Кажется близкой к истине мысль исследователя древнерусских текстов А. С. Дёмина, вынесенная им из глубокого прочтения старинных фолиантов: «Крупные общенародные несчастья побуждали летописцев искать не ответственного за ошибки, а наказующего за грехи». Бог «руководит» и государством, и обществом. Он наказует и дарит, и «вера христианская здесь выполняет роль регулирующего принципа». С другой стороны, дурные нравы в обществе признавали как стойкую реальность, которую трезво обсуждали средневековые авторы. Общества еще нет, поскольку нет идеи личной ответственности, и все в своем течении является обьще как равновеликое со-стояние под Богом. Ветхозаветная этика запрета постепенно сменяла этику личного подвига как образца общественного служения. Кто знает, не в этой ли волне монашествующего христианства захлебнулась на долгое время вольнолюбивая энергия русской общины как типа «общения»? Порывы такой энергии с разной силой бурлили и в XVII в., и позже, и не раз выплескивались на поверхности жизни, но пользовались этим капиталом свободы от неволи совсем посторонние силы. И всё крепче скрепляла волю крепь крепостного права — согласно той, метонимически осмысленной, истине, что раб божий и на земле — раб.
Сильно звучат тезисы, в исторических исследованиях сформулированные Платоновым и Фрояновым: в труде своем (деятельность в миру) и в жизни своей (воля к сущему) русский человек никогда рабом не был. А уж формальные тиски «государева права» — не его забота. Тем более, что и право для русского человека — это все-таки правда. Какая же в рабстве правда?
Общность свободы
Свобода и общество — слова, по смыслу близкие. Свой и общий значит и свой и общий одновременно. Добровольно подчиниться обществу — не рабство, а свое понимание смысла свободы. Свободы не сотворить никакого зла. В этом, конечно, тоже есть правила своей политической игры, не совсем такой, как на Западе, но ведь и там свобода действует в ограниченных рамках, обусловленных взаимосогласием и добровольным принятием ее норм. Свобода — это возможность жить по-своему, как ты хочешь, но в тех условиях и обстоятельствах, которые сложилось искони. Можно ли внушать русским идеал чужой свободы и при этом уверять, что только она — свобода?
Подмена понятий «свобода» и «воля», недобросовестность оппонентов, внедряющих в под-сознание нечто чуждое русской идее свободы, — это и есть не-свобода, поданная как свобода. Возникает сомнение, не есть ли столь настойчивое желание объяснить нам, что такое свобода, всего лишь попытка даровать нам такую свободу из чуждой руки. И потом попрекать за нее, как всегда попрекали неразумных русских Иванов за неправильное поведение.
Между тем и английское слово freedom означает свободу как независимость, что равно по смыслу русскому слову воля. А к воле отношение совсем иное.
«Свобода» для европейца родовой термин (гипероним), для русского — символ. И в том и в другом случае необходимо пояснить, что за свобода, в конкретном ее проявлении, имеется в виду, поскольку это «возвышенное слово... требует точного определения» [Бицилли 1996: 14]. Если толковать с точки зрения термина, нужно уточнить все виды свободы. Свобода печати, свобода религии, свобода совести, свобода нести повинности, свобода служения, свобода голосования, свобода передвижения, свобода безопасности?.. Перебирая все эти виды частных свобод, Иван Солоневич [1991: 412—417] наглядно показал, что в конкретном их исполнении и на Западе многих свобод не было до недавнего времени, а уж в Средние века их попросту не могло и быть («свобода печати»). Напротив, свободы религии всегда было больше у нас: «инквизиции не было, варфоломеевских ночей не устраивалось, мордва молилась своим мордовским богам, татарам было оставлено их магометанство, протестантские кирхи строились свободно...» [Там же: 412]. Простой человек («не профессионал политики», которому до всего есть дело) нуждается в простых свободах: в свободе труда, веры, передвижения и безопасности, а всё остальное... «Гипноз свободы оплачивается очень дорого, как и гипноз любого вранья». Но Солоневич, как и другие прочие, не достучался до разума борцов за свою свободу.
А русские люди от предков получили завет, четко понятый Хомяковым: воля — особая сила разума, данная человеку для действия. «Болящий разум» — это Бог, он волит и довлеет (слово восходит к глаголу довьлѣти ‘повелеть’), а то, что сам человек хочет, он лишь во-ображает как воление в форме желания. То, что довлеет сверху, надлежит исполнить, и в простой речи это передается словом надобѣть; в современном языке оно сохранилось в сокращенных формах: надобно, надо бы, надо и — точно тяжкий вздох в недовольстве неизбежным — нужно (от слова нужа ‘тягость’). Таковы модальности, трояким поясом охватывающие частную жизнь человека: довлеет—надлежит—надо, потому что волит—желает—хочет, что соответствует (в символически-привычной формуле) духу—душе—телу. Так что и в русском понимании «свобода не легкая, а трудная вещь», это — ответственность [Бердяев 1996: 275] в смысле ответа на общее. Огорчение только в том, что в принципе трудно выявить действительное соотношение трех модальностей, в которых человеку действовать предстоит. Ошибки возможны. Такие ошибки воспринимаются как грех. «Мы не можем определить направление своего хотения», человек вообще «чаще всего не знает, чего он хочет, куда его тянет» [Вышеславцев 1995: ИЗ], и оттого ему — грустно. Феноменологическая «неконтролируемость событиями», как определила такое состояние воли Анна Вежбицка.
Но направление было задано, его задает философия. Сформулировал в числе многих и человек, которого отстранили от дела как раз тогда, когда он был нужен. Учение Павла Флоренского об ориентировке состоит в признании активности человеческого духа, в способности человека концентрировать свои усилия на постижении и обладании известными ценностями [Шапошников 1996: 114]; соотношение разума и сердца — необходимое условие такого постижения цели. Об этом в XVIII в. говорил еще Григорий Сковорода, а до него, в XV в., Нил Сорский («дуализм сознания» традиционного общества).
Так что прост и ответ, как проста вся суть русской ментальности. Нужно соединить разорванные нити Логоса в точке приложения своих личных сил, умом и сердцем постигая сущность. Надлежит исполнить то, чего душа желает, то есть в практическом деле осуществить идею, притом стремясь к идеалу. Захотеть именно того, чего душа желает и что Бог велит. Свобода воли не бесконечна, но свобода и воля — разные полюсы одного и того же. «Надо и есть поправка к хочется», — заметил Пришвин и добавил: «Из этого „нигилизма“ складывается государственное надо» [Пришвин: 1986, 204].
Философия свободы
«Свобода есть познанная необходимость» — эти слова философа ограничивают пределы личной свободы человека, не допуская его свое-волия. Карл Маркс говорил, что только в коммунизме реализуется знаменитый принцип «свобода каждого будет обеспечивать свободу всех». Это верное понимание свободы, совпадающее с традиционным русским общинным мышлением.
Так понимает свободу русская ментальность: мера допустимой само-деятельности в границах отпущенной человеку возможности действ-овать, не расталкивая локтями окружающих и уж тем более не развивая свои хватательные инстинкты, о которых говорит и американец Ричард Пайпс в своей замысловатой книге «Собственность и свобода» (М., 2000). Это своего рода завершение программного заявления, сделанного на заре капиталистической эры: «Единственный и его собственность». Свобода — единственность индивидуума (далее «неделимого»), которая в русском языке называется иначе — воля. Русские писатели в образцовых — классических — текстах показали потомкам путь «своей воли». Например, Родиона Раскольникова, который хотел попробовать... и что из этого вышло. Русская ментальность этична, и если в этом видят ее слабость, тем хуже для западной «свободы». Но любопытны параллели с восточной ментальностью. Когда в XIX в. японцы столкнулись с проявлениями европейской «свободы», они после долгих колебаний соответствующее понятие обозначили словом jiyu — распущенность.
Вернемся к обозначениям в родном языке Пайпса. Англ. «свобода» в слове freedom понимается как ‘независимость’ (в форме множественного числа это вообще ‘вольности’), а в слове латинского происхождения liberty — как ‘вольность’ (в форме множественного числа ‘привилегии’). Во всех случаях это разные оттенки личной, индивидуальной воли, определяемой материальными установками сознания, допускающими всякие «вольности» (во множественном числе — экономического характера) в приобретении «привилегий» для себя лично. Это в современном языке. В средневековой Англии freedom — свобода, дарованная от высшего к низшему, а liberty — свобода равных. «Свобода равных не совмещалась со свободой неравных», — замечает Пайпс.
Русская свобода общностью словесного корня связана и с обозначением места проживания (слобода), и с собственностью, и с родством (собина), и просто с отношением к близким (свои) и к себе самому (свой) в самых важных свойствах. Это отображение культурного мира человека, который регламентирует его собственные возможности.
Воля до XVII в. — мы уже знаем — находится в полном распоряжении Бога, и все пребывают согласно «воле Божьей», в остальном до-воль-ные тем, что имеют. Воля небесная идеальна в отношении к очерченной земными пределами свободе. Свое-волен человек в своей сво-бо-де, и этого до-воль-но, ведь воля до-въл-еет сверху, и человек не в силах ее одолеть. Естественная природность свободы противопоставлена давлению сакральной воли.
В русском миросозерцании в конце концов победил не «утилитаристский реализм» Аристотеля (как на Западе), а «этический идеализм» Платона [Пайпс 2000: 23] — что верно, хотя то же можно назвать и иначе. Свобода при таком ее понимании ограничена этическими условиями ее осуществления, а вовсе не отсутствием собственности. Хотя бы потому, что сама свобода в «этическом идеализме» признается самой ценной собственностью как естественное свойство собственной особности в пределах своей собины. Осознанность необходимости определяла направление поисков равновесия между собственным и своим.
Община — общность общественного. Общество, еще не ставшее «прогрессивной» общественностью.
Ричард Пайпс постоянно сбивается на противоречия, сравнивая русское понимание свободы с западноевропейским (английским и американским). Но история выстраивает разные ряды логических зависимостей. На Западе победил протестантский взгляд на собственность как результат личного труда, а теперь побеждает иудейское представление о собственности как присвоении результатов чужого труда. Традиционная романо-германская культура долгое время понимала собственность как источник всех социальных бед. Пайпс описывает это на примере весьма достойных западных мыслителей, но с некоторой язвительностью. «Подъем индивидуализма», говорит он, стал одним из источников «укрепления идеи собственности» [Пайпс 2000: 44]. В России хватательный рефлекс прытких индивидуумов сдерживался общиной и властью — не правом, а правом власти. Плохо это или хорошо, лучше или хуже — сказать невозможно. Это просто другой выбор, сделанный иной цивилизацией. К проблеме свободы он отношения не имеет. Собственность индивидуума не имеет «природных корней», и нет ни одного аргумента в пользу того, что захват государственной собственности кучкой вороватых «олигархов» имеет оправдание в праве. «Собственность есть кража» — и это не «красное словцо», как полагает Пайпс, а горькая истина. Так что «если вникнуть в причины всех политических смут у разных народов, то корнем их окажется не собственно стремление к свободе, а именно властолюбие и тщеславная страсть людей к вмешательству в дела, выходящие из круга их понятий», — а у нас тем более: «Как крупные события русской истории, так и ежедневные события русской жизни одинаково подтверждают эти черты русского народного характера» [Данилевский 1991: 487].
О западном понимании свободы русскими мыслителями сказано многое. Обнаруживается типичное для ratio смешение понятий. Вот, например, одно высказывание: «Католики смешивают два понятия: хотение, или воление (voluntas arbitrium) и свободу (libertas). Из того, что человек никогда не теряет первого, они признают в нем присутствие второго. Поэтому тот, по их мнению, свободен, кто поступает так, как поступать хочет; даже в греховном человеке свобода не утрачена, а только связана внешним препятствием — грехом. Грех лежит на ней, как тяжелая цепь, которая, впрочем, не мешает ей стремиться к духовным подвигам... Благодать снимает с нее эту цепь... Протестанты различают волю от свободы. Вольным человек остается постоянно. Тот, кто грешит, волен, но отнюдь не свободен. Свобода может быть только в духовном человеке — в том, кто имеет незатемненное понятие о своем определении и действует согласно с этим понятием. Свобода и грех исключаются взаимно... Отсюда Кальвином развитое учение о предопределении» [Самарин 1996: 71].
Социальная справедливость (правда Божья) нарушена потому, что свободу подменили самовольством. Как и свобода и грех, так и свобода и собственность в русском сознании не соотносятся друг с другом. Собственность основывается не на свободе, а на господстве. Так как же она, эта собственность, может даровать свободу — всем?!
Русское представление о свободе — равенство. Но равенства нет, и нет по природе. Где же тогда свобода?
Подмена понятий, возникающая через многозначность разноязыких слов, стала основным приемом описания фактов. Ричард Пайпс — номиналист, он не может иначе. Он заранее знает, эмпирически исходя из «вещи» (в данном случае — из собственности на землю), что связанные с этим термины-слова и понятия соотносятся в известном порядке; перебирая все возможности их сочетания в эпохах, в государствах, в традициях, он подводит читателя к идее, заранее ему известной на основе значений английских слов: собственность создает свободу... от кого? от чего? и — зачем? В широком смысле свобода для Пайпса — это свобода равных возможностей и прав для осуществления самосохранения, само-осуществления и само-реализации: «Без собственности не бывает ни процветания, ни свободы» [Пайпс 2000: 371].
Питирим Сорокин хоть и «русский американец», но не номиналист, а «реалист». Его формула свободы отчасти выражает русское отношение к свободе [Сорокин 2000: 563—575]. Он ссылается на И. П. Павлова, который говорил о том, что «рефлекс свободы есть общее свойство, общая реакция животных, один из важнейших прирожденных рефлексов». Это условие существования живого, свобода как род и свобода как виды — животный чувственный и человечий идеальный. Движение от одного вида к другому (вниз, к чувственному, или вверх, к идеальному) — это «флуктуации» видов в общих рамках рода «свобода», которая составляет историю человечества.
Как «реалист», Сорокин каждое понятие-символ, выраженное словом, соотносит одновременно и с идеей идеального, и с вещью действительного. Тогда личное ощущение свободы («субъективный» опыт индивида в модальностях его осуществления: могу, хочу, нравится и т. д.) предстает как
где (а) — внутренне-«идеациональный путь к свободе» (скромные требования к жизни, вплоть до аскетизма), а (b) — внешне-«чувственный способ быть свободным» (наращивание потребностей вплоть до роскоши, избытка и т. д.), и тогда «понятно, почему бессмысленно спорить о свободе вообще», не принимая во внимание, к какому из двух типов свобода относится. Одни индивидуумы ограничение их потребностей воспринимают как несвободу (жадность, чувственность «собачьей ненасытимости» — выражение «Домостроя»), а для сторонников идеальной свободы «это всего лишь глупейшая рабская зависимость от внешних материальных условий, лишающая индивида всякой свободы» — вообще.
По-видимому, идеал свободы — это «смешанная форма» (Сорокин называет ее «идеалистической), которая отличается гармоничным соотношением суммы возможностей (могу) и суммы потребностей (хочу). Русская свобода — свобода выбора: «Идти своим путем». Выбор невелик в трехмерном пространстве существования, и только три тропинки перед тобой. Каждый человек ищет свой идеал сам, определяя меру подлости в своем поведении, но смирение или алчность воспитываются средой. Русская социальная среда воспитывала смирение и аскетизм, но при этом допускала инородные идейные вторжения, которые (увы!) приносили с собой и алчность.
Говорят о двойственности русского характера и двоении русской мысли. Это не так. Речь должна идти о рас-трой-стве основополагающих ментальных представлений. Не только двойственность языческо-христианской традиции, но и властные силы извне — вот третья составляющая русской истории; эта направляющая сила шла то из Византии, то из монгольских столиц — давящая органически природную силу славян. И там и тут, как и сегодня, собственные представления славян о свободе подменялись вынесенными из-за границ понятиями, заключенными в значении заимствованных терминов. Это и становилось идейным обеспечением действий, предпринимаемых для подавления собственных свобод.
Воля
«Предельность» как важнейшую черту русского характера (дойти до крайности и вернуться) современные культурологи понимают как радикализм «вольного, но несвободного человека» [Сикевич 1996: 48]. Тем самым свобода представляется как формальное условие в осуществлении личной воли.
Для русских философов воля есть «причинность сознания», его активность в действии, представляющая «ряд средств и целей» [Лосский 1903: 69]. В западной ментальности воля соединяется действием рассудка, в русской — чувства [Идеи, 1: 209]. Первичное основное свойство русского характера — «могучая сила воли», основанная на чувстве, и как таковая она порождает страстность: «Страсть есть сочетание сильного чувства и напряжения воли, направленных на любимую или ненавидимую ценность» [Лосский 1991: 263]. Также и для Астафьева «воля соотносится с действием органов чувств» [Астафьев 2000: 414 и след.]. Политика и религия представляются главными ценностями (здесь больше всего страстей). Нетерпимость, максимализм, фанатизм приписывают русской страстности так же, как и обломовщину — обратную сторону страстности; апатия в связи с недостижимостью идеала [Марцинковская 1994: 20—21]. Воля, исходящая от чувства, порождая страстность характера, вызывает нежелательные действия экстремизма. Это одна точка зрения на русское понимание воли. По-видимому, так же понимал эту связь и Владимир Соловьев: «Вообще наше существование слагается из страстей и дел» [Соловьев VIII: 116].
Другая точка зрения не менее авторитетна. Д. Н. Овсянико-Куликовский определял ее как совмещенность мысли и воли в слове. Он описал типы воли с особой психологической установкой на возбуждение и торможение. Английский тип — активный по возбуждению («действующий») и торможению («задерживающий»); французский тип тоже активный, с импульсивностью возбуждения, при слабости торможения («психический героизм воли»); немецкий тип — пассивный, обе воли (возбуждения и торможения) одинаково сильны и упорны («психология дисциплины»); русский тип тоже пассивный, но, в отличие от немецкого типа, «обе воли не сильны» (трудно «раскачать», но и трудно остановить) [Овсянико-Куликовский 1922: 8—9]. Современные исследователи подчеркивают, например, отличие между дважды активным английским и дважды пассивным русским типами: англ. will выражает ментальную способность мысли и действия, контроль над своими желаниями, стремление к цели, энергия устремления; идея властности тут первична [Пименова 1999: 33—34]. Так же было и в понимании древнерусской воли. В английской ментальности центр чувств и эмоций — сердце, а не воля, которая определяет интеллектуальное напряжение личности.
По этой причине, вероятно, слабость воли у русских отмечали все иностранцы, но одновременно они признают за русскими упорство и настойчивость: «необыкновенные способности, упорство и добросовестность» [Ковалевский 1915: 45, 47]. Здесь разными словами именуется общее качество, но в его оттенках. Упорство — тоже волевое усилие. Опора на чувства вызывает не только видимость «слабости воли», но и такие отрицательные качества, как всепрощение и непротивление злу (развивают распущенность и вседозволенность), а также «скромность, застенчивость, нерешительность и справедливость» [Там же: 44].
Как свобода ограничена пределами собственности и является внешней, так и воля ограничена совестью и является внутренним проявлением («совестная воля» и «бессердечная свобода» у Ивана Ильина). Размах русской воли достигает особой силы тогда, когда она что-то любит [Ильин 6, 2: 186]. Как и все ключевые концепты русской культуры, свобода-воля этична.
Иностранцу трудно понять русский концепт «воля», и оттого он примысливает к действительности, иногда просто смешивая понятие и концепт, которыми подменяет символ. Вот как это делают составители польского словаря русской ментальности [Идеи, 2]:
«Для понятия „воля“ существует несколько концептов. Один из них толкуется через не поддающееся дефиниции „хочу“, на котором, и только на нем, строится акт выбора и поведения. Часто этот концепт проявляется в дублированной форме — „вольная воля“. В романах Ф. Достоевского функционирует как фундаментальное свойство человека... Тоталитарные системы заставляют понимать вольное „я хочу“ как „надо“, „я должен“ и объединять с нигде не локализованным „мы“. Понятие „волевой человек“, т. е. „человек воли“ и означает, что субъективное „хочу“ должно полностью подавляться и подчиняться множественному „хотим“ („волевой“ близок здесь понятию ,,преданный“). Иной концепт „воли“ обозначает „свободу“ от права, от „внешних“ принципов» (> свобода). В русской традиции так понимаемая „воля“ нередко мифологизуется и превозносится как исключительная черта русского характера. Она заявляет о себе в форме тотального бунта, разнузданности, деструкции... она ни в коей мере не ссылается на „хочу“, которое управляло бы и дисциплинировало поведение, а наоборот — это чистейшая экспрессия отрицания: „нет“ или же „не хочу“... „Воля“ в пространственном значении равна освобождению от всякой организации, от любых ограничений, в том числе чувственных, зрительных и двигательных регулировок».
Не говоря уж о пристрастности комментариев, почти все толкования единого концепта «воля» странным образом обращены к смешению воли, вольности и свободы.
Теперь о верном толковании русского концепта [Ильин 1997: 94—95, 108—111]. Отто Шпенглер верно придал концепту «воля» значимость «большого символа». Символичность в двойственности: воля ориентирована вовне (проактивная воля) и обращена внутрь, в себя (воля инактивная). Согласно А. Ф. Лосеву, в русском представлении воля обладает трехчленной конфигурацией: поволение (повеление) — он велит кому-то (проактивная воля), воление — ему волится (медиальная воля), веление (воление) — кто-то велит (волит) ему (пассивная воля-надежда) — таков парадокс свободной воли: она обратима. Уже в привычном для русского человека выражении ему хочется видны пережитки аффективного строя языка с выражением субъекта, который «активен и пассивен одинаково внутри же себя самого» [Там же: 96]. Субъект-объектное отношение того же вектора, что и в концепте «совесть»: воля личная и воля горняя (Божья) соединены в общем действии личности. «Можно предположить, — заключает Ильин, — что для древних славян архаическое единство трех ипостасей воли — активной, пассивной и медиальной — оставалось вполне актуальным, а само их единство обеспечивалось интегрирующим, смыслонаделяющим воздействием горней воли» [Ильин 1997: 108]. В древнерусских текстах встречаем только третье значение, в старорусских еще и второе, и только в Новое время становится возможным самое первое. Человек постепенно сравнивал свое «хочу» с божественным «повелеваю» (с переходом через разные социальные уровни общения).
Ильин верно подметил, что «расширительная интерпретация воли как характера сохранилась и получила развитие в Западной Европе»; эпическая воля-характер раздвоилась на волю-характер (представлен как личная доблесть) и на удачу — воля личная и неизбежность судьбы. Действительность личного действия (вещи) и идеальность его предпочтения (идея). «Воля есть именно завидная доля», — говорил А. А. Потебня; идея судьбы «низлагает дикую необузданность воли», — добавлял Ф. И. Буслаев.
Свобода
Одно только слово воля имеет множество производных, другие слова смыслового ряда — нет. Даже отрицательные выражения в обозначении «воли» разные, например в определениях: без-волен (внутренняя зависимость) — не-волен (зависимость внешняя) — у-волен (освобождение от зависимости). Грусть-тоска неволи сменяется горем безволия, но «горе здесь сидит в самом человеке: это не внешняя судьба греков, покоящаяся на незнании, на заблуждении. Это собственная воля, или скорее какое-то собственное безволие» [Вышеславцев 1995: 113]. О таком безволии говорил и Николай Бердяев [Бердяев 1989, 4: 250]: «Русский человек погибает от безволия. Он живет по преимуществу чувством. Всё его мышление слишком эмоционально и заинтересованно, оно не любит объективного, лишено пафоса объективности». Противопоставление воли чувству характерно для современного научного сознания; но с точки зрения русской ментальности такого противопоставления нет.
Горе-горькое, Горе-злочастие появляется в русской судьбе всякий раз, когда человеку отказано в свободе личного действия. А у Бога — всего много, и вариантность в проявлениях его воления (внутренних, идеальных повелений совести) достаточно велика. Бог дает и благодать, то есть свободу воли, когда человек и внешне при-волен, и до-волен внутренне.
Они амбивалентны, оттенки воли. Так потому, что проявления свободной воли ничем не отличаются от случайного поведения: «то, что в мире физическом воспринимается как случайное, в плане психологическом нам представляется как проявление свободы воли» — исчезает «надрывная трагичность этой проблемы», поскольку вероятностное видение мира подсознательно ее снимает (Налимов 1995: 31]. Именно так свободу воли понимает русский человек — и полагается на волю судьбы. «Свобода воли не свобода выбора. Раз есть выбор, должны быть два, по меньшей мере, предмета вожделения, и должны они быть в моем сознании. И если они в каком бы то ни было отношении суть, они причастны Богу, высшему и единственному Бытию, и суть в меру своего к Нему причастия. Иначе говоря, они должны быть Богом, так как если они оба или один из них не Бог, рядом с Богом есть иное начало...» [Карсавин 1919: 38]. В этой медитации схоластических напоминаний (в Saligia) истощенный напастями философ взывает к идеальному воплощению воли — в том ее обличье, которое единственно имеет право на существование.
Свобода дана человеку как ограничение его воли, потому что воля — только инстинкт свободы, тогда как свобода — разумное ограничение воли, разумность воли. Коренная мысль русской ментальности: «Свобода — это самостеснение! Самостеснение ради других!» [Солженицын 1981: 72]. Корень слова свобода ведет этот смысл искони.
Нравственный человек добровольно не может быть отпущен на волю, и потому он всегда остается свободным. Скользящая градация нравственных установок дает известную свободу выбора в каждом отдельном случае. Но свобода выбора постоянно ограничена давлением власти, которая определяет — извне, — что именно «надлежит», а что просто «надо». В давлении власти, стесняющей свободу при отсутствии (добровольном отстранении от) воли, — причина колебаний и непоследовательностей в поведении русского человека. Такое поведение не присуще ему органично, как иногда представляют. Власть — это область, пространство, ограничивающее со всех сторон возможные личные действия. Твоя воля может столкнуться с волей другого, быть может более сильного, более достойного. Именно в таких пределах пребывает для русского человека свобода. На волю человек вос-ходит от рабства, на свободу же он — вы-ходит, как, например, выходят из тюрьмы. Свобода духа возможна и в тюрьме, говорил Михаил Пришвин, и таково русское понимание свободы: неволя. Для русского человека «свобода есть бремя и тягота, которую нужно нести во имя высшего достоинства и богоподобия человека» [Бердяев 1993: 65].
Спор о свободе воли, как и о свободе совести, — схоластичен. «Под свободой совести обыкновенно разумеется свобода от совести», — замечал Ключевский. Прежде всего потому, что свобода воли в русском ее измерении есть свобода выбора, степень вероятности которого определяет сам человек. Прав Д. С. Лихачев, утверждавший, что не свобода воли и не свобода совести определяет «характер русских», русский человек «предан идее свободы личности» [Лихачев 1990: 4]. Миф о рабстве и прочем — всего лишь миф, рожденный недоброжелателями, а вот коренное свойство русского человека «во всем доходить до крайности, до пределов возможного» действительно подтверждает правоту академика. «В России не было счастливого настоящего, а только заменяющая его мечта о счастливом будущем» [Лихачев 1990: 5], которая и создает все неблагоприятные для русского человека впечатления о нем.
Возможность выбора, то есть возможность свободы личности в естественном для нее поле достоинства, предопределяет сам язык. Мы не раз в своих цитациях это уже отметили.
В русском языке свободный порядок слов, многообразие речевых стилей, богатство синонимического ряда слов, и это язык синтетический — множеством форм многозначных, которые постоянно воссоздают ситуацию действия символа, — и сам ты можешь, должен, обязан решать, какое слово сказать, в каком обрамлении слов, с каким подтекстом, в тоне каком, насколько ярко или скрытно выразить мысль, еще не всегда и готовую в момент изрекания. Эта амбивалентность права и долга выбора создает ощущение той самой «свободы», которой и подчиняется русский человек во всех движениях своей души (поскольку все движения его действий часто от него не зависят). Петр Бицилли в отношении языка напомнил такой аргумент. Языки традиционных обществ связаны «со структурой самих древних обществ», и такое соответствие давно описано. Например, наличие двух основ для одного слова в латинском языке «говорит не столько о самочувствии и самосознании древнего латинянина, сколько о его способе восприятия мира»; в частности, применительно к именным основам: соотношение именительного падежа (субъект действия) и косвенных падежей, обозначающих зависимые действия и зависимых лиц (через дополнение-объект), всегда проведено в античных языках, ср. cor — cor-dis и т. п. По сложившемуся еще в XIX в. мнению, косвенно это отражает институт рабства в противопоставлении господин (имеет право голоса) — раб (права голоса лишен) [Бицилли 1996: 141]. У нас подобное противопоставление основ прямого и косвенных падежей исчезло еще в древнерусском языке.
«Свобода воли» у русского человека подчас подменяется «свободной волей». Дай волю ему — будет вольность, а «русская вольность не то, что свобода, но она спасает лицо современной России от всеобщего и однообразного клейма рабства» [Федотов 1981: 98]. Крайности вольности восстанавливают справедливость в отношении к не-воле. «Спасает» как противоположность, так и крайности свободолюбия, рождающего анархизм, долгое время смиряемый деспотизмом власти («Трудно управлять вне деспотизма», — заметил Николай Лосский). О том же говорит современный историк: в России у русских существует свобода духа и быта — сознания и поведения, — которая «вырывалась на простор чуть ли не при каждом существенном ослаблении государственной власти», и начиналась «игра не по правилам», совершенно невозможная на Западе. Словами Пугачева Вадим Кожинов очень точно сформулировал символ «русской воли»: «Богу было угодно наказать Россию через мое окаянство» — через своеволие; это вовсе не русский бунт, «бессмысленный и беспощадный», а именно своеволие, какое «как-то связывается с волей Бога, который „привел“ увидать и „наказал“»... «Бессмысленный» — это значит также и бесцельный, самоцельный и, значит, бескорыстный», а «беспощадный» — «естественно обращающийся и на самих бунтовщиков... это скорее Божья кара, чем собственно человеческая жестокость» [Кожинов 1994: 226—227]. Бунт никогда не действие, бунт — состояние разорванных связей, путь в никуда, и каждый это знает.
Всё, о чем ниже речь, так или иначе связано с идеей свободы. Кто долго — веками — жил в не-воле, тому и свобода кажется волей.
Но — «есть два великих символа в социальной жизни людей — символ хлеба, с которым связана самая возможность жизни, — и символ свободы, с которой связано достоинство жизни. Самое трудное — соединение хлеба и свободы. Как накормить людей, не отнимая у них свободы?» — вопрошал Николай Бердяев [Бердяев 1996: 270]. Вечный вопрос, который стоит перед русским «реалистом». Поищем подтверждения сделанным выводам на образцовых текстах.
Воля к свободе
Вот две подборки контекстов из произведений двух современников — Б. Н. Чичерина и Ф. М. Достоевского. Ученый всё определяет в понятиях, писатель — в образах.
В произведениях Чичерина слово свобода встречается очень часто.
«На признании свободы основаны понятия вины и ответственности» — это «внутренняя свобода человека», на таком основании и действующего [Чичерин 1999: 49]. «Приверженцы свободы утверждают не действие без мотивов, а власть субъекта над своими мотивами и свободный между ними выбор» — и всюду Чичерин показывает подмену понятий, столь обычную у позитивистов. Метонимически по смежности они соединяют идею и вещь: основываясь на вещи, не так толкуют идею. «Свободен лишь тот, кто сознает себя свободным, а сознает себя свободным тот, кто действительно свободен. Таковым может быть единственно разумное существо, носящее в себе сознания Абсолютного, ибо только оно способно отрешиться от всякого частного определения и стать абсолютным началом своих действий... Отсюда неразрывно связанное со свободою понятие об обязанности, с которою должно сообразоваться внешнее содержание» [Там же: 54—55]. «Свобода есть, собственно, формальное начало», которое в предикативном усилии постоянно наполняется содержанием. Например, возможно понимание свободы отрицательное (независимость!) и положительное (самоопределение). Вообще «свобода не состоит в одном приобретении и расширении прав. Человек потому только имеет права, что он несет на себе обязанности, и наоборот, от него можно требовать исполнения обязанностей единственно потому, что он имеет права. Эти два начала неразрывные»
[Там же: 469]. К чему свобода ничего не делающему? «Право есть свобода, определяемая законом» [Там же: 80], так что «свобода лица находит границу в признании свободы других» [Там же: 107]. Чичерин тоже говорит о собственности, но в русском духе, точно так, как это соотносится в коренных значениях слов свобода и собственность. «Первое явление свободы в окружающем мире есть собственность. По праву разумного существа человек налагает свою волю на физическую природу и подчиняет ее себе... Право собственности как умственная принадлежность вещи лицу везде отличается от физического владения... Право собственности заключает в себе двоякий элемент: мыслимый и вещественный» [Там же: 105—106, 110].
Правовед представляет свободу как соотношение прав и обязанностей, ограниченное собственностью (своей) и законом (общим для всех). Иначе поступит писатель. Достоевский («философ свободы», по мнению многих) понимает свободу образно как открытость и безделие (не труд из-под палки). Его высказывания и прямо, и косвенно указывают на это: «нам стало еще свободнее (жить в доме)», «мы вошли свободно (дверь отперта)», «когда мы будем свободны (т. е. на досуге)» и т. д. Для Достоевского свобода — право морального выбора (например, «жить или не жить») свободной личностью, данное как индивидуальная ценность: «свобода моя» и «ваша свобода», «его свобода» как ускользающий признак личности, на который человек получает «безграничные права». Поэтому слово свобода у Достоевского употребляется в общем контексте с такими, как гордость, долг, совесть и под. Следовательно, и у Достоевского, и у Чичерина изложено представление, согласно которому каждый человек создает свою личную свободу «из глубины совести».
Иначе — о воле.
Представление Чичерина о воле близко к европейскому; он вообще на него ориентируется. «Постоянство воли выражается в постоянстве действий» [Там же: 111]. «Воля стремится из состояния неопределенности перейти в состояние определения, т. е. из потенциального состояния в деятельное» [Там же: 52]. Тут та же мысль: воля как идея должна получить свой предикат — в виде действия. И здесь мы видим обязательное совпадение идеи и вещи, которые лишь совместно создают реальность бытия. Затем тут же: и мышление тоже основывается на сопряжении идеи-субъекта с вещью-предикатом, из чего можно заключить, что (на уровне выражающего это языка) противопоставленность имени и глагола — онтологична.
Чичерин продолжает: «Из восприимчивости рождается чувство; воздействие есть явление воли. Последнее происходит под руководством разума, однако не всегда. Тут есть и другие, чуждые разуму элементы, и это именно ведет к сочетанию противоположностей, которое составляет идеальную цель развития... Свободная воля составляет, таким образом, основное определение человека как разумного существа. Именно вследствие этого он признается лицом и ему присваиваются права» [Там же: 57]. «Этот присущий русскому обществу и глубоко коренящийся в свойствах русского духа элемент разгульной свободы, которая не знает себе пределов и не признает ничего, кроме самой себя, — это именно то, что можно назвать казачеством...» [Там же: 403]. И так далее. Воля представлена как «разгульная свобода», как своеволие, как свободная воля.
У Достоевского в его текстах почти навязчиво воспроизводятся типичные признаки воли в русском ее понимании. Это воля с признаками вся или одна, с определенной принадлежностью как твоя, ваша, моя или его, как великая, полная или добрая по характеру и неизменная, деспотичная или чужая, но обязательно индивидуально-личная. Кроме того, в отличие от «свободы», «воля» включает сразу все три признака личности: чувство («душа») и мысль (рассудок) как компоненты воли. Следовательно, спор о связи воли с чувством или с разумом не имеет смысла: и Чичерин, и Достоевский подчеркивают, что воля формируется на основе информации, полученной от чувств, и направлена разумом (вернее, рассудком).
Общий мир
Противоречие между государством-властью и свободой отдельного человека снимается в обществе. Общество как норма соединяет государство (закон) с человеком быта, с обычным, не статистически «средним» человеком. Государство изначально враждебно человеку, русский человек всегда относился к власти как к неизбежному злу, в отличие от западного обывателя не видя в ней никакого блага. Коренной «анархизм» наш хорошо описывал Лев Толстой в своей публицистике, а это анархизм ответного чувства: нет ничего противнее чиновника на государевой службе. Его презирали и аристократы, и плебс — одинаково. Государство враждебно понуждением извне, что всегда стесняет свободу. Власть есть грех, и славянофилы (не раз отмечено) наивно мирились с существованием самодержавия за то, что оно берет на себя ответственность за грех власти (чего никогда не хотел бы испытать на себе самом русский человек). Может быть, в том и причина наличия постоянно чуждой власти, что естественное чувство брезгливости к власти отчуждает от нее русского.
Древнейшая заповедь язычника: знай свой род — сохраняется, правда, всё меньше, в объемном значении особого «чувства семейной, родовой, племенной родственности или связи, чувство общинных предрасположений и стремлений в борьбе с чувствами родового эгоизма, упорное чувство любви и привязанности к родовым преданиям народной эпической старины», — писал Щапов. Как ни архаически звучат эти слова, они отчасти и верны, хотя бури минувшего века страшно прошлись по душам и сердцам самых близких и самых родных.
Первоначально, в своем истоке, соборность есть идея «мира».
Мир как спокойствие приходит не извне, им нельзя одарить, он внутри человека. Собственно, на достижение такого мира и направлены в сознании все категории русской ментальности; невозможно жить в счастье, видя несчастья других.
Мир — спокойствие, тишина — есть и общинный мир, общество близких по духу и жизни людей, не обязательно кровных, и даже скорее не кровных, но близких и дальних — которые рядом. Мир — это мы сами, следовательно мир таков, каким и кажется нам или явлен в идее. «Мир как органическое целое» [Лосский) одновременно и общество, и спокойствие; спокойное общество. Давно замечено, что у других народов слово для обозначения мира-света не связано с идеей спокойствия и тишины. Это может быть красота, как в греческом (космос), или иное что, а у нас — тишина и покой, без раздоров и замятни. Вражда и раздор — нарушение тишины — есть разрушение целостности, то есть того же самого мира, который и есть самый мир.
Нельзя победить шума шумом, говорил Василий Розанов, шум нужно побеждать тишиной.
Важное средство единения — любовь и согласие. Любовь, понятая как отношение, а не как связь. Но многозначность слова, употребленного в этом смысле, смущает больше, чем слово мир, по смыслу столь же объемное: и ‘тишина’ и ‘свет’. Да, мир миру. Любовь в христианском смысле, как αγάπη, а не έρως. Хотя и скажут иногда, что русская культура эротична и «творит в силу влюбленности в жизнь, в мир, в идеал», есть «трепет жизни и любви», русский «жаждет беспредельного и сам беспределен, бесформен, стихиен, лишен граней» [Вышеславцев 1995: 121], но это совсем не так. Наоборот, любовь как любовное отношение даже из внешнего способна создать ту форму, которая необходима для общего круга интимных, дружеских отношений. Хорошо об этом сказал психолог: у русского человека есть определенная потребность множить такой круг друзей (другого «я»), но в общении быть по возможности с кругом «первичным»: человек выбирает себе их сам как личностей и растет как личность на общении с ними: «удвоить, утроить себя — вот задача, достойная решения» [Касьянова 1994: 259]. Сохранение и упрочение согласия в такой группе есть основа мира, а это достижимо посредством взаимной любви. Да и беспредельная лихость, отмеченная Вышеславцевым, все-таки огранена личным чувством. Многосторонность русского человека, не раз отмеченная даже его недоброжелателями (конечно, с осуждением), которая создает видимость бесформенности и стихийности характера, определяется его даровитостью, способностью ко всему, особенно в искусстве, в творчестве [Лосский, 1994]. Но даровитость не всеобщее свойство. Есть люди и недаровитые; там и ищите «граней». Там обретаются «социальные интроверты» — свои для своих лишь в «первичной группе» [Касьянова 1994: 337].
Но когда общение на миру и в миру «огранено» известными нормами поведения, мир и предстает тем, что называется русской общиной в бытовом и хозяйственном смысле, а в духовном — соборностью. Община давно и хорошо известна. О соборности — спорят.
Мир в соборности
Противоречие между множественностью и единственностью как фундаментальный признак культуры обсуждает Юрий Лотман. Индивид и коллектив взаимонеобходимы, полагает он, только это и гарантирует свободу выбора [Лотман 1992: 10—11]. Вроде бы бесспорная мысль, но — нет ли и тут логической ловушки? Инди-вид ведь вовсе не вид, а коллектив — уже сразу род, так что с логической («рациональной») точки зрения в таком подведении одного под другое не всё ладно. Что-то не «клеится». Конкретность «вещи» с отвлеченностью «идеи» не сопрягаются по определению. Их нельзя сравнивать, они в дополнительном распределении. Сущность и явление суть объекты различного уровня. Видимо, следует сказать, что в соборности именно вид и есть центральная ценность (не конкретная личность, но человек как вид), которая и связывает индивида с «миром». В сущности, это и есть идея русской соборности. Не отважный герой-одиночка, индивидуалист и «личность» вне мира, но всякий вообще человек представляет ценность тут, в соборности общих отношений.
Заметим себе: не народность, а соборность. Арсений Гулыга описывает соотношение между ними в духе гегелевских триад (столь ценимых ранними славянофилами): «Идея неформального, конкретного всеобщего, не противостоящая единичному, и вбирающего в себя его богатство» — это Соборность. Соборность понимается как зерно «русской идеи» — «слияние индивидуального и социального», скорее «интуитивная очевидность», задание, чем данность; отличие соборности от всех форм «коммюнитарности» (термин Бердяева) видится в том, что соборность не иерархична, а в гносеологическом плане скорее является трансцендентной «вещью в себе» [Гулыга 1995: 19—20]. Это — третий принцип, «совершенно отличный и от религиозного индивидуализма, и от религиозного авторитета... есть внутреннее, качественное начало в человеке, в самой его личности», в его «нелюбви к условностям и формальностям общения, в жалостливости и необыкновенной способности к жертвам» [Бердяев 1996: 236, 238].
Назначение соборности как социально-духовного института понятно: ум эгоцентричен, а душа духовна, но лишь через дух — душа объединяет, делая всех равноправными участниками дела. Возникает известная нам равнозначность эквиполентности, а не взаимное отторжение элементов привативного ряда. «Ты в отношении я — это действие», — заявлял Пришвин, но когда «я» соединяюсь с «ты», происходит это через посредство «мы» — потому что только взаимное отношение оправдано нравственно. Западный мир исходит из «Я», русский — из «мы», такова русская «мы-философия» [Франк 1926: 22—23]. «Я» противоположно к «ты», «мы» вбирает в себя их обоих. Поэтому, замечал Франк, русская соборность (der Konziliarismus) позволяет избежать как протестантского индивидуализма, так и католического универсализма. Когда сегодня говорят (тот же Юрий Лотман), что современная европейская культура сознательно ориентирована на систему я—он и я—я, этим подтверждают отчуждение человека от видового мы — одинаково и я, и он'а. Против подобного отчуждения я от ты и предостерегает идея соборности. «Родство есть мы, для него нет других в смысле чужих, для него все — те же я, свои, родные...» — и только в братстве есть общее, а не в «общественности», считал Федоров [1995: 199—200], тем самым возражая против идеи «демократии», где братства нет.
Николай Бердяев раскрыл «парадокс личности» отсылкой к идее соборности, которую «выразил Хомяков, связав ее со свободой и любовью». Это не авторитет церкви и вообще — внешних признаков соборности нет: «это есть таинственная жизнь Духа. „Мы“ в соборности не есть коллектив. Коллективизм не соборность, а сборность. Он носит механистический рациональный характер»: коллективизм не знает «ближнего» — «он есть соединение дальних» (я—он) и потому «не знает ценности личности» [Бердяев 1951: 107—109]. Превращение дальних в ближних и есть преображение коллективизма в соборность. Сам Бердяев говорит не о личности (личность растет в соборности), а о личине, которая скрывает свой лик в рамках внешне понятого коллективизма. Соборность — от целого к частям, сборность — от частей к целому. «Личности качествуют (актуализируют) себя начиная сверху вниз», — утверждал Лев Карсавин; и здесь любая часть тождественна своему целому. В глазах русских философов подобное утверждение — антитеза протестантизму, а не мыслимый остаток языческой общинности. «Единственно приемлемый, не рабий смысл слова соборность — это понимание ее как внутреннего конкретного универсализма личности, а не как отчуждение совести в какой-либо внешний коллектив. Свободный лишь тот, кто не допускает отчуждения, выбрасывания вовне своей совести и своего суждения, допускающий же это есть раб» [Бердяев 1939: 58]. Со-знание со-вести настолько универсально в соборности, что и «доказательства не нужны для соборного сознания. Доказательства нужны лишь для тех, которые любят разное, у кого разные интуиции. Доказывают лишь врагам любимой истины, а не друзьям» [Бердяев 1985: 78].
Таков взгляд философа на соборность. Что скажет богослов?
Митрополит Иоанн: «Регенерация растерзанной Руси всегда происходила за счет соборности» — верно, таков исторический факт. Но вывод: «Благотворное влияние объединяющей соборности сопровождает Россию сквозь века», и это высшая форма независимости — «соборное самодержавие» — поражает неожиданностью своей. Понимание «симфонии властей» как «Божьего тягла», «как формы христианского жизнеустройства» по чисто внешней формуле «народность — самодержавие — православие» все-таки не соответствует тем же фактам. Истоки соборности — не в Римской империи, как полагает церковный иерарх, а в народной традиции соборного делания. Этой традицией и жива соборность, а вовсе не дарованным Уложением 1649 года. Нельзя же в подмене термина (соборность = церковный собор, Соборы) видеть сущность явления.
Здесь соединены традиции вещного мира и благодати идеи.
Итак, соборность (выражаясь научно) есть инвариант личностных качеств вида, не индивидуально отдельного; это идея, данная как видимый отсвет вещи — в буквальном смысле слова ее вид. Соборность есть единство во множестве по «дару благодати», единство идеи, сопрягающей множество «вещи». Соборность отрицает и индивидуализм индивида, и сборность коллективизма, то есть расчлененного множества. Как идея русская, соборность основана на «вещи» истории: община — субстрат идеи соборности, обогащенной различными источниками — и постулатами христианской церкви, и развитием национального самосознания, и традиционными семейно-родовыми отношениями, которые сложились искони (для Розанова вообще семья и есть «семейная соборность»).
Как и всякая ментальная категория, категория «соборность» может развиваться в сознании. Ведь концептум — зерно, а зерно прорастает. Соборность ближних расширяется до дальних. Соотношение Всеединства и Соборности таково же, что и соотношение справедливости и совести, и под их давлением соборность, как действие любви, расширяет свои пределы. Совесть в гранях соборности становится справедливостью в объемах Всеединства. Внутреннее, то есть идея, порождает форму своего явления, и тем самым являет себя миру. В нобелевской своей речи Солженицын говорил о том, что «нации — это богатство человечества, это обобщенные личности его; самая малая из них несет свои особые краски, таит в себе особую грань Божьего замысла»; нация как соборная личность есть «нация-личность в личностной иерархии христианского космоса» [Солженицын 1981: 15, 49, 197].
Для тех, кто еще не понял, что такое соборность, кому кажется, что это слишком большая отвлеченность, можно сказать словами Василия Розанова: соборность есть просто любовь к России — вот и всё. И если такой любви нету — как объяснишь тому, что такое соборность?
Соборность как идея и не может быть вещной, например не может предстать, как многие теперь полагают, в образе Церкви. Соборность предстает перед нашим современником «как процесс реализации потенций, заложенных в человеке» (Сергей Трубецкой), в его постоянном развитии в личность, но одновременно и как идея преемственности нравственных установлений, заложенных в обществе, постоянно возобновляющем золотой запас необходимых ему личностей. Это «задание, а не данность» (Вячеслав Иванов), другими словами — идеал, единство духа и нравственных возможностей народа как образец для той же личности. Это цельность знания, достигнутое не умом, но сердцем (а это уже слова Флоренского).
Соборность в русском понимании есть градуальные степени совершенствования душевной жизни человека через духовность всеобщего, когда каждая предыдущая степень становится формой для последующих степеней развития. В такой последовательности русские философы и выявляли специфические особенности концепта «соборность»: сначала историософски, интуитивным озарением (Хомяков), затем онтологически (Вл. Соловьев), потом гносеологически (С. Трубецкой), позже социологически (С. Булгаков), этически как явленность идеала (Розанов и Бердяев), эстетически (Вяч. Иванов) и т. д. (что прекрасно показано в книге Л. Е. Шапошникова ([1996]; там же литература вопроса).
Слово и дело
В объяснении категории мы должны, исходя из реальности вещи (исторический прецедент и реальный субстрат понятия), истолковать свой термин, то есть слово «соборность», через идею «множественности в единстве» — так, как и совершила это в последовательной рефлексии на тему русская философская мысль. Потому что идея подлежит раскрытию через слово, и только тогда способна она объяснить саму жизнь.
Соборность, как понимает дело С. С. Хоружий, есть диалектика любви; путь к соборности идет по степеням любви, от αγάπη к φιλια, от любви братской — к доверию и связанным с этим качествам (жалость), взаимопроникновению и объединению на синергийных началах (взаимообращение друг в друге по чувству). Тогда соборность предстает как собственно идея-идеал связующего начала и реальной общности, которая выражает идею единства во множестве: «тождество единства и свободы, проявляемое в законе духовной любви» (слова Алексея Хомякова), органическая природа которой есть жизнь, одухотворяемая благодатью» [Хоружий 1994: 20]. Согласно интуиции Хомякова, это — высшая энергия благодати, соединяющая в истине. Не свобода воли и даже не свобода выбора — свобода истины (чем, собственно, и отличается это от западноевропейского толкования свободы). Заключая Хомякова в узкие пределы персоналистского миропонимания «истого феноменолога», Хоружий, может быть, идет чисто внешним путем, не высветляя идеи свободы жизни в соборности из самого концепта «свобода», что интуитивно делает сам Хомяков, вообще славянофилы, которых в этом пункте не очень поняли. Не поняли потому, что символ соборности толковали через понятие, постоянно сводя к коллективизму, совместности и пр. Отсюда же и убеждение, что «закономерная связь: идеал рождает норму, норма же рождает насилие» — может быть отнесена и к русским символам типа Соборности: «При всякой попытке построить его (идеал. — В. К.) из земных материалов, воздушный замок идеала оказывается тюремным зданием» [Хоружий 1994: 273]. Увы! до нормы-то у нас никак никогда не доходит, а в случае с соборностью и дойти не может, поскольку соборность — не результат, а процесс.
Есть и вторая особенность этого символа. Мы всё время говорим о собирательной множественности, но идея такой множественности заложена в категориях языка.
Для русского со-знания в его со-борности непреложно ясно, что расчлененная множественность видов отличается от собирательной множественности рода. Там, где можно говорить о конкретности вещного мира (обычно передается именами мужского рода), возникают двоякие формы множественного числа: волоса, дома, листья, учителя, но и волосы, домы, листы, учители. Широкое развитие собирательной множественности с XV в. есть исключительная особенность русского языка. Если не посредством самостоятельной формы, в окончании, так уж ударением обязательно различаются жены и жены, сестры и сестры, братья и браты... Можно ли в условиях собирательной множественности говорить об индивидуальном характере? Можно, потому что с давних пор в языке нашем слово характер значит ‘должность’, а должность есть должное в рамках общего: чин или сан.
Вот еще подробности, связанные с языком и соборностью.
«Русский язык, — говорит Г. Л. Тульчинский [1996] — стихия столкновения позиций, амбиций и страстей, самовыражения и самоутверждения, он глубоко личностно интонирован, передает мельчайшие нюансы мельчайших движений души и отношений. Это язык поэтов, проповедников, но не ученых. Его вектор направлен в глубины души, а не на внешний мир. Хорошо известны трудности перевода на русский временных форм английских глаголов. Развитость этих форм в английском — удивительная — по сравнению с арсеналом аналогичных средств в русском. Английский дискурс стремится к точности, определенности временных параметров жизнедеятельности, русский же знает или „миг между прошлым и будущим“, или застывшую вечность прошлого и метафизическую беспредельность будущего. И в том, и в другом случае точность оказывается ни к чему».
Остановимся для небольшой справки.
Особенность русского языка как раз в том, что одинаково свободно он может обозначить и глубины души, и внешний мир. Но взаимозаменимость одного другим в известных обстоятельствах речи, действительно существующая, связана не с языком, а с неумением пользоваться русской речью — символами языка, а не понятиями. Вот глагольные времена. В английском это как раз не «развитость» языка, а архаические остатки старой системы, когда-то присущей и славянским языкам (в некоторых она сохранилась). Русский язык развивает два отсчета времени: время внутреннее передается системой глагольных времен, время внешнее — системой глагольных видов.
Процесс протекания действия может быть описан во всех тонкостях, недоступных никаким другим языкам: различием глагольной основы по видам. Но точкой отсчета внутреннего времени (того времени, которое здесь сопоставлено с английским), является не момент действительно протекающего процесса, а мнение субъекта речи, лица говорящего, который в своем высказывании обладает правом выбора даже времени — не времени действия (этому служит вид), а времени речи. И не «миг», не «беспредельность», не «застывшую вечность» обозначает русское глагольное время, но именно момент речи. Не случайно же несколько столетий русский язык отрабатывал эту систему, в коей фактически присутствует только настоящее время, которым и распоряжается по своему усмотрению говорящий. «Если я хочу почувствовать прошлое, мне сначала надо почувствовать его как настоящее», — говорил Шеллинг, и русские его последователи прекрасно поняли эту мысль. А для Константина Аксакова только настоящее и есть время события, время стоющее, действительное. «Прошедшего нет, — заметил историк, — но нельзя сказать, что его не было, иначе оно не было бы прошедшим» [Ключевский IX: 409]. Действие и высказывание о действии разведены в мысли, как разведены в словесном выражении со-бытие и со-мнение, вещь и идея.
Будущее, всё сотканное из различных модальностей, выражает лишь желание подобные действия совершить, невозможность это сделать или попытку к нему приступить (стану сказывать я сказку... буду делать — сделаю... начну-ка я читать...). Переберите все возможности — результат тот же самый. Собираюсь прийти, думаю прийти, приду — а вдруг...; хотелось бы увидеть, увижу... Сложнее с третьим глаголом, он не имеет личной формы 1-го лица (победю? побежу? — невостребованная депонентная форма), но: могу победить, случится победить, вдруг... а ну... авось... Всё рассеивается в оттенках модальности, связанных со случайностями бытия. Зато поставленные в форму настоящего времени, глаголы обладают абсолютным значением и в контексте высказывания могут быть использованы в значении всех трех — по-прежнему в лично определяемой временной перспективе — времен: прихожу, вижу — побеждаю! И вчера так было, и в сей момент, и в другой раз тоже. Потому что время-то настоящее, по общему смыслу слова — действительное; а какое же это время? прошлое — оно прошло, или будущее — оно еще будет. И вот такое-то разведение даже глагольных форм (они более формальны, чем именные) как раз дает возможность передать и мельчайшие движения души, и процессы внешнего мира.
Но продолжим поучительное чтение:
«Более того, при очевидной ориентации в глубины человеческой души и передачу ее состояний, русский дискурс ограничен в средствах выражения внешней определенности личности. В русском имеется лишь 2000 лексических единиц для выражения индивидуальной неповторимости личности. Для сравнения — в немецком таких слов 4000, а в английском — 17 000. Индивидуальность, неповторимость личности — явно не предмет повышенного интереса российского духовного опыта — самозванчески человекобожеского в себе и коллективистского вовне». Любопытные всё же цифры, и какие круглые! Откуда? В любом разговорнике (русско-английском, например) дается не более 10 000 слов (в лучшем случае), а тут одних средств выражения личности столько. На взгляд простеца, и двух тысяч достаточно в этом деле, а если учесть способность русского человека всего одним словом в различной тональности передать свое отношение... Да и неправда это, вовсе не мало слов: фактически любое слово в языке с символически заряженной лексикой может стать оценочным. Давайте наугад: корова, собака, козел... В Словаре русских народных говоров (вышел 36-й том) одних суффиксальных образований такого рода — множество.
Однако наш автор продолжает:
«На русский язык не переводится и английское self. В лучшем случае как „я-концепция“ или „яйность“. Русское „я“ — самозванческое, амбивалентное кротости и крутости, помазанничеству и замазанничеству. Оно то раздувается до абсолютной тотальности богочеловека (дался же он, богочеловек. — В. К.), то сжимается до ничтожества, растворенности в некоей общности...»
Вот оно: «растворенности в некоей общности».
Я обладает описанными здесь свойствами в любом языке мира, да и не в языке дело: дело в человеке и в народе, таким языком пользующимися. Относительно сказано неточно: сложные слова с местоимением само- у нас в избытке накопились с XI в. Кстати, и насчет «яйность». Семен Франк заметил, что ни на один язык не перевести немецкий философский термин Ichheit — а на русский можно: ячность [Франк 1996: 591].
Наша беда в другом. Беда в том, что слишком много синонимов накопилось у нас для обозначения одного и того же символа. Слов много, и невозможно иногда договориться, из какого же слова исходить как из начала движения — от мысли в идее или ее воплощения в вещи-деле. Ключевский, описывая такую особенность русской ментальности, «разорванность русского сознания», говорил о том, что «каждое сильное лицо у нас как Адам дает вещам свои имена. Отсюда разнообразие характеров и неуловимость типов, рыхлость общества и непривычка к дружной деятельности плотными крупными союзами. У себя дома мы сильнее, чем на улице. Личный интерес господствует над общественным» — «у нас исчезли все идеи и остались только их символы, погасли лучи, но остались тени» [Ключевский IX: 360, 349].
Но тема наша — тема соборности, не уклонились ли мы? Нет, не уклонились. Самый термин соборность есть попытка найти гипероним, способный объединить многочисленные синонимы, некогда воплощавшие ту же идею, но в распыленном по разным предикатам виде.
Все эти и многие другие особенности языка показывают устремленность русской мысли («его вектор направлен») на совмещение лично-вещного и идеально-общего, соединить которое можно лишь в слове.
Но как быть с чертой, не раз отмеченной в русских с некоторой даже досадой? «Мы, русские, носим в себе какое-то внутреннее противоречие. Мы не лишены патриотизма; мы любим Россию и русскость. Но мы не любим друг друга: по отношению к „ближнему своему“ мы носим в душе некое отталкивание» — уходим друг от друга — сразу же страдаем [Шульгин 1994: 141]. Как это чувство взаимного отталкивания без отчужденности связать с идеальной категорией «соборность»? Шульгин сам и ответил на этот вопрос: «Некий устоявшийся образ русскости можно рисовать себе в москвичах эпохи Алексея Михайловича, если не принимать во внимание солидной доли финской и татарской крови, влившейся в северян», но и Богдан Хмельницкий, как известно, смотрел на себя и своих сподвижников «как на истинных носителей русского начала» [Там же: 143]. Думается, дело тут в постоянном смешении этносов в границах российского государства. Каждый из них вносил свои особенности мироощущения и вкладывал их смысл в традиционные русские слова. Особенно создание Петербурга сделало многое в усреднении нового «российского типа», «который проходил выше московского и киевского, но стоял на этих двух местноречиях, как голова, вместилище развившегося разума, стоит на двух ногах...» [Там же: 145].
Если же спросить простого русского человека, что такое соборность, — он ответит разное. Но в одном нельзя сомневаться: чувством он всё понимает правильно.
«Своим ничего не надо доказывать».
Подавленность воли: лень
Восторженно завышенные определения русского народного характера, данные различными авторами, представляют образ русского человека, пребывающего в душевной гармонии с миром и самим собой — мир и лад в общественной и личной жизни под покровительством праведной власти. Но крайности двоения неизбывны, и власть недостойная попускает греху. Ведь воля начинается с проявления чувств, а именно чувства в своем действии амбивалентны, и вот уже видно: подавленное властной волей личное «хочу» человека оборачивается апатией-ленью, страстью-пьянством или беспредметным словом, которым клянут опостылевший свет.
Замечание философа: «Мы не ленивы, мы созерцательны» [Гиренок 1998: 285] — совершенно справедливо в идеальном смысле, однако со стороны наша созерцательность кажется отсутствием деловитости. Другой философ справедливо добавил: «То, что „доброхоты“ России относят к свидетельствам о лености русских, есть по существу способ высвобождения времени для бесед, размышлений, мыслительных созерцаний в ущерб не столь важным „делам“ по угождению тела продуктами физического труда» — ведь русский человек физически защищен своими природными ресурсами; «если русский народ не работает, то он размышляет», т. е., собственно говоря, просто изменяет форму своей деятельности [Курашов 1999: 225—226]. Это та самая средняя позиция, которую так любил Аристотель: только паразиты ленивы — и только мошенники суетливы. Пример идеального русского типа — классический Дурак, для которого свойственны «философская созерцательность и метафизичность поступков» [Там же: 230]. Суетливость, например, еврея хорошо описал Василий Розанов: вот уж пример неустанной деловитости!
То, что иностранцу кажется леностью, есть состоянии а-патии, т. е. приглушенной на время «страсти», той душевной страстности русского человека, о которой говорят как о преобладающей черте его характера. Только страсть переходит в апатию, хладнокровным апатия неведома. Преизбыточность страсти требует отдыха. Речь ведь не идет о патологических лентяях, которых так много и в других землях. Но и Илья Муромец, и Иван Дурак на печи лежат тридцать лет не из лени, «не просто так», а силушку собирая для подвига в момент страсти.
Другой Илья (и не случайно — Илья), Обломов, как и образованная от его имени обломовщина, тоже не являются «одним из главных русских национальных пороков», «социопсихологическим недугом, проявляющимся в полной атрофии воли, в отказе от активной жизненной деятельности, патологической лени, апатии, боязни ответственности, страхе перед нестабильностью и риском, неизменно сопровождающим любое движение вперед» и т. д. и т. п. [Идеи, 2: 284]. Причину развития обломовщины видят «в невозможности или бесполезности какой бы то ни было активной деятельности без нарушения нравственных норм и без риска оказаться объектом мести завистливых соотечественников или подвергнуться репрессиям властей. В этом случае неумение и нежелание действовать в условиях, когда приходится мириться с „фатальным ходом вещей“, компенсируется мечтами и фантазиями, нередко принимающими вид утопии» [Там же: 286]. Вот все-таки концептуалист никак не может уйти от обаяния словесного знака, который, по его мнению, и есть смысл. Обломов — порождение своего времени, своего класса и личных обстоятельств жизни. Это всего лишь вид пресловутой русской лени как рода. Бездеятельность поместного дворянства — не общерусский национальный фактор, и потому вряд ли справедливо отношение к нему как «к великим архетипам общечеловеческой культуры», позволяющим избавиться от стрессов, фрустрации и отчуждения [Там же: 286]. Все-таки «задушевность и поэтичность» Обломова не случайны: только задушевность и поэтичность создают возможность созерцательности, о которой уже шла речь. Да и автор, Иван Гончаров, не случайно же сказал: «Я постиг поэзию лени».
Вот два суждения русских философов, уточняющих только что сказанное:
«Леность — явление весьма сложное, имеющее много видоизменений (!) и возникающее у различных людей в результате весьма различных основных свойств характера, строения тела и влияний среды» [Лосский 1991: 269].
„Не стремиться вперед“ свойственно двум: раку и русским. Рак так устроен. А у русских есть классическая лень. Лень — охрана Руси. Это-то и есть ее тайный омофор. Пока Русь ленива — она не заблудится и не погибнет. Ну его к черту — торопиться» [Розанов 2000: 127].
А была бы она деятельна не по силам? Берегись, окрестности! Ширялись бы по всем странам, как американцы, навязывая всем свои общечеловеческие ценности.
Да, это так, и не случайно «кто-то сказал, что одним из самых сильных побуждений человеческих действий является лень» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 22]. Лень и добро — общего корня, полагал Константин Аксаков; этот корень — совестливость. Тонкие знатоки русской души описали это свойство русской «лени» так:
«Православие — хорошая православная вера. А раз хорошо ему — значит, и истинна. С ленцой. Не торопится. Тиха. Беззаботлива. Умильна.
Как русские...
Все мы с ленцой, — не очень большой, но и не преуменьшаемой, не побораемой. „Как Бог даст“... Всё, господа, в лени... Пока люди ленивы, они, естественно, не соперничают, не завидуют, не перегоняют друг друга. А это-то и есть корень почти всех зол социальных и всей черноты душевной... Господа, ленитесь! Ради Христа — ленитесь! Пока вы ленивы — всё спасено» [Розанов 2000: 172, 151, 152].
«Ленив — осуждают, и я чувствую себя виноватым, начинаю лукавить — и падаю в мерзости» [Пришвин 1995: 70].
И — в заключение — самое важное: отличие лени от праздности.
«Суеверие праздности как прерогатива благородства нельзя назвать у нас национальным. Мне кажется, оно занесено к нам с Запада, от древнекультурных и ранее нас изнеженных стран» [Меньшиков 2000: 484].
Но вот что занимательно, так это оттенки.
В европейских языках существует общее слово для обозначения лени и лености: англ. lazyness или idleness, нем. Faulheit или Trӓgheit, франц. lа paresse, причем вторые слова английского и немецкого языков обозначают скорее «бесполезность» или даже утомление (вялость) в отношении ко всякому проявлению активности. Неразличение идеи в словах — типичная ошибка номиналистов. Родовые по смыслу термины исключают тонкую филиацию видовых различий. В нашем же языке оттенки: лень, леность, ленивость.
Лень — нежелание что-либо делать или нелюбовь к труду. Происходила бы подмена понятий в содержательном символе Лень, и тогда появились уточняющие леность — склонность к праздности — и ленивость — свойство ленивого как его постоянный признак. Символичность исходного слова лень сохраняет исконный его смысл: мне лень — неохота, не желаю, отстаньте, не хочется... В древнерусском языке слов такого рода было больше, и все совместно они аналитически точно передавали множественность ощущений общеродового «лень»: ленивость, ленивство (вялость, неповоротливость), леноба (то же), леность, лепота (бездеятельность) и собственно лень — состояние усталости после тяжелой работы (нет желания продолжать!). Этимологическое значение корня также показательно: спокойный, медлительный, кроткий — или вялый от усталости [ЭССЯ 14: 210]. Ленивость — у ленивых, леность — праздность, лень — состояние подавленного напряжением духа.
Специальный лингвистический разбор текстов, выражающих концепт «лень», показал все тонкие различия [Анализ 1999]: русские обозначения осуждают конкретные проявления лености, связанные с нежеланием делать нежеланное, но не идею лени как выражение остановки на время. Homo piger (человек ленивый) в русском его варианте действительно воспитан на оправдательных новозаветных текстах (тщета, суета, «птицы небесные не сеют, не жнут...»). Неопределенность лени не имеет качественной оценки, потому что «немотивированная чрезмерная активность выглядит в глазах русского человека неестественно и подозрительно» [Анализ 1999: 112]. В разгар немотивированной активности самовопрошание: «А зачем мне это нужно?!» — есть проявление мудрости, а не лени. Ведь не причина-зачин имеет цену, а конечная цель действия: ради чего? Почему это, собственно, должен я напрягаться. Идея тут важнее корысти вещи.
Да и проявления лени—лености—ленивости многообразны. Это, конечно, не запрограммированная рационально лень, не экономия усилий (леность) и не душевное или физическое расслабление (ленивость), а всё вместе, что и содержится в смысле общего рода — в словесном корне как выражение временного паралича воли, связанного с отсутствием всякого желания (мотивации целью).
Да неохота... Не хочется...
Но всё это временно, потому что не случайно. Это пройдет. Инерционность русского характера тому порука — инерция перехода в свою противоположность. Всем хорош русский человек, говорил поэт Некрасов, да вот беда: всё время пинать надо — чтобы не заснул!
«Да они славные. Но все лежат. (Вообще русские) [Розанов 1990: 488]. А пока...
Если судить не со стороны чужих предпочтений и обобщающе-родовых определений, а с русской точки зрения, станет ясно, что вовсе не «фрустрации» или «стрессы» отчуждают человека в лени, а пошлость жизни, то, «как пошло от века» и что составляет мертвящую скуку быстротекущей жизни. И тут уж никак не поймешь, как «слагается духовная язва нашего времени — эта самодовольная слепота в восприятии земных риз Божиих; имя этой слепоте — пошлость» [Ильин 3: 63]. Да и где увидишь ризы Божьи? — разве что в «фантазиях».
Пошлость жизни описали многие — Гоголь, Достоевский, Чехов... «Ведь пошлость — не проявление жизни, а проявление не жизни. Пошлость (установим понятие этого слова, не отнимая у него его хорошего отрицательного значения), пошлость — это неподвижность, косность, мертвая точка, антибытие в самом сердце бытия, остановка полета мира, сущность которой и есть полет. Пошлость есть нарушение первого условия бытия — движения» [Гиппиус 1999, I: 267—268].
Можно ли себе представить, чтобы в обстановке застывшей пошлости быта русский человек отказался от идеи бытия и пренебрег малейшей возможностью окунуться в его пучины?
Если думать так, тогда, значит, не понимать сути русского «реалиста».
А лень в русском смысле и есть идеальный ответ пошлости.
Обескураженность чувства: пьянь
О русском пьянстве написано много. Но достаточно посмотреть на слова, которыми обозначается питейное дело, и — кроме слов мед да пиво — нет ничего русского по происхождению. Да и эти слова особые. Слово мед встречается в записках о гуннском царе Атилле, а слово пиво обозначало всякое питье (как пища — всякую еду, а одежда — все, что надевали на себя). Слово вино обозначало виноград: сушеное вино в рукописи XI в. — это изюм. В значении ‘водка’ вино известно лишь с конца XVI в. — вино горячее, или, как сказано, гарелное вино; именно «виномъ горющимъ опивахуся и умираху» люди, к спирту не привыкшие.
Злоупотребление вином допускалось только в большие праздники или по неотступному желанию хозяина дома «пить его здоровье». Третье условие нарушения трезвости определялось государственным интересом, чтобы «не помешать приращению царского дохода» по монопольной торговле вином.
Три слова сразу же указывают место продажи: кабакъ, корчма да кружало, и все они заимствованы из других языков (хотя в своем месте и не обозначали питейного заведения). Из греческого, из восточных языков, из немецкого (кабак). Переосмысление слов по русским словообразам показательно: корчма и кружало напрямую указывают на состояние опьянения — кружение да корчи. В значении ‘питейное’ заведение слово корчма известно с XV в., слово кабак — с XVI в., а слово кружало — с XVII в. («пьяным делом говорили на кружале...»).
Крепких напитков на Руси до конца XV в. не было; меды сыченые не превосходили крепости сухих вин, не выше 10—12 градусов. Рисовая водка (буза) пришла от татар, а хлебная появилась около 1472 г. с Запада вместе с византийской царевной Софьей, бабкой Ивана Грозного. Близился конец света (его ожидали в 7000 году от сотворения мира (1492 г. — год открытия Нового Света), и водка оказалась кстати, чтобы снять истерическую взвинченность испуганного населения. Не крепость напитков, не их качество и даже не интенсивность пития создавали атмосферу «зельного пития» — неумение пить и та воодушевленность, которая приходит по мере взаимного общения за чарой. Иностранцы и сами непрочь выпить, но говорят о повальном пьянстве в России; такого никогда не было, да и слишком частые посты останавливали питие. Рассудительных и трезвых мужиков на Руси хватало. Судьба старообрядцев доказывает охранительную силу трезвости и воздержания.
Что же касается пьяного поветрия, то современная наука всё хорошо объяснила. Алкоголизм и наркомания, в отличие, например, от обжорства или курения, вовсе не «дурные привычки» и тем более не национальные предпочтения. «Тяга к вину и наркоте» — программа намеренного воздействия. Это психологическое кодирование, направленное на определенные группы людей с целью их обезволить и подчинить себе. Судя по тем истерическим отрицаниям этого утверждения, которые время от времени появляются в печати от заинтересованных лиц, это несомненно так.
Трижды в России велось наступление на волю подданных с помощью такого вида психотропного кодирования обездоленных, доведенных до отчаянного положения русских мужиков. После покорения Казани Иван Грозный ввел государеву службу целовальников; их деятельность усилилась при польском нашествии в разрушенной России начала XVII в. и была освящена в пьянейших загулах Петровской эпохи. Польско-еврейские шинкари эпохи «освобождения» в середине XIX в. и государственная монополия советских времен завершили дело. Экономическая выгода страны всегда казалась более важной, чем здоровье нации. А конформизм традиционной соборной культуры достаточно высок, чтобы развитие «пьянства» шло по нарастающей как примета особого шика и молодечества. Это одно из проявлений диктата, которым государство подавляет волю общества.
Так получается, что пьянство постепенно становится стереотипом поведения, в который оформилась хроническая неудовлетворенность человека, занятого непродуктивным или бессмысленным для него трудом, и столь же хронически страстная жажда праздника жизни [Касьянова 1994: 158; Тэневик 1996: 152]. В России и запой — не порочность воли, а «неудержимая потребность огорченной души», реакция на подавление личности. В XIX в. его объясняли либо тоской жизни (Петр Вяземский), либо необходимостью остановиться и «задуматься» (Петр Лавров).
И это явление, видно, покрыто задумчивой патиной этического, как и все на Руси.
Отрешенность слова: брань
Человек не у слова — это брань и ругань, пустые речи, подмена полновесного слова беспредметным и оскорбительным.
«Замечательно, — писал Георгий Федотов, — что брань, т. е. грех словом, представляется в родовой религии столь же тяжким, как и убийство». На Руси до начала XVII в. соответствующих слов почти что и не было (или они были под полным запретом), о чем единогласно свидетельствуют иностранцы, посещавшие в то время Россию. А ругательства «наподобие венгерских пусть собака спит с твоей матерью», по их мнению, были из самых грубых. «В иных языках есть множество обидных слов, проклятий, ругательств. Счастье нашего языка в том, что в нем нет никаких обидных и ругательных слов, вошедших в обиход, кроме материн сын. Но это не потому, что наш народ избегает дурных слов, а происходит это из-за бедности языка», — полагал в середине XVII в. Юрий Крижанич.
Что же его обогатило, наш язык?
Первая мысль, тут возникающая, состоит в том, что, может быть, такие слова, очень выразительные и экспрессивные, по яркости своей приедались, и их со временем заменяли другими. Действительно, историки языка и культуры показывают [Толстой 1995], что вполне приличные ныне слова некогда были выражения того же самого сорта, например чур и чушь (чуха, чушка), курва и бухой (с которым связана буханка) и т. д.
На обширном историческом материале с поражающим воображение трудолюбием Б. А. Успенский [1994, II: 53—128] показал последовательность в осмыслении древнейшей языческой формулы, связанной с культом плодородия; сакральный ее характер с включением в нее идеи «пса» (пся крев, сучий сын, собачиться, матерная лая и т. д.) носит уже кощунственный характер и равноценен западноевропейским богохульствам, которых на Руси не было. Еще позже, в связи с перенесением значения «мать-земля» на женщину, оно становится оскорбительным с тем, чтобы уже в новое время, совершенно забывшее о ритуальных или антикультовых функциях знаменитого и всем известного выражения, стать простым сквернословием, которое не воспринимается ни как богохульство, ни как оскорбление, но в известных случаях может служить даже дружеским приветствием подвыпивших дружков. Филологов всегда изумляло то, что «запрет накладывается именно на слова, а не на понятия, на выражение, а не на содержание» высказываемого [Там же: 55]. Именно выражение в слове и есть непристойность, сохраняющая возмутительный интерес к самой формуле речи.
Достоевский в своих Дневниках заметил, что русский народ сквернословит, часто «не о том говоря» — ибо «народ наш не развратен, а очень даже целомудрен — несмотря на то, что это бесспорно самый сквернословный народ в целом мире, и об этой противоположности, право, стоит хоть немножко подумать». Щепетильность писателя просто поразительна. В других языках столь же неприличные формулы — речевые идиомы литературных языков; целомудренность «нашего народа» в том и состоит, что он не допускает подобные формулы в образцовую речь... а тогда и кажется, что он сквернословит.
Сквернословие и ругань — не одно и то же. «Русский народ — большой ругатель. Нечего скрывать правду: ужасно это неэстетично — до тошноты, но ведь факт, что непечатная ругань стоном стоит в воздухе на пространстве шестой части суши», может быть потому, что «ругань есть громоотвод в жизни — немудрой, бытовой. В процессах же более сложных и возвышенных таким громоотводом является печать» [Шульгин 1994: 292]. Сказано недобро, но верно. И то и другое — явления культуры, восполняющие друг друга. Не случайно современный философ полагает, что ненормативная лексика в сегодняшнем употреблении служит «для сохранения ритмического континуалитета речевого потока с элементами психотерапии»; это вовсе не ругань, а как бы «связь слов в предложении» или как заменитель отсутствующих в русском языке артиклей [Пелипенко, Яковенко 1998: 154]. Очень похоже на правду. Во всяком случае, пресловутый блин сегодня точно играет роль вполне определенного артикля в незамысловатой бытовой речи.
Конечно, это и психотерапевтическая разрядка в напряженности житейских ситуаций, но не физического (тут — пьянство), а нравственного плана. Основание такого явления понятно. «Реализм» обращает свой взор на идею, в своих печалях пытаясь оттолкнуться от реальности вещи. Потому-то и нет в этой «матерной лае» никакого содержания (смысла), и потому же «не о том говорит» мужик в напряжении страсти, он просто взывает к «идее» предков, находя в ее изглашении словом некую колдовскую силу заклятия, которая способна облегчить его судьбу. Конечно, современное манерничанье в духе «а-ля мужик рюс» или подмены типа инфернального блин никакого отношения к психотерапевтическим упражнениям наших предков не имеют. Всё Средневековье говорило таким языком, а некоторые европейские литературные языки такими остались доныне.
Если же отвлечься от конкретных проявлений сквернословия, лени и пьянства у отдельных, к тому предрасположенных, личностей и взглянуть на дело идеально, с точки зрения национального инстинкта, который чутко реагирует на вызовы власти, станет ясно, что мы имеем дело с социальным раздражением, которое сменяется усталостью и завершается равнодушием. Таковы пассивные ответы народа на давление со стороны «непригожей» власти. Возможность активного ответа велика — от хулиганства и хамства до бунта и восстания. Хамство — «использование результатов высших этажей культуры, продуктов элитарного творчества для достижения низших этажей культуры, направленных на подрыв, нанесение ущерба высшей культуре. Хамство — одно из орудий традиционализма в борьбе с Большим обществом, с либерализмом» [Ахиезер 1998: 542]. Хулиганство же хамству противоположно — это «высшие этажи культуры» стремятся подавить и уничтожить традиционную культуру. Достаточно почитать современные газеты. Но подведем итог. Если лень — человек не у дела, пьянь — человек не у мысли, а хам — раздраженный словом все тот же человек, понятно, что явление то, и другое, и третье — глубоко социальны, и русское слово тут ни при чем. Во всех трех случаях видим разгул страсти, столь же пустой, сколь и разрушительной тоже.
Труд и работа
Труд не является ценностью в русской ментальности [Тульчинский 1996: 259]. Интересно, откуда взялась эта, ставшая расхожей, точка зрения? Русский человек, напротив, полагает, что «кто не способен работать по 16 часов в сутки — тот не имел права родиться и должен быть устранен из жизни как узурпатор бытия» [Ключевский IX: 378].
«Очень принято говорить о русской лени, — однако русский народ преодолел такие климатические, географические и политические препятствия, каких не знает ни один иной народ в истории человечества...» [Солоневич 1991: 32]. Да в чем же она, эта неизбывная русская лень, о которой так настойчиво говорят? В труде? в работе? в деле? Не смешивают ли номиналисты разные вещи, одно подменяя другим — обычное для них состояние?
Да, обычная подмена понятий, основанная на путанице в словах. Говоря собирательно о «труде» (бизнес—дело), толкуют с позиции ratio-понятия, тогда как в троекратном повторении дело—труд—работа гиперонима-понятия вовсе нет, а есть нерасчлененное сознанием идеальное сочленение трехкратного символа.
Так что «русский мужик есть деловой человек. И кроме того, он трезвый человек... Дело русского крестьянина — дело маленькое, иногда и нищее. Но это есть дело. Оно требует знания людей и вещей, коров и климата, оно требует самостоятельных решений и оно не допускает применения никаких дедуктивных методов, никакой философии. Любая отсебятина — и корова подохла, урожай погиб и мужик голодает... Мнение Буллита, бывшего посла в России: „Русский народ является исключительно сильным народом с физической, умственной и эмоциональной точки зрения“. А вот русская литература была великолепным отражением великого барского безделья. Русский же мужик, при всех его прочих недостатках, был и остался деловым человеком...» [Солоневич 1991: 185—186].
И так было всегда.
У героя его дело, у святого его «потовый труд» (слова Розанова). «Труд — это потребность таланта» — сказано веско и справедливо; а талантами Русь богата. Обычному человеку остается работа, то есть каждодневный нетворческий — рабский — труд. Именно работа, усиленная, тяжелая, справленная напряженно и споро, но длится она недолго: нет у русского человека навыка к постоянному труду. И Иван Солоневич, и Василий Ключевский [Ключевский I: 315] объясняют, почему так сложилось: природные и социальные условия жизни создали особый ритм производства. Не смешивают ли критики труд и дело с рабской работой, от которой, надо полагать, старается отлынивать не только русский человек?
А между тем и сопутствующие особенности социального поведения (проявления характера) различают три ипостаси труда: работа связана с дурью, труд — с ленью, а дело — с завистью.
У всех, кто высказывался о русской лени, всегда один и тот же вопрос: почему? Из всех национальных недостатков даже славянофилы видели лишь один: неумение сосредоточиться в напряженной работе, работать много и добиваться настойчиво [Рязановский 1952: 124—125]. Отсутствие интереса к работе и энтузиазма в ее совершении поразительны, и Вышеславцев с грустью шепчет: больше всего боится русский — работы и горя, работы как горя. Да кто же не убоится рабской доли? «Ленив или деятелен?» — но ведь ленив из-под палки, когда же доходит до последней черты, «встряхиваясь в последний час, тогда уже не щадит себя, может за несколько дней наверстать упущенное за месяцы безделья... В труде и общественной жизни — недоверие к плану, системе, организации» [Федотов 1981: 89, 94] — всё верно. Петр I перекраивал Русь абы как, не составляя планов, а руководствуясь только идеей; впрочем, так поступали и все правители позже.
Созерцание идеи, да, но — от вещи. Презрение к мещанству с его любованием вещью — одна из черт ментальности русских людей [Лосский, 1994]. Вот вам подробность, за которой исчезает сакральный смысл русской «лени», и ложь ее критиков. Работа — не труд, а дело дано не всякому.
Кажется странным, в наше-то время, устойчивое неприятие накопительства у нормального русского человека. Есть, конечно, исключения, но исключения порицаются. Черта ментальности сложилась исторически, реально через вещь, если под «вещью» понимать всякое мирское дело. У работников постоянно — тысячу лет! — отбирали всё, иногда даже необходимое им для собственной жизни; бесполезно им было бы накоплять, — собирали бы не для себя. А это не «накопительство» вовсе. Природное отвращение к ростовщическому капиталу (к «жидовству», говоря по старинке) исключало возможность отдавать накопленное в «рост» под проценты, то есть безнравственно и грубо присваивать чужой труд. Аморальность такого деяния есть идея, которая полностью сопрягается с реальностью вещи: все все равно отберут. Ненависть к откупщикам в XIX в. и к кулакам в ХХ-м проистекала отсюда. Праведная ненависть, а не вульгарная зависть. «Мы, русские, служивые, а не торговые» [Гиренок 1999: 385].
Так было всегда. Иноземцы в XVI в. изумлялись русским мужикам: лето стоит что надо, а те не пашут: делают что им нравится. А зачем пахать? Лонись урожаи хороши были — всё и так есть. Пусть отдохнет земля от плуга. Рыбу не ловят, зайцев не стреляют: вон как мечутся в лугах, можно ловить руками! «Ништо, погодим: к зиме дак и шкурка будет...»
Нехорошо назойливо смешивать безделье и неделание. Не следует.
Ценятся не факт и не вещь, а конкретное дело. Немало язвительных замечаний разбросано в различных трудах о феноменологичности «идей» и позитивизме «фактов»; припомним хотя бы одно: «Эмпирик англичанин имеет дело с фактами; мыслитель немец — с идеей: один грабит и давит народы, другой уничтожает в них самую народность» [Соловьев 5: 7]. Русский человек имеет дело с делом, которое через идею результирует в вещи. Дело и есть единство идеи и вещи; дело соединяет идею с фактами в со-бытии.
Труд как нравственная ценность постоянно выделяется в русской истории. Таков «Домострой», не раз охаянный ни за что. Олег Платонов показал значение этого текста для понимания русской «экономики» (Домострой и значит «экономика» — «наука вести хозяйство для обеспечения достатка и изобилия, руководствуясь духовно-нравственными началами»); это разумный достаток и нестяжательство как «практическая духовность», идеал праведного труда: «Русский человек не желал жертвовать необходимым, чтобы приобрести излишнее» [Платонов 1994: 135, 137] — самые точные слова, объясняющие и русский характер. Экономика традиционного общества, которое работает на потребление, а не на накопление и наживу (хрематическое хозяйство). Да и русская «беззаботность» тогда понималась иначе, чем толкуют ее сегодня, намеренно искажая символический смысл имени. Жить без нужды и забот, ни от кого не завися, не вторгаясь в чужие пределы, не одалживаясь, и свобода в этом случае — прежде всего независимость от власти денег [Там же: 139]. Пресловутые «русские огороды» тоже ведь не проявление тоски по крестьянскому прошлому, а — недоверие к власти, которая постоянно норовит залезть в твой карман. Это интуитивное стремление «на всякий случай», хоть в чем-то освободиться от зависимости. Стремление к воле в рамках допущенной свободы.
Труд организует целостность бытия человека, который, согласно Писанию, выступает творцом наравне с Создателем: не борьба с природой, но взаимная с нею впряженность в труд. Три компонента трудовой деятельности: труд — земля (природа) и капитал — диктуют формы национальной предпочтительности, нравственно очерчивая пределы народной морали. С точки зрения капитала всё имеет свою цену, всё оценивается, создавая личный интерес, — таков капитализм. С точки зрения труда возникают различные идеалы — прежде всего социальные: социализм, неважно какой — «общинный» у Аксакова, христианский у Булгакова или социальный у коммунистов. С точки зрения природы и то и другое в равной степени неприятно, но все-таки труд предпочтителен, ибо труд — моральная ценность. Труд с природой со-трудничают, капитал ее обирает, социальный идеал труда превращая в работу на всех.
Потому и действительность понимается как система нравственных действий, деяний твоих собственных, а не нечто такое, что вне тебя, от тебя не зависит: опосредованно, через твой капитал, отчужденный чужой труд.
Всякое дело, мысль или слово окрашены нравственным идеалом. Нет ничего, что не сопрягалось бы с нравственной оценкой в поведении и мыслях человека.
Действие нравственно или не нравственно, а каждый его результат (продукт, предмет, вещь) обязательно окрашен эстетически, окутан признаком красоты. В оценке действия, а значит, труда и дела, присутствует критерий «хорошо / плохо», в оценке же продукта труда — критерий «красиво / некрасиво». Действие и его результат также дифференцированы по моральным критериям.
Оправдание выбора
Собирая по крупицам высказывания русских мыслителей на тему «труд», можно составить общее представление и о русском характере.
Традиционное понимание труда заложено в присловьях, например в таких: «Терпенье и труд всё перетрут», «Сделал дело — гуляй смело», «Воля и труд человека дивные дива творят», «Делу время — потехе час» и т. д. А вот работа... «Работа не волк — в лес не убежит». Делу — долгое время, труд — в проявлениях воли, работа же — подождет. Да и типичные признаки трех проявлений деятельности красноречивы. Трудовой — это трудный, деловой — это дельный, а уж рабский (тоже притяжательное прилагательное, только с другим суффиксом) — это всего лишь работный. Работник. В основе русского характера не торговля (дело) и не война (работа), а труд в тяжелых климатических условиях, предполагающих опасность, риск, борьбу без всякой гарантии на удачу [Ковалевский 1915: 31].
Отсюда все внешние формы проявления труда.
«Кому, например, неизвестно, что русский человек, задумав что-нибудь сделать, никогда не приступает к делу сразу: он начинает сперва готовиться, и готовится он так долго, что нередко за приготовлением забывает и самое дело». Вот он — корень всех русских бед. «Одно из отличительнейших свойств русского характера той среды, которая называется по преимуществу русским обществом, это — нерешительность. Мы постоянно колеблемся не только тогда, когда приходится от слов перейти к делу, когда приходится выбирать тот или другой способ действия, но даже и тогда, когда приходится выбирать между тем или другим образом мыслей» [Ткачев 1976, 2: 47, 53]. Очень точное описание последовательности действий. Колебание выбора (скажем, между работой, трудом и делом) связано со столь же усложненным способом мысли предпочтения. В результате «долго запрягает — быстро едет». А вот как уж он едет — о том у Ткачева ни слова. Между словом и делом непременно должна быть своя мысль, «технология дела», осуществленная в труде. Только тогда это не работа. Да, «мы готовы действовать, если уж надо, но никто не заставит нас искренне уважать деятельность больше созерцания, хлопоты больше мышления. Что же за беда! Видно, так надо» [Леонтьев 1912: 9]. Суетность действий — не труд и не дело. Пустая трата сил. «На Святой Руси... нужно внутреннее успокоение для того, чтобы внешняя деятельность была спокойна и плодотворна, чтобы унялась лихорадочная нетерпеливость и чтобы всякое доброе стремление соединялось с постоянством и последовательностью, без которых невозможен успех» [Хомяков 8: 57].
Русское представление о труде осветляется идеей большого дела. При этом «абсолютизируется акт творчества, но не процесс работы. Напротив, всякая усидчивость, повторяемость, занудность — всё то, чем созидается цивилизация, — ненавистны. „Бесполезная нация“ — сказал о русских Чаадаев» [Горичева 1996: 242].
Такое не всегда нравится, в том числе и русскому аристократу, и Константин Леонтьев осуждает понижения общего идеала человека, который становится «всё ниже и проще: не герой, не полубог, не святой, не чудотворец, не рыцарь, а честный труженик» [Леонтьев 1912: 172]. Но «честный труженик» — не русский идеал.
«Нас, русских, очень часто обвиняют в верхоглядстве и легкомыслии, говорят, будто мы совсем не способны к усидчивому труду, к терпеливой кропотливости, к солидной основательности, будто мы рубим всё с плеча, до всего хотим дойти вдруг, а потому больше полагаемся на собственный разум, на якобы прирожденную нам сметку, чем на чужой опыт, на чужой авторитет, что мы, одним словом, и в науке, как и в жизни, всегда являемся (или чувствуем склонность являться) истыми ташкентцами, бесшабашными наездниками... Правда, если судить о русском человеке по том, что иногда болтает его язык, то действительно может показаться, что он, т. е. не язык, а русский человек, весьма и весьма легкомыслен» [Ткачев 1976: 43]. «Положим, и к простолюдину русскому можно здесь придраться: у одного — лень; у другого — всё слабовато, в том числе и мстительность и гордость невыразительны; третий — сам не знает, что ему нужно делать; у четвертого — равнодушное отношение ко всему, кроме своих личных интересов. Но это уже тонкие психологические оттенки», — писал Федор Достоевский. И всё «это — странная и неустранимая, кажется, русская неуклюжесть», — замечает Розанов. Среди аптекарей нет русских («Всё нужно здесь „по капле“, а русский может только ,,плеснуть“), как и среди часовых дел мастеров («где также требуется мелкое и тщательное разглядыванье») и даже среди невских (не волжских!) речников: «...но на Неве — суета, и опять „подробности“, т. е. так много мелькающих и мелких судов, что, конечно, русский лоцман на пароходике-лодке и сломается сам или сломает. И чувство ответственности, страх «сломать» или «сломаться», а главное — отвращение к суете и неспособность быть каждую минуту начеку гонит его от лоцманства, из аптеки и от часовщика. Напротив, кровельщик или маляр, висящий на головокружительной высоте— всегда русский и никогда еврей или немец: это — риск, но и уединение, спокойствие, где работающий может «затянуть песню». Русский немножко созерцатель, и он только в той работе хорош, где можно задуматься, точнее— затуманиться легким покровом мысли о чем-то вовсе не связанном с работою; так поет и полудумает он за сапогом, который шьет, около бревна, которое обтесывает, и, наконец, в корзиночке около четвертого или пятого этажа. Все ремесла собственно интенсивные и все интенсивные способы работы — просто у него не в крови. А о народе в его историческом росте мы можем повторить то же, что говорим о ребенке, взрослом и, наконец, старике: «Каков в колыбельку — таков и в могилку!» Удивительно: сто лет спустя понимаешь, что это писано совсем о другом русском простолюдине!
Вдумаемся, всё же, в суть рас-трое-ния понятия о труде.
«С подчинением гражданскому порядку связана и привычка к труду. В естественном человеке [отметим это] она отсутствует. Для этого требуется известное насилие над собою, которое дается развитием сознания и укреплением воли [и это отметим]. Естественного человека, так же как и ребенка, надобно принудить к труду. В этом состоит экономическое оправдание рабства. Только путем вынужденной работы [т. е. рабства] человечество могло достигнуть той степени благосостояния, которая давала досуг и для умственного труда, а с тем вместе и для развития цивилизации с ее неисчерпаемыми благами» [Чичерин 1999: 96]. Интересное объяснение: дети и наемники в древнем обществе — это не рабство, а принуждение к труду); рабство там, где трудящийся принуждается к работе: «Принудительное подчинение чужой воле, т. е. рабство» [Там же: 121]. Это штрих к проблеме «русский — прирожденный раб»: русский как раз и стремится уйти, увильнуть, избыть такую работу. Потому что, сказал другой мыслитель, «нельзя слепо воспринимать ежедневный труд как лишенную смысла работу по принуждению, как галерную пытку, как муку от зарплаты до зарплаты. Надо одуматься... Труд позволяет „берущему“ человеку не только „брать“, но и „давать“. Каждый человек „берет“ и у природы, и у других людей — уже ребенком — и до последнего вздоха. Каждый нравственно чуткий человек знает об этом и живет с этим чувством всю свою жизнь. Поэтому в нем и не исчезает потребность — достойно отплатить за полученные дары и превратить одностороннее „получение“ в благодарный „обмен дарами“. Получение обязывает; „оплата“ облегчает душу и снимает с нее бремя. Но интенсивнее всего человек „дает“ тогда, когда он отдает себя или предается, а именно в любви и в труде... Но счастье труда не ограничивается и этим. Всякий труд есть исследование, и всякий труд есть расширение человеческого горизонта, человеческих перспектив и человеческой власти... А сколь велика радость труда при каждом творческом достижении!..» [Ильин 3: 427—429].
Заметим, что русские мыслители говорят о труде, противопоставляя его работе, а о деле вспоминают только имея в виду некую духовную сущность всякого труда. Примеров можно привести множество, вот один: «...дело, которое здесь может привести к цели, не имеет ничего общего с какой-либо деятельностью, с какими-либо внешними человеческими делами, а сводится всецело к делу внутреннего перерождения человека через самоотречение, покаяние и веру» [Франк 1976: 40].
Вещь
В русский язык слово вещь проникает в XI в. как факт литературного языка. Уже его форма указывает на это. *vektь в русском произношении дало бы вечь, однако известна только форма вещь (сравните церковное нощь при русском ночь). Всё, что заимствуется из церковнославянского, обозначает символ, но на русской почве смысл символа преобразовался, хотя и не сразу. В отличие от церковно-книжного слова, которое всегда означало нечто земное в противоположность небесному, то, что случается неожиданно, случайно, недобрым духом, в разговорном русском то же слово получало значения вещественно-телесные, связанные не с идеальным, а с предметным миром. «Вещь и есть то, что находится вовне, а не в глубине. Дух всегда пребывает в глубине. Дух... есть глубина, дух есть внутреннее, а не внешнее... Глубина всегда есть символ духа. Природный мир, взятый сам по себе, не знает глубины. И раскрытие глубины природного мира возможно лишь в духе...» [Бердяев 1926: 44]. Какая глубокая шаманская фраза, ритмическим повторением вглубляющая в подсознание вполне понятную мысль!
Но и само по себе слово вещь — высокого стиля, поэтому оно обусловило восприятие самой «вещи» — одновременно и реально-предметной, и идеально мыслимой. Когда древнерусский мудрец утешает своего благодетеля, говоря: «Князь не сам впадает в вещь, но думцы вводят», — он утверждает, что князь невиновен в своих неудачах и даже преступлениях, их замыслили, высказали и исполнили его советники, а не он. Следовательно, «вещь» понимается как рукотворный результат действия от воплощения мысли (возможно, внушенной). Символически Вещь — это творческая, через слово созидающая мысль; общим термином обозначены сразу — и идея, и ее истолкование в слове, и действие, и конечный результат всего этого вместе, продукт такой деятельности. Вещь рассматривалась неразделенно и как вина (причина), и как дело (результат деяния); они взаимообратимы в цельности «вещи». Для христианской идеи важен был замысел и результат, а не вид или способ действия, что, напротив, оказывалось существенным в быту. Динамизм мышления древнего русича проникал в первоначально (церковно) ограниченный символ и понимал его как процесс создания, а не результат действия.
Итак, изглашенная мысль как первоэлемент дела — таково исходное значение слова, с самого начала выражавшего не предметную конкретность вещи, а совокупную множественность предшествовавших ей действий. В повествовательных русских текстах, там, где автором был мирянин, славянскому слову обычно соответствовало более привычное слово дѣло ‘событие’. Общее значение слова вещь ‘навязанного высшею силой действия, земного в отличие от небесного и греховного’ связано с церковным мировоззрением, различавшим Божье дело — тварь, и дело человека — вещь. В известном смысле это философский термин, обозначающий враждебный чувственный мир, сотканный из событий и существ, которые можно покорить словом и делом, воплощая их в вещи.
В данном конкретном случае происходило раздвоение исходного символа по смыслу. Он понимался по-разному в зависимости от требований, которые вызывали смещение смысла. Даже грамматически удвоение сущностей выражено вполне внятно: вещь как идея и вещи как мир предметный. «Вещь» как единство идеи и вещи в слове, повинуясь логике символического удвоения, обернулась и вещью, и вещами.
Ценность вещи в ее годности или потребности (еще два ее предиката: «Большая производительность всегда опирается на более высокую личную годность. А личная годность есть совокупность определенных духовных свойств: выдержки, самообладания, добросовестности, расчетливости... Идею „годности“ англичане выражают словом efficiency, немцы — словом Tüchtigkeit. Француз просто скажет: force — и будет прав. Ибо годность — сила» [Струве 1997: 203—204]. Иначе: «Ценность вещей зависит, с одной стороны, от потребности, которая в них ощущается, с другой стороны, от возможности ее удовлетворения; а так как потребности людей разнообразны и изменчивы, то никакого постоянного правила тут установить нельзя» [Чичерин 1998: 92]. Золотые слова.
Польза
Хотя «расчет выгоды правит человеком», замечал Николай Лосский, но для русского человека духовность всё же более высокая ценность, чем меркантильный интерес, цельность личности созидается именно духовностью («синтезирующий творческий акт», по Бердяеву). Прагматические установки не важны в случае, если на первое место выходят идеи и интересы более высокого порядка, чем личные: соборные или народные. Так потому, что прагматическое и мистическое совмещены в сознании и реально, выражаясь, между прочим, в противоположностях конкретного и абстрактного, или, точнее, отвлеченного от конкретного. Духовность позволяет понять, почему все гиперонимы в русском языке обслуживают «сферу мистического», а слова конкретного значения, даже и обобщенно-терминологические, — «сферу прагматическую», связанную с конкретностью «вещи», с предметным миром (вещь, а не вещность и не в собирательной множественности как вещи).
Сопоставляя предикаты «полезное» и «ценное», современный философ утверждает, что «полезность есть другая сторона целесообразности... ценность же — ставший мотив», и вообще полезное принципиально отличается от ценного именно потому, что полезное не есть собственное достояние человека, но является важнейшей характеристикой поведения животных. Следовательно, «польза — это принцип биологический (Сергей Булгаков).
«То, что совершенно лишено духа, чуждо духовности, не может быть ни добрым, ни злым, ни прекрасным, ни безобразным, но признается только полезным или вредным» [Астафьев 2000: 65].
Если приведенные выкладки верны, тогда русский человек, вплоть до Нового и Новейшего времени под пользой понимавший добро, всегда каким-то мистическим образом отталкивается от конкретности пользы как личного интереса, ставшего еще одним заемным средством выжить в меркантильном мире вещей. Например, еврейское понимание Добра — это именно польза [Чернейко 1997: 146], финансовые спекуляции приходили к нам с этой стороны. Так, по авторитетному свидетельству, «очень долго малороссы не могли понять значения векселя, записки и расписки, — но евреи успели и в этом их просветить» [Ковалевский 1915: 45].
Полезное не всегда ценное хотя бы потому, что полезное целесообразно — ценное же само по себе цель. Ценное — духовная ипостась полезного.
Говоря о «пользе», современный человек имеет в виду ‘хороший результат, благополучные последствия для кого-либо или чего-либо’, а еще раньше под пользой понимали банальную наживу, барыш (с 1930-х годов, как можно судить по словарю под редакцией Ушакова, ‘выгоду, интересы’ — смягченный вариант всё того же, конечно, непозволительного в советское время «барыша»). Такова прагматическая в корне установка мира сего. Заблуждение необходимо исправить, поскольку такими терминами мы слегка искажаем исконное понимание «пользы». Всё описанное (выгода, барыш, интерес и т. д.) на Руси всегда понимали (и обозначали) как корысть.
В перечне составляющих категории Блага (истина—добро—красота) средний член как раз и заменяют понятием «пользы», что не случайно. Одно из значений слова добро уже в XII в. ‘материальное добро’; ср.: со всем добром, мое добро, то есть то, что можно (льзя) и легко. По-льза — то, что легко, что допустимо и разрешено. Древнее значение слова отчасти изменялось, но еще и в начале XV в. у Епифания Премудрого польза скорее легкость исполнения, чем корысть.
Само слово польза у нас — происхождения церковнославянского, в народной речи оно звучало иначе (как польга или пользя). Действительно, Владимир Даль перечисляет слова, способные передать тот же смысл, и это самые разные слова: льга, легко — ‘льгота, облегченье, помощь, прок, подспорье, улучшенье; выгода, прибыль, барыш, нажива’. Польза вовсе не ‘интерес’, и не случайно, например, Солженицын, и не он один, яростно возражает против «интереса»: «Это безнравственно! Интерес всегда выгода, а коммерция есть занятие, не создающее нравственных ценностей» [Солженицын 1983: 8] — таков «истребительно-жадный прогресс» современной цивилизации, победа государства над культурой, поданный как коммерция. Такое отношение к пользе традиционно для русских. П. А. Плавильщиков, актер и комедиограф XVIII в., выразил свое мнение о русском языке, который передает «ясно понятия росийские. Виноват ли язык наш в том, что он различает пользу, выгоду, корысть, привлекательность и рост, а французский всё сие называет интересом?» Покрыв гиперонимом «интерес» все оттенки возможных «интересов», тем самым как бы облагородили то, что русскому нравственному чувству претит. Русский ясно видит в таких словесных играх подмену тезиса (процедуру, которая так заботит западноевропейское ratio).
И конечно, «не надо себя обманывать. Враждебность Европы слишком очевидна: она лежит не в случайных комбинациях европейской политики, не в честолюбии того или другого государственного мужа, а в самых основных ее интересах» [Данилевский 1991: 401]. «Интересах» в том самом, французском, смысле слова.
Однако русская польза, мало того что и обозначается словом высокого, книжного лексикона, она и в нашем представлении возникла на духовном субстрате «добра», из добра исходит и на него опирается и потому, конечно, далека от западноевропейского утилитаризма. Если говорят, что нечто полезно, предполагают, что это — добро; смысл прилагательных сохраняет исконную доброкачественность понятий о пользе как об-легч-ении жизни, не больше. «Польза есть принцип приспособления для охраны жизни и достижения благополучия. Но охрана жизни и благополучия могут противоречить свободе и достоинству личности» [Бердяев 1990: 163] — а именно это и есть ценности.
Конечно, сегодня уже не то. Даже слова, никогда не входившие в сферу действия слов типа польза, приобретают теперь заземленный смысл утилитарного действа. Например, милосердие никогда не понималось у нас и не понимается как просто бескорыстие и даже как «материальная помощь». По самому понятию о нем милосердие не может быть «общественным», поскольку в принципе мило-серд-ие есть душевное стремление человека очиститься духовно посредством доброго дела на пользу слабейшему. Для самого субъекта милосердия последнее в нравственном смысле даже нужнее, чем для того, на кого направлено, и в этом — всё дело (если понимать его с точки зрения русской ментальности). Всякого рода «движения милосердия» — дело мертворожденное, в душевно-интимные отношения вносит оно дух предпринимательства и организованного «мероприятия» (полицейский термин XIX в.), то есть, действительно, некий дух рекламной наживы.
Исследуя «ментальность россиян» в конце XX в., психологи и культурологи в массовых опросах установили, что представления о ценностях изменяются. Наряду с набирающими силу представлениями о здоровье, семье, стабильности, достатке и мире всё шире распространяется идея порядочности и всё реже говорят об идеях могущества, прогресса, процветания, законности, демократии, равенства и свободы. Полное отталкивание от «западных ценностей», столь же декларативно рекламных, как и в России в годы «перестройки». Неустранимо во времени национальное своеобразие в толковании одних и тех же концептов, выраженных терминами различных языков. «Успех» как результат личных усилий более распространен среди сторонников западных ценностей, тогда как в русской культуре всякий успех — везение и удача [Ментальность 1997: 74, 76] — и не более того.
И почему бы это?
Да потому, что уже в словесном корне явлена эта мысль: у-спѣ-хъ — это значит у-спел ухватить, по-спеш-ил — и сделал!
Быть и иметь
Теперь мы можем рассмотреть коренную противоположность поступка, которая сегодня смущает умы европейских мыслителей. По ходу изложения мы не раз ее касались, этой противоположности, и в отношении русской ментальности ответ однозначен: не иметь, а — быть. Не житейский интерес, а пребывание в жизни.
Никогда, наверное, не поймем мы друг друга с Западом. Аскеза достатка («хватит! довольно!») не согласуется с идеологией максимума («быстрее! больше! дальше!»), которая царствует там [Гачев 1988: 61]. «Скупость и легкомыслие — две крайности характера», — записал Пришвин, и разве обе крайности не сходятся в характере русского? «Малым довольствуется русский человек», но бешеная погоня за собственностью смутила русские души, и «стало тупо жить» [Пришвин 1994: 322, 86—87].
Бедность понимается не как нищета и заброшенность, а как опустошение, не только внешнее, но и опустошение души, духовное даже сильнее [Карсавин 1997: 215]. Искусство быть в миру заключается в том, чтобы узреть настоящую бедность — беду, постигшую человека от бедности лицемерной (во внешнем понимании) или корыстной (в понимании внутреннем). Опять — раздвоение сущностей при удвоении форм, и правда жизни находится где-то между ними, в гармонии лада, недостижимой человеком в одиночку. Русскому человеку нужен достаток — и будя! Достаток от достаточно, чтобы сохранить на миру лицо — достоинство. Непонятны нападки на слово достаток: «Частная собственность, а заодно и собственность просто — в русском дискурсе имеет негативную оценку. И нужно очень резко затормозить инерцию ума и души, чтобы осознать бессмысленность словосочетания нетрудовые доходы. Доход, как известно, не может быть трудовым или нетрудовым — он может быть законным или незаконным. В терминах „трудовой—нетрудовой“ под нравственное сомнение попадает наследство, клад, доходы с патента, процент от сделки, творческий гонорар и т. п., когда „трудящемуся“ не понятно, как это — не трудился, не вспотел, а доход имеет. Да и сам-то доход — нечто сомнительное, не про нас и не для нас. И никак не связан с трудом. „От трудов праведных не наживешь палат каменных“. А от труда можно только „дойти“ (ср. доходяга). А достаток только от того, что смог „достать“ что-то, или ограбил кого-то, или выпросил в подарок...» [Тульчинский 1996: 257]. Народная этимология исказила смыслы вполне приличных слов в угоду обстоятельствам нынешней жизни. Доходяга, скорее, от доход: перетрудился на работе.
В своем раздражительном суждении Тульчинский словно опирается на слова Василия Розанова в его «Уединенном»: «В России вся собственность выросла из „выпросил“ или „подарил“ или кого-нибудь „обобрал“. Труда собственности очень мало. И от этого она не крепка и не уважается». Но Розанов говорил о внешних обстоятельствах, постоянно препятствовавших возможности обеспечить себе достаток и достойную жизнь. Это проблема власти, а не собственности и не самого человека.
«Известно, что русский народ не знал римских понятий о собственности, согласно которым собственник имеет право не только пользоваться собственностью, но и злоупотреблять ею, что превращает собственность в абсолютное и античеловеческое начало. Русские люди не имеют такой привязанности к собственности, как западные люди... русским свойственны были буржуазные пороки, но не свойственны буржуазные добродетели, как людям Запада. И это характерная черта (препятствующая развитию «правильной» буржуазии у нас. — В. К.).
Русское отношение к собственности связано с отношением к человеку. Человек ставится выше собственности.
У русского «отсутствует вера в святость права частной собственности» [Франк 1996: 145], потому что собственность — частность жизни, а право жизни — выше, достойнее этого. «Потому и бесчестность есть обида, нанесенная человеку, а не обида, нанесенная собственности» [Бердяев 1996: 249]. Значение русского слова собственность, по корню его, есть общее достояние, не личное (тот же корень и в слове свобода; мы уже говорили об этом).
О том же размышляли евразийцы. У нас владеет мир, а не личность: мир — собственник, а римское право в «третьем Риме» не привилось. «В русском правосознании... собственность связана с обязательностями по отношению к целому и обладает значением функциональным», тогда как римское право предполагает собственность господство и собственность владение — собственность государства и собственность частного лица. «В России собственность всегда рассматривалась с точки зрения государства, понимаемого к тому же религиозно-этически» [Савицкий 1997: 71, 73]. Это— «функциональная собственность», обусловленная нуждами государства. Уже в Домострое виден иерархический ряд государей, от домохозяина до государя набольшего, царя. Создается „хозяйнодержавие“, направленное в конечном счете на получение максимального дохода (корысть) путем выжимания сил, а не на сохранение хозяйства [Савицкий 1997: 222]. «Иными словами, «экономический человек» и «хозяин» суть одновременно и тип, и норма. В области явлений, доступных человеческому воздействию, каждый тип поддается возведению в норму, и это также вне сферы собственно человечески-социальных отношений» [Там же: 256].
В древнерусском употреблении слова имание—имение всегда использовались в неодобрительном смысле. Характерно и отношение Константина Аксакова к русским словам быть и иметь: у нас вспомогательный глагол быть, а не иметь как в языках западных. «Русскому духу путь от cogito к sum всегда представляется абсолютно искусственным (речь идет о максиме Декарта: cogito ergo sum — мыслю, следовательно существую. — В. К.); истинный путь для него ведет, напротив, от sum к cogito... Чтобы что-то познать, необходимо сначала уже быть» [Франк 1996: 169—170].
На материале Лаврентьевской летописи 1377 г. англичанин описал употребление глагола имѣти, он пытался связать историю русской ментальности с западной. Автор утверждает, будто «и русский язык когда-то обладал глаголом имѣти в значении я имею деньги — у меня есть деньги», но потом в данной функции его «утратил из-за влияния финно-угорского субстрата» [Дингли 1995: 82]. Слов нет, всяческие субстраты, как водится, помогали истолковать неясные темы, но это скорее финские языки испытывали воздействие со стороны славянских, а не наоборот.
И в литературном русском языке, и в народных говорах глагол иметь всегда сохраняется, но в качестве вспомогательного в предикате у нас его нет. Я имею что-то — калька с западных языков, и притом недавняя. Различные оттенки, быть может и общей мысли, как бы разведены, владение и принадлежность предстают как равноценные, но все подобные оттенки ускользают от иностранца с присущим ему поляризованным мышлением не эквиполентного, а противительно-привативного мышления, с обязательным подразделением на плюс и минус. Кто в плюсах — понятное дело... кто в минусах — тоже. Имеют то, что имают (захватили). В таком случае, конечно, личный интерес важнее общей пользы, облегчающей жизнь. Быть, а не иметь: жизнь ценится выше корысти и выгоды.
А как быть с классиками? Великий французский лингвист Эмиль Бенвенист, сравнив множество языков, утверждал: «Если в языке уже существует имею, такой язык никогда не вернется к выражению у меня есть». Неужели и тут наш язык — исключение? И — мы вернулись?
Да полно вам.
Собственность и потребность
Никак нам не сдвинуться с проблемы собственности! И свободы.
Придется к ним вернуться.
Каждый русский человек может вспомнить кого-то, кого он знал, кто накоплению собственности предпочитает конкретное исполнение потребностей. Даже пресловутое «проедание кредитов» не что иное, как подмена собственности удовлетворением потребностей.
Строго говоря, это традиционная русская точка зрения на собственность, которая «делает свободным» путем потребления. Та самая диалектика имание—имение. Всё материально-вещное признается таковым, в отличие от идеально-духовного. Оно не твое — Богово, и потому собирательству в частные руки не подлежит. Как земля — и она Богова. И жизнь человека тоже.
И что в том странного? Расхожая новозаветная истина... Так, для русского собственность не самоцель, а только средство к достижению цели, он менее зависит от материальных ценностей, чем западный европеец, и в оправдание тезиса автор приводит слова Льва Толстого: «неопределенное, исключительно русское чувство презрения к всему условному, искусственному, человеческому», в том числе и к собственности, в которой и есть одно наслаждение — бросить ее к черту! «Поскольку нет собственности, власть наказывает лишением жизни» [Штрик-Штрикфельдт 1995: 184]. Суровая участь русского человека: нельзя ободрать как липку — лишают жизни.
Впрочем, и «потребности» понимают по-разному. При капитализме производство обусловлено «мерой индивидуальных потребностей, в то время как в прежние времена она служила его границей» [Брентано 1921: 55]. Л. Брентано описал всё расширяющуюся сферу предметно-чувственных «потребностей» современной, мягко сказать, цивилизации. Потребности, необходимые для поддержания жизни и сохранения здоровья прирастали по мере социальной дифференциации: телесные и духовные, абсолютные и относительные, активные или пассивные, общественные и эгоистические, на основе удовольствия, развлечения или порока, настоящие и особенно будущие — «про запас».
Развитие «средств производства» связано с ростом потребностей, собственниками которых с каждым новым расширением становится все более узкий круг людей. Свобода — это собственность, говорят нам. Но потребности всех на собственность не утолишь. Чем больше потребностей, тем меньше свободы... Но свобода — это собственность, опять говорят нам.
И вот: «Потребность — внутренний стимул любого действия человека, движущая сила любого социального процесса, без которого сама жизнь теряет смысл» [Ахиезер 1998: 343]. А между потребностью и собственностью стоит свобода. «Собственность, как и богатство, в данном случае может иметь двоякое значение: этическое или религиозное и социально-экономическое... Под собственностью в первом смысле разумеется не право собственности и не объект ее, но чувство собственности, — привязанность к ней, жадность, любостяжание, своеобразно проявляющийся здесь эгоизм, отделяющий человека и от других людей, и от Бога, духовный плен у собственного имущества. Победа над собственностью в этом смысле может быть не экономическая, а только нравственная, она должна совершиться в тайниках души, в незримых переживаниях совести. Можно... иметь обширную собственность и быть от нее духовно свободным, обладать весьма слабо развитым чувством собственности, и, наоборот, можно чрезвычайно легко быть бедняком, не имеющим почти никакой собственности и сгорающими от чувства любостяжания, жадности, зависти к имущим...» [Булгаков 1911, I: 227—228].
Эта точка зрения постоянно высвечивается в трудах русских мыслителей. «Тут главное в том, чтобы не зависеть от своего имущества, не присягать ему. Имущество должно служить нам и повиноваться. Оно не смеет забирать верх и господствовать над нами. Одно из двух — или ты им владеешь, или оно на тебе поедет... Оно дается нам не для того, чтобы поглощать нашу любовь и истощать наше сердце. Напротив. Оно призвано служить нашему сердцу и выражать нашу любовь. Иначе оно станет бременем, идолом, каторгой. Недаром сказано в Евангелии о маммоне...» [Ильин 3: 276—277].
Собственность при исходном термине собьство ‘свойство, сущность’ точно соответствует византийскому термину proprietas ‘собственность’ при латинском исходном термине proprius ‘лично присущий’. По коренному смыслу слов получается, что определяющим признаком всякого собственника является его собственность — где же тогда свобода? Кроме того, собственность получают по праву de jure: собственность de facto — это владение [Пайпс 2000: 14]. В средневековой Руси нет собственности-имания, но есть собственность-имѣние (имущество), т. е. основанная на власти владения. Глубокая правда Ричарда Пайпса в его описании «вотчинной России» состоит в том, что «уничтожение земельной собственности в Великом княжестве Московском, которое завоевало всю Русь» [Там же: 211] логически (в метонимическом перенесении с одного установления на другое) подвело к ограничениям в собственности как идеи. Но источником такого положения дел стало Иго, да и сам Пайпс показывает альтернативу возможного развития общественных отношений: Вольный Новгород. Однако «монголы предотвратили такое развитие», и «Москва положила конец» собственно славянским тенденциям. Рэкет московских властей навсегда отвратил от любви к государству, что, конечно, не мешало людям любить Родину или Отечество.
В современных культурологических словарях понятию «собственность» отводится много места [Ахиезер 1998: 460—467]. И это, конечно, «частная собственность».
Ричард Пайпс утверждает, что «занятие земледелием развивает чувство собственности» — но не всегда! Наоборот, «торговля развивает чувство собственности» [Пайпс 2000: 127, 146] — это верно. Собственность — то, что может переходить из рук в руки, а земля... Земля-матушка. Она и родит, и принимает уходящих от мира. Торгуют не своим — а работа с землей все обращает в свое, родное, с чем расставаться жалко.
У Пайпса происходит подмена тезиса. Спокойствие и достоинство все-таки не в увеличении богатств, а в уверенности, что ты обеспечен и можешь жить без печали. А собственность в «американском» понимании связана с конкуренцией и с переделом собственности. Да еще: одно дело — «иметь собственность», другое — хватать всё вокруг, лишая других «свободных» (от морали?) их «возможностей». Придумать всяческие оправдания своему хищничеству можно, за этим дело не станет. Американские поселенцы захватывали чужие земли под предлогом того, что кочевые индейцы их не обрабатывали [Пайпс 2000: 115], но сами они затем из владения для обработки превратили эту землю в продажную собственность.
И здесь всё дело в торговле, а не в свободе, не в потребностях, не во владении. Такую собственность придумали и ввели в оборот торгующие племена. В русской традиции всё иначе.
Собственность-вещь принадлежит тебе по природе (натурально) и по соглашению (культурно). Но и слово явлено в мир и по природе, и по соглашению с другими (древнейший спор о происхождении слов). Таким образом:
Таким образом, для «реалиста» обе возможности приемлемы, но в разной степени: нравственна только трудовая собственность (по твоей мысли) через личные способности или как результат наследственного права на трудовые доходы семьи. Природная рента (вещь вне тебя) признается лишь на условиях аренды (владение, а не собственность), и если владение не производительно, оно отбирается. Природная рента преступна для личности — она принадлежит всем, кто на этой земле рожден.
В отличие от этого «номиналист» утверждает, что собственность — природное («животное») свойство жизнеобеспечения, поскольку в его раскладке
слово дается по природе и по соглашению, а идея — только по соглашению. Возникает «хватательный рефлекс» и подмена тезисов: «Я смог» — на «я имею». В цепочке предикатов я есмь — я имею — я хочу для реалиста ценны два первые, для номиналиста — два последние.
А отсюда и этические следствия, о которых — тоже два слова.
Например: «Поразительно, что у христиан все положено на мерки скупости. Всё — скрючено, оскоплено. Тут — и „лепта вдовицы“. Например, принцип богатства у них: „Собирай по копеечке“ — жалкий и даже глупый способ» [Розанов 2000: 185]. У язычника совсем не так; тут безоглядная щедрость и даже расточительство — не это ли причина, что язычество так долго в нас сидит? А скупец... что же. «Желая обладать всем— он жаден, желая услаждать всем только себя — он скуп. Не замечаешь ли ты уже и сам, как в темных волнах жадности и скупости колеблется отражаемый ими лик Божества?» [Карсавин 1919: 52].
Совестливость и честность
Константин Леонтьев писал, что в России легче встретить святого, чем просто честного человека. Как только ни пытались истолковать слова великого мистификатора! Делает это и Григорий Померанц.
Поучительно видеть, как современный «концептуалист» перетолковывает символический смысл выражения, данного «реалистом». Тут не просто подмена тезиса, но и непонимание сути, перевертывание смысла; одно и то же изъясняется с различных точек зрения, хотя исходный тезис сохраняется как абсолютная «формула» (ставится знак равенства между формулой и формой).
Реалист Леонтьев действует изнутри ментальности, соотнося друг с другом естественное чувство стыда и идеальную его форму — совесть, сравнивает «вещь» с «идеей». Типичный для русского реалиста ход мысли: необходимо сверить нравственное чувство с мыслимым его идеалом. Такое чувство не отрицает и выражение ни стыда ни совести (типично русское): в ком нет стыда, в том и совести нет. Реалист поверяет вещественное духовным. Владимир Соловьев в своем «Оправдании добра» показал, что естественное чувство стыда есть основание всякой нравственности, на котором созидается весь храм национальной морали. Отрицать стыд за русским человеком, стыдливо-застенчивым в проявлениях своих чувств, по меньшей мере странно, если не сказать больше. Это значило бы отрицать за ним всякую вообще нравственность.
Но Померанц рассуждает извне этой ментальности и потому исходит из уже готовой идеи, из концепта «совесть», не отказывая в них и русскому, но отрицая за русским наличие стыда. Он соотносит друг с другом не чувство и идею, но одинаковую вещественность чувства и термина — в вещи и в слове. «Если в русском народе и в литературе бросается в глаза повышенная совестливость, то с чем она связана? Видимо, с повышенной способностью к преступлению, с нестойкостью нравственных образцов, с тяготением к безднам, которые тоже можно проследить и в жизни, и в литературе... Я даже думаю, что совестливость как-то прямо связана с деловой недобросовесностью. Иногда даже у одного и того же человека» — как бы нравственное восполнение в «культуре вины» [Померанц 1985: 94—96]. Из такого рассуждения вытекает соотношение:
стыд : честность = совесть : святость
Размышление о терминах происходит при одновременном отталкивании идеи от ее про-явлений, что исключает их связь друг с другом, отчуждая и предикаты «честность», «совесть», «святость».
Только бесстыжий, не знающий совести, — совестлив. Логика? Стыд как проявление честности перед другим человеком в миру (вещественно), совесть как проявление святости перед Богом (или перед другим человеком, но чрез Бога, то есть идеально). Да и типы святости, в свою очередь, различны. Ведь это проявления совести, то есть не чувственное переживание стыда. Так, «русской святости чаще всего противостоит самодур, деспот, а еврейской — предатель» [Там же: 94] — явное преуменьшение силы святости. В силу своего рационально-бинарного мышления автор опять ищет одни только противоположности, не соотнося проявления крайностей в возможных их совпадениях, в снятии таких противоположностей в идеальной сфере сознания.
Указаны и крайности: конфуцианец руководствуется чувством стыда — он лично честен, но бессовестен; русский руководствуется совестью — он лично совестлив, но бесчестен. Идеал, указанный нам как «очень высокий уровень честности», прежде всего — профессиональной («исключительная добросовестность в труде» и пр.).
Честь и совесть (мы увидим это) — различные проявления одного и того же, но и честность — не честь, и совестливость — еще не совесть. Подменой терминов выстраивается умозаключение (концептуалисту без силлогизмов никак нельзя):
Постоянный акцент на совести связан с недостатком стыда.
В русском народе повышенная совестливость.
Следовательно: У русского нет никакого стыда.
Или, в более общем виде:
Совестливость исключает честность.
Отсутствие честности повышает способность к преступлению.
Следовательно: Совесть как источник совестливости бесполезна в миру.
Но допустим, что Леонтьев и Померанц философствуют, то есть включаются в некую идею — один на нее на-ходит, другой — из нее ис-ходит. Как же быть не с типом, не с типажом, а с типичным, весьма конкретным человеком? Сказать ему: «Совесть не полезна, а святость избыточна?» Такое уже говорили. Известно, что из этого вышло. Вот и чувство жалости, как «национальное русское чувство, испепеленное революциями» (Андрей Платонов), — тоже побоку? Сказать, что, мол, нет у тебя стыда, так к чему тебе жалость?
Заменить честь — честностью? обычай — принципами? законы — понятиями? Но во всех случаях здесь присутствует не замена вещного предметным же, а подмена в идеальном. Честь — она категория постоянная, тогда как
«честность умирает, когда она продается» — эти слова Жорж Санд о той честности, которая не коренится в совести.
Отступление от темы: сущность паразитизма состоит в том, что паразит отрицает наличие положительных качеств в том, на чем он паразитирует, перенося достоинства жертвы на себя; языческий трибализм: съем сердце врага, чтобы стать таким же сильным, как и он.
Кстати сказать, и честность можно понимать по-разному. Для русского честность есть проявление его отношения к окружающему миру («миру» и как обществу), а не выражение его поведения, то есть совпадает и с другими формами отношений, например так же понимается и любовь — в умении спрашивать, слушать, сомневаться и заключается «исходная подлинная честность» [Ильин 3: 442] — честная от-кров-енность русского человека.
Сознание и совесть
Русскоязычный автор смешивает внешнее и внутреннее — совесть и стыд, представитель любого европейского языка (это заметил еще Соловьев) не различает рациональное и духовное: сознание и совесть обозначает одним и тем же словом.
Современные концептуалисты совершают ту же ошибку. Они выводят стыд за пределы чести-совести, потому что совесть для них — это всего лишь сознательность, представленная в личном сознании.
«Человеческое сознание — не что иное, как совесть. Сознание и есть осмысление смысла», тогда как «совесть — сверхличность, с которой мое Я находится в постоянном диалоге», и вместе с тем совесть — в сердце [Тульчинский 1996: 154, 219] — а где сознание? Тут стыд и совесть соединены в общем противопоставлении к чести.
Чистая совесть, по мнению Тульчинского, есть отсутствие совести, поскольку «совесть потому и совесть, что она не чиста...» (любимая мысль автора, неоднократно повторенная). Такое утверждение мало того, что приравнивает совесть к сознанию, но и возвращает ее во времена язычества, когда совесть и есть честь. А апостол Павел, введший идею совести в христианский закон, говорил, между прочим, именно о чистой совести.
Так что лучше бы говорить — чистая совесть.
История терминов поучительна. Она направляет мысль на верное решение вопроса.
Только в XVIII в. расхождение между духовной совестью и рассудочным сознанием обретает законченные черты. Еще у поэта и переводчика Тредиаковского совесть и сознание синонимы, но к концу XVIII в. слово совесть соотносится уже с другим рядом нравственных определений, с честью прежде всего. Лев Толстой чуть позже говорил, что «совесть есть память общества (а это честь. — В. К.), усвояемая отдельным лицом», а это уже совесть. А писатель знал, что говорил, его не случайно называли последним совестливым человеком своего времени.
Так слово совесть в своих обозначениях прошло путь смысловых изменений, направленных, с одной стороны, реальностью общественных отношений, а с другой — символическим содержанием самого термина:
‘сообщение’ > ‘известие’ > ‘знание’ > ‘убеждение’ > ‘совесть’ —
как указание или повеление собственного сердца. «Чистое сердце» евангельских притч стало у нас «чистой совестью». Сердечное, а не умственное лежит в основе символа-метафоры. Еще в XVII в. совестный значило ‘известный’, а уже веком спустя стало обозначать совестливого. «Совесть по существу есть искренность, т. е. свобода духа» [Меньшиков 2000: 288].
Публицисты XX в. не раз обращались к противопоставлению честь и совесть, показывая, что «движение к общечеловеческим ценностям» лежит на пути расширения личной совести до «общечеловеческой чести» [Пешехонов 1904: 416]. Однако честность и совестливость не одно и то же, по крайней мере в русском представлении. Русский человек всегда совестлив, но редко честен — это тоже важная тема русской литературы. Он не бес-честен, а именно не-честен, а это тоже разница, и большая. Бесчестный лишен чувства чести, нечестный им пренебрегает — но только в случае, когда идея корпоративной чести разрушается и человек уже не связан достоинством обязательств. Иван Ильин (3: 145 и след.) описал последовательные этапы развития бесчестья — начиная с простейшего искушения. Совсем иначе — «больная совесть» (слова Глеба Успенского): «Это чувство собственной виновности, не уравновешенное сознанием (!) правоты» [Пешехонов 1904: 383] — типично русское душевное переживание. Честность не соотносится со справедливостью, поскольку честь есть корпоративная совесть, а собственно совесть направлена на достижение справедливости со-в-мест-но.
Так что «совесть нужна каждому человеку, — утверждал Иван Ильин, подчеркивая все слова своего определения. — Совесть есть живая и цельная воля к совершенному» — это качественность, «первый и глубочайший источник чувства ответственности... основной акт внутреннего самоосвобождения... живой и могущественный источник справедливости... главная сила, побуждающая человека к предметному поведению», живой элемент упорядочивающей культурной жизни. Если человек не может поднять себя до своей совести, то «понимание совести снижается или извращается». Вот что такое совесть согласно русской интуиции — «лучи качественности, ответственности, свободы, справедливости, предметности, честности и взаимного доверия» [Ильин 1: 114, 115]. В этом представлении совесть уже никакой связи с сознанием как интеллектуальным действием не имеет. Совесть есть совестный акт, акт духовный, а не рассудочный. И если люди ждут от совести суждения (indicium), то есть облеченного в понятия и слова приговора, то это ошибка; именно мысль и губит совесть: «Мысль, двигаясь между совестью и приговором, начинает сначала заслонять показание совести, потом насильственно укладывать его в логические формы, искажать его своими рассуждениями и даже выдавать себя за необходимую форму совестных показаний. Ум заслоняет совесть; он умничает по-земному, по-человеческому... От этого человек теряет доступ к совестному акту и начинает принимать рассудочные соображения своего земного ума и земного опыта за показания самой совести» и «совесть перестает быть силою», потому что вообще — «совестный акт не есть акт интеллекта» [Ильин 1: 120—122; ср. также: [Ильин 3: 361 и след.].
Если уж русский философ в своих интуициях глубоко проник в сущность явления и сумел его выразить в слове — стоит ли вообще беспокойным людям возвращаться к вопросу, пересказывая вторичные свои интуиции, да еще и невнятными словами?
Стыд и совесть
Но стыд и срам в утверждении оборачивается в отрицании новым: ни стыда ни совести.
Совесть — отчужденно-личная категория стыда, идеально представленная на месте и личного переживания стыда (стынет кровь), и общественного осуждения (срамят). «Совесть, — утверждал Лев Толстой, — есть память общества, усвояемая отдельным лицом». Не индивидуальная личная совесть, а общая на всех со-вмест-ная со-весть. В древнерусских текстах еще и в XV в. слово совѣсть одновременно передает значения ‘сообщение, извещение’, ‘сознание’ и ‘знание’ чего-то важного.
Из общих признаков, выявленных философами, «совесть есть знание добра» (Иван Ильин) — поскольку святость доблестна, т. е. в обозначении связана с тем же корнем *dob-, что и слово доб-ро (доб-ль). Как благодать, совесть противопоставлена закону чести, представляя собой «центральную силу, созидающую личность» (Николай Шелгунов). «Конечно, совесть есть более, чем требование, она есть факт» (Владимир Соловьев), поскольку внутренним напряжением воли постигает не холодную истину, но ищет живую правду. Личная совесть важнее и сильнее корпоративной чести, как и совесть выше простой сознательности: только совесть диктует «безусловно должное» (Евгений Трубецкой). Русской ментальности чуждо представление о совести как о глубинно бессознательной силе, от которой притом сокрыто сущее; это не личная творческая сила сродни интуиции, обслуживающая индивидуума (как полагают западные ученые; например, Франкл на основе некоторых идей Гегеля), и тем менее она есть «рабская трусость перед мнением других» (Шопенгауэр), поскольку именно на цельности общей правды действие совести и основано.
Русское представление о совести сближается с чувствами стыда и правды: как особое внутреннее существо, которое чувствует плохое и хорошее (духовное качество по преимуществу). В отличие от этого английское conscience тоже внутреннее чувство, но знающее разницу между правильным и неправильным, а немецкое Gewissen — внутренний голос, способный судить, хорошо или плохо [Пименова 1999: 31]. Судить или чувствовать — разница есть, не говоря уж о чисто разумном начале английской совести, которая одновременно с тем и сознание.
«Существование совести в человеке есть опять факт, который не подлежит сомнению. Весьма редки примеры людей, в которых этот внутренний голос совершенно заглушен... Действовать по совести может только сам человек, по собственному побуждению. Совесть есть самое свободное, что существует в мире: она не подчиняется никаким внешним понуждениям» — всё верно, но тут же чисто «немецкое» толкование: «Самая просветленная совесть есть только судья, который произносит приговор; она ограничивается оценкой действия, но не она исполняет свои решения...» [Чичерин 1998: 155, 158]. Решение принимает — честь.
Совесть и честь
Любопытно такое, в сущности, диалектическое кружение мысли между идеями чести и совести. Объективно обе они воплощают единство личного и общего, но взгляд на это единство — разный. Человек чести связан законами долга, наложенными на него обществом, однако принимает решение сам, лично — по чувству ответственности. Совестливый человек весь — в плену личного «демона», подчас иссушающего душу, но именно такой человек решается на поступок иногда вопреки своему «я» — по зову совести. Там начинают с долга и кончают ответом на нравственный вызов; здесь начинают с личной ответственности, завершая исполнением долга. Герои западной литературы — индивидуалисты, персонажи Хемингуэя или Ремарка живут понятием чести; герои русской литературы погружены в бездны совести. У европейца границы свободы определены долгом, у русского воля направлена совестью. Когда Аарон Штейнберг пишет о диалектике свободы у Достоевского, он ни словом не поминает основной для писателя идеи совести. Проработка концепта «совесть» — заслуга писателя в развитии мировой философии: «В нем Совесть сделалась пророком и поэтом, — писал Иннокентий Анненский. — Он был поэтом нашей совести».
Именно Достоевский противопоставлял совесть сознанию как формально интеллектуальной силе. Совесть постоянно борется с волею — это и есть понимание свободы по-русски: ограничение своеволия и самоволия совестью. Еще в 1472 г. русский монах Иннокентий записал слова, которыми Русь и живет искони: «Кождо свою совесть в себе судию имат, паче же аз окаянный! Комуждо по своей совести себе зазревшу». Совесть — шестое чувство русского человека, его «чувство мысли», ибо «он постигает истину особым чувством мысли, называемой совестью» [Пришвин 1995: 103].
Символ «совесть» идеален и поэтому семантически многогранен. Русское представление о совести на Западе подменяется формальным «законом», навязанным извне и по этой причине сужающим поле личной свободы. «Моральность выше легальности», как и совесть выше закона, а русский человек — человек совести, в этом он противоположен, например, еврею [Астафьев 2000: 49].
Не раз сказано: особенность современного человека в том состоит, что место богов (как у древних греков) или общественного мнения (как в традиционных обществах) в его внутреннем жизнеутверждении заняла именно совесть, определенная как само-уважение с определенными нравственными постулатами в различении добра и зла [Карринг 1909: 3]. Совесть стала врожденной склонностью человека к нравственной жизни, а «голос совести» требует справедливости, формируя и обостряя социальные отношения. Слово совесть есть «имя вневременного свойства человека», которое может представать как лицо: русская совесть «терзает» душу, ее можно «потерять» или «утратить» как вещь. Если честь для человека — внутренняя тюрьма, то совесть — «червячок, который точит сердце» в минуту душевной слабости» [Чернейко 1997: 151].
Для Д. С. Лихачева честь есть «достоинство положительно живущего человека», тогда как совесть, идущая из глубины души, очищает и оправдывает проявления такого рода достоинства. До Лихачева о взаимном отношении чести и совести говорили многие. Общее мнение состоит в том, что честь — внешний регулятор общественного поведения, а совесть — внутренний, и обе они предстают как проявление идеально должного в поведении человека. Честь — требование отношения к себе, совесть — твоего отношения к другим. «Достоинство» в этом случае русские мыслители понимали как обязанность, выраженную не бес-сознательно, но уже «проникнутую разумом» [Чичерин 1999: 129]. Смысл словесного корня сохраняет интеллектуальную составляющую в словопонятии «совесть» — совесть нужно не только чувствовать, но и знать.
В истории русской мысли совсем не случайно «славянофилы» говорят о совести, а «западники» — о чести [Струве 1997: 389]. Честь связана с законом и правом, совесть — с отсутствием принудительной власти; чисто христианская идея личной ответственности: «эта сила есть добродетель», а не право [Чичерин 1999: 158].
Русская ментальность в оценке качеств всегда предполагает наличие какого-то оппозита, в сравнении с которым основной концепт являет свою сущность. Таким противопоставлением совести является сознательность-сознание, латинская калька того же греческого слова, вторично переведенная на русский язык в XVIII в.
Вот как понимает признаки «чести» русский писатель, тонко чувствовавший русскую ментальность, — Тургенев: «Странное дело! Этих четырех качеств — честности, простоты, свободы и силы нет в народе — а в языке они есть... Значит, будут и в народе». «Да нешто много таких... для кого есть честь?» — вопрошал Алексей Ремизов, а Николай Бердяев ответил веско: «Русский народ оказался банкротом. У него оказалось слабо развито чувство чести».
Но для русской ментальности честь — это всего лишь часть, и притом часть мирская, духовной силою не облагороженная. Не душа, но тело, вещный эквивалент, однородная масса которого распределяется между достойными: «В своем сословии член корпорации находит свою честь», — писал Гегель. Но этого мало: часть слишком оземлена и приземлена; являясь у-частью, она не решает проблемы судьбы, не возносится в области духа. Она слабеет в качествах, омертвляется и потому, как заметил Герцен, в Европе «рыцарская честь заменилась бухгалтерской честностью», а всякая честность как суррогат чести есть всего лишь «последний остаток онтологичности» (это слова Владимира Эрна).
Средневековая формула честь и слава — языческая формула — предполагала взаимообращенность сюзерена и вассала, но именно на условиях взаимности. Языческую двухчленную формулу христианство перестроило в трехчленную (добавило символ хвалы), тем самым введя в ее вещные компоненты член идеальный, духовный: сущность символа показана на основе явлений. До сих пор мы чувствуем эти грани, претворенные в различиях стиля, но данные в особых выражениях: окажите честь — она выдается как вещный знак награды, воспойте славу — она восхваляется в слове, вознесите хвалу — а это уже идея, воздайте идеей.
В понятии чести остается невосполненной, ненасытимой присущая русским идея целостности, не зависящей от земных ее ипостасей. Устремленность к высоким формам — к сущему, а не к явлению — в их внутренней целостности рождает идею совести, и чистая совесть важнее чести, поскольку «цельность духа, цельное ощущение действия» есть «испытание ценности через себя» (Николай Лосский). Совесть через идею Бога единит всех людей в общей причастности в духовному. Опосредованное единение и порождает то ощущение (не осознание, но чувство) соборности, на котором крепится и этика (личная мораль), и политика (мораль социальная), по определению Николая Бердяева, для которого «честность... западноевропейский идеал. Русский идеал — святость». Честность как начало обмирщенное не может быть идеалом, это всего лишь средство, которое не становится целью.
Немецкий исследователь нравов понял, в чем тут дело, и объяснил равнодушие русского человека к «вопросам чести»: «У русского меньше тщеславия, и даже меньше чувства собственной чести. Но это совсем не изъян и не признак униженности. Ведь чувство чести — это оглядка на мнение о нас других. Оно тем ярче проявляется, чем враждебнее люди друг к другу и чем дальше отстоят они от абсолютных критериев (слушайте! слушайте! — абсолютных... — В. К.). Русский придает меньше значения своей чести, чем западный человек, потому что себя любит меньше, а Бога — больше» — ему не нужно сравнивать себя с другими в тщеславии лидерства, его идеал выше; русское братство в том состоит, продолжает наш автор, что они «уважают равноценность друг друга» [Шубарт 2003: 131, 133]. Тут есть, конечно, небольшой недосмотр, из Германии незаметный. Уважать уважают, не без того, но вместе с тем примечают, что не все достойны такого уважения... и что тогда?
Так идея порождает идеал, и идеалом, образцом человеческим в высшем, духовном смысле, признается не герой, достойный чести, но святой как учитель совести.
Сравним высказывания русских философов с толкованием чести у современного моралиста, Солженицына (со слов его биографа): «На нижнем, мирском уровне он взывает к чести. Честь состоит в том, чтобы не марать своей души, быть лучше жертвою, чем палачом... Но на высшем положительном уровне — это призыв к жертве. Честь сближает героев Солженицына с героями античной древности — со стоиками и со средневековыми рыцарями. Жертва направляет их к христианской святости» [Нива 1984: 225]. Точнее говорил Н. К. Михайловский [1900: 249], выражая русское представление о соотношении совести и чести: «Работе совести соответствуют обязанности, работе чести — права».
В любом случае личная совесть человека предпочтительна перед «сознательностью», которую навязывает среда [Соловьев 1988, 2: 287—288]. То, что связано с сознанием, сознательностью, то окутано мыслью «об отрицательном отношении», говорит Соловьев, выражая русское представление о сознательности. «Активного глагола сознавать вовсе нет в народной русской речи, а есть только возвратный сознаваться. Сознаются люди в своих недостатках, грехах, преступлениях; сознаваться в своих добродетелях и преимуществах так же противно духу русского языка, как духу христианского смирения. Да и с точки зрения практической мудрости гораздо лучше предоставить другим признавать наши доблести и заслуги, а самим побольше заботиться об исправлении своих недостатков» [Соловьев V: 324].
Другое дело, что со-весть и сама является порождением со-борного сознания; однако ясно, что даже и в этом случае внимание обращено на нравственные моменты «знания», на соборное отношение к личному долгу. Таким образом, честь героя не сводима к совести святого, хотя собою жертвуют оба. За разведение двух ипостасей нравственного подвига (подвига и подвижничества) с различной наградой (честью и славой) Жорж Нива обвиняет Солженицына в манихействе: «Этому манихею нужен открытый враг» [Нива 1984: 25].
Конечно, Солженицын тут ни при чем, манихейство не личная его вина, он выражает русскую точку зрения на двузначность мирского подвига и награду за него. О «враге» же следует говорить особо; ведь в виду имеется не супостат, не противник, а именно — враг. Не внешним образом противопоставленный тебе некто, кто стал супротив тебя, а враг духовный; может быть, это и ты сам в раздвоенности мятущейся души, как хилость (подобно героям Достоевского), как сам себе ворог-враг. Враг в русском духовном сознании всегда предстает как диавол. Это противник духовный.
Совесть вообще понимается как сила внутреннего контроля над своими поступками с позиции отстраненно извне, я как ты. Такое раздвоение «я» вместо природной и органически присущей человеку идеи чести вносит в душу разлад; в сущности, это также плохо. Христианство приносит раздвоение сил души — вот истинный источник русской рефлексивности и связанных с нею черт характера.
Итак, мы можем представить внешние признаки совести, как их понимает интуиция русских мыслителей. «Совесть есть знание добра» (Ильин), «совесть невозможно делить» (Пришвин), это благодать, противопоставленная закону, которая «диктует безусловно должное» (Евгений Трубецкой), и, «конечно, совесть есть более чем требование, она есть факт» (Соловьев). И вообще — «физиологическое очень легко объяснить, но — по-духовному» [Пришвин 1995: 166].
Стыд, сознание и совесть не сводимы и не заменимы друг другом; их не следует смешивать, как не смешиваем мы проявления чувства, разума и воли. Это различные проявления характеров в поступке — но не в преступлении: застенчивая стыдливость, рассудительная сознательность и одухотворенная совестливость. Честность не в этом ряду, честность — предикат личности, а не характера, и потому возможна для любого характера. Честный столь же общий признак личности, что и славный, добрый, счастливый.
Честь не надо сравнивать с совестью, и уж тем более со святостью.
В современных истолкованиях доходят до смешения всех четырех обсуждаемых терминов.
Например, академик А. Д. Александров склонен совместить в общем представлении честь и совесть: «Наряду с совестью как главной моральной силой можно указать еще честь, выражающую соответствие некоторому стандарту. Но можно отнести честь к совести». С одной стороны — честь как норма совести (закон, а не благодать), с другой — полное их совпадение. Перечисляя признаки личности (которую формирует именно совесть), академик указывает на все характерные черты чести («руководящие принципы иерархии ценностей»), как бы окутанной сознанием стыда: «...внутренняя моральная сила, направляющая действия человека и судящая его, совесть; принадлежа самому субъекту, она выступает в нем как бы извне (т. е. уже не как стыд, а как срам. — В. К.), в качестве судящей и понуждающей силы. А понуждение совести переводится в действие волей человека» [Александров 1990: 117]. Предложенное толкование, смешивая стыд с совестью и совесть подменяя честью, исключает всякое подобие духовной компоненты святости в понимании совести, сводит совесть к сознанию-сознательности. Это близко западноевропейскому пониманию совести. Мартин Хайдеггер, благосклонно цитируемый Мартином Бубером [1998: 55], утверждал, что зов совести — это момент, когда «мое существование» не совпадает с «бытием, что является не мной... Зовет само существование». Это, конечно, не русское представление о внутренне «теплом» дыхании совести, а холодное космическое пространство. Русская совесть соответствует западной сознательности, со всеми вытекающими отсюда особенностями нашей ментальности; об этом не раз говорил Владимир Соловьев. Но сознательность ближе к чести, резко отличаясь от совестливости духовно высокого человека. Честь всегда на уровне того, что можно сосчитать и вычислить, тогда как совесть — качество, а не количество.
Слово сознательность известно с 1847 г., а сознание появляется в словарях в самом конце XVIII в. Сознательность есть о-со-знание наряду с со-знанием совести и знанием чести.
Социалистическая сознательность была объявлена искомым синтезом личной совести (равна языческому стыду) и коллективной чести (равна языческому сраму). Сознательность, как утверждали словари, есть «умение, способность правильно понимать окружающее, определяющие поведение человека, его отношение к действительности: чувство долга, ответственности». В выделенных словах определения выражены все признаки нового «чувства отношения к миру» как способности или умения — диалектическая связь идеи (понятия: как понимать) одновременно и с реальностью вещного мира (окружающее как объект, действительность в действии), и с выражением его в языке, в способности дать ответ в ответственности. Сознательность предстает как чисто номиналистическое выражение нового синтеза совести и чести (на фоне более раннего синтеза стыда и срама в совесть); это представление, действие которого возможно только в коллективе как общественной среде, а не в духовной соборности. Это номинализм, который исповедует материализм (отражение вещного мира) в качестве исходной точки всякой рефлексии. Номиналист исходит из вещи, соотнося идею этой вещи с присущим ей именем.
Тем не менее понятие о сознательности (а это понятие, а не символ, как «совесть») заканчивает формирование важного фрагмента народной этики в полном соответствии с присущей нашему сознанию трехмерной корреляцией по признакам «физическое — социальное — духовное»:
сознательность—честь—совесть,
т. е., в другом измерении, данном как образец-парадигма:
живот—житие—жизнь
лицо—личина—лик и т. д.
Совесть достоверна в идее, честь — в слове, сознательность — в деле. Именно деловитость, дельность, действие необходимо было выделить в качестве самостоятельной составляющей прежнего символа «совесть».
Здесь есть из чего выбирать, и выбор становится оправданием жизни для каждой личности: действительно полноценная жизнь, или житье-бытье, или животное прозябание на этой земле.
«Ну и где же, позвольте вас проспросить, — говорила дама, — где же теперича у людей эта совесть?» — словами Глеба Успенского («Власть земли») можно ответить на вопрос: куда ж она подевалась, совесть?
Постоянное смешение терминов сокрушает цельность символа. С одной стороны, говорят о чести при отсутствии чести, ведь «в русской истории не было рыцарства, и потому не прошла Россия через закал и дисциплину личности, через культуру личной чести» [Бердяев 1991а: 20] — личной чести, т. е. все-таки совести. С другой стороны, составляющие символа «совесть» разнесены по отдельным терминам, тем самым выхолостив содержание символа. Нечистоплотным людям легко подменять термины, оперируя понятиями «стыд», «совесть», «честь», «сознательность», «сознание».
Тем более, что для русской ментальности честь и совесть близки по некоторым основаниям (входят в общий род). И та и другая — проявление личной нравственности в обществе равных, в соборном переживании. Честь — языческая совесть; совесть — христианская честь. Но честь (чьсть) — слово славянское, а совесть (съвѣсть) — калька с греческого, имевшего общее значение ‘совместное (общее) переживание’ (восходит к медиальному глаголу в значении ‘быть своим собственным соучастником’). Обычное для русской ментальности удвоение сущностей привело, с одной стороны, к противопоставлению языческой чести — христианской совести, а с другой стороны, уже в Новое время, — к развитию новых отношений совесть — сознание. Дуальность разграничений присутствует постоянно. При этом уходящий из оппозиции компонент становится выразителем идеальной сущности, а новый — фиксирует его определенно-«вещный» (предметный) характер. Так, до XVIII в. «совесть» вовсе не была той идеальной сущностью, какой она предстала потом на фоне новообретенного сознания и тем более сознательности.
Честь и достоинство
Общую последовательность многих из числа описанных символов русской культуры помогают выявить хронологические границы образования или действия тех или иных концептов ментальности.
Идея чести несомненно шире символа «честь», но символ не развивается во времени, а идея постоянно растет в содержательности. Идея изменяет оттенки своего осуществления.
Вот как, примерно, происходило это в русском сознании начиная с древних времен, когда действовала язычески-феодальная формула честь и слава, и кончая современными залетными словечками, за которыми скрываются искаженные идеи русской ментальности:
Корень слова, утративший древний смысл ‘часть’, по-прежнему амбивалентен по значению — и ‘счесть’, и ‘прочесть’ одновременно: почитать как читать и славить. Идея «обдумывания» предполагает коллективное действие: прочесть — кому-то, а не мыслить в одиночку. Про-читать и по-читать создают движение идеи в ментальном пространстве: счет (по частям) — чтение (по почете) — почитание.
Но почитание как знак социального достоинства возникает в связи с новыми отношениями в обществе, когда начинает ценится не вещная часть добычи ли, собственности, а содержательность слова; уважить — оценить, взвесив на весах разума (вага — вес, тяжесть). Возникает отношение уважения. Польское uwaȥac — ‘наблюдать, соображать’, а отсюда и белорусское слово уважаць ‘соблюдать’ и украинское уважати ‘принимать во внимание, считать’. Всё это вполне естественно, поскольку и честь — это у-часть, которую можно «сосчитать» и которая всегда на виду.
Не каждый достоин уважения в чести, чести удостоится досто-чтимый. Честь и достоинство — сдвоенная формула, в пределах которой происходит перенесение смысла от соблюдения сословной чести к сохранению личного достоинства.
Репутация — слово и понятие, заключенное в слове, пришли к нам из польского языка при Петре I. Смысл достоинства изменяется: это не оценка личности со стороны общества, а данная авторитетность харизмы, которую следует принять как должное и осмыслить в личном опыте (латинское слово reputatio значит ‘созерцание, обдумывание’). Достоинство в идее, оно — идеально. Французское слово престиж является еще позже и означает авторитетность влияния, связано с практической деятельностью человека; это достоинство в деле, оно — вещно. Поэтому слово и получило русский суффикс, опредмечивающий понятие: престижность. И здесь мы снова получаем аналитическое разведение мысли в чужих словах-знаках:
Последовательность развития идеи чести привела к полному истреблению понятия чести, ведь латинское слово praestigium, к которому восходит слово французское, значит ‘обман, заблуждение’. Престиж есть сугубо личное мнение о достоинстве «наблюдаемого», некое марево, окутывающее лицо, быть может, достоинством не обладающее. Вранье, говоря по-русски.
И мы не верим в достоинство престижности и репутаций, прежде всего потому, что в чужеродных терминах нет понятного нам, ведущего нашу мысль внутреннего образа, концепта — но поскольку это не символ, то и мы «без понятия», что бы это такое было. Пока не заглянем в словари.
Но важно иное.
Только в исторической перспективе развития собственного концепта — первообраза, мыслесимвола — мы получаем содержательную глубину смысла, так что и ментальность воспринимается как система только в историческом развитии идеи — до исчезновения ее в нетях, если, конечно, мы это допустим. «Что имеем — не храним, потерявши — плачем».
И еще: все производные слова, в последовательности своего появления уточняющие смысл коренного концепта, являются нам значительно позже основных — именных — слов, корень которых и содержит в себе символ. Все такие слова чаще всего отглагольные, связаны не со смыслом исходного символа, но с выражением действия согласно такому символу: почитать — почесть, уважить — уважение, достоит — достоинство и пр. Лишь воплощенный в деле символ обладает рангом достоинства, и потому отважный — прекрасен (ибо рискнул), а важный — сомнителен в нравственном праве, он всего лишь «взвешен» на весах размышления, а по существу может оказаться легко-весным.
Наконец, в семантическом плане движение мысли идет от восприятия цельности мира, от вещи (честь как их часть) к идеальности частного, данного в личном мнении, которое тотчас же рождает — у других — со-мнение. Лишив себя степени общественного суждения, личность с престижем и репутацией как бы остраннена от мира, самолюбиво выпячивает свои достоинства, которых все остальные вправе не признавать.
Вот оно, пресловутое русское упрямство, не приемлющее навязываемых миру божков и гениев. «Но чего вы хотите? Некультурные люди-с...»
На каком моменте утрачивается национальный концепт, обедняя русскую ментальность? На моменте заимствования, вполне определенно. Пытаясь утвердить «понятие» как формулу якобы точного знания («научного» и абсолютного), устраняют «символ», а включением заемного термина в нашу речь оскопляют мысль в ментальном ряду концептов.
Современное представление о чести сформировалось к XVII в. и выражено словом достоинство. В нем, в этом слове, всё: и честь, и харизма — а остальное приложится. «Ты меня уважаешь?» — в прошлом. «Он утратил престиж, у него дурная репутация» — всё в отрицательном, двусмысленно порочащем тоне — но: Культура первична — феномен нравственности вторичен; это — достоинство человека. «Достоинство — понятие мировоззренческое» [Налимов 1994: 3]. И русское понимание «демократии кладет в основу народовластия незыблемые нравственные начала, и прежде всего — признание человеческого достоинства, безусловной ценности человеческой личности как таковой. Только при таком понимании демократии дело свободы стоит на твердом основании; ибо оно одно исключает возможность возведения личности на степень средства и гарантирует ее свободу независимо от того, является ли она представительницей большинства или меньшинства в обществе. Весь пафос свободы не имеет ни малейшего смысла, если в человеке нет той святыни, пред которой мы должны преклоняться» [Трубецкой 1990: 200—201].
Грех и вина
Смертные грехи эпохи Средневековья: гордыня, зависть, гневливость, леность, сребролюбие, чревоугодие и сладострастие — все основаны на обмане, на обмане чувств, рассудка или воли.
Обман чувств, полагал Владимир Соловьев, — это похоть, обман ума — самомнение и упорство в заблуждениях, обман духа — властолюбие и насилие. Вот и составлено слово Saligia.
«Слово Saligia придумано учеными... чтобы легче и лучше запомнил ты порядок смертных грехов. Порядок же их таков: гордыня, жадность или скупость, распутство или любодеяние, зависть, горлобесие, гнев и тоска, или уныние, а по-латыни: superbia, avaritia, luxuria, invidia, gula, ira, acedia. Как ты сам видишь, слово Saligia состоит из первых букв латинских имен грехов...» [Карсавин 1919: 73].
Близость значений всех рассмотренных слов данной этической группы определяется их родственной связью с греческим оригиналом, к которому русские слова восходят либо по форме (кальки), либо по смыслу, — как правило, вынесенному из авторитетных текстов. Авторитетными в эпоху Средневековья были сакральные христианские тексты. Следовательно, полученные из них «смыслы» были собирательно-символичными, с самого начала семантически синкретичными.
В последовательности развития совестливого чувства психологи различают
застенчивость > стыд > вина > совесть,
но вина развивает чувство ответственности [Изард 1980], тогда как совесть, как порождение вины, есть осмысленное в личном о-со-знании проявление чувства в действии. Совесть действует постольку, поскольку согласует в действии чувство, разум и волю. Мы уже видели, что аналитичность современного сознания разводит эти функции и в терминах.
Застенчивость — состояние, присущее русскому характеру, о чем постоянно говорят. Застенчивость — нежелание высовываться, лезть вперед, расталкивая локтями других, «выставляться» — стоять в тени (стѣнь — древнерусское слово со значением ‘тень’). По крайней мере до тех пор, пока не потребуется твое личное вмешательство. Стыд — состояние тоже, но уже как бы ответ на вызов; это переживание чувств, которые формируют сознание, потому что, по верному слову Розанова, «стыд есть разграничение», отдаление личного чувства от коллективного совместного переживания.
В древнерусском понимании грех — это ошибка, беда, проступок, ведущие к уклонению от блага. «Отказ от добра и есть грех», — писал Шеллинг, и русские его почитатели с ним согласны. Грех — «нарушение внутренней нравственной правды» [Соловьев 1988, 2: 299], а современные богословы повторяют: грех — нарушение блага как идеала в его житейских проявлениях на степени добра. И философ: «Явный грех в отличие от простой слабости и неспособности вызывает не сожаление, а страх, ужас, чувство, которое может быть объяснено лишь тем, что грех стремится сокрушить слово, посягнув на основу творения» [Шеллинг 1989: 136].
Следует вдуматься в это странное «сокрушить слово». Что за «слово»? Или это — Слово? Логос? То самое слово, которое соединяет идею и вещь в сакральности обратной перспективы:
Через слово вещное крепится к своей сущности, и когда это есть, грех в принципе невозможен. «Сокрушить слово» значит разрушить все связи творчества и творения, истребляя корень жизни.
«Каждый человек — дольник греха» (Хомяков), и только человек грешен, ибо «грешить может только тот, кто "в принципе" безгрешен» (Вышеславцев). Разрешение на поступок дает «человеку некоторую свободу греха, свободу выбора добра и зла» (Франк). А вот и опять о слове: «Современная горделивая, нехристианская цивилизация питает отвращение к понятию греха и даже к самому слову этому. Многие лица отбросят в сторону эту книгу уже за то, что в ней встречается это слово» [Лосский 1991: 144].
Грех как жжение сердца — не греет, а палит, испепеляет сердце, и возникает тревога неуверенности: «падение духом», чувства тоски, скорби и прочие в том же роде осознаются как грех, порождают чувство вины: «Грех — это состояние, противоположное целомудрию — целостности», — говорили и Федоров, и Флоренский. Это — разлом, разрыв, расход. «Это есть основная черта русского характера: если русский человек делает свинство, то он ясно чувствует, что это есть свинство, что грех есть грех (поэтому у нас с индульгенциями ничего не вышло: от греха откупиться нельзя)» [Солоневич 1991: 313].
Когда крестилась по настоянию князя Русь, советовал греческий епископ Владимиру — казнить разбойников и убийц. Нет, отвечал ему русский князь, по-ромейски мы жить не можем, довольно с них пени, а месть мы отменим, ибо — возмездие от них не уйдет, то великий грех.
Нельзя убийством других наложить на себя вину.
Древнерусская связь греха и вины проходит через ту же вещь, и в «вещи» она претворяется; об этом уже не раз говорили.
В разных языках прослеживается различное отношение к чувству вины. У немцев, например, вина равноценна долгу (Schuld > schuldig, schuld), который следует возвращать. Смысл славянского слова вина — причина. Вина — причина греха. Отсюда — винись! из-винись!
«Есть два мироощущения: в основе одного лежит чувство обиды, в основе другого — чувство вины; им соответствуют и разные философии». Только свободный может чувствовать виновным — себя; философия обиды— рабская философия: «...высшее рождается из чувства вины, а не обиды» (Бердяев). Потому что «сознание вины, связанное с грехом, есть благородное, духовно более аристократическое состояние, чем осознание обиды» — не раз повторяет Бердяев любимый мотив. Но вина — причинная суть греха, это «наша вина, т. е. не-хотение или недостаточное хотение» (Карсавин). Другой философ утверждает, что «грех как вина всегда сопровождается грехом как страданием, которое является и наказанием за вину, и ее искуплением. Раскаяние кого-либо в своей вине не есть, строго говоря, самоосуждение...» [Лосский 1991: 387].
Вот это ощущение соборной вины, вложенное в души столетиями испытаний, и есть то, что Татьяна Горичева обозначила как «самый тяжкий крест человека». Так потому, что некая мистическая вина разлилась по миру и — «вы уже знаете, что вина так теперь разложилась на всех, что никаким образом нельзя сказать вначале, кто виноват более других. Есть безвинно-виноватые и виновно-невинные» [Гоголь VI: 303].
Вот беспричинная вселенская грусть русского человека, который это чувствует острее других. «И виновен каждый из нас вселенской виной, и страдает мировой скорбью» [Карсавин 1919: 65].
Кто виноват? И — Что делать?
А вслушаться в речи культурологов: «Всеобщая виновность — всеобщая безответственность» [Ахиезер 1998: 101—102].
Грех проявляется в вещи, вызывая идею вины, в которой и видят причину; так, по русскому разумению, грех никогда не вина — но болезнь и требует излечения (исправления). Однако движение мысли может быть и обратным: причина-вина, воплощаясь в вещи, порождает грех. По смыслу средневековой иерархии переходов, если сходим — это добро, если восходим — нет, сходим мы от идеи, пре-образ-уя вещь, восходим к ней же, понимая суть. Если «сходим» от вины к греху, неизбежно абсолютизируются и вина, и грех, они предстают как вещные, вне человека предсущие предметности. Если «восходим» от греха — тщетно будем искать вину-причину, таковых может быть много. В первом случае всё оплотняется, но во втором — исчезает вовсе. Лишь в совместном движении в оба конца разведенных в сознании идеи и вещи наша мысль способна охватить ускользающие оттенки греха и вины, и обе перспективы их развития, прямая и обратная, к греху и к вине (в мысли это соответственно объем и содержание), создают законченность символа, цельность, как говорил Флоренский.
Связи между виной и грехом создают нежелательные, но социально важные, регулирующие отношения людей.
Раскаяние в мысли — покаяние словом — исправление делом.
«Раскаяние есть только подготовка почвы, только подготовка чистой основы для нравственных действий впредь — того, что в частной жизни называется исправлением»; «раскаяние создает атмосферу для самоограничения» [Солженицын 1983: 71]. И тогда душа, «очищенная глубоким раскаянием, поистине перерождается. Она встает из униженного состояния со свежестью и крепостью молодости» [Лосский 1991: 143].
Как любит каяться русский человек — до страшных преувеличений! А иноземцу кажется: уж как он гадок во всех пороках своих, этот русский. То ли дело — я, иноземец.
Обман
По смыслу древнего корня ман — мираж, туманное нечто, гибельный дух, явившийся из царства тумана и тьмы с целью запутать, за-ман-ить, уничтожить живое биение жизни. Обман становится символом всяких искажений правды, не той, что в наличии, а той, которой быть надлежит.
Много слов накопила традиция для обозначения конкретных видов обмана. Самый распространенный в средневековой России термин — вор (от глагола врать, обманывать словом).
Царь: Не думай ты, что если нет убийства
И воровства...
Бердята: Воруют понемножку...
Царь: И ловите?
Бердята: Зачем же их ловить,
Труды терять? Пускай себе воруют,
Когда-нибудь да попадутся...
Мудрый царь берендеев не знает, но подозревает, его помощник определенно знает, но никого не подозревает (ибо и о себе всё знает)... А. Н. Островский выразил вечное убеждение русского человека в том, что вор «обязательно попадется», потому как слово — не воробей... Да, «полна чудес могучая природа», и русская природа тоже. И воруют, и грабят, и крадут, и берут...
Более того, в иронической русской сказке кража представлена как имитация чуда [Синявский 1991: 50], тогда как словесное воровство есть «путь дьявольский» [Вышеславцев 1995: 114] — ведь и дьявол своровал словами.
«Не чаял, не ведал, а — своровал, батюшка; ты уж прости!»
«Все люди лгут, как только начинают говорить: наша речь так несовершенно устроена, что в самом принципе своего устройства предполагает готовность говорить неправду. И чем отвлеченнее предмет, тем степень нашей лживости возрастает, так что когда мы касаемся наиболее сложных вопросов, нам приходится непрерывно почти лгать, и ложь тем грубее и несноснее, чем искреннее человек. Ибо искренний человек убежден, что правдивость обеспечивается отсутствием противоречий, и, чтобы не оказаться лжецом, старается логически согласовать свои суждения, то есть доводит лживость свою до геркулесовых столбов» [Шестов 1912: 188—189].
Шестов говорит о любом человеке, и притом, скорее, о рациональном, мыслящем логически — о западном человеке. Что же касается русского, для которого образность речи необходима для осмысления символа, тут дело совсем иное.
Михаил Пришвин объяснил, почему русский человек любит чуть-чуть приврать, расцвечивая рассказ небывалыми подробностями: «Правда бездарна, а ложь всегда талантлива» — и дальше: «Положим, святые, как и поэты, существа тоже лживые, действуют тоже обманом... Сумма всего этого обмана называется религией и искусством... Сумма той бездарной правды — наукой. Но знание опять-таки талантливо, хотя и не лживо, знание есть вечный памятник войны между талантливой ложью (мистика) и бездарной правдой (рационализм). Много ли нужно дарованья, чтобы стоять на 2x2=4, и сколько дарованья нужно, чтобы представить людям 2x2 как 5» [Пришвин 1995: 168].
Дважды два — не всегда четыре, о том и речь. Жизнь вовсе не арифметика, коренится она не только в идее, не в одном лишь слове и не обязательно в вещи. Треножник сущности ценен цельностью.
Глава шестая. Судьба и счастье
Воля к действию
Действие («человеческий акт») католический философ выстраивает в такой последовательности:
1 — ощущение в чувстве дает восприятие, которое
2 — формирует интеллектуальное представление объекта (мысль)
3 — и волевое стремление к нему (воля) — возникает
А — целевая мотивация возможного блага (цель) при
Б — естественном стремлении человека к счастью (в благе) — и
В — рождается свободное решение (свобода) [Вальверде 2000: 269].
Движение 1—2—3 направлено причиной (чувством), движение А—Б—В — целью (благом). Обычное для реалиста двоение мотиваций — вещным и идеальным. В каком же пункте сосредоточено предпочтение русской ментальности? Чувство-причина дано как условие интенции (она становится возможной), а цель предстает как идеал (идея). Своеобразный «тянитолкай» с одновременным противопоставлением отталкивания и притяжения. Все остальные моменты являются промежуточными или следствием этих основных: 1 и А — «начало начал». В первой связке «человека несет» чувство (слепой порыв), во второй, идеальной, «человека ведет» идеал блага, который определяет меру его свободы и возможности счастья. Именно А—Б—В связаны у нас с интеллектуальной и мистической интуициями, которые восполняют интуицию чувственную.
Постоянные напоминания о том, что русская ментальность разуму и воле предпочитает чувство, не преуменьшают роли и значения воли и разума в действиях русского характера. Эмпирически, в конкретных проявлениях характера, все три составляющие деятельности присутствуют в той же мере, в какой они представлены у всех народов. Верно и обратное: у всех народов чувство и идеалы тоже развиты достаточно остро и сильно. Дело в другом: в маркированности, в отмеченности как исходно важного, того или иного момента действия в ментальности как основополагающего в формировании народного характера. Для нас именно важно — начать.
Христианство в этом смысле исходно синкретично. Христос ведь — и путь, и истина, и жизнь одновременно, а обратным ходом мысли, в современном понимании, это совместно и чувство, и разум, и воля. Христианские конфессии аналитически разграничили данное триединство человеческой личности на предпочтения, которые, возможно, коренились и в первоначальных народных представлениях. Романское католичество предпочло разум, германский протестантизм — волю, православию досталось чувство.
Для нас, таким образом, важен начальный момент действия, чувство, которое объединяет людей общностью ощущений, потому что «человек в ощущениях охватывает реальность именно как реальность, а не как стимул», а само «ощущение служит начальным способом человеческого познания», таким образом, что «объект дан ощущениями не мышлению, а в самом мышлении» [Вальверде 2000: 202, 212]. Уточним термины: это, конечно, не конкретность чувственных ощущений, а уже переработанные сознанием восприятия и представления.
Для романских народов важна регулирующая деятельность сила — разум, а разум у каждого свой, все думают по-разному. Средневековые схоласты раз навсегда установили, что именно разум направляет чувство и волю (примеры см.: [Там же: 143], отсюда идеи либерализма и в конечном счете индивидуализма («опыт глубинного одиночества» — вот где точка отсчета такой ориентации). Для германцев важна цель — воля, объединяющая, как и чувство, но не естественным порывом общего ощущения правды, а властью владык или харизмой выдающейся личности. «Русские революции XX в. навязали русским германский тоталитаризм, использовав славянскую приверженность общинности». Можно добавить: «Весьма симптоматично, что христианская религия с момента своего рождения принимает общинную форму жизни» [Там же: 402], и потому понятно, что православию во всех его формах более присуще следование началу-идее как начинающему христианскую идеологию качеству.
Минуя момент «разума» (осмысления связей между компонентами характера), волевое, идущее извне («германский тоталитаризм») наложено на внутренне-чувственное. Такова исходная точка «тоталитаризма». Сегодня вектор давления на русский характер изменился: минуя момент «воли» (право выбора в распределении связей), разумное (извне) напрямую накладывается на чувственное (органически свое). В обоих случаях форма не соответствует содержанию, потому что маркированно идеальные сущности просто меняются местами, не замещая сути. Правильное направление задано традицией, которая в «опытах» над Россией постоянно игнорируется: чувство рефлектируется разумом (в соборной думе) и претворяется в волю, во всех своих проявлениях обязательно «соборно», вне и помимо индивидуального. Но «технология полноты действия» в таком режиме слишком сложна, и «властители дум» прибегают к паллиативам в ущерб делу. И объясняется это просто: триипостасности сущего они предпочитают двумерность житейски привативного. Чувство, в отличие от разума, воспринимает объект целостно, вживе, во всех подробностях жизни, не впадая ни в схоластику (как разум), ни в догматизм (как воля). Чувство естественно и реально. Чувственный образ важнее понятия в разуме, важнее символа, которым оперирует воля. Из триады «истина — путь — жизнь» русская ментальность выбирает жизнь, и это причина, почему здесь истина постоянно подменяется правдой, а путь — дорогой. Жизнь — это жизнь, «импульсивные переживания витальности», как говорит тот же автор [Там же: 182].
Расхождения между конфессиями происходят и на уровне рефлексии. Англичанин — эмпирик, его воля направлена на выработку чувства. Немец — идеалист, его воля направлена на оттачивание разума. И так далее. Иерархия традиций абсолютна. Она побеждает. И мы знаем, в чем «состоит главное достоинство русского ума и характера. Таким принципом является цельность», и уже «основные черты древнерусской образованности — цельность и разумность. Западная же образованность построена на принципах рационализма и дуализма» [Лосский 1991].
Действительно, все отмеченные различия в формировании характера заложены традицией. Мы уже обсуждали эту проблему, и не раз.
В. В. Мильков, изучая особенности древнерусской мысли в идеях ее осуществления, выделяет три традиции: это «эпохальный (просветительский) традиционализм» — античные источники в переводе с греческого на славянский язык; «родовой традиционализм» в остатках славянской языческой культуры; «традициональный компромисс» между ними. В целом именно «традиционализм (на фоне новообретенного христианства. — В. К.) является существенной чертой древнерусской культуры, которая определяла ее неповторимый колорит и национальные особенности».
Традиционализм как общий род к трем его видам представлен в совместной оппозиции к христианству. В динамике преобразований коренится внутренний импульс развития культуры, которая ни в чем не повторяла византийские образцы. Живучесть язычества не в самом по себе славянском язычестве, а в родовом его смысле, в противопоставлении жизни — идее, быта — бытию. Дуализм «головы» и «сердца» — постоянная составляющая интеллектуального развития средневекового русского человека. Стремление к «реализму», основанному на двоении, — коренное свойство русского сознания-подсознания.
Описать это качество сознания можно следующим образом. Вещь и идея вещи сосуществуют, исторически, в осмыслении мира, постепенно удаляясь друг от друга в сознании, которое совершенствуется в языке. Исходно языческое представление состоит в том, что имя вещи — это уже сама вещь. Средневековье это соотношение понимает иначе: знамя — символ или образ вещи, т. е. отражение или отвлечение существенных признаков вещи. Новое время исходит из того, что знак есть (условно) понятие о вещи, уже совершенно отчужденной от конкретного содержания или смысла самой вещи. Корень слова имя связан с глаголом имати (хватать), следовательно, имя — древнерусский аналог современному «понятию», которое не обязательно знать (вещь рядом), потому что достаточно видеть. Зна-мя и зна-к нужно знать (а точнее — ведать существенное), т. е. войти в суть дела смысловую (знамя) или значимую (знак).
Древнеславянское (древнерусское) со-стояние со-знания В. В. Мильков называет синкретичным; действительно, это точка совмещения вещи—имени— идеи. Средневековье разводит вещь и слово-идею — возникает возможность движения мысли — это линия связи между ними, пока еще двумя, и символом здесь может быть как слово, так и другая вещь (знамя). Новое время разводит слово и идею, окончательно разграничивая их соучастие в действии — аналитически в разуме. Синкретизм Логоса разложился на свои составы.
Власть
В сознании всякого простеца государство воспринимается как самая внешняя (даже больше: кроме-шная) сила, которая, несмотря на это, все-таки необходима, поскольку только она крепит единство народа.
Представление о русском народе как рабском, покоряющемся власти трепетно и самозабвенно, которое идет еще от «цесарского посла» Герберштейна, посетившего Московию в середине XVI в., не совсем точно выражает существо дела. Конечно, понимание власти как давящей силы всегда сохраняется, хотя бы потому, что «есть гуманные люди, но гуманных государств не бывает» (Константин Леонтьев). В свою очередь историк Ключевский заметил, что на
Руси всегда господствовала власть рода, а не конкретного лица, и это осталось. Правит «система», то есть группа, клика, мафия — как угодно, но не лицо. А в русской истории получалось так, что здесь правят силы, известные «подлостью прославленных отцов». Русские мыслители, от славянофилов до Солженицына, полагают, что всякая власть развращает, и потому нормальный русский человек не стремится к власти; он полагает (как полагали и первые славянофилы), что даже монархию следует благодарить за то, что она взвалила на себя грех власти. В сфере власти «нет человечности», что уж говорить о России, где власть искони «основана на рэкете», а «состояние оккупации — константа власти в России», поскольку «русская власть никогда не бывала и не умеет быть национальной властью» [Тульчинский 1996: 264, 329].
И говорят откровенно, по-русски, русские люди. «Я начальствовать вообще не хочу. И не по робости характера моего, а потому, что просто не хочу: не интересно. Но есть люди, которым это интересно... Я считаю, что вот эта психология и есть обычная нормальная средняя русская психология — до цыганской мне никакого дела нет» [Солоневич 1991: 318]. В русской традиции важен принцип, указанный уже Ключевским: разделения труда, а не разграничения власти — потому что принцип разграничения властей не наш, он пришел «от какого-то из дидеротов» (от Дидро. — В. К.), и «понимается не как специализация... а как противопоставление» [Там же: 319, 325]. Противопоставление властей есть постоянная между ними схватка, выгодная «какому-то из дидеротов». «Любая власть нехороша. Господствовать — удел плебеев», — в высокомерности Николая Бердяева проглядывает и русское: недостойно. «Власть у нас есть скорее бремя и долг», — уточнял Василий Розанов.
Горестно размышляя о судьбах Родины, Михаил Пришвин записывал во многих местах своего дневника [Пришвин 1994]: «Народ считает издавна власть государства делом Антихриста... Происхождение власти от жадности: хочется иметь побольше, а боится, что оборвется дело, и вот он свое положение закрепляет властно... Русский человек до сих пор вообще избегал власти, отстранял ее от себя, и если соприкасался с нею, то погибал... и нет у нас призвания — властвовать... Власть и любовь — противоположные силы... Я властвую, и всё живое умирает, превращаясь в мертвые вещи... Где власть — тут же и смерть, а кто во власти для себя жить хочет, тот не человек, а паук, и за убийство власти такой на том свете сорок грехов прощается... Никто не мог научить меня ходить свободным во власти: я ненавижу власть с раннего детства... Власть нашего времени — наше бессилие в любви... Власть — это действие рока или судьбы: злого рока, злой судьбы... В любви добро, во власти — зло», и, наконец: «Всякая власть, уходя, оставляет за собою говно...» (интересно, что он хотел сказать последним словом?).
Приводить другие мнения на сей счет (их множество) не стоит, и без того понятно: вот в чем причина, почему у власти в России стоят «чужие роды» и почему у русских возникает «чувство пассивной ненависти к угнетавшим народам...» (Афанасий Щапов). А со стороны им кажется: смирились... притерпелось...
Однако в таком отношении к дискредитировавшей себя власти таится опасность будущего ее существования.
В западных странах, справедливо заметил Сергей Аверинцев, господствует добродетель умеренности, заложенная в непереводимом на наш язык слове dementia — не милость, не милосердие, не жалость, не движение сердца, не доброта, а... А вот что такое — нам никак не понять. Но согласно такой ментальной традиции на Западе даже власть предстает в исчислимой своей мере, не покушаясь на личность человека, на его достоинство. «Более чем понятно, — продолжает Аверинцев, — что по-русски такого понятия нет. Русская духовность (не ментальность, а духовность! — В. К.) делит мир не на три, а на два — удел света и удел мрака; и ни в чем это не ощущается так резко, как в вопросе о власти», так что и проблема власти для русских была «не столько задачей для рассудка, сколько мучением для совести...
Наша опасность заключена в вековой привычке перекладывать чуждое бремя власти на другого, отступаться от него, уходить в ложную невинность безответственности. Наша надежда заключена в самой неразрешенности наших вопросов, как мы их ощущаем» [Аверинцев 1988: 234—235].
Тоже, конечно, не ответ.
Заколдованный круг русской проблемы в том и состоит, что власть никогда не допустит до власти. Отсюда и неверие в избавление от безответственности. Сама же власть правит в двух полярных аспектах: строгость и милость, как Христос завещал (Аверинцев вспоминает икону Спас Ярое Око), и как ныне правят — через крутость и кротость. «Есть русское слово, обозначающее специфически русский вариант жесткости, а потому непереводимое, как все лучшие слова в любом языке, — крутой» [Там же: 233]. На это можно заметить, что в средневековой Руси не прибегали к воровскому жаргону, и то же самое называли иначе: грозный, в старом произношении — грозно́й.
Жесткость власти есть жестокость.
О жесткости—грозности—крутости русской власти много написано, да и язык сохраняет память о властных «полномочиях» лиц, причастных к власти. «А лексика, дискурс между тем продолжают выдавать с потрохами кошмар исторического опыта: ошеломить (нанести удар по голове, в результате которого теряется ориентация в пространстве-времени), изумиться (буквально — выйти из ума — пытошный термин, когда пытаемый терял рассудок от мучений: особенно восхитительна возвратная форма глагола), подноготная (из того же профессионального лексикона заплечных дел мастеров, загоняющих иголки под ногти в поисках правды), подлинная правда (своего рода апофеоз правды самой высшей пробы — тоже пытошный термин: орудие пытки, которым пороли, добиваясь правды, так и называлось — линник). Ошеломленные и изумленные от подлинной правды русские люди» [Тульчинский 1996: 257].
Список подобных слов можно продолжать бесконечно, однако смысл их понятен. И понятным должно быть русское нравственное чувство, которое восстает не против идеи власти, но против самой власти, ибо власть не может быть не крутой. Причина удаления от власти чисто нравственная, идеальная, и с чувством «безответственности» никак не связана.
С народной точки зрения, выраженной и в фольклоре, символом власти и богатства является царь; во власти и богатстве его право, по которому он обязан «служить миру». Если же он не оправдал ожиданий и «своровал» (обманув) — тут сразу и замятня, и «все средства возможны». Бунты против власти — это, быть может, и есть «жажда возвращения к прежней бесформенности», как полагал в годы революции Иван Бунин, но одновременно и возвращение к исходной точке, с которой следует начинать заново. В принципе, люди, которых называют «государственниками», «державниками» и т. д., обычно интеллигенты, в очередной раз призывающие некие светлые силы «править нами», хотя те силы, по обычному порядку, заведенному не нами, обычно оборачиваются черным наваждением. И именно потому, что «любая власть нехороша».
В наши дни искаженное представление о роли «хорошего царя» в русской истории получает прямо-таки вульгарный оттенок. Говорят, например, о «холуйски-паханском комплексе» русского мужика («нам бы хорошего и сильного пахана!») в «холуйской среде» современной России, якобы привыкшей к «иждивенчески-патерналистской идее» [Тэневик 1996: 152]. Термином пахан ‘воровской авторитет, главарь мафии’ заменяют старый символ «царь»; это родовое обозначение всякого единоличного властителя. Идея — из того же источника, что и любая вообще посторонняя для нас идея, на что указывает и термин. В России авторитет не то же самое, что, скажем, authority в Англии (легитимная и всеми признаваемая за таковую власть). В России авторитет есть неформальное уважение личности за личные ее заслуги — вне и помимо формальных требований на уважение; это комплекс черт, создающих личностный статус на основе тех моральных ценностей, которые за нею стоят; своего рода программа действий, разделяемая и принимаемая всеми [Касьянова 1994: 265].
Наличие «царя» вовсе не значит, что именно он и становится властителем дум, поскольку авторитет дела — сила, авторитет слова — энергия, авторитет идеи — благодать, воздающая благоволением своим. Сила — давит, она не в почете, воспринимается как криминальный «авторитет». Авторитет слова рождает энергию нравственного действия, поэтому столь велика в России роль писателя и пророка; но авторитет слова подчиняется авторитету идеи — благодати. Настоящий авторитет есть носитель бесспорной идеи, которой можно и следует подчиниться во имя общего дела. Неформальное лидерство русский человек (и, наверное, каждый человек) принимает только от своих.
Доверие власти
При этом «умственная интуиция, или вера» (С. Н. Булгаков) подчас заслоняет требования разума. Вера в авторитет рождает знаменитое русское легковерие, точнее — веру именно в авторитет любого рода, а не в «науку». Наука — всего лишь внешний аналог «правильной» идеи, это навык (тот же словесный корень); наука не сотворена, а создана, она искусственна, она порождение человека.
Николай Бердяев по этому поводу говорил, что общее недоверие русского человека к «науке» определяется уравниванием науки с ветхозаветным «законом» (всё это одинаково суть «законы природы и общества»), тогда как высокая «благодать» истинного знания определяется мистической интуицией («неученые люди самые гениальные» — по слову Николая Федорова).
Русская доверчивость также становится нравственным ответом на разочарование в конкретном, данном, прежде избранном поводыре — вожде, и русский человек постоянно ищет «другого отца», вождя, ведущего к ясной цели. Поскольку наличие цели правит путь, а идея известна — царь, то всякое новое разочарование смущает и всё дальше уводит от идеала, разрушая его притягательную силу.
Разочарование дискредитирует сам идеал, на время устраняя из светлого поля сознания в пользу идеала нового («старого нового»).
В подобной системе ценностей только Бог предстает как надежная, хотя и иррациональная связь людей, при этом ценится не только Творец, но и созданная им тварь. Природный мир оправдывает тягу к божественной идее, служит доказательством ее действительного существования. «Если нет Бога, как Истины и Смысла, нет высшей Правды, всё делается плоским, нет к чему и к кому подниматься» [Бердяев 1952: 32]. Сила русской ментальности именно в том, что крайним авторитетом она признаёт идею Бога, ибо Бог, по определению, у каждого в сердце — свой, это личная совесть.
При постоянном поиске «авторитета» (окрещенном нынешними социологами как «русский патернализм») русский человек внешне самоволен, и буйность его характера и поведения («хулиганство», как назвал его Лосский) все-таки противоречит идее патернализма. Бог воспринимается как внутренняя, объединяющая людей душевная связь, как средостение между каждым отдельным человеком и обществом. Русский подчиняется (и о том всегда говорят) власти, силе, судьбе, обстоятельствам жизни, но авторитета в конечном, запредельном счете, во плоти, главного и единственно для него всё же нет. Величайшее это заблуждение — полагать, будто русского человека можно в чем-то убедить, что-то ему доказать против его воли. При покушении на личную свою «волю» он упрям, и понятно, почему: не пропущенное через собственное его чувство «со-вести», через его со-знание любое знание признается навязанным и чуждым. Прежде чем стать его знанием, оно должно стать со-знанием. И в этом причина многих трагедий и бед: «Погибну, а не подчинюсь!» Бед и оттого еще, что словом, то есть обманом и лестью, его легко подкупить, подменив его идею своею собственной, навязав ее под видом реального идеала. Он доверчив, потому что судит о людях по себе: сказано — сделано. Но слово обманчиво, не всякому бы и верить.
Простой народ выступает против увеличения налогов, против непосильной службы в армии, в защиту каких-то конкретных, жизненных преимуществ, но никогда по своей воле не станет он за идею (или против идеи) только, потому что против власти он не пойдет: власть от Бога. Другое дело (не раз замечено), что призыв отменить налоги, распустить армию и есть по сути призыв уничтожить государство. Но так получается, что идея интеллигента и некая польза для простого народа редко соединяются в общий порыв дела. Народ полагает, что служит не власти, а волости, т. е. власти земли, ее силе: «Служу Отечеству».
Так проясняется обычная для русской ментальности амбивалентность власти.
Власть — неизбежное зло в этой жизни. Она призвана соединять многие воли в общую для всех свободу, и вне этой функции власть аморальна. Соотношение между структурой власти и ее функцией постоянно изменяется, поскольку то и дело меняется толкование власти. *vold- в широком смысле и владение (а значит, собственность), и властвование (и, следовательно, зависимость, даже рабство). Власть многолика — от личной совести-сознательности до тоталитарного принуждения. Начальство, как все знают, воплощает в себе все общественные пороки: насилие, корыстолюбие, продажность и т. д. «Отношение народа к власти движется между двумя полюсами, постоянно опровергая само себя» [Ахиезер 1998: 136] — амбивалентность власти всегда проявляется. Описывая концепт «власть», современный социолог имеет в виду именно нынешнее состояние России: «В обыденном массовом сознании власть выступает как настоящий Шабаш, разрушающий всё живое, как вакханалия зла всех его мыслимых типов, как собрание корыстолюбцев, жуликов, развратников, дураков, алкоголиков» [Там же: 103]. Кроме того, оказывается трудным определить «соотношение влияния мифологических и утилитарных массовых представлений о власти на стабильность государства» [Там же: 137]. С горечью приходится признать справедливость подобных оценок «массового сознания», основанного, как и всё и во всём, на противоположности идеального общего и реального вещного. Раздвоение общественного сознания определяется удвоением самой идеи — ее возникающей амбивалентностью.
«Гипергосударственность» русского сознания (Николай Бердяев), вера в сильную державу сложились исторически; они оправданы многоэтничностью России с первых веков ее существования. В отличие от иных народов, русские никогда не претендовали на роль «титульной нации» государства, зная, сколь тяжела эта ноша. Однако народное сознание противится децентрализации власти, понимая, что всегда в колесе есть ось, которая и при самой быстрой езде неподвижна — как вечность, которую она и символизирует. Только наличие такой оси оправдывает существование спиц в движении, кружение обода, стук копыт и прочего, что символизирует путный путь и вообще — развитие. Нельзя же, в самом деле, верить власти официальной, которая «исходя из своих задач требует лицемерного смирения» [Налимов 1995: 15]. И возникает в обществе смиренное подыгрывание власти, воплощенное в формуле, постоянно обновляемой в выразительной силе своей:
Не лезь! — с древнерусских времен.
Не высовывайся! — с времен николаевских (Салтыков-Щедрин),
Не суйся! — советское (у Андрея Платонова),
Не возникай! — творение наших дней.
Характер русской власти откладывает тень свою на русский характер. Сознательный отказ от властного чина — тоже проявление характера. Этот смысл слова характер заложен в нем издавна.
Сила слова
Мы возвращаемся — снова и снова — к слову как средоточию той энергии, что исходит из единства идеи и вещи (дела). А вместе с тем — и к точке зрения на всё, что подвергаем обсуждению. К русской точке зрения.
Настоящая власть все же в слове. Поскольку слово — оно же идея (смысл), а слово есть символ, слово является лингвистическим у-слов-ием порождения и возобновления смысла. Оно равнозначно трудовому действию. С такой точки зрения язык понимается не просто как коммуникативное средство общения и передачи готовой информации, которую следует заглатывать без обсуждения, но как орудие порождения мысли, как цель действия. Поэтому слово ценится как важный знак культуры. Как Логос.
Слово и речь воспринимаются как социально значимые элементы общественной жизни. Лишенный права голоса человек назывался у нас по-разному; в современном языке сохранились слова робенок (от раб; в современном произношении ребенок), хлопец (от холоп; положение хлопца тоже похоже на рабское), отрок (лишенный права голоса, речи: младший в роде или в дружине) и т. д. Все они в традиционном обществе лишены и права голоса, и права личного действия.
Право говорить должно подкрепляться правом решать, иначе возникает то, что в народе называется болтовня. Гласность есть единство двух взаимообратимых действий: свобода говорить и возможность решать (в старинном смысле слова, то есть ‘развязывать’ запутанные узлы идей или дел). Иначе не стоит и говорить. Равнодушие к «гласности», навязанной сверху как в XIX в., после «освобождения крестьян», так и в недавней нашей истории, показывает отношение народа к болтовне, когда именно ему отказано в праве решать и что-то самостоятельно делать. Такова своего рода вариация на тему единства концептов право—долг, но обращенной не к волевому действию, а к речи, которая, впрочем, также воспринимается как дело.
Современные социологи подтверждают хорошо известный факт, что больше всего текстов остается от «эпохи молчания», когда право говорить получают немногие, правом же решать обладают исключительные личности, которых искусственно культивируют в этих именно целях; они называют себя «идеологи».
Конец империи Николая II, полагал Михаил Пришвин [1994: 89], связан с развитием враждующих бюрократических групп и «в размножении вследствие этого слов и пустых проектов», а Иван Солоневич [1997: 17] полвека тому назад пророчил, что после крушения советской власти «будут говорить много и будут говорить все». В размножении слов и пустых проектов...
С точки зрения возможности высказаться на Руси последовательно развивались содержательно разные формы дискурса.
Загадочное для историков молчание Древней Руси в старорусскую эпоху сменилось возвышенно праздничным монологом, а затем — уже в Новое время — диалогом, который теперь, к сожалению, сменяется неразборчивым на слух и смысл хором. Поэтический дискурс как диалог описал Михаил Бахтин на типично русских текстах Достоевского, но уже в начале XX в. другой выразитель русской ментальности в крайнем ее виде, Антон Чехов, в своих пьесах показал совершенно новую форму «дискурса»: хор незаинтересованных друг в друге голосов, одновременную речь всех сразу лиц, не слышащих никого вокруг.
«Молчание» же в древнерусскую эпоху проявляется в отсутствии собственной, прямой речи, однако при всем том отмечается большая активность в дискурсе, потому что еще происходило активное заимствование христианской культуры путем ментализации символов и обрядов. В идеологически программном произведении Илариона Киевского (1054 г.) авторская мысль выражена с помощью чужих — библейских — слов и образов. Идея, основанная на реальности дела, передается с помощью традиционного для христианской культуры дискурса, не всегда согласованными друг с другом словами и формулами художественного языка. Смысл средневековых интеллектуальных напряжений заключался в приведении к согласованности слова с однозначной ему вещью.
Монолог является в русской культуре с XV в., хотя еще долго произнести его доверяется не каждому. Когда русский писатель, современник Андрея Рублева, Епифаний Премудрый составил житие Сергия Радонежского, его во всех отношениях образцовый текст не был принят в качестве канонического, освященного, то есть выражающего необходимую идею; специально пригласили ученого грека Пахомия Логофета, который и переработал уже созданное произведение Епифания в житийный текст традиционного типа. Такое отношение к возможностям монолога, высказанного в собственной, то есть в своей национальной традиции, всегда тормозило развитие литературного стиля и языка. Это и случилось с Епифанием: его приемы создания текста, его «дискурс» были поняты сто лет спустя.
Положение в XVI в. таково же. Царскому духовнику Сильвестру как бы «доверяется произнести» монолог на темы широко уже известного текста «Домостроя» (он создает Вторую редакцию, ставшую по причине своей авторитетности канонической; после этого текст уже не исправляют и не дополняют), а митрополиту Макарию — на темы житийных текстов, и т. д.
Век спустя появляется возможность для диалога: как бы с двух, идеологически разных, сторон, различных идей, яростно и страстно высказываются и обидчики, и обиженные (и никониане, и старообрядцы), а среди последних прежде всего вождь их, протопоп Аввакум Петров, пошедший на нарушения общепринятых норм и правил, написав собственное житие еще при жизни своей и притом низким стилем, вяканьем — в форме простой беседы с современниками; Епифанию Премудрому сделать это еще не удалось. Диалог в культуре стал возможен, в сущности, в результате двоения культа на старое и новое (исповедание : идея), и удвоения стиля речи — на архаический и простой (слово), т. е. вследствие одновременной раздвоенности как содержания, так и формы изложенной для всех мысли. Состоялся внутренний диалог русского человека с самим собою, как несколько позже повторилось это и в споре славянофилов с западниками, а в художественном творчестве отражено у Достоевского. Диалог превращался в дискуссию, в спор — мысль проснулась и в рост пошла в словесном искусстве речи.
Когда Юрий Самарин хочет описать коренные свойства русского православия, он берет фигуры церковных деятелей с уклонениями их либо в католицизм (Стефан Яворский), либо в протестантизм (Феофан Прокопович), и на этом фоне выявляет типичные признаки «правильного православия». Внутренний диалог невозможен без учета внешних противоречий. Слово без дел мертво.
Молчание силы
С этим связаны и следующие свойства ментальности, исторически сформированные в средневековую эпоху.
Христианская культура формирует принцип умолчания, а не знания. Всё считается уже известным, всё уже записано в Книгах (Biblia). История соответствующих терминов, как показал еще Федор Буслаев в диссертации 1844 г., отражает такое изменение в русском сознании. Съ-каз-ати значило собственно ‘раскрыть, объяснить’ таинственно скрытое от непосвященных, сокровенное (отсюда сказка, сказ, сказание). Устная культура, какою всегда и была народная культура, особое значение придавала именно данной связке со-значений: сказать — раз-решить (тоже ‘истолковать, раскрыть’). Сказал в то же время значило сделал, исполнил: сказано — сделано. Искусственное отсечение одного действия от другого грозит неисчислимыми бедами. Движение мысли, вызвавшее к жизни новые грамматические категории, прежде всего глагольные (вид, залог и прочие), привело к разрушению сложной иерархии в принятом способе «говорения» — речей, или слов. Лаконичные прежде «слова» превратились у нас в бесконечные «речи»: вместо того чтобы нечто сказать, стали говорить, т. е., по общему смыслу этого слова, болтать пустое, стрекотать сорокой.
Знание искони отождествлялось с говорением, поскольку незнающий попросту молчит. Единственным средством передать знание остается речь, причем важна не просто информация, а именно открытие, откровение (важно ведь не просто знать, а именно ведать). Знание содержится не в слове, а в действии (например, в повторении слова). Иначе говоря, это скорее умение, чем информация-знание. История слова художник заключает в себе разгадку такого понимания. Происходя от германского слова со значением ‘рука’ (ср. англ. а hand или нем. die Hand), слово художник обозначало умелого мастера, в действии творящего вещь своими руками (ручная работа).
Во всем прослеживается важное отличие русской ментальности от западноевропейской, даже в особенностях воспитания и образования молодых членов общества. «Классические недостатки западноевропейского, преимущественно диалектического образования, усилились у нас до того, что, за небольшими изъятиями, относящимися преимущественно к специализированному образованию, особенно высшему, у нас знание отождествляется с говорением или изложением. Хорошо говорящий, особенно же бойко пишущий — почитается и знающим то, о чем идет речь. По существу это значит, судя по сказанному выше, что все наше образование направлено преимущественно в сторону индивидуалистическую, подобно древнему или средневековому, и на деле вовсе чуждо задачам жизненным и общегосударственным... Разговор и слова нужны, но они только начало, вся суть жизни — в делах, в умении перехода от слова к делу, в их согласовании» [Менделеев 1904: 247]. К этим словам, выражающим народную точку зрения (слово есть дело), добавить нечего; они объясняют пресловутую русскую страсть к долгим разговорам в ущерб делу. В народе пустопорожнее словоизвержение за дело никогда не почиталось. Но современная образованщина восходит именно к такому типу своего образования — в слове пустом и пустотном, которое осуждается в народной среде. Ибо — «высшая степень искусства говорить — умение молчать» (Ключевский).
Вдобавок к этому возникает еще и ненужная горячность в речи: «Русские говорят громко там, где другие говорят тихо, и совсем не говорят там, где другие говорят громко» (Герцен). Лев Карсавин с той же особенностью менталитета связывал отсутствие оригинальных идей, стремление пережевывать хорошо известное, потому что в таком случае «каждый новый пример, поясняющий старую истину, кажется открытием». Думается, что в обоих случаях авторы иронизируют над архаическим способом мышления в слове. Такое мышление не есть подведение вида под определенный род, как того требует формальная логика в составлении суждения, а простое увеличение числа видов в перечислительном ряду, способ синтагматического, последовательным накоплением, сочленения их метонимически внешним образом. Слово в подобном представлении оказывается ценным не само по себе, а в увязке с некоторым обрядом, то есть в момент создания какой-то реальной «вещи» согласно известной «идее». С помощью «речевого обряда» происходит как бы раскачивание мысли, «обряд правит эмоциями и делает это очень эффективно» [Касьянова 1994: 144]. Но «обряд» проверяет слово на истинность; соотносит его с ключевой идеей и тем самым свидетельствует его истинность. Смысл и значение разведены, как разведены вещь и идея вещи. Этикет, ритуал, обряд становятся как бы «рамкой», которой охватывается действие слова, не пустого, но содержательно важного, наполненного эмоцией, обогащенного чувством и смыслом. Ключевский говорил, что в развитии мысли на Западе люди шли «от веры к обряду, дух воплощали в литургическом образе, в символе. Здесь, напротив, через обряд приходилось проникать неумелой мыслью в смысл слова Божья, в образе грубым сердцем искать духа» — через посредство языка (речь, понятно, идет о Средневековье).
Любовь русских к внешнему ритуалу вполне оправданна как нормальная реакция на событие. Т. Д. Марцинковская [1994: 28] объясняет такую «любовь» стремлением избежать плутовства и опрометчивых поступков, но при этом полагает, что «импульсивность и неорганизованность» русского характера напоминает действия детей, также нуждающихся во внешних ритуалах, сдерживающих лишние эмоции. В таком соотношении ритуала и действия автор видит причину бунта со стороны «незаурядных людей»: молодечество нарушает жесткие правила действий. Не все в суждении верно, а обилие русских «незаурядных людей» ставит под сомнение общее правило. По-видимому, истина в том, что русский характер не любит формальных пут, вообще он — не человек формы. Вспомним: «Русский человек бесформен...» и т. д. Нет ли и в этом суждении почтенного автора подмены понятий на основе близкозначности выражающих их слов?
Могут сказать, что «бесформенность» как раз и нуждается в ритуале как оформлении, в конечном счете — как получении формы. Но тут вступает в силу новое противоречие: давящая внешняя сила — форма — неизбежно воспринимается как нарушение свободы и отторгается сразу же. Это еще один пример рассуждений на уровне общих категорий. Прав — не прав... всё рядом, и всё верно. Но — есть индивидуум, есть человек, есть личность — и у каждого из них свой путь к форме, к праву, к свободе.
В известном смысле привязка слова-действия к ритуалу сохраняется в русской традиции. Слово не просто увязано с делом (Слово и дело государевы!), слово и дело лишь совместно способны выразить заключенную в них энергию идеи.
Сказанное о слове, языке и речи имеет прямое отношение к проблеме свободы воли.
С древнейших времен русский человек свободен в своем языке, но неволен в речи. Другими словами, он «по идее» может говорить, но на деле не имеет права сказать. Теперь отвлечемся ненадолго, с тем чтобы на бытовых примерах показать пределы действия личной воли и общественной свободы. Здесь тоже имеются свои оттенки и противоположности, двоящие реальность на идеальное и материальное.
Есть воля — и есть свобода, но точно так же есть закон — и есть право. И еще: есть совесть — есть и внешняя совесть, которой имя — справедливость. Есть поступок, но есть и преступление.
Поступок и преступление
Характер, в принципе, проявляется в поступках. «Вообще наше существование слагается из страстей и дел», — писал Владимир Соловьев.
Исполнение идеи в деле и есть поступок. В. Н. Сагатовский [1994: 159—162], следуя Бахтину, описывает поступок как со-бытие культуры, основывающееся на самоутверждении лица, которое борется за свои интересы. Личность утверждается в том, чтобы быть одновременно «не как все и не против всех, но для всех» — «ответственная участность» по формуле Михаила Бахтина, дело, направленное на преодоление судьбы (участь) в труде или сострадании (участие), ответственность как ответ на вызов (участность).
Усиление степеней присутствия личностного в поступке и есть процесс созревания личности. О русской «личности», в частности, можно сказать, что древнерусский символ «участь», породив состояние душевного участия, уже в наше время приводит к «снятию» с него идеи «участности» (даже скорее причастности). О «русской» потому, что с реальности русского характера Бахтин эту идею и «снял», отчуждая ее во всеобщую нравственную категорию.
Пре-ступ-ление сродни поступку; это тоже поступок, но, в соответствии с особенностями русской ментальности, понимается как поступок искаженного характера. Пре-ступ-ление — это переход за черту, за кон — нарушение закона. «Преступление потому есть зло, что оно является отрицанием права; наказание же есть отрицание этого отрицания, следовательно, не зло, а восстановление правильного отношения между свободою и законом» [Чичерин 1998: 129]. Непреложность суждения подводит гегельянца к выводу, с которым согласится и русское сознание: «Смертная казнь — справедливое возмездие» [Чичерин 1998: 131].
Преступление — выход вовне, это значит переступить закон, а закон — искусственное, насильственное, навязанное установление. «Право есть начало формальное, содержание дается ему свободным движением жизни... В отличие от нравственности право есть начало принудительное» [Там же: 82—83]. Закон волю ограничивает свободой, в пределах которой человек внушает себе мысль, будто он обладает свободной волей.
Кроме того, преступления разнообразны. Например, «правонарушения со стороны отдельных лиц никогда не могут быть приравниваемы к правонарушениям власти. Власть обязана не просто подчиняться праву, как отдельные лица, она обязана блюсти право. И когда власть — по соображениям политической выгоды — нарушает право, это по моральному вреду для общества превосходит и все казни, и все убийства... Правонарушение в области государственной для власти как таковой должно было бы быть так же невозможно, как невозможно для нее (слушайте! слушайте! — В. К.) воровство или мошенничество» [Струве 1997: 27]. Моральное выше политической целесообразности, но об этом вспоминают лишь тогда, когда уходят в оппозицию к власти.
Постоянные нарушения права властью — источник неверия в справедливость власти. В таких обстоятельствах разницы между простым поступком и преступлением как бы и нет. Более того, преступление иногда оборачивается подвигом. Границы между поступком и преступлением размыты потому, что идеальное (закон) и реальное (поступок) не соотносятся друг с другом как оппозиты по общему роду.
Если взять русские глаголы, в значении которых нравственные признаки (предикаты) поступка выражены как возникающие, явленные, окажется, что, независимо от качества деяния, от поступка или преступления, важно при этом не о-ступ-иться, ничем не по-ступ-иться и ни от чего не от-ступ-иться. Поступок вообще и преступление в частности мало различались в русском сознании, поскольку всякий личный поступок лица есть уже преступление; его невозможно одобрить, если он совершен не в нормах общежития.
Всё, что мы до сих пор обсудили, перебирая черты русского характера, показывает, что старая амбивалентность поступок/преступление в русском характере изжита. Герой древнерусских сказаний совершал поступки — и они оказывались преступлениями: в этой системе ценностей действуют, совершая поступки, только отрицательные лица. Святой и герой в созерцательной молитве выше со-бытия и только потому пребывают в белых своих ризах. Всем прочим на роду написано: грех и вина. «В истории падение, преступление, грех — это центральное явление; в нем бьются бессильно индивидуумы, народы; о нем учит и с ним борется религия; тенью своей оно задевает, наконец, и высокое художество» [Розанов 1990: 173].
Закон и право
«Наша беда в нас самих: мы не умеем стоять за закон», — записал в дневнике Василий Ключевский.
Закон, то есть возможность безгреховного существования, не переходя за кон, на закрай допустимого (приличный) и принятого (достойный) в обществе (общине), русским человеком не воспринимается как норма. Норма репрессивна, обязательна, она — над тобою, в незамкнутом пространстве сверху, и никогда не знаешь, отсекла она уже твои земные дела («вещи») от непосредственного общения с Богом («идея»), или вот-вот это сделает; норма лишает возможности одно поверять другим, идею — вещью и вещь — идеей, и тем самым поверить в истинность (справедливость) происходящего. Норма заставляет, норма — модальность принуждения и несвободы, и в этом находится объяснение тому, казалось бы, непонятному факту, что всякая реальная власть в России попирает свои же собственные законы, ставя себя выше высоких норм: «Закон что дышло — куда повернул, то и вышло». Дело не в личных качествах человека или группы, ухватившей власть, дело в том отношении, каким окружено представление о «законе». И только пренебрегающий таким законом человек свободен: «Дуракам закон не писан».
Да и кому он нужен, закон? Естественное народное чувство во все времена и у всех народов исповедывало мысль, «что закон — это обыкновенное жульничество» (так говорит англичанин — Оруэлл).
«Одно из общепринятых и общепризнанных отличий нашей психологии от западноевропейской заключается в отношении к закону, к праву и к юриспруденции. Еще Лев Тихомиров заметил: „Никогда русский человек не верил и не будет верить в возможность устроения жизни на юридических началах“. Но нам столько раз твердили о том западноевропейском уважении к закону, которого так не хватает русским варварам, что мы поколениями взирали на просвещенную Европу и со скорбью душевной констатировали: „Ну, где уж нам!“ И даже теперь нам трудно отделаться от некоторых, в сущности, очевидно вздорных представлений о „святости закона“, ведь взамен писаных норм у нас имеются неписаные, основанные на чувстве духовного такта. Такт же есть вещь, не укладываемая ни в какие юридические формулировки. И вот поэтому иностранные наблюдатели, даже и дружественные нам, становятся в тупик перед „бесформенностью“ русского склада характера. Но ведь и западноевропейские „законы“ возникли на чувстве страха, и не случайно говорил немецкий ученый (Шубарт), что „европеец от Господа Бога награжден чувством первобытного страха (Urangst), русский — таким же чувством доверия (Urvertrauen)". От этого у западного человека „недоразвитие чувства общечеловеческой симпатии“, они отгораживаются друг от друга; знаменитая немецкая бестактность: они не понимают. Их возможности человеческого понимания относятся к нашим, как лошадиное копыто к человеческим пальцам» [Солоневич 1991: 272, 274, 276].
«Французский моралист Вовенар, — продолжает Солоневич, — сказал: „Тот, кто боится людей, любит законы“. Русское мировоззрение отличается от всех прочих большим доверием к людям и меньшей любовью к законам... необходимость в договоре появляется в результате потерн доверия, а потеря доверия есть результат ослабления социального инстинкта. Никто никому не верит, и все считают друг друга жуликами — обычно без основания» [Там же: 368]. Что русская доверчивость не раз сыграла с нами злую шутку — это верно, но такова уж наша доля.
Даже психоаналитики, озабоченные вовсе не идеальной силой идеи (доверчивость и т. д.), а проблемами пола, т. е. низменностью телесной «вещи», постоянно толкуют о том, что понятие нормы связано с «регрессией половых влечений человека». Подсознательные импульсы воли, конечно, участвуют в подавлении чувства и мысли, отсюда и «параноидальность» средневекового человека, который постоянно подозревает мир в подавлении своей воли, и «эпилептоидность» современного человека, раздираемого между естественным стремлением к свободе и воспитанным чувством ее греховности, и шизоидностью современной западной культуры, в своем самомнении ничего, кроме собственных своих «дискурсов», не видящей. (Интересные рассуждения на этот счет можно встретить в работах И. П. Смирнова; ср.: [Смирнов 2000].)
Соотношение преступления и поступка исторически изменялось. «Право возникает в тот период, когда становится возможным распад единого образа действий на преобладающее традиционное поведение и на уклонения от него», т. е. возникает новый тип мышления, создается новая культурная «парадигма» действий. «Понятию суда по древней метафористике сопутствует понятие мзды. Воз-мезд-ие, мзда, месть — слова с одной общей основой», подобно тому, как в латинском языке даже понятия «святитель» и «скверна» передаются одним словесным корнем. Столь же «омонимично» и понятие воздаяния (наказания): это — кара и награда. В традиционных обществах его члена ведут на казнь и наказывают с тем, чтобы потом даровать ему жизнь, избавив от скверны; что, конечно, гуманнее, чем казнь современная [Фрейденберг 1978: 154—159]. Средневековые наказания за пре-ступ-ления закона и нарушения права других членов общества шли от тела общества — благополучие целого рода важнее благополучия инди-вида; современное отношение к тому же изменилось, и возмездие приходит не со стороны предметной, а со стороны идеи — от идеи свободы. Здесь еще одно подтверждение тому, что большинство установлений закона сегодня исходит от разума, а не от чувства — от идеи, а не от реальности дела.
Для русского человека закон не норма, а образец. Философ права определяет это так: «Право есть идеальное требование во имя идеального принципа» [Чичерин 1999: 142]. Такой образец существует от века как рекомендация к действиям. Тут много, разумеется, неизбывно вредного, но только потому, что нарушают традиции либо чужаки, паразитирующие на доверчивости «автохтонов», либо безнравственные люди, разрушающие такты жизни.
Например, «кумовство — это подпольная сторона России (женственность), это чем всякие дела делаются и что мешает вступиться за правду... Кумовство — это не свобода, кумовские связи — это веревка. Этими веревками на Руси притянута правда к земле и платочками повязана: кум и кума... Для этого нужно сделать так, чтобы у каждого стало рыльце в пушку...» [Пришвин 1994: 196—197].
Но право соотносится с долгом, и только их гармония может дать ощущение справедливости. А «справедливость требует, чтобы мы не делали другим, чего не желаем себе», и «русский народ не пойдет за теми людьми, которые называют его святым только для того, чтобы помешать ему быть справедливым» [Соловьев V: 478, 387].
«Народ понимает власть не как право, а как обязанность», — утверждал славянофил Алексей Хомяков; те же, кто к власти приходит, понимают ее как их собственное право. В этом трагедия русской государственности, но такова же, писал Ключевский, и «русская жизнь, не признававшая никакого права». Да и «какие права будут отстаивать выборные от народа [депутаты?], когда все заключается только в обязанностях?» (Николай Федоров). Удивительно ли тогда, что с давних времен живет в народе вера в благодать, неземную идеальную сущность, противоположную праву, тому праву, о котором в 1918 г. сказал Пришвин: поправело от «права».
Таков же и наш язык.
Право языка
Литературный русский язык вовсе не нормативен. Даже лингвисты, пекущиеся о сохранении «норм», постоянно готовы взорвать эти нормы личным своим пристрастным мнением. До 1960-х гг. в произношении держались нормы «старомосковской речи», заботливо пестуемой московскими филологами (справочники и пособия Р. И. Аванесова и его учеников); только этим правилам мало кто следовал, даже дикторы центрального вещания. Лишь в последнем прижизненном издании (и последнем вообще) «Русского литературного произношения» Аванесов вынужден был признать, что кроме него никто не говорит по его нормам. Сам профессор был глуховат, почему и не мог слышать изменяющейся речи современников. Ободренные поступком учителя, который пошел навстречу особенностям современного городского произношения, московские филологи пошли дальше и стали замышлять реформу письменной нормы, составляли пособия по разговорной речи, да и грамматику академическую построили на примерах, заимствованных из кухонных разговоров.
Свободу литературному языку придает стиль. Стиль постоянно раскачивает норму, приближая ее к нормальному употреблению в речи (узусу). Стиль и есть переживание свободы в языке, эквивалент общине в социальной организации общества. «Свобода» возможна в общине-обществе, воли в ней особой нет, но зато и безволие-самоволие относительно языка — невозможно.
Каждая социальная группа обладает своими особенностями говорения, своим, так сказать, стилем, и филологи тщательно описали «функциональные стили» современного русского языка; такие стили странным образом совмещаются с определенными профессиональными слоями общества («Каждое слово пахнет профессией»!). Состояние языка в обществе определяется со-стоянием в общем «языке»: со-словие порождает и упрочивает свое сословие. Социальное распределение речевых употреблений сказывается на кажущемся изменении языка. То и дело слышишь: «Язык портится!». «Он искажен!». «Это — не русский язык!».
Спокойно, с языком всё в порядке. Он всё тот же — велик и могуч, и законы у него — свои. Изменение в речи разговорной происходит тогда, когда социальная группа, дорвавшись до власти, стремится навязать обществу собственный стиль речи, выдавая его за норму. Взлет русской литературы XIX в. — результат включения в норму дворянской речи, одесские вульгаризмы 1920-х гг. — «демократизация русской речи» в советские времена, «канцеляриты» 40—50-х — давление чиновно-партийной иерархии, возвращение было к русскому языку у писателей-деревенщиков (глоток свежего воздуха) снова перекрыто либо тягой к архаизации современного неоправославного движения, либо злоупотреблением иностранными словами (выброс во власть технической интеллигенции). Что же касается плебейски вульгарной современной русской «литературы» — о ней нет и речи, она вне языка, да и русской такую литературу можно назвать лишь с натяжкой. Такта нет, того русского такта, который и заменяет норму права. В такой обстановке рождается странная идея о том, что язык социален по своей природе. Социальное — явление, а не сущность. Язык — ментален, это сущность речи, глубины народного духа.
Право на справедливость
«Право приводит в своем развитии к равенству и относительной (!) свободе, в смысле неприкосновенности и полного простора действия в пределах отведенного круга или границ, обозначенных общим отвлеченным (!) образом», но при этом «право не может всегда и во всех случаях совпадать с полною, безусловною справедливостью, которая предполагает особую мерку для каждого отдельного (!) человека!» [Кавелин 1989: 536]. Короче говоря, в обществе справедливость невозможна.
Нет, возможна, но лишь в одном случае: это «право, которое, будучи переведено в чувство (!), становится справедливостью. Право не есть идея, которая воплощается между людьми; оно лишь отвлеченное понятие от бытового факта, обусловленного сожительством людей. Право и соответствующее ему идейное чувство справедливости не принадлежит к числу тех высших субъективных добродетелей, из которых слагается нравственность» [Там же: 536].
Еще раз мы получаем известное нам соотношение идея—справедливость, которое противопоставлено и вместе с тем соответствует оппозиции право—быт.
Современный философ утверждает, что в России всегда действовало запретительное право, действующее против личности в угоду государству— это «вековой груз России» [Марков 1999: 277]. Следовательно, нельзя осуждать и личность, которая пренебрегает государством как одной из форм защиты. Если «право — это некоторый компромисс силы (государства. — В. К.) и справедливости, благодаря которому сила становится отчасти справедливой, а справедливость — сильной» [Марков 2000: 281], о таком компромиссе следует договориться, потому что власть-государство не разделяет это мнение.
В известном смысле «справедливость» соотносится с «правдой», которая и есть воплощенная в идеале справедливость в ее противоположности всякой лжи и кривде. Русские писатели-классики очень хорошо это понимали. Глеб Успенский писал, что «в строе жизни, повинующемся законам природы, несомненна и особенно пленительна та правда (не справедливость), которою освещена в ней самая ничтожнейшая жизненная потребность». Повинуясь законам природы, в естественности их чувствований, человек в состоянии получить всю силу правды, которой направлена жизнь. И нельзя иначе.
Если право ценно как справедливость, то правда праведна только как истина. Об этом тоже сказано:
«Там, где средоточием внимания бывает „я“, правда неизбежно делается одним из средств к процветанию „я“, одним из его украшений. Важно не то, что нечто — истина, а то, что оно — моя истина. Если ударение поставлено на моя, то дальше неизбежно и стремление выдавать всякую истину за свою.
Совсем наоборот бывает при сосредоточении внимания на правде. Если ударение поставлено именно на ней, то делается малоинтересным, чья это правда; а далее, при углубляющемся сознании... чувство собственности в отношении к правде замолкает...» [Флоренский 1996: 339].
Впрочем, «искони понятие о правде связывалось с началом равенства. Справедливым считается то, что одинаково прилагается ко всем», но «опыт не дает нам ничего, кроме неравенства... Свобода естественно и неизбежно ведет к неравенству», равенство существует (должно существовать!) лишь идеально, как равенство всех перед законом. «Строгость права и естественная (!) справедливость не одно и то же... Правда распределяющая отличается от правды уравнивающей...» [Чичерин 1999: 89, 92—93].
Приведенные высказывания рисуют идеальную сущность справедливости как правды. Некоторая путаница в оттенках определяется общностью корня -прав-, который содержал в себе (некогда) все те со-значения, которые теперь, по общему закону рассудочного мышления, аналитически разошлись в оттенках по отдельным словам общего же корня. Правый, правильный, праведный — таковы предикаты для современных терминов правда, право, справедливость.
Немецкий идеалист, суждения которого всегда имели цену в русском образованном обществе, «указал, что быть справедливым — значит быть милосердным, но так, чтобы это согласовывалось с мудростью; что мудрость есть знание о высшем благе; что милосердие — это всеобъемлющее благорасположение, а благорасположение — привычка любить; что любовь есть склонность находить удовольствие в благе, совершенстве, счастье другого человека...» [Лейбниц 1984: 335].
«Последний платоник Европы» как будто выражает программу действий русского характера в его идеальной форме. А это — еще одно доказательство «общечеловеческих корней» русской этической мысли, но в варианте реализма. а не номинализма.
Но сразу же возникает противоречие между «я» и «другой». Справедливость к другим, а — к себе?
Справедливость в отношении к себе самому представляется как ответственность. Ответственность — внутреннее побуждение, ответ на вызов и, конечно же, «ответственность не значит наказание» [Чичерин 1999: 133] личности, которая берет на себя бремя ответственности. Ведь «ответственность — бремя. Бремя унаследованного прошлого, которое надо достойно нести и творчески передать будущему. Но тот, кто живет настоящим, ничего об этом не ведает. Кто ныряет в мгновение и в каждом мгновении находит „жемчужину“, тот не спрашивает ни о чем и не дает ответа» [Ильин 3: 154]. Однако телеологичность русского сознания постоянно увлекает русского к будущему, которое для него важней настоящего.
Говорят о безответственности русского человека как черте его характера. «Ведь русскому трудно понять, зачем ему долг и для чего ему ответственность, если всё делается по любви, и поэтому у него есть любовь и нет ответственности, то есть русские бесформенны. А если нет формы, то нет и экзистенциалов... Трепета нет. На вершине пусто, а внизу без глубины...» [Гиренок 1998: 384]. Странное суждение. Одновременно оно же есть суждение о беззащитности русского человека перед вызовом обстоятельств и времени. Ведь безответственность — это справедливость в отношении себя самого. Но в жизни приходится «отвечать», давая ответы на вызов, вообще — со-ответ-ствовать. Иначе нет жизни и невозможны поступки. Быть может, ошибочное это суждение (о безответственности как черте характера) опять основано на подмене понятий или на разном представлении об ответственности? В русской ментальности ответственность не рассудочна, это чувство ответственности, т. е. несогласия с нормами права. Так что и для русского человека «ответственность — основное этическое понятие, фиксирует сферу реальности, подлежащую воспроизводству ответственным субъектом. Ее границы — постоянная проблема каждого субъекта. Эта сфера отождествляется субъектом с самим собой. В сферу О. попадает часть мира, окружающей среды, часть собственных отношений, определяемых исторически сложившимся содержанием культуры субъекта. Сфера О. может носить локальный характер, т. е. охватывать семью, общину, малую группу... но может охватывать и большое общество; в русском космизме границы ответственности уходят в бесконечность. В О. следует различать ее эмоциональную и интеллектуальную стороны. Сфера О. субъекта — важнейшая характеристика культуры и социальной жизни общества. Замыкание значительной части населения в локальных мирах свидетельствует о слабости государственного сознания...» [Ахиезер 1998: 324]. Выделенные нами части определения подчеркивают особенности русской ментальности. «Границы ответственности уходят в бесконечность» — сказано хорошо и верно. Безразмерностью ответственности за всё на свете грешит русский, но в глазах иностранца это превращается в отсутствие всякой ответственности.
Идея идеала и здесь, в этом случае, русскому кажется более важной, чем ответственность в малом деле. Он берет на себя весь мир, как былинный герой Святогор.
Долг и обязанность
«Право есть свобода, обусловленная равенством», — утверждал Владимир Соловьев. А где же справедливость? И «разве без справедливости государство не является вертепом разбойников?!» — Блаженный Августин знал, что говорил, да и мы теперь — знаем.
В русском сознании действительная справедливость состоит в гармонии прав и обязанностей. Вот только власть-государство никогда не приемлет такой гармонии в отношении самой себя, подобно градоначальнику Салтыкова-Щедрина: «Выше я упомянул, что у градоначальников, кроме прав, имеются еще и обязанности...», но градоначальник не так прост, и в отношении к подданным никак не уразумеет термина права: «Всего более его смущало то, что он не мог дать достаточно твердого определения слову права. Слово обязанности он сознавал очень ясно, так что мог об этом предмете исписать целые дести бумаги, но права — что такое права?»
Наоборот, обыватель толкует о том, чего у него, как ему представляется, недостаток: «Сохрани меня Бог! Люди кричали много о своих правах, но всегда умалчивали о своих обязанностях» (Владимир Соллогуб, «Тарантас»).
Несогласованность прав и обязанностей — это хитрая ловушка для всех, не только для русских обывателей и их властей. Но русский человек частенько лукавит в их подменах — с выгодой для себя. Потому что и в слове-идее «русский человек не чувствует неразрывной связи между правами и обязанностями, у него затемнено и сознание прав, и сознание обязанностей, он утопает в безответственном коллективизме, в претензии за всех. Русскому человеку труднее всего почувствовать, что он сам — кузнец своей судьбы. Он не любит качеств, повышающих жизнь личности, и не любит силы. Всякая сила, повышающая жизнь, представляется русскому человеку нравственно подозрительной, скорее злой, чем доброй» [Бердяев 1991: 278]. Классики постоянно воспитывают русского человека в правильном направлении, и особенно тех, кто обладает правами: «Исполнение обязанностей важнее пользования правом: второе без первого невозможно или же есть только род счастия, род богатства, которое так же скоро проживается, как и наживается! Право без соответственной ему обязанности — мыльный пузырь. Обязанность — фундамент права, и для истинно развитого и честного человека потому только и дороги его личные права, что с ними сопряжены обязанности: таким образом, и самое право есть для него обязанность; иначе он не дорожил бы им, иначе он приобретал бы право как милость, как счастие, даром...» [Лесков 1988: 80].
«Нравственность есть долг», — утверждал Гегель, а историки подтверждают, что представление о долге выработано протестантами [Вебер 1990: 56]. Оно рождено на субстрате личной совести и, следовательно, в принципе не чуждо и русскому человеку. Ведь долг — это ответственность личная, тогда как обязанность — навязанная извне; человек об-вяз-ан необходимостью. Вот почему «я, вместе с русским народом, ставлю долг выше обязанности, моральность — выше юридической легальности»; поскольку «право развивается путем обхода законов» (нарушая уже существующие законы, т. е. беззаконно), то и «выбор этот разными народами связан уже довольно явственно: русский народ сохранил идею долга и выбрал моральность (личную ответственность совести. — В. К.), Запад утратил идею долга и живет преимущественно интересом права», т. е. закона; в обоих случаях речь идет именно о преобладании права или долга, поскольку совсем «без идеи долга, с одними понятиями целей и средств для направления своей нравственной жизни человек в этой жизни своей неизбежно подчинялся всем колебаниям и условности этих целей и средств» [Астафьев 2000: 75—76, 385].
Идеальность идеи «долг-обязанность» помогает корректировать в действии проявления конкретных «целей и средств».
Бытие и быт
«Как-то повелось, — писала Зинаида Гиппиус в 1904 г., — что смешивают два слова: быт и жизнь. То скажут, что нет быта, то, что нет жизни, — и точно оба слова значат одно и то же. А между тем это не только не одно и то же, но это два понятия, друг друга исключающие. Быт начинается с точки, на которой прерывается жизнь, и, в свою очередь, только что начинается жизнь — исчезает быт. Быт именно перерыв, отдых жизни, как будто летящая птица складывает крылья и садится на дерево. Она жива, она опять полетит... а пока она отдыхает... Жизнь — события, а быт — лишь вечное повторение, укрепление, сохранение этих событий в отлитой, неподвижной форме. Быт — кристаллизация жизни. Поэтому именно жизнь — только она одна — творчество; и это творчество исключает быт, движение круговое, повторительное, почти инстинктивное охранение завоеванного, без рассуждений, без желаний. Воистину отдых...
Слава Богу, что есть жизнь» [Гиппиус 1999, 1: 301].
Простим автору смешение слова с понятием, а понятие — со сравнением (с птицами). Важнее суть, а суть такова, что подобные рассуждения и сомнения возникают на переломе событий, когда устоявшийся быт в со-бытии направлен бытием (идеей движения жизни).
Событие — всегда революция; сокрушив старый быт, оно выкорчевывает его остатки, и в момент созидания нового бытия возникают различные переходные формы, «отходы усилий» — мещанство, мешочничество, потребительство — всё так знакомо русскому человеку в переживаемых им постоянно разного рода «революциях». Передел собственности в России всегда революция, поскольку каждое новое захватывание собственности есть преступление, которое хочется оправдать идеей. В России всё обязательно нужно оправдать идеей.
В уже рассмотренной альтернативе иметь или быть западноевропейские мыслители тоже видели боль разрушения: обладание убивает бытие, т. е. жизнь как его форму, потому что всё превращает в вещь и объект обладания, тем самым омертвляя самого субъекта (это мысль Эриха Фромма). Католический философ совершенно прав в своем заключении: «До сих пор многие не поняли, что важнее быть личностью, чем иметь деньги» [Вальверде 2000: 357]. Суждение, которое не расходится с важным для русской ментальности представлением.
Кстати сказать (и это важно), преобладание языков, в качестве вспомогательного глагола употребляющих иметь, а не быть, может быть связано с тем, что в этих языках глагол быть используется для оформления суждения в предложении; здесь «вещь» (иметь) и «мысль-идея» (быть) разведены в рефлексии, тогда как в русском обиходе бытие и логическое совмещены в одном, т. е. субъект слит с объектом высказывания. «То утверждение, которое содержится в глаголе-связке суждения, динамично выражает направленность интеллекта на его собственный объект: бытие. Так раскрывается фундаментальная структура человеческого мышления: оно охватывает бытие в его всеобщности — или, вернее, оно есть не что иное, как бытие, осознающее само себя в человеке» [Там же: 214].
Быть — бытие, иметь — это быт. А быт, как сказано, ни шах и ни мат, «а патовое бытие и есть быт» [Гиренок 1998: 384].
Русский народ в России — «ее коренной, срединный народ — народ-собиратель» [Соловьев VIII: 83]. Его, народа, идея — быть всем вместе, а не иметь чуть больше, чем у соседа.
Замечено [Чернейко 1997: 11—12], что «понятие быт с его негативной оценочной коннотацией (быт заедает...), активное в сознании русского интеллигента, отсутствует в народной культуре» — у народа тоже есть трудности и проблемы в жизни, есть «вещно-телесная» сторона жизни, но такого отношения к быту, «такого рационально-эмоционального подхода» к нему у народа нет, ибо «народ воспринимает трудности как естественную форму жизни, а интеллигенция — как помеху, как нечто такое, что отрывает от главного, от той деятельности, которая только и позволяет человеку быть причастным к интеллигенции, то есть от умственной деятельности».
Справедливое это суждение помогает уточнить проблему «двух культур», одинаково явленных в русской ментальности и притом одинаково в рамках общего для русских «реализма». Для интеллигента идея и вещь, бытие и быт, разведены сознанием как несовместимые противоположности, и маркирована идея (поэтому быт заедает). Для народного сознания идея и вещь, бытие и быт сопряжены в общей установке как дело. «Манихейство» присуще как раз интеллигенту, который разрывает единство «слова и дела», тогда как народ (народ!) знает, что сладость жизни не в одном бытии, но и в быте также. А уж как совместить их в «общем деле» — это уже его забота.
Безответственность интеллигенции в этом вот расхождении, которое порождает печальную безответность народа.
Жизнь и смерть
«Чистая жизнь есть бытие», — утверждал Гегель, имея в виду жизнь как идею, абстрагированную от деятельности, действия и деяний конкретного человека [Гегель 1976: 149, 154]. Русский мыслитель с этим согласен: «Мы знаем, что истинное бытие в единстве смерти и жизни, уничтожения и созидания, наслаждения и страдания и что несчастие мира в разъединенности всего этого, вызванной медлительностью круговорота» [Карсавин 1919: 71].
Древнее языческое представление о бытии как целом заключено было в эквиполентность равнозначных рубежей: съ-знанье : съ-мерть — осознания себя — и прекращение, омертвление сознания. Живое и мертвое как естественное, природное продолжение одного другим, одного в другом. Живая и мертвая вода. Каждое из них, и со-знание, и со-мерть суть со-бытия, одинаково подвластные бытию. Таков взгляд на связь жизни и смерти с природно-вещной точки зрения. В этом представлении Добро и Зло одинаково абсолютны, во взаимном столкновении они становятся всеобщей мерой человеческого бытия как предикаты Жизни и Смерти. Вот почему многие, утратившие веру, «восхищались этим эпическим спокойствием, этим простым достоинством, этой метафизической свободой, с какими русский народ идет навстречу смерти» [Ильин 6, 2: 458].
Христианство принесло с собой различение: со-знание — это одно, а есть и другое: «духовное бытие, или жизнь» [Франк 1996: 68]. Слово жизнь церковно-книжного происхождения, заимствовано нами в XI в. из старославянских текстов; первоначально оно означало только ‘духовную жизнь’, употреблялось обычно в сочетании вечная жизнь. «Животная» жизнь и называлась — живот: «не пощадим живота своего» — в бою, но вечную жизнь — наследуем. Так точка зрения, идущая от Слова-Логоса, обогащала представление о бытии оттенками смысла, различая жизнь праведную и неправедную, достойную определенного ранга и в смерти. Вертикальное положение тела, говорил Николай Федоров, есть жизнь, горизонтальное — смерть. В точке их пересечения, как на кресте распятый, — человек. В этом представлении о Добре и Зле зло осуждается как неприемлемая ценность, а в крайних проявлениях богословской мысли ставился даже вопрос о «прекращении смерти», об «оживлении всех умерших» — Николай Федоров с его «теорией общего Дела». «Зло негативно, и оно имеет призрачную силу только потому, что крадет у Добра», — говорил Бердяев. Нужно бороться со Злом, а не со злыми — типично русский взгляд на вещи: нужно осилить идею Зла, а не тех, кто в нем подвизается, потому что и сам «человек есть идея, задание Бога» [Бердяев 1996: 136, 143].
«Ничем так не злоупотребляют, как словами живой — живые люди, живое дело, а также словами безжизненное, мертвое» [Федоров 1995: 29]. Очень важное для реалиста утверждение, поскольку злоупотребить словом — значит идею смешать с вещью.
Эсхатологическая направленность русского сознания, воспитанного веками христианского подвижничества, подвергается критике, и происходит это опять-таки путем подмены основного тезиса, например так: «Эсхатология и танатология как национальный опыт. Вплоть до национального суицида» [Тульчинский 1996: 260]. Вера в светлое будущее в устах недоброжелателей оборачивается танатологией — приверженностью идее смерти как основному исходу из сложностей жизни.
Жизнь и смерть суть виды общего рода — бытия. Они соотносятся как вертикаль и горизонталь, как время и пространство, как цельность и распыление, как Добро и Зло. И эта амбивалентность рода способна дать противоположные оценки.
«Какой это ужас, что человек (вечный филолог) нашел слово для этого — смерть! Разве это возможно как-нибудь назвать? Разве оно имеет имя? Имя — уже определение, уже „что-то знаем“. Но ведь мы же об этом ничего не знаем!» [Розанов 1990: 410].
И иначе:
«Жизнь не менее таинственна, чем смерть; только мы закрываем себе глаза на это и привыкаем не видеть. А смерть, если ее верно увидеть и понять, есть не что иное, как особый и величественный акт личной жизни» [Ильин 3: 341].
В русском представлении смерть связана с витальной энергией во времени и в движении. Смерть «видит и слышит», социально беспощадна и памятлива, смеется и плачет, как всякое существо женского рода (во многих других языках соответствующее слово — мужского рода) [Кондратьева 2000].
Слово смерть почти не изменялось во времени по форме (сократилось только за счет выпадения полугласного звука «ъ»), зато изменялся его смысл, изменялось «ощущение смерти».
В древности корень слова передавал значение ‘замереть’, ‘застыть’ как замирают на время во сне; заснуть, с тем чтобы проснуться. Съмьрть вообще — ‘хорошая смерть’, потому что и слово это сложное, с двумя корнями; здесь и прилагательное-определение съ (из sй), и глагол мьрт(в). Первое по смыслу то же, что и в слове съ-доровъ ‘крепок, хорош’. Смерть — хороший, крепкий сон, может быть «своя смерть», благая и желанная. Не всякий в давние времена умирал своей смертью.
Тем не менее смерть все же не сон, потому появилось множество слов, заменяющих слово в обиходном назывании: кончина, гибель, конец — и десятки глаголов, все более уклончиво табуированных и описательных, отгоняющих злую силу смерти.
С принятием христианства произошло обычное двоение понятий на связанные с плотской и духовной сторонами жизни. Для христианина смерть — просто «души исход», смерть касается только тела, не распространяясь на душу. Живот, конечно, может завершиться смертью, а жизнь — никогда. Жизнь и есть тот необходимый и существенный остаток, который делает индивида — человеком. Физически телесный индивид становится социальным лицом — человеком, осознав, что несет в себе бессмертную душу. Человек становится личностью, задумываясь о смысле жизни.
Это тоже чисто русская черта. «По американскому телевидению показывают сцену, где двое собеседников задают друг другу в разных вариациях вопросы о смысле жизни, и все смеются, догадываясь, что это русские» [Курашов 1999: 28]. Симптоматичное различие между двумя ментальностями. «Все смеются», и имя им легион. Они «потеряли главное», еще когда утверждал Иван
Ильин: «Несчастье современного человека велико: ему не хватает главного — смысла жизни» [Ильин 3: 214].
А «русский человек страдает от бессмыслицы жизни. Он остро чувствует, что, если он просто «живет как все» — ест, пьет, женится, трудится для пропитания семьи, даже веселится обычными земными радостями, он живет в туманном, бессмысленном водовороте, как щепка уносится течением времени и перед лицом неизбежного конца жизни не знает, для чего он жил на свете. Он всем существом своим ощущает, что нужно не «просто жить», а жить для чего-то». Для него «смысл жизни» — начало вечное, им проверяют свои поступки; это и цель, и средство — в том числе и «средство для сохранения жизни». «Смысл нашей жизни должен быть в нас, мы сами своею жизнью должны явить его» [Франк 1976: 26, 46, 125].
Найти смысл жизни — значит духовно победить смерть.
Метафизически точно русское представление о жизни сформулировал Семен Франк.
Духовная жизнь есть не просто особая сфера мира явлений (как субъективное) — это «некий особый мир, своеобразная реальность, которая в своей глубине связана с космическим и божественным бытием... Каждая личность находится в непосредственной связи с первопричинами и сущностями бытия», что хорошо показали Достоевский и Тютчев. «Русскому мировоззрению свойственно древнее представление об органической структуре духовного мира, имевшееся в раннем христианстве и платонизме. Согласно этому взгляду, каждая личность является звеном живого целого, а разделенность личностей между собою только кажущаяся», «ибо жизнь есть именно реальная связь между „я“ и „бытием“ в то время, как „мышление“ — лишь идеальная связь между ними». Русское мировоззрение «магическое» — в противоположность западному, «фаустовскому», — оно основывается на восприятии реального присутствия всеобщего духа в сообществе». Вот почему, заключает философ, неверно утверждение немецких ученых, порицающих «русский дух» за его бесформенность и пассивность: на самом деле такая «бесформенность» есть элемент синтеза, а не привычный западному интеллектуалу анализ, пассивность же — это сосредоточенность, а не леность [Франк 1996: 187, 158, 170, 197].
Судьба
В русском подсознании концепты «судьба» и «счастье» объединены общностью проявлений и расположением на линии жизни, которую каждому следует пройти своим путем: воспоминание о прошлом > переживание настоящего > предчувствие будущего.
Человеку нечто суждено с момента рождения — это судьба; он проживает жизнь в настоящем — это страдания свободы; и всё это с тем, чтобы обрести счастье. К счастью идут, к нему стремятся, его предвкушают как награду. Что суждено — того не миновать, но страсти в миру способны отчасти судьбу изменить. Судьба — не рок-фатум, изначально обрекающий на неизменность приговора. Судьба — проявление многих видовых оттенков; это и доля, и участь, и удача, и знаменитый русский авось. Действие судьбы распространяется и на настоящее время, потому что свойственное русской ментальности представление о прошлом и будущем как реально существующем в настоящем времени предполагается верой в судьбу... и глагольными формами времени, согласно которым иду — в настоящем времени, а та же форма, но в другом виде — приду — уже в будущем. «Представление о будущем как реально существующем в настоящем предполагается верой в судьбу. Обычно, однако, такое представление проявляется только косвенно» [Стеблин-Каменский 1976: 55].
Так что судьба охватывает все три отрезка времен, членимых сознанием. По мнению А. Ф. Лосева, напрасно «забросили это понятие „судьбы“ и заменили его понятием „причинности“, ведь судьба — совершенно реальная, абсолютно жизненная категория... жесткий лик самой жизни» и «распоряжается нами только судьба, не кто-нибудь иной» [Лосев 1991: 144]. Но также и счастье неопределенно во времени. Его не только ждешь как цели, его и переживаешь как прошлое. Счастье понимаешь «задним умом», когда уже поздно: «Счастье не действительность, а только воспоминание» [Ключевский IX: 433].
В рассмотренных концептах русской речемысли, или ментальности, заметно расположение по оси координат: вертикальной — Дух и Душа — и горизонтальной — Правда и Судьба. Душа человека стремится к духу, очень редко его достигая, так что и душевность еще не всегда — духовность. Поиск Правды — закона справедливости — влечет человека к Судьбе, которой не знает он, и никогда не узнает, пока не свершатся времена, так что и мудрость разума не сможет осилить воли характера. То, что лежит в основе закона-нормы и связано с о-сужд-ением, данным в суждении логики, противопоставлено Благодати правила, символа о-правда-ния в правде праведной жизни.
Благодать превыше закона, но ведь и закон — существует. Он действует в жизни реальнее Благодати, потому что Закон — это вещь, а Благодать — идея.
В силовом поле между Законом и Благодатью живет человек, и судит его Судьба; Закон — не закон, а напряжение личной совести. Уже греческие хронисты отмечали, что славяне не верят в судьбу-фатум. Отношение славян к судьбе проясняет и понимание свободы воли, вообще всякой свободы. Судьба — символ всего, что происходит с человеком помимо его воли, — и случайности, и предопределения, и предрасположенности в этических категориях добра и зла, суда и приговора, мести и возмездия, награды. Так говорят нам исследователи концепта «судьба» [Действия 1993].
Русский язык множит оттенки, воспринимая латинские термины, но фатум и есть рок, фортуна — это жребий, и незачем увеличивать число неприятностей удвоением слов в со-бытиях жизни.
Судьба и Счастье — одно и то же, но только Счастье — это удавшаяся Судьба.
Судьбу как «синтаксис жизни», как сплетение природных явлений понимали стоики; отсюда связь Судьбы с Истиной. Судьба и есть первопричина всего истинного, она эту истину и вскрывает. Так рассуждали мыслители, для которых истина — источник всего.
Для язычника в его прагматизме дела судьба есть необходимость, неизбежность, каким-то образом сплетенные со случайностью. В. Н. Топоров полагает, что у славян судьба и случай общего корня — *som- [Понятие судьбы: 38]. В разное время и для разных народов судьба предстает в различных одеяниях: рок, Бог, мировая Воля, необходимость, закон, причинность, предопределение — и как только не называли то, что искони зовется Судьбой: суждено. Каждый раз, называя новым словом, в самомнении полагали, что тем самым уже всё объяснили.
И самое мудрое — спорить с Судьбой. Русский человек не старается переобозначивать то, что от века имеет личное имя. Русские философы устранили мистическое понимание Судьбы как символа, который можно изменить и словом (ворожбой), и делом (колдовством), который можно увидеть в знамении или прозреть в предвидении. Судьба есть «Высшее Первоединство» для Алексея Лосева, а согласно Сергею Булгакову, Судьба есть единство встречи, вины, заслуги и воздаяния.
Хронологическая последовательность в восприятиях Судьбы славянами хорошо представлена многими фактами.
Вера в случайность жребия как в глас Судьбы (Судьба безлика, фатальна, человек перед нею беспомощен); затем — вера в добрые и злые силы, на которые можно воздействовать магией; еще позже — вера в великих матерей, подательниц жизни и благ (их можно утихомирить жертвами); еще позже — вера в Судьбу как в силу Бога (в определенном ритуале можно говорить с Богом); потом — вера в предопределение, данное Богом, и человек — сам творец своей судьбы, хотя и суженной Богом. Проблема Предопределения — католическая и особенно протестантская проблема, говорит Николай Бердяев, отказывая ей в существовании на Руси. Все представленные понятия о Судьбе — в прошлом, сегодня остается вера в судьбу как вера в личного Бога.
Итак, в различных системах измерений судьба — это причинность, время или воля Божья, и каждый оценивает ее по внутреннему смыслу древнего славянского слова, для него приемлемого слова: причина, время, Бог.
В частотном словаре употребления русских слов нужные нам имена Судьбы от самого частого судьба до самого редкого рок располагаются так:
судьба — доля — участь — удел — жребий — рок
Русские пословицы, в которых рок и судьба персонифицированы, показывают Судьбу судьей, а Рок — палачом («Рок головы ищет»). Все прочие слова изображают само действие — кару, казнь, свершение дел и событий согласно предначертанному внешней силой плану. По происхождению все они восходят к глагольным корням (выражают действие), имели пространственное значение, обозначали долю, удел, часть по жребию, выпавшему лицу, — просто пай, определенный участок земли или других владений. Метонимический тип мышления, присущий Средневековью, определял движение оттенков символа в мыслительном пространстве: в прошлом или за прошлое причитаются человеку жребий, доля, у-часть, как и совместное с-часть-е тоже. Выражение части от целого — синекдоха; здесь идея «настоящего» времени как выражение личного пребывания в целом — лица в общине. Моральное в со-знании — всего лишь отсвет социального в жизни.
Судьба и рок
Христианство привносит сюда уже готовую идею судьбы и рока, Провидения и предопределения — не материальное распределение «вещей» предметного мира, а нечто сказанное, кем-то неведомым изреченное в прошлом, что предстанет как идея расплаты в будущем.
Вот почему судьбу не обманешь, человек не властен над идеей; но доля или часть — мера вещная, ее изменить можно. Язычество оптимистично.
Слово судьба почти до Нового времени обозначало судебное заседание, судилище и приговор. Именно в этом смысле и понимали его наши предки. «Русская судьба есть приговор, и этот приговор отменить невозможно» — таково суждение всех ученых, разбиравших смысл термина. Но уже в домонгольской Руси в переводных христианских текстах то же слово использовалось в значениях, передающих идею Божьего суда («но есть, есть Божий суд...»), а следовательно, и приговора, а значит и Провидения. Это причина, почему при необходимости найти общее (родовое) по смыслу слово избрали слово судьба. Насыщенное многослойным смыслом, оно и стало словом-символом, сегодня выступая в качестве гиперонима родового смысла. В отличие от других имен «судьбы», имя судьба освящено идеей внематериальной ценности.
Судьба не знает ни начал, ни концов, она обретается в заколдованном круге причин и целей, которые не предполагают ни условий, ни следствий. Поэтому в личных судьбах прошлое и слито с будущим, отмечен лишь момент — это миг настоящего, т. е., по смыслу причастия, одновременно и наставшего, и тут же настающего. Только взгляд извне и только спустя время, потом, объективно помогает выделить эти моменты преобладающей силы прошлого (когда из-реч-енное роком сгустится) или будущего события (когда у-реч-енное сбудется). То, что некогда было сказано, в современной культуре толкуется как предписанное. Смиренно и кротко нужно встретить Судьбу, как она предзадана, ведь «от судеб защиты нет».
Всё, что бы мы ни сказали о судьбе, невозможно проверить, кроме того, конечно, что она, по слову Владимира Даля, неминучая, а по мнению современной молодежи, при отсутствии жизненного опыта и незнании национальных символов (в школе им не учат) в своих ассоциациях исходящей из расхожих книжных формул, судьба — индейка. Абсолютно неожиданный предикат, который в этом шутливом суждении обозначает, тем не менее, разрыв ментальности.
Понятно, почему. Идея «судьбы» не является собственно русской или только русской. Она воспринята из книжной культуры и, по-видимому, народному сознанию не присуща в столь обобщенном родовом смысле. Понятие судьбы по-немецки педантично и системно представлено у немецких философов. Шеллинг и Гегель показали взаимные связи между судьбой и роком. В мистическом немецком восприятии неумолимость судьбы — слепая сила (вещный порядок мира), а рок есть сила «незримая», явленная как идея, и человек поступает согласно этой идее. Так выделяются три периода истории: Судьба как суждение о прошлом — Природа в закономерностях настоящего — Провидение в будущем («когда приидет Бог...»). Уже сам характер человека есть его судьба. Человек действует согласно идее, но идею направляет судьба. Примирение с Судьбой невозможно; это сила, враждебная жизни, и страх перед нею — это боязнь самого себя. Тема Судьбы связана с проблемами справедливости, возмездия и — неизбывной тоски, о которой так много сказано немецкими поэтами.
Типологически общими для всех представлений о судьбе являются характеристики судьбы: это некое высшее начало, но внешнее человеку, влияющее на него, но не контролируемое им, — основной концепт вселенских связей, которым подвержено всё вокруг [Голованивская 1997: 45].
О любом отвлеченном имени, о русском символе, можно сказать одно и то же: религиозно мыслящий человек знает символ, обыденное сознание доверяет образу, а «научный» рассудок никакого понятия о том не имеет, поскольку, по его мнению, объекта под названием «судьба» не существует. Точно то же ответил бы нам робот, если бы мог судить о высших человеческих ценностях, не измеряемых мерой вещей. Наоборот, «словом судьба человек оформил идею, воплотившую его реальную зависимость от внешних обстоятельств, и наделил ее сверхъестественной силой» [Чернейко 1998: 303].
Для язычника в его прагматике дела судьба — необходимость, неизбежность, накрепко сплетенные со случайностью. Ведь судьба и случай — слова общего корня. Только судьба — это линия жизни, а случай — узел на этом пути. В основе русского образа лежит представление о пути, о встрече, о схватке — «преднамеренная активность», в отличие, например, от французов (идея судьбы соотносится с игрой в кости). Тогда непонятен вывод: русское представление о судьбе выдает фатализм, пассивность, безответственность, бескорыстность, угнетенность, а французское понятие судьбы выдает прагматизм, ответственность, активность и рационализм [Голованивская 1997: 121] — как исходное противопоставление двух культур (теперь они сближаются). Француз активно преобразует то, что ему мешает, а русский уживается с помехой, игнорируя ее присутствие. Неточность определения связана с устранением смежных концептов, гораздо более важных для русской ментальности, чем заимствованная идея христианской судьбы. Удача как удаль, которой всё удается, наоборот, противопоставлена французским словам в том же смысле. И то, что случай, как встреча в пути, уже у русского активность, ответственность, одушевленность и прочее, а у француза — пассивность и т. д. [Там же: 66—81].
Христианская идея Судьбы не согласуется с народным образом доли- участи, и только в их совместном соотношении исследователь может говорить о том, что и как отражает русскую ментальность. Например, у Василия Розанова [2000: 143]: «Вот что, русский человек: вращайся около своей оси. Той, на которую ты насажен рождением. На которую насажен Провидением. Где у тебя Судьба» — тоже одностороннее толкование Судьбы-Провидения, и неполнота в отражении русской ментальности очевидна.
В образных первосмыслах слов во многих языках судьба представлена как сплетение нитей жизни в своеобразную ткань текста, т. е. как связь и одновременно как речь, а это тоже сплетение, но уже не вещей, а слов. Идея абсолютных и повсеместных связей («всё во всём») древняя, ей отдали дань почти все народы, и как идея, в роде, представление о судьбе у всех них почти совпадало. Это — совокупность реальных фактов, дел и поступков вещного мира, которая не прошла через обобщающую их и тем самым соединяющую воедино идею, не осветлена мыслью, не стала предметом рефлексии. Для мысли-сознания она оказалась избыточной — а потому ей и недоступна.
Русские мыслители устранили мистическое понимание судьбы как символа причинности, времени или Бога, того символа, который можно увидеть в знамении или прозреть в предвидении. В русских метафорах судьба велит человеку, ведет его, смеется над ним, но при этом свою судьбу всегда можно узнать; человек находится в постоянном с ней диалоге, и тогда Судьба становится средством объективировать личную совесть. Судьба как и русские дороги — терниста, извилиста, а путь свой мы все выбираем сами; в конечном счете судьба человека зависит от него самого. Судьба в ее целом — это жизненный путь со своею целью, движение жизни, а не высший закон, которому нужно следовать.
И в научном определении судьба также предстает как иррациональная, неразумная, непостижимая сила случайности, которая определяет неизбежность события или поступка. В рассудочном понимании Судьба всего лишь событие отрицательной ценности, поскольку неизвестна, непонятна и нежелательна. Судьба в определениях философов чисто книжная, заемная, своего рода перевод латинского fatum; ее определения показательны: враждебная, слепая, роковая, неведомая, неотвратимая, неумолимая, превратная судьба как сила возмездия. «Судьба — понятие рабовладельческое», — заметил Алексей Лосев, это идея неосмысляемого внешнего давления. Для Николая Бердяева «личность есть единство судьбы. Это основное ее определение»; «История есть судьба человека. Трагическая судьба»; «Судьба каждого человека погружена в вечность», а в кратковременной жизни одни случайности, так что и «смерть есть судьба человека». В кругу подобных определений вращается мысль русского философа, восходящего до предельных границ развития идеи судьбы.
В пословицах судьба и счастье не разведены, их не различает и Даль в своем сборнике русских пословиц. Судьба и счастье понимаются как противоположности общего рода и состояния, в русском сознании причина и цель совпадают: «прошлого поминаем — грядущего чаем». «Судьба придет — по рукам свяжет», «от судьбы не уйдешь», «судьба не авось-ка». Слово судьба в народной речи услышишь редко, обычны конкретные ее замены: беда, участь, часть, рок, доля, напасть — и всё в отрицательном восприятии того, что «рок судил».
«Русский Бог»
Фольклористы заметили выражаемое в русских народных текстах соотношение двух сочетаний: «На бога надейся...» — «На авось не надейся...», «Бог дал — Авоська взял»; его использовал и поэт Петр Вяземский: вариант «но русский бог велик» он заменил на «но наш авось велик». В пословице «Русский бог — авось, небось да как-нибудь» явное пересечение смысла с расхожим выражением «Дай-то бог!», и «это не только факт языка, но и этнографический, этнопсихологический и поэтический факт» [Гин 1996: 186]. Факт, достойный внимания из-за особого интереса исследователей русской ментальности к русскому Авось.
Это пример того, как по-разному можно понимать одно и то же выражение.
Я. М. Гин полагал, что внутренний смысл (исходный словесный образ) сложного образования языческого авось соответствует христианскому «Дай Бог!» (в наше время оно же преобразовалось в «Даешь!»). По мнению Гина, авось выражает излишнюю беспечность и пониженную активность русского человека. У других толкователей «расчет на авось — широта души» [Сикевич 1996: 88]; Анна Вежбицка видит в формуле доказательство антирациональности русского характера и его веру в судьбу (пресловутый фатализм). М. К. Голованивская справедливо считает мнение Вежбицкой «утрированным», и особенно потому, что слово авось устаревает, вместо него развивается именно слово удача; справедливо полагая, что на авось выражало действие человека активного, а на удачу — пассивного, Голованивская [1997: 71] толкует авось как выражение подбадривания в минуту отчаянной активности. По взвешенному мнению историка языка определяется «условно-желательный характер этой модальной частицы с ирреальным значением ‘может быть’, в которой местоименная указательность переосмыслил ась в упование на счастливый случай» [Савельева 2000: 150]. Еще говорят о «необоснованной надежде» или о «непредсказуемой благоприятности» с возможно благоприятным развитием событий, хотя ответственности за возможные последствия никто не несет. Субъект как бы отрешает себя от предстоящего действия и от вызвавшей его причины (мотивации на действие) — сознанием отмечен только возможный результат действия. Человек понимает, что от него ничего не зависит, выбора нет, но коли уж есть шанс — дерзай! Украинское авось значит ‘глянь-ка!’ — в поле зрения попадает проблема, человек застигнут врасплох, но не теряется. С веселым недоумением он восклицает: «Бог не продаст — а свинья не съест!» Опасность видна, но попробовать стоит: «Будем бороться!» Наступает миг отчаянного решения на нечаянное событие: ах, пропади всё пропадом — так хоть тут повезет! Надежда на случай, но здесь и речи нет о пассивности русского человека, его фатализме, страхе перед враждебностью внешнего мира, который заведомо сильнее. Это, можно сказать, чисто военная хитрость: сознательное перекладывание с себя ответственности на некоего, принципиально не выраженного личностно, субъекта. «Отсутствие в русском сознании идеи ответственности, связанной с неотвратимостью наказания, ярко проявляется в общественной жизни, когда есть провинность, но нет виноватых» [Голованивская 1997: 73].
Виноваты все! Но ведь и природа Великороссии «часто смеется над самым осторожными расчетами великоросса: своенравие климата и почвы обманывает самые скромные его ожидания, и, привыкнув к этим обманам, расчетливый великоросс любит подчас, очертя голову, выбрать самое что ни на есть безнадежное и нерасчетливое решение, противопоставляя капризу природы каприз собственной отваги. Эта наклонность дразнить счастье, играть в удачу и есть великорусский авось» [Ключевский I: 315].
Любителям искажать истину, не понимая сути, можно посоветовать несколько раз перечесть высказывание Ключевского, особенно останавливаясь на словах смеется, расчеты, расчетливый, обман, каприз, отвага, счастье, удача. Как говорят сегодня, ключевые слова к раскрытию символа авось.
Не только русский способен испытать это чувство. Французские мушкетеры в изображении Дюма всё делают на авось. Русское авось нечто вроде испанского duende ‘ах, пусть бы!’ — эта необъяснимая сила «гибельного восторга», которая бросает человека в самые безнадежные предприятия, когда шансов на личное спасение уже нет. Латинское foro ut (ср. «дать фору») того же рода: быть может... а вдруг... почему бы нет?.. Знаменитое словечко командора Резанова авось! англичане перевели как inspiration, т. е. наитие; по вдохновению — и шпаги наголо! Некогда рассуждать, а нужно врага на-йти и на него на-ити. Не фатализм, а готовность мужественно идти на риск и вместе с тем косвенное осуждение тех, кто надеется только на удачу, не доверяя собственной судьбе.
Между прочим, сегодня словцо исчезает из словаря, может быть оттого еще, что бесшабашная удаль в поступках уже не в чести.
Авось Владимир Даль разъясняет как а-во-се — ‘а вот, сейчас’, добавляя, что обычно частица произносится в расширении с ко, то, же, ну, вот, либо, т. е. как бы «освежает» внутренний образ слова, по происхождению связанного с указанием на неопределенное, но очень близкое «это». Макс Фасмер согласен с толкованием Даля, но все же оно сомнительно. Сомнительно потому, что в древнерусском могли быть варианты разного рода: а-во-се и а-въ-сь — последняя форма дала авось). Общий смысл выражения, восстанавливаемый Далем, «может быть, станется, сбудется» — это современное осознание слова, как мы его понимаем теперь — символическое.
Авось нельзя рассматривать отдельно от развития также сохранившегося а вот; оба выражения идентичны по образованию, и второе в наши дни заменило авось как устаревшее указание на возникающую трудность, которую уже нет времени осмыслять и обсуждать. У этих образований чистая функция замещения непонятно чего и как, но определенно здесь и сейчас (из сь-дѣ-сь и сь-и-часъ). Заменившее это сочетание однозначное с ним тут и теперь (из ту-тъ и то-пьрв-о) тоже переносит идею «необоснованной надежды» с момента сей на момент тот, как и авось — на а вот (а вот поглядим!). Объяснение просто: местоимение сь, сей исчезло в литературном языке как избыточное при наличие э-тот (из удвоенного указательного тъ-ть). «Культурное устаревание» авось определяется архаизацией самой формы. А всё архаическое в русском языке — символизируется, становится формой выражения традиционных отношений, сложившихся в прошлом. Но на основании этих архаических и преодоленных бытом и сознанием форм приписывать современному русскому человеку антирациональность характера и фатализм — значит смешивать термин и идею; идея теперь выражается иначе, например в исчезающее малой надежде на удачу.
А прежде, в былинные времена, авось само по себе не ходило — и это тоже надобно знать, толкуя о формуле. Человек видит опасность (Вот она! глянь...), и потому возникает подбадривающее «не бойсь!», с помощью которого становится возможным преодолеть минутное замешательство. Решение перейти границу прежде недоступного поля вражды и бед следует за глагольной формой не бойсь (с другим ударением не бойсь!), которая в быстрой речи уже к XVII в. сократилось в небось. У знаменитого борца с неправдами протопопа Аввакума авось да небось частенько в речах и в письмах.
Вот в чем раскрытие полной старинной формулы (для тех, кто хотел бы вернуть ее в жизнь): авось — это точное знание: легко не будет; небось — предположение: мало не покажется; но следом как возобновление исходного смысла речения в новые времена возникает вполне определенное да как-нибудь! — обойдется. Может быть, Вежбицка, говоря об авось, имеет в виду как-нибудь? Оценивая часть по целому, совершает обычную для номиналиста подмену понятий, хотя имеет в виду символ? Ей помогает разбитной разговорный язык, в котором множатся слова-подмены типа на удачу! — ничего!.. на халяву и как там еще?
Но в оценке как слова, так и черты ментальности ценно целое. Ведь только развив трехчленную формулу из прежнего неопределенного авосе, мы и получили известный теперь смысл: легко не будет (зри!) — мало не покажется (виждь!) — да обойдется (смотри же!).
Таковы ответы русского безрассудства на мещански осторожные призывы, точно так же сменявшие друг друга: Не лезь! не суйся! не возникай!
Счастье
Проблема человеческого счастья — в области религиозной, полагал Савицкий (1997: 122], и это верно: и свобода — символ социальной жизни.
Французский аристократ де Кюстин, во времена Николая I путешествовавший по России, обратил внимание, что «слова мир, счастье здесь столь же неопределенны, как и слово рай» — национальные символы чужак не мог прояснить для себя в понятии. Вот парня из рассказа Чехова интересовало как раз не значение слова, его интересовало «не самое счастье, которое было ему не нужно и непонятно, а фантастичность и сказочность человеческого счастья».
Во многом счастье противоположно судьбе. Счастье не судит и не суждено. Счастье выпадает, его по-луч-ают по с-луч-аю. Счастье, определял Даль в своем словаре, есть случайность, желанная неожиданность: талан, удача, успех.
Счастье непременно со-часть-е, совместная доля многих, покой и довольство. Поскольку же с-часть-е есть с-луч-ай, то везет обычно глупому: «Глупому счастье, умному Бог даст». Шальное счастье как удача удалого в древнерусском языке именовалось вазнь.
Счастье сродни чуду, но это и есть чудо — нарушение порядка, естественного хода событий. Тогда-то у русского счастливого человека возникает чувство вины за дурацкое счастье свое, которое, может быть, нарушает какой-то в мире порядок, разрушает чьи-то лад и меру. Глубокий внутренний трагизм в соединении счастья с чувством вины, сомнение в нравственной правомерности личного счастья в переживании личности — вот отношение русского человека к неожиданно свалившемуся на него счастью. Счастье — покой равновесия, но равновесие возможно только в отношении с другими. Счастье — со-часть-е. Благополучие может быть и личным, и материальным, но счастье есть духовный подъем в у-част-ии многих, всех, при-част-ных делу; это соединение в совместном у-част-ии прошлого опыта с памятью о нем же. «Счастие, как его обыкновенно понимают люди, не может быть прочным уже потому, что фундаментом ему служит или случай, или произвол, а не закон, не нравственное начало. Между тем, таково счастие, о котором мечтают, которого желают себе люди» [Лесков 1988: 81].
Именно потому, что счастье есть переживание совместной участности, радость и веселье неразрывны тоже, личная радость осветляет общее веселье, субъективное переживание как бы входит в объективна данное веселье окружающих, вещно представленное праздничным разгулом. Радость, по мнению многих, есть некий лад магического поведения, имеющего целью вызвать желаемое в мгновенной его цельности, оживить замершее, вернуть ему целостность утраченного лика. Совершить, говоря иначе, доброе дело.
В Европе идею счастья открыли только в XI в. Счастье понимали как участие в деле, которое спорится, удачно совершается (спорина — успех). «Для русского человека в традиционном обществе счастье — в нестяжании власти и богатства, счастье — в духовной свободе» [Курашов 1999: 234]. Счастье, как судьба и любовь, — это не эмоции, а выраженные словом символы-гиперонимы, за которым скрываются самые разные их вещные проявления. «Идею счастья мы прививаем к своему сознанию воспитанием, оправдываем общим мнением людей» [Ключевский 1913: 132]. Это не только переживание в чувстве, но и осмысление в разуме, а следовательно, и сигнал к действию воли.
В специальном исследовании концепта «счастье» счастье определяется как «семантический интеграл личности» [Джидарьян 2001: 197], как итог и следствие реализации всех других жизненных ценностей человека; счастье — это род в отношении к своим видам, таким как любовь, свобода, справедливость, это «высшее благо», т. е. благо и добро одновременно — гармония идеального и реального. Счастье не в богатстве, не в обладании, не в успехе, не в наслаждении (апофатический ряд можно продолжить), оно приходит через страдание в со-страдании: «Хочешь быть счастливым? Научись сперва страдать» — говорил Иван Тургенев. Православная «скорбящая радость» обогащает концептуальное содержание «счастья» («Где горе — там и радость»). Вот причина, почему русскому человеку быть до конца счастливым — «совести не хватает» [Там же: 76, 36], и это верно, если речь о совестливом. «Парадокс состоит в том, что счастье исчезает в той мере, в какой о нем заботятся» [Джидарьян 2001: 95]. Вербальное (словесно-логическое) мышление скорее «нацеливает на счастье», чем мышление рассудочно-логическое; «чувство жизни» и «жажда бытия» в коммуникативной экстравертности действий приближают счастье [Там же: 73, 144]. Счастье — точка во времени и в пространстве, она неповторимо единственна (слово употребляется только в форме единственного числа), тогда как несчастий множество, их нескончаемая цепь преследует человека, лишенного воли к счастью.
Уже несколько раз в ходе изложения мы заметили, что концепты судьбы и счастья идеально-книжные, а в народном обиходе им соответствуют конкретно-предметные представления о личной доле, об успехе и случае. Проверим это наблюдение на двух источниках, словесно представляющих интуиции разного типа, — на народных пословицах и афоризмах философов.
Русские философы охотно и много говорят о счастье, но редко — о судьбе, потому что, замечал Ключевский, и вообще «люди живут счастьем или надеждой на счастье». Счастье русские мыслители понимают обязательно как свое, собственное, личное, земное, человеческое, большое, высшее, полное счастье — «субъективное благо», «корень и источник добродетели» (Николай Лосский). Это мирское счастье, которое сродни духовному блаженству, но его не отменяет. Счастье — ширь, несчастье — глубина; их соединяет блаженство, возносящее человека ввысь. Чисто пространственное восприятие этических норм: счастье не в тоске пресыщения, не соблазн, исключающий даже благоразумие, не наслаждение — счастье в деятельности, даже в страдании, если это творческие страда и страсть. Ну «что такое счастье? Это возможность напрячь свой ум и сердце до последней степени, когда они готовы разорваться» (Ключевский). А еще счастье — иметь Родину и жить духовно свободным. Секрет русского счастья прост: «Счастье нельзя поймать. Счастье приходит само» (Иван Ильин), причем «счастье одного не может увеличиваться, если в то же время не уменьшается счастье другого» (Александр Потебня); оттого-то и «совести не хватает» на личное счастье. Да в конце-то концов, вопрошал Петр Чаадаев, «счастие частное не заключено ли в счастии общем?».
Так и у философов концепт «счастье» направляет мысль в верную сторону.
В пословицах слово счастье используется часто, но это — та же судьба, только положительно окрашенная, чаемая, желанная судьба, хотя и она амбивалентна: «Счастье что палка — о двух концах». О счастье известно, что оно «дороже богатырства», но его не ищут — само придет случайно как божий дар. Счастье определяется судьбой, но вызывает зависть окружающих, его лучше не выставлять напоказ («счастливым быть — всем досадить»). Опять — «совести не хватает».
Напасть табуируется образными выражениями, удача призывается настойчивым повторением родового символа — счастье. Поведение тоже строится таким образом, чтобы показать себя незаинтересованным в обретении счастья глупцом, живущим на авось, иронично скрывающим свое интимное желание быть счастливым. «Счастье что трястье — на кого нападет». То, что сегодня аналитически в разуме мы разграничиваем как причину и цель, в сознании народа некогда представало единым целым — всего лишь поворотами на жизненном пути. «Счастье не лошадь, прямо не везет».
И, быть может, это так и есть.
XIX в. начинался в русской философии «Разговором о счастии» Николая Карамзина. Любопытно, что он сказал в момент зарождения русского философствования, когда народные интуиции еще не очень далеко отходили от «образованных».
А сказал он так: «Быть счастливым есть... быть добрым».
Глава седьмая. Λόγος и Ratio
Мышление есть слушание, которое рассматривает.
Мартин ХайдеггерНарод и нация
Вернемся к символическому обозначению связи между вещью, ее идеей и словом, которое означает идею и указывает на вещь — к семантическому треугольнику. И тут также обретается такое же тройственное соотношение, как и в любых других проекциях помысленного и действительного мира.
Со стороны «вещи» — индивида-человека — одни и те же особенности характера, эмоции или чувства могут быть у представителя любого народа, но проявляются они в разное время, в различных обстоятельствах и в различающихся степенях качества. Например, все могут быть самоуверенными, но всё зависит от включенности данного состояния в общую систему народного мировосприятия. «Француз бывает самоуверен потому, что он почитает себя лично, как умом, так и телом, непреодолимо обворожительным как для мужчин, так и для женщин. Англичанин самоуверен на том основании, что он есть гражданин благоустроеннейшего в мире государства, и потому, как англичанин, знает всегда, что ему делать нужно, и знает, что все, что он делает как англичанин, несомненно хорошо. Итальянец самоуверен потому, что он взволнован и забывает легко и себя и других. Русский самоуверен именно потому, что он ничего не знает и знать не хочет, потому что не верит, чтобы можно было вполне знать что-нибудь. Немец самоуверен хуже всех и тверже всех, и противнее всех, потому что он воображает, что знает истину, науку, которую он сам выдумал, но которая для него есть абсолютная истина» (Л. Толстой. Война и мир, т. III, кн. 1, гл. 10). Оставим в стороне оценку немца (писатель готовится сказать о бездарном немецком деятеле, а таких в любой нации предостаточно), но вот что важно. Выделенные нами слова показывают, что самоуверенность проявляется у француза — в слове, у англичанина — в деле (в вещи), у русского и немца — в идее, но по-разному: русский к идее идет, немец из нее исходит.
У всех всё есть, но по-разному преломляется в системе, выражается различными оттенками. Кроме того, внешние формы проявления национальной ментальности развиваются постепенно, они историчны.
Связанное с самоуверенностью состояние самолюбия (самооценка самоуважения) в английском языке фиксируется с 1640 г. как изменение в восприятии анормальности в поведении личности; в русском языке самолюбство связано с распространением просветительской идеологии, «в системе которой положительное отношение человека к себе перестало оцениваться однозначно отрицательно» [Круглов 1998: 88]. Это проблема гордости, которая перестала быть гордыней.
Со стороны идеи возможны такие же несовпадения, но уже не у отдельных людей, а у разных народов. Это не чувства и не эмоции, а более крупные группы проявления характера. Например, первая идея бывает французской, заключительное изобретение становится немецким (англичанин «выразумел» блоху — русский мастер ее подковал); у англичанина «инстинкт добычи» — он торговец, а немец — солдат (русский — крестьянин: т. е. по основному смыслу слова — настоящий христианин); немец хочет уединения и отличия от других, англичанин тоже ищет уединения, не отличаясь от других, а француз хочет отличаться от других, но не в уединении; француз с «изначальным страхом» борется не волей (как немец), не чувством (как русский), а в мысли — рассудком [Шубарт 2000: 210, 241, 245, 249].
Со стороны слова положение создается особенно сложное. Одно и то же слово может значить разное, но и одно и то же может быть обозначено различными словами: то, что для европейца свобода — для русского свобода и воля, и тогда европеец вынужден домысливать русское понимание (примерно так: «неуловимый идеал свободы часто определялся в России как воля плюс пространство» [Биллингтон 2001: 13]). Такое же соотношение и в других случаях: правда и истина — истина, сознание и совесть — сознание и т. д. Двоение сущего как суть и существенность для русского реалиста в слове — обычная вещь, но это — не удвоение сущностей, как мог бы подумать западный номиналист, а разведение двух ипостасей сущего. Это — восхождение в степенях идеальности.
Кажется странной неопределенная и немаркированная характеристика именно русской ментальности. Однако это — ошибка описания, и не больше того. Всюду основанием сравнения в наших сопоставлениях выступает именно русская ментальность, и естественно, что в сравнении с другими ментальностями в русском представлено многое из того, что является общим для любых народов, и это подтверждает общечеловеческий характер основных черт русской ментальности. Тем не менее в другой перспективе сравнения дело может измениться, и на фоне английской, немецкой или французской ментальности русская сторона выделится признаками различения. Такие признаки различения могут определиться «от идеи» (она уже задана) или «от вещи» (она уже дана), но не «от слова», которое можно заменить другим словом и тем самым тут же устранить возникшее несовпадение в выражении национальном ментальности: гордость вместо гордыни, совесть вместо сознательности, правда вместо истины и т. д.
Именно это и имеют в виду западные авторы, говоря о русской ментальности: она часто скрывается за словом — русским полновесным словом — и потому для западного человека кажется загадочно-неуловимой. Может быть, потому, что западный интеллектуал не владеет диалектикой или просто не умеет за словом видеть суть дела.
Вот и здесь: народ и нация — каково различие между ними? Целые науки занимались вопросом, многие дискуссии засорили предметное поле исследования. А разгадка проста: одно есть вещь, а другое — идея. «Народы, — писал Чаадаев, — в такой же мере существа нравственные, как и отдельные личности», тогда как «нация — это не просто сумма индивидов, а некоторое индивидуальное и вместе с тем надындивидуальное целое», составленное из многих людей, теперь живущих и уже умерших, и еще не рожденных, из русских и обрусевших, из многих, которых единит лишь идея «русскости» [Солоневич 1997: 40 и след.].
Национальный вопрос
«Национальный вопрос в России есть вопрос об идеальной цели. Это вопрос не о существовании, а о достойном существовании» [Соловьев V: I]. Владимир Соловьев призывал русских подать пример народам и «произвести вполне сознательный и свободный акт национального самоотречения» и на основе общности веры — христианства — достичь «духовного освобождения России» [Там же: III].
Что в скором времени и случилось (хотя и под другими знаменами), а что из этого вышло — известно. Привело к распаду великой государственности («империи»), утрате национального своеобразия и к ослаблению всякой веры.
Правда, Соловьев уточнял: упраздняется не национальность, а национализм, не вещь, а идея, но в таком случае не русским «показывать пример»: у великого народа, гармонично сочетавшего в одном социальном образовании национальность, веру и собственную государственность, национализма никогда не было (скорее наоборот, приглушение этого чувства перед разноликим племенем народов, входивших в «империю»). «Национализм — последнее прибежище негодяя», ни к чему негодного субъекта, который добивается личных или групповых целей покушением на национальность (это высказывание поэта современные борзописцы извратили). Даже Солженицын признаёт, что Россия уже дважды допустила национальное самоотречение: в призвании варягов и в реформах Петра I. А XX в., которого Соловьев не увидел?
Русские философы высказывались о «двух национализмах» — патриотически-защитительном и агрессивно-захватническом. Отрицая второй, не следует отрекаться от первого, столь же идеального. «Не от национальности отрекались наши предки, — писал Константин Аксаков, а от похоти властвования и командования друг над другом». «Национальная исключительность не только чужда, но и ненавистна русскому народу» [Шелгунов 1895: 902]. «У русских нет национального эгоизма» — это Достоевский. Национальность есть духовная сила, необходимая для социального творчества, «нет силы творчества и действительности народного духа без национального миросозерцания, без национального самосознания» [Астафьев 2000: 35]. Разнообразие народных представлений, данных человечеству, определяет направление действия. «Жизнь одного народа проникнута убеждением, что одни дела спасают, другого — что спасает одна вера, третьего — что вера без дел мертва есть, а четвертого — что религиозная идея есть преимущественно могущественнейшее орудие политической жизни — сила...» [Там же: 34].
Народ в государственности («вещь»), народ в национальности («слово»), народ в человечности («идея») — категории разные.
Народ в государственности
Николай Бердяев во всей полноте выразил русское понимание национального в истории. «Образование исторической национальности есть борьба с изначальной хаотической тьмой, есть выделение лика, образа из безликой и безобразной природы. Это есть благостный процесс возникновения дифференциаций и неравенств в исторической действительности, где всё конкретно», и тем самым «история внедрена в природу» [Бердяев 1991: 78]. Национальность есть лик, формирующий лицо общества и личину государства. «Национальное есть моя собственная глубина и глубина всякого, более глубокий слой, чем социальные наши оболочки, в котором и обнаруживается русское, французское, английское, немецкое, связывающее настоящее с далеким прошлым, объединяющее дворянина и крестьянина, промышленника и рабочего» [Бердяев 1991: 84]. Это — мистический организм, мистическая личность, ноумен, а не феномен исторического процесса — «сумма всех поколений», на-рожд-енных природой [Бердяев 1991: 79]
«На великом историческом сквозняке между Европой и Азией в результате более чем тысячелетней непрерывной и всегда очень кровавой борьбы на великой равнине, доступной всякому вторжению, утвердился именно русский народ... нам очень недаром далось просто-напросто сохранение собственного национального существования» [Солоневич 1997: 43]. «Совокупность основных черт русской нации включает ее сравнительно длительное существование, огромную жизнеспособность, замечательное упорство, выдающуюся готовность ее представителей идти на жертвы во имя выживания и самосохранения нации, а также необычайное территориальное, демографическое, политическое, социальное и культурное развитие в течение ее исторической жизни» [Сорокин 1990: 472]. В свое время старообрядцы не пошли на изменение внешних форм христианского ритуала, полагая, что «изменная вера» лишает предков посмертного спасения (они ведь — люди «старой веры»). Не изменить памяти предков — вот что вело твердокаменных русских на костры. Сегодня тот же выбор: изменить своей нации — предков предать.
«Французский и немецкий народы — это прежде всего — люди, русский дореволюционный, главным образом крестьянский, народ — это еще и земля. Мне думается, что особая одухотворенность, хочется сказать — человечность русской природы есть лишь обратная сторона природности русского народа, его глубокой связанности с землей. Очевидность этой мысли бросается в глаза уже чисто внешне: в Европе, в особенности во всех передовых странах, лицо земли в гораздо большей степени определено цивилизованными усилиями человеческих ума и воли, чем первозданными стихиями природы. Русская же дореволюционная деревня была еще всецело природной» [Степун 1990: 25—26]. Эта облагороженность землей сохраняется как доминанта национального характера и теперь, а почему, на это отвечает современный философ, показывая, «сколь по-разному понимают „землю“ люди Запада и люди России». Для француза земля — что-то твердое и сопротивляющееся, требующее от человека проявлений воли, — «это мечты о власти и свободе», иерархия причинно-следственных связей как основа рационального; для русского же земля — не сухость, а мягкость и всепринятие, щедрость и открытость. Конечное количество элементов земля делает бесконечным, она рождает, она — живая «сыра земля русских народных песен». Землю не покоряют, а охраняют. «Земля открывается слезам, беззащитности, податливости. Она взывает к иррациональному в человеке» [Горичева 1993: 23]. Земля — мать-кормилица, у нее просят прощения, ее спасают, спасая себя. Высшей степенью отречения от своего национального выступает беспочвенность, которая, верно утверждал Бердяев, тоже «может быть национально-русской чертой». Это парадокс, если беспочвенность отражена в слове, или антиномия — если в идее, или диалектика — если в деле.
Это — национальное в государственном. Что же касается общества, тут возможны разные толкования. Общество — из общины, или, как полагал Бердяев, от обществ, в известной мере тайных. Во всяком случае, высшее общество (всякая элита) определенно связана с масонством: «В масонстве произошла формация русской культурной души, оно давало аскетическую дисциплину духа, оно вырабатывало нравственный идеал личности. Православие было, конечно, более глубоким влиянием на души русских людей, но в масонстве образовывались культурные души петровской эпохи и противопоставлялись деспотизму власти и обскурантизму» [Бердяев 1990: 58]. По-видимому, отсюда возникало убеждение западных историков в том, что в России нет никаких социальных классов, а существуют более влиятельные касты, входящие в определенную иерархию социальных сил [Горер 1962].
Народ в национальности
Национальное проявляется в двояком — в форме национального чувства (прирожденное у всех представителей нации) и в форме национального сознания (как самосознание образованного слоя). Второе соотносится с инородными национальными особенностями и проявляется у интернациональной интеллигенции, а поэтому соответствующий слой гасит национальное чувство в собственных интересах [Ковалевский 1912: 9]. Впрочем, «понижение национального чувства русских» объясняется и «обилием инородцев в русском обществе» [Там же: 13]. Поскольку русский народ — это «державная нация», обычное для реалиста двоение ее понятий на национализм и патриотизм (национальное и государственное как единое) по общей установке западного номинализма пытаются усреднить в одном — желая «вторым забить первый» [Там же]. Историк психологии специально напоминает, что национализм всегда вспыхивает в годину национальных испытаний — так начиная с монгольского ига; давление сознания на чувство, патриотизма на национализм и прочих в том же роде приближает «годину испытаний», а это чревато новыми осложнениями (примеры — в XX в.), и это — серьезное предупреждение.
Но призывы к рациональной логике, к идеальному — к нации, к общечеловеческому и т. д. — повторяются: «пора, пора уже обратиться нам не к народу, а к нации, т. е. перейти от поверхности к глубине, от количества к качеству... Эмпирический народ должен быть подчинен нации, ее задачам в мире...» и т. д. [Бердяев 1990: 84].
Как народ в отношении к нации есть связь природного («вещи») с идеальным, так и родина с отечеством соотносятся, выдавая неслиянную цельность природного (родина) с идеальным (отечество), т. е., другими словами, национального и патриотического. Всякие разговоры о «народе-богоносце» и прочих вычурах воспаленного интеллигентского сознания затемняют кристальную ясность указанных отношений, каждый член которых жизненно важен и не может быть изъят без разрушения цельности «народного духа». «Иметь родину есть счастье, а иметь ее можно только любовью» — словами Ивана Ильина отметим эту сторону дела; отечество в любви не нуждается, ему подай дело. Вот «вопрос: что обозначает слово родина и слово отечество, — какая между ними разница? Ответ: родина — место, где мы родились, отечество — родина, мною сознанная», — это «духовная родина» [Пришвин 1986: 119].
Народ в человечности
«Провидение создало нас слишком великими, чтоб быть эгоистами, — писал Чаадаев. — Оно поставило нас вне интересов национальностей и поручило нам интересы человечества» — и нести нам эту тяжесть до конца, если, конечно, мы хотим оставаться великим народом. Для русского сознания не «мнимый принцип национальностей» является основным — он производен от «народного», ибо «передовые славянские люди должны наконец понять, что время невинной игры в славянскую филологию прошло и что нет ничего нелепее и вместе вреднее, народоубийственнее, как ставить идеалом всех народных стремлений мнимый принцип национальности. Национальность не есть общечеловеческое начало, а есть исторический, местный факт, имеющий несомненное право, как все действительные и безвредные факты, на общее признание. Всякий народ или даже народец имеет свой характер, свою особую манеру существовать, говорить, чувствовать, думать и действовать; и этот характер, эта манера, составляющие именно суть национальности, суть результаты всей исторической жизни и всех условий жизни народа» [Бакунин 1989: 338]. Крайность такого мнения в том, что признаётся: «принцип национальности несовместим с принципом социальной революции, и он должен быть принесен в жертву последнему», поскольку «интеллектуальный прогресс стремится уничтожить господство над человеком бессознательных чувств, привычек, традиционных идей, унаследованных предрасположений — следовательно, он стремится уничтожить национальные особенности» [Ткачев 1976: 320, 314].
Во всех случаях отчуждение от идеи национализма связывается с социальными проблемами общежития, т. е. природно-вещное подменяется социально-идеальным, Родина — Отечеством, которым, как известно, является вовсе не родная земля, а отвлеченная идея всеобщего братства — всё равно какого, христианского, или коммунистического, или глобалистского. «В абстрактном единстве человечества бытие наций отменяется — человечества нет в нациях и через нации, и нации нет в человечестве и через человечество. Человечество есть отвлечение от всех ступеней конкретного индивидуального бытия. Во вселенскости нация и человечество — нераздельные и предполагающие друг друга члены единой космической иерархии... Нет конкретного человека, а лишь абстрактный человек как класс, нет конкретного человечества, а лишь абстрактное человечество, отвлечение от всего органического, живого, индивидуального...» [Бердяев 1990: 81].
Такое понимание человечности в человеческом, понимание целиком номиналистичное, совершенно неприемлемо для русской ментальности. Оно невозможно в представлении реалиста, для которого идеальное и реальное слиты в единстве, предполагают друг друга и восполняют друг друга энергией действия и осмысления. Русское представление о соотношении национального и общечеловеческого глубоко выражено Достоевским, который повторял: «Нет, тогда только человечество и будет жить полною жизнию, когда всякий народ разовьется на своих началах и принесет от себя в общую сумму жизни какую-нибудь особенно развитую сторону» [Достоевский 1980: 7]. Это не одиночное высказывание, а русская точка зрения. «Я твердо придерживаюсь той точки зрения, что каждый народ по-своему неповторим и что именно этим он и хорош. Неповторимость эта обусловлена природными данными, но в то же время есть тут и Промысел Божий. У всякой звезды своя ясность; у всякой былинки своя форма; у всякой бабочки свое великолепие красок; даже горы по-своему молчат, слагая своими пиками гимн поднебесью» [Ильин 6, 3: 106—107].
Человеческое как общее не есть среднее от суммы всех национальных и, конечно, не есть нечто, свойственное только наиболее агрессивной нации, нет: человеческое — в человечности.
Кажется, именно этот тезис и неприемлем для многих, кто только свою нацию почитает за идеальную.
С большим удовлетворением ознакомившись с переводом книги Хейдена Уайта «Метаистория» [2002], я обнаружил сходство идей калифорнийского профессора со своими, правда — в иных терминах представленных. Вместо моего следования Образ → Понятие → Символ → Концепт Уайт предлагает функционально и содержательно Метафора → Метонимия → Синекдоха → Ирония, тем самым сужая философское поле проблемы до уровня эстетической поэтики. Впрочем, анализ исторических трудов, предпринятый с помощью этих понятий, высвечивает содержательный их смысл с неожиданно продуктивной силой.
Первая антиномия: церковь и государство.
Давно замечено: если властная сила на стороне государства, а церковь подавлена, то у народа истощается духовная энергия и деградирует мораль; если, напротив, церковь узурпирует власть, то у народа деградирует политическая воля, так что полная победа той или иной стороны вплоть до универсальности может привести к остановке мирного процесса развития с возможной гибелью нации. Состояние то же, что в случае единства духа и тела: в здоровом теле — здоровый дух, и народ процветает — потому что обе силы объединяет эта национальная идея. Разумеется, сказанное относится к соотношению «церковь и государство» в их идеальном виде, преобразуемом в соответствии с характером времени; так (крайний случай) армейская дедовщина развилась в связи с отменой института партийного «комиссарства» в армии, и «сила солому ломит».
Вторая антиномия — народ и нация.
Идея нации возникает в обществе как осознанный принцип, управляющий разными народами в составе общего государства. В этом смысле только россияне представляют нацию, тогда как русские, как и прочие этносы — народ. Необходимость обслуживать местные народности и народы империи препятствовала развитию русского народа в нацию. Но в таком случае французская или английская нация также включает в себя все разноязыкие народы и народности, вошедшие в состав традиционного государства, а сами французы и англичане — народы, которые нарождаются в соответствии с законами природы.
Любопытное заключение: «Америка и Россия предстают как возможности развития в будущем новых видов государств... В лучшем случае они могут говорить о возможностях будущего развития на основе логического продолжения тенденций, уже различимых в целостном процессе... до мирового государства, которое предвещает их реализовавшаяся интеграция» [Уайт 2002: 157]. США стоят на уровне метонимии, Россия — на уровне иронии, к тому же Россия прошла горнило «предварительного опыта социализма», а США — нет. Отсюда вывод: Россия как государство чревата новым в большей степени, чем США.
Русофобия
Фобия — страх, и русофобия есть «панический страх перед Россией или ненависть к ней, принимающая иногда форму программы ее тотальной деструкции» [Идеи, 2: 334] — говорит польский словарь и продолжает: «Некоторую роль в распространении и укреплении русофобских эмоций и стереотипов сыграли фальсификации, сочиняемые по заказу антирусских кругов [перечисляются]... В язык публицистики понятие русофобии ввел в 1989 г. И. Шафаревич, согласно которому русофобское мировоззрение основано на убеждении о второстепенной роли России, являющейся неизменно воплощением деградации, отсутствия достоинства, преклонения перед кнутом и властью, ненависти к чужим. Такая Россия — по мнению Шафаревича — смертельная угроза миру... Русофобия есть мировоззрение „малого народа“, изолированных групп интеллигенции, „находящихся под влиянием какой-то могучей силы“ и ставящих перед собой цель покорения „Великого народа“ (России) и его „духовную оккупацию“. „Малый народ“ (,,антинарод“) представляет интересы еврейского национализма, заинтересованного в уничтожении России. „Великий народ“ живет согласно традиции и вере, в органической связи с натурой; „малый народ“ питается доктринерским спекулятивизмом, деструкцией и деморализацией» [Идеи, 2: 336, 338]. Автор статьи говорит о «натуре», в органической связи с которой живет «Великий народ», а натура — это природа. «А природа является колыбелью, мастерской, смертным ложем народа» [Ильин 6, 2: 375], именно так и воспринимает «натуру» русская ментальность.
Согласие польского автора с некоторыми положениями русофобства исторически понятно, но и вся Европа, в сущности, подключается к той же тенденции, усиленной различными рекламными компаниями в защиту «малого народа». Это было высказано еще между двумя мировыми войнами, когда не было холокоста и прочего: «Находящийся в плену прометеевского идеала европеец — особенно северный, с его деловой хваткой и рационализмом — всё больше уподобляется еврею диаспоры и всё больше поддается еврейскому влиянию. В готическую эпоху считалось позорным делать гешефт и заниматься ростовщичеством. Сегодня же восхищением и признанием пользуется тот, кто делает это с успехом и без всякого зазрения совести. В Прометее всё заметнее проступает облик Агасфера — вечного, гонимого Жида... у них нет ни духовной, ни материальной власти — духовной особенно (безнадежное невежество евреев постоянно обличается в летописях Средневековья как одна из самых ярко выраженных их черт)» [Шубарт 2003: 20].
Что же касается русского человека, то чистое внушение ему комплекса неполноценности приводит и к утверждениям вроде следующего: «В основании мира было две философии: философия человека, которому почему-либо хочется кого-то выпороть; и философия выпоротого человека. Наша русская вся — философия выпоротого человека» — но, тем не менее, «сам я постоянно ругаю русских. Даже почти только и делаю, что ругаю их... Но почему я ненавижу всякого, кто тоже их ругает? И даже почти только и ненавижу тех, кто русских ненавидит и особенно презирает» [Розанов 1990в: 5, 57]. В этом горестном замечании скрыта великая истина, которую, между прочим, «малый народ» соблюдает свято: «...сами разберемся, а кто нас поносит — урка и рвань». Хорошо бы и русским с тем же достоинством отвечать на русофобию так же. Ведь русофобия — философия выпоротого человека, который теперь уже хочет сам всех выпороть.
Борис Миронов в книге «Кому в России мешают русские?» диагностически наметил признаки русофобства. Перечислим их для полноты картины.
Вопли об угрозе русского национализма (чтобы подавить волю, его представляют обязательно как «русский фашизм»), но «национализм — это естественная забота нации о самой себе». Постоянно утверждается, что государственный интерес более важен, чем интерес национально-русский, но «не нация для государства, а государство для нации», особенно титульной (местнические национализмы многих стран бывшего СССР это доказывают). Утверждается также, что интересы народа важнее интересов нации, т. е. исключается духовная компонента данного соответствия. Утверждается идея патриотизма, но исключается идея Родины («эта страна»), тогда как «нация творит исходя из своей истории и руководясь своей совестью». Отсюда вывод: «Мы, русские, должны развить в себе национальный эгоизм» — это всегда спасало в тяжелые моменты истории. «Сам русский национализм и есть сегодня воплощение русского духа» [Миронов: 52]. «Национализм ненавистен тому, кому страшна крепость России», кто хотел бы заполнить русские просторы собственным национализмом.
О Родине: «исчезающее чувство родины ищет для себя нового воплощения. Замечательно, что вместе с интернационализацией национального чувства не утоленная потребность в материнском лоне родины направляется по новому руслу: открывает, в границах великой, малые родины и на них переносит свою любовь. Областничество — очень заметное явление культурной жизни Запада» [Федотов 1982: 150].
Продолжим сравнение с тем социально-культурным «портретом» современной западноевропейской цивилизации, который дают лучшие представители европейской культуры, и увидим, что атаки на «русский национализм» охватывают ту полосу существования, в которой гниение Запада особенно чувствительно (сводка высказываний по: [Литвиненко 2000]).
Современная западная цивилизация агрессивно эгоцентрична, она не приемлет конкуренции, хотя постоянно взывает к ней.
Западная цивилизация деспотична и тоталитарна, она выдает себя за единственную «общечеловеческую ценность», но вместе с тем развивает «либеральный фашизм».
Западная цивилизация цинична и безнравственна, исповедует двойной стандарт в оценках, использует ложь, фальшивки, вранье, поэтому с ней совершенно необходимо придерживаться стратегии «ограниченной защитной отстраненности».
Нет, это уже не та Европа, которую видел Чаадаев, с ее идеей «долга, справедливости, права, порядка» — слишком формальные, эти ценности выродились окончательно.
Все это дает основания для поддержания ключевых понятий традиционной русской ментальности, которые противоположны указанным западным ценностям. Если настойчивое желание сохранить в этом мире собственные свои ценности есть национализм — что ж, это доброе дело.
Однако русская точка зрения — это условия взаимности. Подарок требует ответного дара. Посмотрим на себя со стороны.
Взгляд извне
С XV в. известны описания русских, сделанные иностранными наблюдателями, побывавшими в России. Незнание русской жизни ограничивалось описанием бытовых деталей, мелочей «обыденного строя жизни»; но «будучи более образованными, чем их русские собеседники, они бывали более способны анализировать явления нашей жизни» [Коялович 1997: 84]. Странная логика: предмет непонятен, но идеи о нем («понятия») рождаются тотчас. Ясно, что речь идет о типологическом наложении собственных представлений («более образованны») на «обыденный строй жизни» русских. Что же так? И католики («иезуитство»), и протестанты одинаково стремились «поработить Россию: Англия — своей торговле, иезуиты — своему папству. Само собой разумеется, что при такой задаче те и другие должны были смотреть на Россию как на материал (как на вещь. — В. К.), который необходимо пересоздать, потому что в нем всё дурно», но прежде всего, конечно, «сокрушить эту державу для интересов Запада и Латинства» [Там же: 100—101]. Такова исходная точка западных «интересов» к России.
Она объясняет и толкование русской ментальности, и задачи практической деятельности по «освоению» русских пространств.
Тип характеристик изменялся.
Сначала иностранцы поражались степеням в проявлении тех же качеств, которые были свойственны им самим. Например, тому разгулью во время празднеств, которые и на Западе известны по различным фестивалям и карнавалам, непомерному питию в дозволенные дни (русские послы в Европе дивились тому же), даже любви к «гнилой рыбе и капусте» (соленой сельди и квашеной капусте): сами-то ели гнилые сыры и прочее в том же духе. Сравнивалось то же, но не в том объеме, качестве и интенсивности.
Со временем зарубежные гости стали воспринимать существенные стороны русского характера, не совпадающие с западными стандартами существования. С XVIII в. отмечены антиномии русского быта [Егошина 1998], например гостеприимство — вражда к чужакам; сострадание — равнодушие и терпеливость; фатализм — безудержные порывы; негодование против злоупотреблений — склонность к коррупции, обману и воровству; романтизм — практицизм; веселость — меланхоличность и т. д. Мало сказать, что в разных текстах мы находим взаимно противоречащие характеристики одной и той же русской черты (часто по-разному видят одно и то же англичанки и француженки), но и соотношение указанных «антиномий» предстает слишком обобщенным — в действительности данные «оппозиты» находятся в дополнительном распределении и часто наличествует у представителей определенной социальной среды. Раболепие в XVIII в. у крестьян во многом притворное, а у высших классов оно искреннее; обезьянничанье по отношению к иностранцам тоже присуще правящим «кастам» [Там же: 53] и т. д. Какая уж тут русская ментальность! Те черты, которые показаны справа в «антиномиях», являются своего рода результатом приспособления к изменяющейся социальной среде, накладываются на коренные свойства ментальности (показаны слева, до тире), часто вступая в противоречие с идеально-психическими характеристиками русского народного (крестьянского в массе) типа. То же «раболепие» как знак внешней покорности не в чести у общины (> общество), и потому справедливы замечания иностранцев о том, что русский человек находился в постоянном конфликте с властью, не желающей его выслушать. Внутреннее противоречие русского характера и сложилось оттого, что русский крестьянин редко жил по своей воле в соответствии со своей натурой — его заставляли поступать в соответствии с принятым каноном жизни [Там же: 60].
По многим текстам, приведенным уже в книге, можно судить о том, что среди иностранных авторов были и проницательные наблюдатели, глубоко и сочувственно заглянувшие в тайны «русской души»; во всяком случае, они различают вертикаль быта (классовые пристрастия внешнего характера) и горизонталь бытия — духовные, социальные, интеллектуальные сферы жизнедеятельности русских людей в их нелегкой истории.
Ни в одной нации нет той чистоты этнического типа, которая обусловила бы законченность и ясность национального характера или законченную особенность ментальности. Англичане ведут начало (в типичной массе) из англосаксонских и норманно-французских корней [Оруэлл 1992: 221] с добавлением бодрящей крови упрямцев кельтов. Немцы также не составляют цельного типа, в их составе и германцы, и славяне, а также франки. Давно показано, что французы составляют сложную смесь этнических типов (галлы, кельты, много бурной романской крови). Внутренняя противоречивость типа определяется смешением, например смешением «брюнетов брахицефалов» с белокурой расой «удлиненных черепов» [Фуллье 1896: 69 и след.]. Первым не хватает энергии для волевых усилий, но они умеренны, трудолюбивы, интеллигентны, благоразумны, ни в чем не полагаются на случай, подражательны, консервативны, но безынициативны, привязаны к родной почве, им свойствен дух рутины и веселость нрава — «ссоры и драки не в их вкусе», и они «природные подданные».
Вторым присуща живая чувствительность, быстрый и проницательный ум, соединенный с деятельностью и неукротимой энергией; неугомонные, они любят равенство, предприимчивы, честолюбивы, ненасытны — «с постоянно растущими потребностями» и потому «без устали суетятся для того, чтобы их удовлетворить»; необузданная воля влечет их к крайнему индивидуализму. И те и другие чувством и волей отличаются резко, но ум у обоих одинаково развит. Всё остальное не совпадает. У брюнетов больше развито религиозное чувство, тогда как белая раса отличалась сварливым характером с частыми спорами и грабежами соседей. Но и это не всё. Третья группа французских предков — «средиземноморские длинноголовые» неарийцы — отличалась всегда сильной волей, упрямством, мстительностью, веселостью и дружелюбием при том же ярком качестве ума: «...средиземноморская и семитическая раса очень интеллигентна; по своему моральному характеру, как и по своим морфологическим признакам, она приближается к арийцам» [Фуллье 1896: 68—69].
Ratio — вот та струна, на которой соединялись этносы Галлии, давая оттенки типов и постепенно сплавляясь в нацию.
Душевность чувства — та сторона характера, которая стала основной составляющей в формировании русской нации, также сплавленной из многих этнических потоков, разлитых по плодородной Русской равнине.
Оппозиции
Стоит привести основания, по которым немецкий культуролог русскую ментальность ставит выше западноевропейской [Шубарт 2000: 105 и след.]. Правда, при этом он не уточняет, что русская ментальность есть духовность.
Но по порядку.
«Русский — человек души», даже делу он отдается не целиком; западный человек весь в «предметной деловитости». У русского универсальное видение мира (цельность жизни), тогда как западный человек имеет видение «специализирующее», он видит точки жизни. Именно по этой причине русскому присущи разбросанность и «крупность», тогда как западный средний человек характеризуется основательностью и мелочностью. Если для русского целое предстает в полноте всего, на Западе целое воспринимается как сумма частей. Мы говорили об этом применительно к системам: для русского система — живое целое, на Западе система конструируется из отобранных частей. Русская система органично природна, тогда как западная культурна. Отсюда еще различие, которое многое объясняет: русские сильны в синтезе (действует принцип примирения) — западные люди — в анализе, предполагающем борьбу и разделение. Следствия отсюда идут далеко. В частности, русский в новом человеке видит потенциального друга, западный — врага («империя зла» и прочие выкрутасы воспаленного воображения). Западный ученый, писал П. И. Ковалевский, высказывает свою точку зрения и не соглашается с другими гипотезами. «Иначе поступает русский. Он тщательно изучит и обсудит и одно и другое, заберет у каждого то, что имеет смысл и значение, и найдет выход, который является примирением непримиримого (синтез! — В. К.). Такая объединительная способность несомненно составляет особенность именно русских национальных дарований» — они самокритичны. Впрочем, оговаривает дело автор, «ныне в русскую интеллигенцию забралось много инородцев», которые изменяют общий тонус русской научной мысли; особенно плохо то, что они склонны «с великою злобою обливать помоями всё, что не их», преклоняясь при этом «перед всем иноземным» [Ковалевский 1915: 52].
Принцип целости у русских противопоставлен западному принципу частичности во всех направлениях. Современный философ, описывая «русский дискурс», подчеркивает его коренные особенности [Гиренок 1998: 371 и след.]: «истина связана не со словом, а с образом» (терминология на втором плане исследования), русский дискурс не рефлексивен, «он является по преимуществу содержательным», он принципиально неметафизичен и привержен «феноменологии жизни» при полной обращенности к «соборности». Все дальнейшие суждения автора можно уложить в несколько строк: «...а поскольку в России нет никакой ментальности, а есть почесывание затылка, постольку эту ментальность я называю умостроем» [Там же: 379]. Очень хорошее определение, из которого ясно, что авторская маркированность на Ratio лишает Логос права на существование. Против этого следовало бы напомнить известное высказывание авторов сборника «Из глубины»: «Понятие умственности шире понятия рационализма, относимого к философскому течению, начатому Декартом и доведенному до Канта» — и мы уже обсуждали этот вопрос. Это для западного человека «мыслить — значит вычислять в словах» (снова включаем суждение Шубарта, основанное на цитате из Гоббса) — русские же не считают, они — оценивают (такой уж у них язык!). Формально логические операции ratio способны привести к логическому кругу, в котором вертится мысль, не в силах справиться с реальностью вне ее. Давно сказано русским гегельянцем, что такой возможности не замечают единственно оттого, что в своем самодовольстве «отреклись от логики, заменив ее привычкою», — но не любая мысль, «не всякая идея есть сила, способная перейти в действительность, а только такая, которая соответствует чему-либо действительному» [Чичерин 1998: 51, 48]. Забыв об этом, постоянно исполняем идеи, которые не соответствуют ничему действительному. «Докопаться до национальной логики» пытались многие: поскольку часто «подозревается, что у каждого народа есть особый склад мышления, система своих категорий или особое соотношение понятий, присущих и другим народам. Есть что-то, что побуждает вести рассуждение особым образом, среди каких-то своих проблем, их решая, и движа мысль в направлении к каким-то целям» [Гачев 1988: 180 и след.]. Национальная логика — самая имматериальная часть ментальности как проявлений духовной деятельности. Как на основную особенность именно русской мысли автор указывает «бросающуюся в глаза полемичность» ее — полемичность с Западом прежде всего. Русской мысли чуждо «законченное целое, совершенство, форма (греческая мысль)», но ей чуждо и «опосредствование» (это германская мысль). Для русского мышления характерны «открытость, всевосприимчивость, отсутствие начал и концов, зато способность начинать сразу, in medias res, танцевать не от печки; невозможность силлогизма, зато развитие иных, незамкнутых форм мысли; отсутствие четких оппозиций: добро — зло, правый — левый (возможных при определенном, завершенном космосе народа); устремленность рассуждения не в изыскание причин и происхождение вещей, а в их призвание; допущение самостоятельного бытия разного, и отсюда толстовское «не соединять — сопрягать надо» («сопрягать» — это также и приноравливаться); большее упование на неизведанные возможности жизни, случай в ней («везение» и «авось»), чем вера в жесткую необходимость и предусмотрительность» [Гачев 1988: 182—183].
Поскольку целое безгранично, русский избегает строгих форм, не использует законченных схем и вообще «смотрит вдаль». Наоборот, западный человек постоянно всё оформляет, занимается схематизацией «систем», потому что верит, что «смотрит вглубь». В русской художественной традиции заметно постоянное изменение содержания при неизменности форм — форма наполняется содержанием, которое важнее формы; напротив, у западного мастера импульс к изменению форм (реструктуризация наличного бытия) [Шпидлик 2000: 9—10]. Это очень важное ограничение. Оказывается, для европейца форма и есть логика. Логическое суждение должно управлять предложением языка, и тогда признают, что форма в наличии. А уж коли своенравное это предложение лезет несобранными концами в стороны и поперек — значит, нет формы! Вот и является в России «непонятная логика (Александрийская, Византийская), загадочные корни в православии... ясность в Европе... интеллигенты и европейцы...» — снова и снова размышляет Михаил Пришвин относительно «русской логики». Но слабость логики в том, что она формальна, она устанавливает степень истинности, а не ценности.
Тем более, «грамматическое предложение вовсе не тождественно и не параллельно с логическим суждением» (Потебня). Язык — реальнее логики, которая возникает на его основе; реальнее и материальнее. Подлежащее и сказуемое в предложении добыты (не заменяются друг другом), а в логическом суждении сочетаемость или несочетаемость двух понятий может изменять направление вектора (субъект и предикат взаимозаменяемы). Да и грамматических категорий больше, чем категорий логических, они активно изменяются и различаются от языка к языку.
Как сказано, у русского Другой вызывает изначальное, может быть ничем не оправданное доверие, что западный человек осознает как слабость и часто этой слабостью пользуется, потому что ему-то изначально присущ остерегающий страх перед Другим. Основано это различие на том, что русский по природе своей созерцателен, а западный человек активен; первому недостает решимости, второму — терпения. Русского «несет поток времени» — он в вечности («у русских сейчас значит через час»); западный обыватель торопит время, раздробленное на моменты.
Русский служит конкретному человеку, а в жизни по характеру он — игрок; западный обитатель служит безличному долгу, он накопитель. Но тут опять закавыка: «Логическое долженствование есть принудительность не sollen ‘быть обязанным’, а müssen ‘быть вынужденным, необходимым’» [Струве 1997: 355]. Таков этот долг западного обывателя. Для полноты картины скажем словами Георгия Флоровского: «Русские живут под знаком долженствования, а не ожиданий и предчувствий». Не парадокс ли это? Конечно не парадокс, а русское понимание долга: sollen. Этика, а не логика.
Поэтому и мышление русского неисторично, он постоянно находится в точке настоящего; для него история — всего лишь часть философии жизни, пренебрегающей традицией. «Русскому народу свойственно философствовать», — справедливо утверждал Бердяев, говоря о «русской идее». Это культура забвения, продолжает Шубарт: русский умеет прощать. Западные люди мыслят исторично («незнакомое будущее можно свести к знакомому прошлому» и из него исходить в оценке настоящего — знакомая песня!). Это культура памяти, но и история здесь не глубинно философская категория — а публицистика, журналистика, ремейк. Здесь снова мы видим неясность формулировок, они затемняют суть дела: судя по определениям, именно русские историчны, ибо видят процесс жизни в развивающейся перспективе (вещно) на фоне вечности (идеально). Это объясняет также, почему русская мысль творит в интуиции, а западный человек «злоупотребляет мозгом», начиняя его всяким хламом (все это — тезисы Франца Шубарта).
«Суммируя всё вышесказанное, — утверждает современная исследовательница, — мы можем констатировать существенные различия в представлениях о ментальных категориях [например] в русском и французском языках. Мы могли бы определить французский тип сознания в этой сфере как рационалистический, русский, скорее, как интуитивный. В сфере соответствующих французских представлений, структурированных и отточенных, царит известный порядок, в сфере русских представлений, неструктурированных (т. е. «бесформенных». — В. К.), отмечаются упрощение картины ментальных категорий, невыделение, стяжение различного в одну категорию (синтез категорий, явленных только в конкретности текста. — В. К.). За русскими понятиями стоят этимоны, восходящие к родовому строю (к органике живого. — В. К.), за французским — к государственному (к формализованным правилам «закона». — В. К.). Возможно, отчасти именно этим определяется существенное различие в поведенческих сценариях, реализуемых представителями этих двух столь не похожих культур» [Голованивская 1997: 222]. (Специально о французском заметим: до XVII в. и французская ментальность опиралась на «чувственное» и интуицию; формализация в логические категории относительно новая сторона «галльского разума».)
В поисках действительных причин всех описанных расхождений вернемся к началу параграфа.
На примере сложения французской нации мы видели, что усреднение этносов происходило на основе единственно общего признака — Ratio, что обусловило равнение на закон, на порядок, на рациональное. М. К. Голованивская подчеркивает, что французское pensée есть чисто французское отношение к ментальным проблемам (всё нужно взвешивать на весах истины), тогда как русская мысль «сплелась» с византийской в Средние века и с западноевропейской в Новое время, не представляя собою той цельности, которая характерна для западной мысли в ее отточенности. Ratio не стало точкой единения русских этносов, поскольку народы Востока, участвовавшие в создании Русского государства (= нации), в качестве направляющей силы предложили как раз «созерцательность», «цельность», «универсальность» и прочее, что выделяет Шубарт как достоинства русской ментальности. Русская воля не покоряла миры, она их осваивала и усваивала, соединяя в целое — в синтезе — разнородные этносы, понимая их право тоже — на существование равно как и собственное свое право на то же.
Труд и досуг
На нескольких примерах воплощения в языке ментальности рассмотрим некоторые расхождения в ее национальных формах.
Например, толпа в русском представлении выделяется по признакам: множество людей, беспорядочное и шумное, теснящееся, бессознательно подчиняющееся большинству и потому таящее угрозу; в целом толпа понимается как веселая шумная ватага. Английское слово crowd в соотношении со своими синонимами представляет толпу как очень плотное множество, которое также теснится, движется вперед, возбуждено, нарушает порядок и заслуживает презрения; в целом это представление о возбужденной массе, не предвещающей ничего хорошего [Карасик 1996: 8].
Отношение к труду, которое выражено в соответствующих словах, также различается [Там же: 15]. Для англичанина главное в работе — результат, герой должен вести себя благородно, человек удивляется чуду, во всех случаях следует вести себя осмотрительно и умно, а глупец достоин осмеяния. Для немца главное в работе — старательность исполнения, герой ведет себя с тем же достоинством, человек очарован чудом, следует вести себя умно и уважительно, а глупец достоин сожаления. Для русского главное — желание трудиться, герой обязательно должен идти на самопожертвование, у человека восторг перед чудом, следует вести себя красиво, а глупец достоин сожаления. Для русского («православного»!) «труд есть actus personae: в нем участвует весь человек, его тело и дух» [Вальверде 2000: 379].
Древний римлянин исходил из досуга — otium — как нормального состояния «и уже через его отрицание образовал понятие дела, занятости — negotium (немец это же понятие досуга преобразует в понятие порока)» [Шубарт 2003: 113], т. е. die Muße ‘досуг’ преобразует в der Müßggang ‘безделье, леность’. В славянском представлении «досуг есть собственно способность или возможность досягнуть рукой, отсюда способность что делать и свободное время как условие этой возможности» (это определение академика Б. М. Ляпунова приводит Г. Г. Волошенко [1994]. Западное понимание досуга он же заимствует у Маркса: «способность более возвышенной деятельности, свободное время». Различие в том, что русский в досуге свободен волей, тогда как западный человек продолжает хлопотать по долгу жизни в «более возвышенной деятельности», на которую, очевидно, на работе времени нет. Русская бытовая формула досуга (часто воспроизводится): «Работы не требуется, а отдыхать не хочется» — соотносится с признаками: то, что можно достать (получить) или что уже достигнуто как награда — как результат достижения, личной ловкости и мастерства (благодаря мастерству в деле выкроить себе свободное время) — с XIV в., а понимание досуга как просто свободного времени известно у нас только с 1890-х гг. [Там же]. Переход к такому, исторически новому пониманию досуга идет через понимание недосуга — апофатическим утверждением занятости, скажем так, на основной работе. Г. Г. Волощенко [Там же: 410] восстанавливает различие в понимании творческого досуга в разных культурах как последовательность действий: высшая деятельность > деятельность > отдых. Для русско-славянской ментальности эта последовательность развивается от деятельности к высшей деятельности и через деятельность — к отдыху. Древнегреческое понимание досуга совпадает с римским, но как гармония всего во всем: schola — это соответствие высшей деятельности и деятельности в разумном сочетании с отдыхом. Романо-германское понимание досуга (muber, leisure и т. д.) это деятельность, направленная на высшие формы деятельности (т. е. обратно славянскому пониманию), от простого к сложному, почти не предполагая отдыха как самостоятельной формы жизнедеятельности. Заметим особенности русского понимания досуга и труда: и то и другое определены желанием, а не интересом, направлены на красоту и ценность, исходят из этических признаков общего дела.
Отношение к собственности. В русской и немецкой ментальности признаки отношения к собственности почти совпадают, в частности, «оценивается не то, как субъект относится к собственности вообще, а именно отношение к переходу собственности. При этом любые изменения отношения обладания... а также и сохранение его неизменным может получить и отрицательную, и положительную оценку» [Языковая личность 1996: 29]. Отметим это: всегда выделяется мера справедливости при переходе собственности от одних к другим. Но есть и отличия: немецкий язык не указывает на непреднамеренность действия (прихватить), а русский не обращает внимания на предназначенность объекта именно для данного субъекта (zuschlagen); немец получает «собственность» «в результате продолжительного и терпеливого ожидания» (ersitzen ‘высидеть’), а русский после судебных тяжб (оттягать, отсудить и т. д.). Кроме того, в аристотелевском принципе добродетели как усреднении крайностей и русский, и немец не на высоте: расточительный — бережливый — чрезмерно бережливый, т. е. скупой, — русский скорее расточителен, а немец скуп (но отдельные субъекты могут входить в зону идеально «бережливого»). Всё дело в интенсивности отношений по признакам, которые присущи любой ментальности.
Закончим сравнением понятий о чести. Английское слово honor широко по смыслу, русское слово честь менее определенно и по основным значениям не совпадает с английским. Так, для американца основное в понятии о чести — это высокая репутация, т. е. важно отношение извне, со стороны; русское же представление о чести объединяет значения личного качества субъекта и отношения к нему со стороны (так по всем этическим категориям: совесть и пр.). Для русского, следовательно, важно иметь степени самоуважения, чего в английском варианте нет: там важен престиж. Гонор — рыцарская черта, состоящая в том, что самоутверждение в обществе достигается путем соревновательности. Исследователи отмечают, что американское (например) понимание чести связано с деловыми отношениями, а русское (в частности) с воинскими (Языковая личность 1996: 56 и след.). Парадоксальность этой ситуации состоит в том, что идея чести — именно воинская идея, а ее искаженный облик на Западе приводит к странным извращениям. С. Н. Булгаков [1991: 24, 32, 38 и др.] показал это на примере фашистской Германии: «Можно спросить себя, что же означает эта „честь“, которая становится высшим критерием жизни, даже выше любви, ибо последняя допускается лишь в одной своей разновидности, как любовь к чести. Это трудно определимое понятие, которое почему-то соединяется с идеей свободы (очевидно, лишь для носителей этой чести), может быть понято как сознание своей единственности и превосходства, присущих „северной“ расе... демонизм национальной гордости (,,чести“)» или — «своеобразный демонизм, который питается чувством гордости, или ,,чести“».
Понятно, что отношение к подобной чести у русских однозначно: гонор — «ревнивое охранение своего достоинства в мнении посторонних людей — преувеличенное понятие о своей чести или достоинстве» (русские словари конца XIX в.; в словаре В. И. Даля слова нет).
Погружение в Ratio
Можно привести множество определений Ratio, но у нас есть возможность ограничиться единственным, зато исчерпывающе убедительным. Примем это определение за исходное.
Мартин Хайдеггер в лекциях «Положение об основании» [1957] сообщает, что основание — это именно перевод слова ratio, но и разум тоже перевод слова основание [Хайдеггер 1999: 166]. Рацио как основание идет от Лейбница и представлено в немецком языке — во французском ratio есть разум. Ни то ни другое не соответствует этимону латинского слова: «Ratio относится к глаголу reor, основной смысл которого таков: ‘принимать нечто за что-либо’; подставляется, подкладывается именно то, за что нечто принимается» [Там же: 169]. «Ratio означает учет (Rechnung)», определяющий отчет и то, что в самой вещи является определяющим. Так в Европе одно и то же исходное слово (как разум и как основание) дало двойную истину. «Но теперь мы мыслим по-латински, а следует углубиться и мыслить по-гречески», потому что «и в римском слове ratio говорит некое греческое слово; это слово logos», связанное с глаголом legein, что означает присутствовать (anwesen). «Что означает logos?» — смысл его от глагола со значением ‘собирать, класть одно к другому’» [Там же: 180], и в конечном счете — сказать. Логос — сказание. «Здесь установлена взаимопринадлежность бытия и принципа и ratio, бытия и основания как основания разума» [Там же: 184]. Более глубокого проникновения в сущность ratio как одного из предикатов Логоса, в философской литературе нет. «Неотесанность формы изложения» своего понимал и автор — но столь сложен предмет обсуждения. «Когда мы спрашиваем, что же такое „основание“, то прежде всего мы имеем в виду вопрос о том, что означает слово; слово что-то означает; оно дает нам нечто понять, и именно потому, что говорит из самого Нечто», и тогда «сущее является нам как объект, как предмет» [Хайдеггер 1999: 158].
Если соотнести сказанное с русским эквивалентом (Logos > Ratio > Сказ), станет ясным, что речь постоянно идет о том, на чем всё покоится, в чем всё заключается, из чего всё происходит [Там же: 164]. Это Нечто — концепт, который определяет меру и степень понимания, и Логос, предшествуя Рацио, определяет это Ratio.
Причем «концепт» не понятие вовсе (conceptus), а «зерно первосмысла» — conceptum. Основание и одновременно Разум.
Равным образом и Логос — вовсе не Слово, как перевели его в Евангелии от Иоанна (I, 1—5), и не Verbum, как перевел это слово св. Иероним. Перевод слова мужского рода словом рода среднего считался катастрофической ошибкой у ранних переводчиков с греческого. Обычно они подыскивали слово того грамматического рода: этого требовала символика текста. Доходило до невероятной виртуозности: Иоанн Экзарх в X в. при переводе греческого слова ποταμός сочинил новое выражение потокъ, чтобы не смешивать грамматические роды употреблением слова рѣка.
Слово Λόγος к моменту составления и переводов Четвертого Евангелия накопило уже до тридцати значений: ‘изреченное’, ‘суждение’, ‘определение’ (философский термин), ‘предсказание’, ‘постановление’, ‘повеление’, ‘условие’, ‘обещание’, ‘предлог’, ‘доказательство’, ‘известие’, ‘предание’, ‘право говорить’, ‘тема разговора’, ‘разум’, ‘мнение’, ‘значение’ и т. д. и только в последнюю очередь — ‘слово’, значение, которое получило распространение как новое, но весьма удачное. Это значение — гиперизм, охвативший множество других значений слова и потому удобный в культурном обиходе. Внимание останавливается на двух линиях выражения гипонимов: проблема «речи» и проблема «мысли» одинаково выражаются старинным греческим словом. «Задумано — сказано», «сказано — сделано» — и все это в одном слове: λόγος. Между прочим, славяне в X в. такое же единство мысли, слова и дела передавали новоизобретенным словом вещь, которое в (древне)русское словоупотребление ввели веком позже монахи Киево-Печерского монастыря [Колесов 2004: 537—549].
Таким образом, «учитывая семантический диапазон греческого λόγος, лучше всего было бы для перевода его на русский язык выбрать из его значений то, что диктуется общим смыслом первых строк Евангелия от Иоанна, а именно: причина, основа, основание. Итак, приняв во внимание еще и это значение, следовало бы перевести евангельский текст приблизительно таким образом: „В начале была основа и она была соотнесенной с Богом и основа была Богом. Она была вначале соотнесенной с Богом. Все возникало из нее, и без нее ничто не возникало“. Можно сказать, что в данном тексте логос — основа, первооснова, причина, первопричина — понимается как аристотелевская «движущая сила», как двигатель, давший толчок для сотворения мира. Различие между аристотелевским пониманием этого двигателя и христианским пониманием логоса-первопричины заключается в том, что логос не только был причиной сотворения мира, но и продолжает действовать в нем» [Белецкий 1993: 106].
Из этого следует, что более удачными эквивалентами греческого λόγος могли бы быть латинское ratio и славянское вещь в исконных их значениях.
Именно эти слова всё чаще стали употребляться в богословских толкованиях евангельских истин. Именно они обладали смыслом «основание в слове и деле». Быть может, это уберегло бы слово вещь от того семантического падения, в каком оно находится ныне.
Любопытно, что в Древней Руси Логос и слово в многочисленных контекстах определенно различались, хотя и были обозначены одним и тем же знаком: Слово и слово. Такое положение находим у плодовитого писателя XII в. Кирилла Туровского, который четко различает «два слова в одном»: Слово как Логос представлено как синоним лексемы Бог, а также как словесное выражение мысли в традиционных сочетаниях типа «слово Божье», «Господне слово», «евангельское слово», «пророческое слово». Наоборот, слово как речь, дар речи, лексема относится к людям, в том числе и к самому автору. Все наталкивает на мысль, что «слово» во втором значении больше связано именно со словом, чем с разумом, не соотносясь с «французским» смыслом «рацио»; ср. выражения типа словесьные овцы, словесное стадо, словесные уньцы и т. д. В символическом обозначении людей (овца бо есмь словеснаго ти стада и др.). Поскольку перед нами устоявшиеся формулы речи, можно предполагать, что такое значение слова было обычным.
Возвращаясь к началу наших рассуждений, признаем, что так сходятся концы: Ratio и Λόγος суть синонимы одинакового смысла, но различных значений, хотя проявляется это только в контексте Евангелия. В действительности же эти два термина интеллектуального действия разошлись кардинально, создав несопоставимые и даже противоположные по направленности ментальные энергии. Ratio как основание рассудочной деятельности, Логос как интуитивная первооснова мира, которая «продолжает действовать в нем», порождая различные «логии» науки. Однако, сводя значения обоих терминов воедино, мы получаем первобытную точку их соединения. Логос-рацио есть основа основ ментального сознания на уровне подсознательного, это нечто, ускользающее из мысли, поскольку одновременно есть и не-есть, здесь и не-здесь, сейчас и не-сейчас. Современная когнитивистика присвоила этому Нечто-Ничто новое имя — концепт, тем самым переводя энергию божественного Слова-Логоса на мирской уровень логической единицы сознания.
Что же касается слова verbum, то св. Иероним напрасно воспользовался им для перевода греческого λόγος. В отличие от славянского слово латинское обозначало именно ‘слово, выражение’, ‘изречение, поговорка’, просто ‘болтовня’, а позже ‘глагол’ как часть речи. Мартин Хайдеггер был прав, сопоставляя «логос» с «рацио».
Слово и λόγος также не совпадали в значениях. В греческом термине идея разумности, ума преобладает, а в славянском характерны значения духовного, а не разумного знания; в греческом подчеркивается личная возможность человека распоряжаться своим «логосом», а в славянском указывается зависимость личного мнения от общественного суждения. Этим отличается русская ментальность от западной.
Тем не менее трансцендентность концепта ощущается всеми, по этой причине никак не удается уловить его мистическую сущность, дать ему общепризнанное определение. Быть может, это и хорошо, по крайней мере это дает возможность очень многим старателям на данной ниве создавать многочисленные диссертации, подменяя словом «концепт» самые разные термины, не столь модные и маловостребованные.
Наиболее точным будет определение апофатическое, «утверждение отрицанием»: концепт — это не образ, не понятие, не идея, не значение, не смысл... что же?
Овеществленный Логос?
Остаюсь в убеждении, что «концепт» есть зерно первосмысла (conceptum) [Колесов 2002], мистически зашифрованное в слове, и, чтобы постичь его, необходимо собрать все оттенки смысла, распавшегося то ли при падении Вавилонской башни, то ли в результате многовековых хождений людей по лику Земли.
И тогда встает вопрос: знаменем ли общего концепта создавалась нация — или воссоздание нации направляло движение мысли к выбору тех смыслов христианского символа, которые стали национальным концептом?
Разрушение единства
Нет ничего общего между разными народами Европы, которые мы по своему недомыслию объединяем в общем противопоставлении русскому Логосу — как «народы Рацио». Известны характеристики немца, данные французом, как и наоборот. «Другие части света имеют обезьян, Европа имеет французов» — это Шопенгауэр; «Национальная заслуга Франции — женщина» — это Кант. Владимир Одоевский называл англичан «европейскими китайцами». Французы не оставались в стороне: «Француз имеет чувство своего права, немец — своей работы»; француз более скор и точен, активен и более счастлив, чем немец; француз знает, немец может [Фуллье 1896: 123] — и не будем множить столь ярких выражений.
В основе различий, собиравшихся веками, множество факторов. Розанов [1990а: 180] писал: «Как католицизм есть романское понимание христианства и протестантизм — германское, так православие есть его славянское понимание. Хотя корни его держатся в греческой почве (мы, впрочем, должны помнить, до какой степени эта почва в первые же века нашей эры, в эпоху передвижения народов, пропиталась славянскими элементами) и на этой же почве сложились его догмы, но весь тот особенный дух, которым он светится в истории, живо отражает на себе черты славянской расы». Таковы религиозные ограничения русской ментальности в ее отличие от западной. Но Бердяев (в работе «Христианство и классовая борьба») добавлял: «Исторически русское православие было очень связано с купечеством и мещанством, французское католичество с аристократией, немецкий протестантизм с буржуазными классами и национализмом. Но человеческая личность аксиологически выше класса, как выше государства и хозяйства». Таково второе ограничение русской ментальности в отношении к ее корням. И «если, следовательно, католичество выказало свойства нетерпимости и насильственности, то, конечно, не могло ниоткуда заимствовать их, как из характера народов, его исповедующих» [Данилевский 1991: 180]. Бумерангом все рассуждения возвращаются к ментальности («характер народов»).
Далее Н. Я. Данилевский [Там же: 267] говорит: «Самое понятие об истинно русском до того исказилось, что даже в счастливые периоды национальной истории (как внешней, так и внутренней) русским считалось нередко такое, что вовсе этого имени не заслуживало».
Попробуем определить причину этого ускользающего из внимания отличия русскости на фоне европейских народных черт, как они сложились в истории и в близком соседстве. И тут очень много справедливых высказываний, на которых построим наше изложение. И не станем забывать: что «непременно нам кто-нибудь да гадит: то немец, то поляк, то жид» [Шелгунов 1895: 104]. Сказанное иронически-спокойно может быть обращено и в сторону Запада: и тем, кто на Западе, вечно «гадит» русский. Вот только русский от этого больше страдает: «Англичанин умеет открываться, не отдаваясь, а русский если откроется, то тем самым и отдается, а после будет страдать» [Пришвин 1986: 433]. Или вот еще: «Посмотрите на немца, который внес свою лепту в общество подания помощи бедным! Он больше ни гроша не даст нищему — хоть умри тот с голоду на его глазах — и чувствует себя правым. Это — символ справедливости: уплатить умеренную пошлину за право всегда пользоваться санкцией высшего начала. Оттого справедливость в ходу у культурных, расчетливых народов. Русские до этого еще не дошли. Они боятся обязанностей, возлагаемых на человека справедливостью, не догадываясь, какие огромные права и преимущества дает она. У русских — вечные дела с совестью, которые ему обходятся во много раз дороже, чем самому нравственному немцу или даже англичанину его справедливость» [Шестов 1991: 30]. Но почему бы не сказать и наоборот: «Западные европейцы забыли внутренний, нравственный, душевный мир человека, к которому именно и обращена евангельская проповедь. Последнее и есть, как мне кажется, ахиллесова пята европейской цивилизации; здесь корни болезни, которая ее точит и подкапывает ее силы» [Кавелин 1989: 465].
Сколько голов — столько и мнений, сколько народов — столько и типов ментальности. Странно только то, что каждый о себе помышляет как о славном и верном, а другую ментальность поносит за вредную «неправильность».
Познание
«Высшей добродетелью в Московии было не знание, а память. Где нужно было сказать „Я знаю“, говорили „Я помню“ [Биллингтон 2001: 93] — и это не единственная «клюква» в книге досточтимого историка. Он говорит об уважении к традиции, но традиция вовсе не «память», это воссоздание прошлого в настоящем. На самом деле было другое: на Руси полагали, что знание — это сила, а вот познание греховно.
Русские философы глубоко проникли в суть национальных характеров европейских народов. «Германская мысль погружается в мистику и теософию, эмпиризм зарождается в Англии, рационализм — во Франции. Эти три философии расходятся между собою, и каждая стремится подкопать основания двух других» [Трубецкой 1908: 17]. Национальное своеобразие философского взгляда определяется типом личности, воспитанной в данной философской среде: «Современная философия в своих противоположных направлениях развивает один и тот же протестантский принцип абсолютизма личности. Универсализм германского идеализма, точно так же как индивидуализм английского эмпиризма, представляются двумя моментами этого принципа, одинаково необходимыми, одинаково абстрактными и, по-видимому, непримиримыми между собою» [Там же: 6]. Общее у них есть: во всех этих странах прежде всего изучают национальную философию, которая обобщает знания о национальном типе мысли. А России всегда стремились навязать смешение «этих трех философий» с полным устранением собственной, русской. Результат — известен.
Но не только философия, но и экономика «очень зависит от национального психологического типа», писал Николай Бердяев. Иван Киреевский задолго до него понимал, что «французская образованность движется посредством развития господствующего мнения, или моды; английская — посредством развития государственного устройства; немецкая — посредством кабинетного мышления. Оттого француз силен энтузиазмом, англичанин — характером, немец — абстрактно-систематическою фундаментальностию. Но чем более, как в наше время, сближаются словесности и личности народные, тем более изглаживаются их особенности» [Киреевский 1911: 140]. Сказано полтора века тому назад. Теперь — совершенно сблизились.
Заметно влияние национальной ментальности на науку. Ментальный тип определяет стиль мышления, способ доказательства и стиль организации научной деятельности. Выбор проблем и метод исследования связан с особенностями языков и традициями научного исследования (прагматический интерес или идеальная ценность объекта). Национальный выбор проходит по линии разграничения «материализм — идеализм», «рационализм — интуитивизм», «агностицизм — мистика» и т. д. [Марцинковская 1994: 57—58]. Хорошо известной особенностью русской науки является вторжение в нее чужеродных ментальностей весьма агрессивного склада, которые стремятся подавить русские формы научного освоения мира. Автор указанной книги говорит, что изучение психологии (например) — это момент самопознания, сложения ментальности, а в России эта наука стала местом приложения интеллектуалов из еврейской среды. Они пытаются понять русскую культуру, в которой вынуждены существовать, но незаметно приписывают ей свои собственные черты. То же происходит во всех научных сферах, где возможно изучение ментальности, и не только в России, — в лингвистике (в филологии вообще), в философии, в истории, в социологии. Искаженные представления о русском (французском, немецком и т. д.) выдаются за проявления собственно национальной ментальности «аборигенов», а затем порицаются как злое начало нации.
Национальное своеобразие по отмеченным особенностям научного мышления неоднократно обсуждалось в русской литературе. Вот, например, «немцы привыкли читать в поте лица тяжелые философские трактаты. Когда им попадается в руки книга, от которой не трещит лоб, они думают... что это пошлость» [Герцен 1954: 314]. Даже «французская дерзость не имеет ничего общего с немецкой грубостью», утверждает писатель. В «Былом и думах» Герцен особенно восхищен английской ментальностью. Так, «англичане — дурные актеры, и это делает им честь». Да и вообще, «страшно сильные организмы у англичан. Как они приобретают такой запас сил и на такой длинный срок, это — задача. Эта прочность сил и страстная привычка работы — тайна английского организма, воспитания, климата». Любопытно обращение писателя к характерной для англичан эмпирической тайне вещного. «Англичанин ест много и жирно, немец много и скверно, француз немного, но с энтузиазмом; англичанин сильно пьет пиво и все прочее, немец тоже пьет, только пиво да еще пиво за все прочее, но ни англичанин, ни француз, ни немец не находятся в такой зависимости от желудочных привычек, как русский» (по-видимому, не всякий русский). Но самая выразительная черта англичанина — это его консерватизм и любовь к политике — то, чего русский человек на дух не выносит. «Француз, действительно, во всем противоположен англичанину: англичанин — существо берложное, любящее жить особняком, упрямое и непокорное, француз — стадное, дерзкое, но легко пасущееся. Отсюда два параллельных развития, между которыми Ламанш. Француз постоянно предупреждает, во все мешается, всех воспитывает, всему поучает; англичанин выжидает, вовсе не мешается в чужие дела и был бы готов скорее поучиться, нежели учить, но времени нет — в лавку надо» — вот почему и у нас в чести француз: характером к нам близок, а англичанин — нет. Слишком холоден. Интересно и наблюдение Герцена над американцами: «Американцы — более деловые, чем умные; они станут счастливее, но не будут довольны». Всё это — «Былое и думы», думы о нашей современности.
Особенно часто обсуждается германский склад характера. Для Петербурга, где немцев много, это особенная тема.
«Особенность германского мира не в том, что ему чуждо само существо церковной религиозности, а в том, что ее формы остаются для него в значительной степени внешними» [Карсавин 1918: 115]. Дух германской расы «повсюду и всегда, что бы его ни занимало, устремляется к частному, особенному, индивидуальному. В противоложность обнимающему взгляду романца взгляд немца есть проницающий», тогда как «пренебрежение к человеческой личности, слабый интерес к совести другого, насильственность к человеку, к племени, к миру есть коренное и неуничтожимое свойство романских рас» [Розанов 1991а: 175, 174]. Что нам «немцы несколько докучают, понятно. Есть что-то в них плоховатое, именно как Плещеев говаривал: всякий немец по естеству туп. Впрочем, все же лучше сумасбродных французов, хотя эти веселей» [Хомяков 1912, 8: 94]. Михаил Пришвин понимал дело так: «Немец способен на всевозможное и в этом лучше всех во всем мире. Русский в возможном недалеко ушел, но он как никто в невозможном (,,чудо“)» [Пришвин 1986: 559].
Русские люди тем хороши, что — разные, говорил Пришвин. То же можно сказать и о немцах. Немцы — разные, в том числе и немцы в России. С одной стороны, «и Шлецер, и Бирон с одинаковым презрением к России и почти с одинаковым корыстолюбием с истинно немецкой наглостью» [Коялович 1994: 163]; с другой — «на Русь пришли лютеране Даль, Гильфердинг, Саблер, к сожалению не умею назвать немецкую фамилию Востокова (Остеннек. — В. К,). И поразительно, что они все не только потеряли „свое немецкое“, придя на Русь, с каковою потерею, естественно, потускнели бы. Этого не случилось, а случилось другое: они расцвели, стали ярче, сохранив всю деловитость и упорядоченность форм (немецкое ,,тело“), но пропитав все это „женственною душою“ Востока... В конце концов, оставили и свою религию, приняв нашу восточную, — без стеснения, без понуждения, даже без приманки, сами» [Розанов 1990: 333].
Также и критическое отношение к знанию-пониманию у разных народов облекается в своеобразные формы.
«Француз — догматик или скептик, догматик на положительном полюсе своей мысли и скептик на отрицательном полюсе. Немец — мистик или критицист, мистик на положительном полюсе и критицист на отрицательном. Русский же — апокалиптик или нигилист, апокалиптик на положительном полюсе и нигилист на отрицательном полюсе. Русский случай — самый крайний и самый трудный... Француз и немец могут создавать культуру, ибо культуру можно создавать догматически и скептически, можно создавать ее мистически и критически. Но трудно, очень трудно создавать культуру апокалиптически и нигилистически. Культура может иметь под собой глубину, догматическую и мистическую, но она предполагает, что за серединой жизненного процесса признаётся какая-то ценность, что значение имеет не только абсолютное, но и относительное» [Бердяев 1991: 64].
Не оставим это крайнее суждение без уточнений. Владимир Соловьев того мнения, что «философский скептицизм направляет свои удары против всякого произвольного авторитета и против всякой мнимой реальности. Философский мистицизм есть лишь чувство внутренней неразрывной связи мыслящего духа с абсолютным началом всякого бытия, сознание существенного тождества между познающим умом и истинным предметом познания. Совсем не таковы те крайние настроения, которые характеризуют наш национальный ум. Русский скептицизм мало похож на здравое сомнение Декарта или Канта, имевших дело с внешнею предметностью и с границами познания; наш „скепсис“, напротив, подобно древней софистике стремится поразить самую идею достоверности и истины, подорвать самый интерес к познанию: „Всё одинаково возможно, и всё одинаково сомнительно“ — вот его простейшая формула. При такой точке зрения наш ум, вместо самодеятельной силы, превращается в безличную и пассивную среду, пропускающую через себя всякие возможности, ни одной не отталкивая и ни одной не задерживая. Но подобным образом и наш национальный мистицизм стремится не к тому, чтобы поднять силу духа сознанием его внутреннего безусловного превосходства над всякою внешностию, а, напротив, ведет к совершенному уничтожению и поглощению духовной личности в том абсолютном предмете, который она над собою признала. Эта безвозвратная потеря себя в том, что поставлено выше себя, выражается, смотря по различию частных характеров, то в невозмутимом равнодушии и квиэтизме, то в самоубийственном изуверстве, породившем известные секты в нашем народе (самосжигатели, скопцы и т. д.)» [Соловьев V: 91—92]. Страстность русского характера влечет его за пределы взвешенного «среднего», вполне достаточного для познания «внешней предметности»; то, что «поставлено выше себя», заносит русский ум за пределы «вещности», искушая разум на поиски крайних сил бытия.
Хорошо это или плохо — особый вопрос. Но что верно — никакой материальной выгоды от этих метаний духа русский ум не ищет. Наоборот, «английская эксплуатация есть дело материальной выгоды; германизация есть духовное призвание. Англичанин является пред своими жертвами как пират, немец — как педагог, воспитывающий их для высшего образования. Философское превосходство немцев обнаруживается даже в их политическом людоедстве: они направляют свое поглощающее действие не на внешнее достояние народа только, но и на его внутреннюю сущность. Эмпирик англичанин имеет дело с фактами, мыслитель немец — с идеей: один грабит и давит народы, другой уничтожает в них самую народность» [Соловьев V: 7]. Затем Соловьев [V: 39] подтверждает мнение о том, что теория видов Дарвина могла возникнуть только в уме англичанина, как и политическая экономия Адама Смита. На самом же деле идея культурного призвания может быть состоятельной и плодотворной только тогда, когда такое призвание берется не как мнимая привилегия, а как действительная обязанность, не как господство, а как служение [Там же: 8]. А служение и есть доминирующая черта русского национального характера.
Владимир Соловьев [1988, I: 113] сравнил слово сам в нескольких языках; слово важно для понимания пределов свободы личного действия. Действие всякого животного идет «из самих себя», но это не есть еще свобода. Волчок вертится сам, но это не значит, что он производит движение. Сам — в смысле один «силою прежнего толчка». Такое значение находим у французского tout seul. В польском языке за словом sam сохраняется такой «отрицательный смысл — один без других» (samotny — одинокий). Но в русском и германских языках возможны оба смысла, причем если дан положительный (собственная внутренняя причинность), то отрицательный (отсутствие другого) предполагается, но никак не наоборот. Самоучка — сам причина своего образования — и учился один, без помощи. Так и в немецком Selbsterziehung или английском selfhelp. Но если речь о том, что вертел движется сам — selbst, by itself alone, — то слово употреблено в отрицательном смысле.
В заключение будут нелишними слова Данилевского [1991: 197] о том, что в русском человеке огромный перевес «общенародного русского элемента над элементом личным, индивидуальным. Поэтому-то между тем, как англичанин, немец, француз, перестав быть англичанином, немцем или французом, сохраняет довольно нравственных начал, чтобы оставаться еще замечательною личностью в том или другом отношении, русский, перестав быть русским, обращается в ничто — в негодную тряпку».
Вот основная причина твердости общественного в его отношении к индивидуальному. Вот основание русского национализма.
Хохол та москаль
Зарубежные исследователи часто смешивают украинскую и русскую ментальности. Так, говоря о Гоголе и Тарасе Бульбе, «запорожском казаке XV в.» (!), рассуждают о «русском национальном характере» [Драйзин 1990: 11]. От полного смешения особенностей двух восточнославянских народов спасает только то, что авторов такого рода трудов на самом деле интересует совсем иное — прежде всего «гоголевский еврей Янкель» и связанный с этим образом казацкий погром предателей, который, разумеется, также представлен «как выражение русского национального духа» [Там же: 25]. Но Янкель понимает только прямое значение слова продать (to sell), тогда как для казаков это еще и предательство — продаться [Там же: 29], но для нашего образованного автора все это лишь «лексические нюансы», к которым не стоит и прислушиваться. Конечно, когда украинское слово люлька переводишь английским pipe, то в конечном счете (обратным переводом) получается слово трубка, а это, конечно, знак уже русской ментальности. Разумеется, и казацкая отвага холодному сердцу изыскателя кажется «stupid, and even suisidal» (сумасшедшей и даже самоубийственной). Но что ожидать от человека, который в дружинном братстве видит «скрытую гомосексуальность» (тут же батюшка самого Гоголя — с. 14), а всякий еврей предстает как объект сексуального домогательства [Там же: 38] — коронная тема современных сочинителей подобного типа, помешанных на психоанализе.
Это всего лишь один пример, но пример выразительный. Он показывает, насколько живы старые убеждения в том, что „малорусская“ и „белорусская“ культуры будут нарочно создаваемы, ибо теперь «их еще нет» [Струве 1997: 286, 288]. Насколько это верно — просмотрим выводы специалистов (сводка мнений: [Лысый 1995]).
И. Лысый показывает, что в ментальных антиномиях украинец предпочитает первый выбор, хотя отдельный лицам не чужд и второй: интроверт—экстраверт в поведении, женственность—мужественность в характере, сенсорика—интуиция в восприятии, иррациональность—рациональность в мышлении, нестабильность—стабильность в социуме и т. д. Заметно почти полное совпадение с набором русских ментальных черт, но с одним важным различием: у украинца наблюдается «перевес личности над общинностью» [Лысый 1995: 43]. Украинская ментальность амбивалентна («амбивалентность — парадигмальная черта украинцев» [Там же: 52]), но она исходит из средних значений, тогда как русская основана на несоединимых крайностях.
Многие черты украинской ментальности, как она показана в источниках, действительно совпадают с русской, особенно те, которые восходят к временам общности двух народов. Стремление к равенству, борьба с насилием, оппозиция всякой власти (она всегда чужая, навязанная), что влечет к бунтарству как форме самовыражения; равнодушие к важным общим делам, но упорство в мелочах.
Нестабильность проявляется в инерции, в апатии, пессимизме, беспокойстве, все это — при склонности к формализму и бюрократии. «Родная хата» — стереотип интроверта, замкнутого на себе, но при отсутствии консерватизма; наоборот, украинцу свойствен переход к новым формам. Сенсорный тип характера определяет способность к кропотливой работе (особенно на земле) — украинец вообще все делает собственноручно и делает хорошо («свойственна деловая мотивация и некая прагматичность характера»). Этически украинец сентиментален и лиричен: «стихия любви» — это и сила, и слабость украинца. Иррационализм слегка подавляет логический фактор, а мифологические представления поддерживают «склонность к медитации»: «...в массовом сознании мифологемы часто теснят и здравый смысл». Впрочем, иррациональность мышления исключает чувство самосохранения: как и русские, они не учатся на собственном историческом опыте. Экстернальность психики определяет установку на самооправдание при недостатке самокритичности, что связано и с установкой на личностное начало. При этом отмечают, что личностное начало украинца обращено не к эгоизму и обособленности, а к персональности («межэтническая толерантность, альтруизм, милосердие»). Склонность украинца к духовному уединению совпадает с аналогичным русским стремлением к одиночеству, развивающему «стремление к целостности мира человека в его личностном постижении». Это важное отличие от западного человека: украинская тяга к индивидуализму ведет не к экспансии вширь, а к развитию личности вглубь. Тут также находим сходство с русской ментальностью, но это влияние средневековых, а не древнерусских (совместно русских и украинских) черт. Авторы подчеркивают украинское благородство как остаток казацкого рыцарства (у русских наличие рыцарства отрицается) или влияния «глубокой религиозности». В насмешливости к вещам и к людям, в ироничности и самоиронии видят «высшую меру благородства души» украинца, всегда жившего в условиях «аристократической демократии» (слишком сильно сказано!).
Краткий перечень черт украинской ментальности недостаточен для окончательных выводов о различии между русским и украинцем. У них много общего, но ясно, что на юге Руси давление инородных культур было сильнее, тогда как на севере (у великороссов) этническое окружение дольше сохраняло особенности славянской ментальности. Суровые условия жизни, например, требовали единения в обществе и отвергали путь индивидуальных поисков.
Русский француз
«Франция любит именно это — золотую середину», и ее культура — культура середины. Француз устроен «двухмерно-поверхностно»; он мастер формы, не мистик по жизни, не романтик, дух аналитика и радость от нормирования у него в крови [Шубарт 2003: 245—246]. Риторика — у француза, герменевтика — у немца, вдохновение — у русского, и всё это чуждо англичанину. Француз методичен, экономен, мелочен, малодушен — «за милые сердцу идеи француз отдает жизнь, но не сбережения» [Там же: 248]. Он взбудоражен и пылок, причем «одинаково всё, что он говорит, кристально ясно и абсолютно логично» [Зэлдин 1989: 16]. Существо социальное, в обществе француз — индивидуалист, он честолюбив и тщеславен, с чувством превосходства относится к другим народам, но при этом всегда вежлив (его основная добродетель) — душой он «теплее немца». У русского теплый — почти что горячий и как последний противопоставлен холодному; у француза tiede столь же холоден, как и froid, и оба они противопоставлены горячему (chand) [Гак 1998: 231]. Уже по этой подробности видно, насколько резко русская ментальность противоположна французской.
Такова самая общая характеристика — как оценивают француза извне, главным образом его элиту. Но как народ (мы видели это) французы неодинаковы. Француз рас-траи-вается. Даже средний француз — месье Дюран — не полностью национальный характер, и совокупность французских типов вовсе не аккорд, а творческий унисон в совместном явлении типов. Французская нация (как именно нация) этнически сборна: и кельты, и галлы, и франки.
Все представленные особенности — проявление «галльского духа», а кроме того и другое: «инстинкты равенства, храбрость, честь», презрение к смерти до упоения, почтение к женщине, почитание патриархов. Одно с другим сходится и сливается. Исторически важным — необходимым! — оказалось и усреднение типов, воплощенных в культуре и скрепленных языком.
«Истинная физиономия французского духа» описана Фуллье [1896]. Француз легко возбуждается (темперамент) — позыв к приятным и ужас перед печальным впечатлением дает внезапные проявления экзальтации. Общительно-лучезарный тип («уединение нас тяготит»), который будущим жертвует в пользу настоящего и потому — оптимист. Насмешлив и весел (в отличие от испанца и итальянца). У него взрывчатая воля, прямолинейный характер, внезапность решений и прямодушие («притворство требует размышлений») — он откровенен и искренен. Француз решителен («легкость есть наш первый интеллектуальный дар»), но в подробности не вникает (быстро схватывает целое и исходит из ситуации). Французу присуща любовь к ясности («мы склонны ко всему, что упрощает дело»), острота восприятия, чувственность (чувства управляют «природой образов»), хотя «мы больше рассуждаем, чем изображаем». Французский рационализм особенный: «мы неразделимо догматики и практики», и это в отличие от немцев, разум которых допускает существование под-логического и сверх-логического (смешение натуралистического и мистического). Француз нетерпелив и нетерпим к тому, что уклоняется от господствующего мнения. Ему присущ «талант дедукции», и геометрия — его бог. То, что называют здравым смыслом, скорее свойственно кельтам и славянам, француз же нацелен на позитивный интерес, поскольку слишком часто здравый смысл вредит оригинальности. Но всё это вместе, и прежде всего чувственность, направленная разумом, — это вкус.
Современный француз отличается от этого типа. Столетие не прошло зря. После революции 1965 г. среднего француза вообще не существует [Тернавский-Воробьев 1997]. Есть типы: материалисты, активисты, ригористы, эгоцентристы, «раздвоившиеся» — термин определяет суть типа. Среди «раздвоившихся много молодежи: двойная жизнь — личная (удовольствия) и видимость общественной. Социологи описали признаки различения стремительно менявшихся ценностей. В эпоху крестовых походов — знатность, честь, храбрость, верность и набожность. В эпоху Возрождения — знатность, верность, храбрость, любовь к искусствам и к греческому языку. В буржуазные революции — богатство, прибыль, карьера, «дело». Ценности французского индивидуума — собственность, вкус, бережливость, независимость, покой, жертва будущим в пользу настоящего (кое-что остается из прошлого). Французские добродетели — изысканный вкус, чувство меры, изящество, остроумие, находчивость, толк в жизни, блеск, тщеславие, расчетливость, черствость, напыщенность [Там же: 151—152]. Всё как у всех, но с оттенками, которые сохранены от прошлого. Всё идеальное — в прошлом, и от него остались идеи, которые правят французом. Вот «французский недуг — бюрократия. Англичанам удалось избежать его благодаря более развитому гражданскому сознанию, позволившему им сохранить контроль над собственными делами, не отдавая все в руки чиновников» [Зэлдин 1989: 143]. Но бюрократизм — порождение немецкой аккуратности; и много других особенностей менталитета получили французы за эти столетия от других (кое-что уже указано).
Англосаксонский тип
Если француз похож на русского хотя бы отчасти, то англичанин совершенно противоположен ему. Русский доверчив — англичанин невозмутимо спокоен (это склад души). В его речи важен намек и подтекст, ему свойственна склонность к недосказанности. Непритязательность в еде, пуританство, сдержанность — но притом себялюбие и (вот оно!) склонность к золотой середине без всякого шараханья [Шубарт 2003: 233—244; см. также: Овчинников 1987]. Не ища никаких закономерностей, англичанин «смело встречает каждый отдельный случай», потому что он — человек опыта; ценит причастность к клубу, уважает очередь, следует идеалу свободы, но никак не равенства. Нелюбовь к норме влечет его к прецедентам, и, в целом, скорее «демонстрирует черты женственного мироощущения» [Шубарт 2003: 234]. Русский воспитан в семье и в общине, англичанин — в «камерах». Английский психолог «несвободу» русского видит в том, что уже с младенчества того тесно пеленают (на столе на спине...), а затем еще воспитание и babushka [Горер 1962: 100]. Прощение грехов освобождает от психического давления, и чувство раскаяния для русского ценней невинности. Англичанин с детства живет в «заведении», и потому ему остается право «жить для себя, но — как все!»: «типовой индивидуализм». Язык соответствует социальному выбору поведения.
В общении участвуют три лица:
1-е лицо берет проблему на себя: он говорит;
2-е лицо — вовлекает в ее решение другого, который слушает;
3-е лицо — уже уклонение в сторону, но о нем-то и речь.
В русском разговоре частота употребления лица такова: 3—2—1, во французском наоборот: 1—2—3. Русский говорит о ком-то, француз — о себе. Для русского я без ты просто нет, он нуждается в диалоге, чтобы совместно обдумать вопрос или дело, тогда как француз мыслит в своей мысли и ни в ком не нуждается. Англичанин напрямую связан с он, у него последовательность иная: 1—3—2. У него любой контакт указывает на социальную дистанцию (не мешать свободе другого: свобода важнее равенства!); у русских наоборот — навязать себя в помощь (равенство важнее свободы). У англичанина эмоционально-волевая сфера отчуждения максимальна:
То есть у русского опосредованно о том (происхождение местоимения 3-го лица), а у англичанина это местоимение — от определенного артикля, и он говорит о «них». «Политическое мышление англичан во многом руководствуется словом они» [Оруэлл 1992: 214]. Указанием на предмет речи русский определяет, англичанин оценивает. В русской речи частотны слова человек, дом, жизнь, в английской — я, человек, хороший. Может быть, поэтому английский язык в наивысшей степени отражает принцип учтивости и любезности, демонстрируя специфическую культурную традицию, подчеркивающую культурную ценность как индивидуальной, так и личной независимости [Вежбицка 1991: 20].
Англичанин рационалист, но с душком эмпирика. Он номиналист от рождения. Это видно даже по словам в народных поэтических текстах. Там, где в русской песне представлен символ, англичанин руководствуется готовым понятием [Петренко 1996: 77]. Например, в описании человека русский скажет о лице — белое, кудри — вьются, очи — черные; английская песня опишет иначе: лицо — цветущее, румяное, о волосах — кудри, глаза — вращающиеся, а ухо, губы и нос лишены своих признаков у обоих.
Человек должен знать и правила, и права, потому что англичанин — индивидуалист. Он ищет только возможного, являясь мастером в искусстве взаимопонимания. Все четко делятся на профессионалов и дилетантов, причем любитель почитается больше, чем профи: джентльмены и игроки — страна садоводов! Чашка чая в пять часов — это свято, как и некоторые ритуалы жизни; стесненность, исключающая непосредственность. Тонкая особенность: чиновники в Англии — самые вежливые в мире. А вот «образованных на британских островах нет» — там готовят джентльменов. «В понятие „британец“ входит cant — пользующееся дурной славой лицемерие» [Шубарт 2003: 242]; англичане согласны с этим: «английское лицемерие и пуританизм (ханжество, аскетизм, стремление гасить чувство радости)», даже движение за трезвость — результат поголовного пьянства [Оруэлл 1992]. Национальная английская идея — мировое господство [Шубарт 2003: 243], что также известно. «Англичане сказали, что грабить мало — нельзя, а помногу — поощряется. Это европейский строй» [Гиппиус 1999, 2: 348].
Тут небольшая поправка. Оруэлл справедливо говорит, что представления об англичанине основаны на характеристике имущих классов: «высокие и долговязые» англичане и в Англии редкость. Иностранец основными чертами англичан считает «их глухоту к прекрасному, благонравие, уважение к закону, недоверие к иностранцам, сентиментальное отношение к животным, лицемерие, обостренное восприятие классовых различий и одержимость спортом» [Оруэлл 1992: 198]. Другие классы рисуют иной тип англичанина, обладающего склонностью помогать слабым и беззащитным (всегда берут сторону жертвы), неприязнь к любому насилию, уважение к умеющему проигрывать, и т. д. Сообразуясь с этим, Оруэлл заключает свое эссе: вдруг мысль «осенит: а существует ли вообще „английский характер“?».
Мысль, осеняющая многих и относительно других форм ментальности.
Слово и вера
Всё снова и снова возвращаемся мы к теме, которая исключительно важна для русской ментальности в ее отличии от западной. Что вообще преимущественно «народное» у нас? что — русскость? Ответ дает любое событие жизни. Вот художественные произведения у нас, и fiction (измышление) — на Западе. Для русского человека важен образ, т. е. пре-ображ-енный в идею реальный человек, который подчас воспринимается как более реальная личность, чем сосед по дому. Образ в слове — столь же реален, как сама жизнь, и вот вам «одна из особенностей русского народа — нам нужно СЛОВО! Нам нужен порыв. Не столько домик с газончиком, сколько порыв и вера в то, что у нас есть будущее» [Моисеев 1998: 408].
Не вера — народное (христианство интернационально), а язык, который соединяет веру и жизнь, оправдывая первую и укрепляя вторую. «Ведь в самом деле, если русское — то же, что православное, а православное — то же, что вселенское, то ничего индивидуального, специфического в русской национальной задаче и в русской национальной физиономии быть не может. Отождествляя русское с общехристианским, славянофилы должны были в конце концов растопить народное в универсальном; это и сделал Соловьев, у которого утверждение русского национального мессианства вполне последовательно перешло в отрицание всяких особенных черт русской народности» [Трубецкой Е. 1913, 1: 70].
Но первые славянофилы народное видели не в христианстве, хотя бы и православном, а в слове, т. е. в конечном случае — в Логосе.
Отсутствие русского слова в русском деле славянофилы рассматривали — и, может быть, справедливо — как нарушение гармонии действия: «Этих немецких слов, этих названий, вовсе бессмысленных для русского уха и не представляющих ничего русскому уму, набрались тысячи!» [Хомяков 1988: 354]. Бессмысленных в звучании, ничего не представляющих уму — это то самое отсутствие внутреннего словесного образа, который немедленно при восприятии порождает сеть сопутствующих ассоциаций и помогает справиться с делом, каким бы оно ни было. Если вам произнесут кучу «немецких слов» вроде киллер, менеджер или ангажированность, вы не сразу сообразите, что речь идет об убийце, жулике и продажности, — а потом уж и поздно будет что-нибудь соображать. Исторические беды России показали, что интуиции наших предков были более точными и положительными, чем «разум» экономистов, политиков и аналитиков, начинавших очередной разор и развал страны. Интуитивное чувство единства, цельности и ценности национального просто вопияло против раздела-разграбления в пользу киллеров и менеджеров, однако почему-то доверялись «разуму» интеллигенции. И разум, и интеллигенция надолго дискредитировали себя.
Понятно, что враждебные народности силы боролись прежде всего с русским словом; и силы эти — не обязательно иноземцы. Конечно, де Кюстин мог сказать: «У русских есть лишь названия всего, но ничего нет в действительности. Россия — страна фасадов. Прочтите этикетки — у них есть цивилизация, общество, литература, театр, искусство, науки, а на самом деле у них нет даже врачей» [Кюстин 1990: 94]. Это чисто французский взгляд на вещи: «Неистощимое богатство их длинной цивилизации, — писал Герцен, — колоссальные запасы слов и образов мерцают в их мозгу как фосфоренция моря, не освещая ничего». Накладывая свои слова на чужие понятия, маркиз не в состоянии понять и оценить другую цивилизацию, отрицая за ней то, что, именуясь тем же словом, значит подчас совсем другое. Не говоря уж о подтасовках, непростительных для логического галльского разума; речь ведь не о врачах, да и врачи на Руси — другие.
Опасение России — вот что движет маркизами, ведь Россия — это «сфинкс, вызывающий опасение. Каждый раз западный европеец снова и снова спрашивает себя: что это за народ? что он может? чего он хочет? чего следует ждать от него? Да и язык этого народа кажется странным и трудным», как трудна судьба говорящего на нем народа; ведь язык — это фонетическое, ритмическое и морфологическое выражение народной души [Ильин 6, 2: 373].
Но и «свои» тут же, и по тем же причинам отрицают русскость в народном. «Интеллигенция еще не продумала национальной проблемы, которая занимала умы только славянофилов, довольствуясь „естественными“ объяснениями происхождения народности (начиная от Чернышевского, старательно уничтожавшего самостоятельное значение национальной проблемы), до современных марксистов, без остатка растворяющих ее в классовой борьбе... Национальное чувство не этнографично, а религиозно-культурно», и интеллигенция, «разрушая народную религию, разлагает и народную душу, сдвигает ее с ее незыблемых доселе вековых оснований» [Булгаков 1911: 213—241]. Интеллигенция потому и переродилась, что под флагом интернационализма вбирала в себя самые разнородные, преимущественно интеллектуальные силы, которые изнутри разрушили фундаментальную идею народности. Оказалось — интеллигенция вовсе и не народу служила-то.
Народное и национальное (опять возвращаемся к мысли) есть реальность и действительность в сложном пресечении различительных линий. Идея национальности — самая поздняя, если судить по изменчивым смыслам слова язык.
Язык объединяет все три ипостаси идеального: веру, народ, государственность. В Средние века язык выражает особенность веры, с XVI в. — государственности, а после XVII в. уже и народа (перенося признаки с термина земля). Это Владимир Соловьев писал: «Что такое русские — в грамматическом смысле? Имя прилагательное. Ну а к какому же существительному это прилагательное относится?» [Соловьев 1988, 2: 696]. Имя прилагательное русский, русская относится именно к вере, к земле, к государству, а к человеку — не относится. Человек, как и всё на свете, имеет имя собственное: великорос. Жаль, что простые подмены вроде этой, основанной на незнании русского слова и его истории, русофобы повторяют все чаще, извращая смысл.
Так что проблема языка и сегодня, как всегда в прошлом, есть основная проблема выразительно-народного. Правда, с определенным, но всем известным подтекстом, на котором основана русская символика: русское — это земля, «но без Родины — нет земли», записал когда-то Михаил Пришвин.
Покажем на нескольких примерах, каким образом язык и слово влияют на различие в формах ментальности.
Слово и мысль
Сложнейший вопрос о формах мысли, связанных с национальной ментальностью, сведем к описанию нескольких различий в синтаксисе речи — просто, чтобы показать исключительную сложность вопроса.
«Всякое высказывание мысли с помощью языка обусловлено логически, психологически и лингвистически, — писал известный швейцарский лингвист Шарль Балли. — Обычно очень много говорят о ясности французского языка, при этом чаще всего имеют в виду не столько самый язык, сколько французский образ мыслей» [Балли 1955: 43, 27]. Балли исповедует концептуализм, т. е. в своих суждениях (как и положено французу) исходит из идеи-мысли, поэтому на первом месте у него и является собственно «французский образ мыслей» — логическая сторона дела. Номиналист на первое место поставил бы «лингвистические» основания («логическая философия» — изобретение номиналистов), а реалист — психологические. Однако объективно, в действительности проявления, в каждом языке все три составляющие представлены совместно.
В этом и состоит сложность вопроса и трудность его решения.
Французский язык (раз уж с него начали) ориентирован на сообщение, немецкий — на описание, английский — на указание (предмета), и всё это различные функции любого языка; однако в национальных традициях произошло обобщение той или иной стороны дела.
И в этом состоит другая сложность вопроса.
По своим категориальным и структурным особенностям современные языки выстраиваются по степеням обобщенности логических схем, в языке представленных: английский, французский, немецкий, русский... и русский менее других скован внешними в отношении его логическими формами. С этим сталкивается любой школьник, которому предлагают «разобрать предложение» — русское предложение — по логической схеме, вынесенной из западных образцов; так редко получается, и это сердит западного исследователя, который (которая: Анна Вежбицка) постоянно досадует на особенности русского высказывания, «неправильного» — согласно ихнему (любимое слово Достоевского) канону. Французский и немецкий языки в этом отношении посредине между максимально формализованным английским и язычески свободным русским, но и между ними существуют различия. Различия, отражающие национальную ментальность.
Немецкий язык ориентирован на говорящего («эгоцентричный язык», замечает Балли), а французский — на слушающего. Поэтому французский в большей мере «язык общения», является общественным установлением, которое создано в недрах Французской академии со времен Решилье; «он позволяет передавать мысль с максимальной точностью и минимумом усилий для говорящего и слушающего» [Балли 1955: 392]. Лев Толстой утверждал, что только на французском можно болтать, не затрудняясь в мыслях, потому что «кусочки» мысли уже вделаны в расхожие речевые формулы. Наоборот, «если думать надо» — тут русский или немецкий лучше. Поскольку, верно говорит Балли [Там же: 394], «потребности общения противоположны потребностям выражения», то французский язык (вернее — речь) постоянно упрощается. Хотя французский ближе к свободе, которая наблюдается в английском, он все же не достигает такой свободы (например, во французском сохраняется сослагательное наклонение). Во французском все время происходит сжатие единиц языка на всех его структурных уровнях, от слога до предложения. Более того, независимость и автономия слова утрачивается в пользу автономии синтаксического сочетания (синтагмы), просто потому, что устойчивые словесные формулы неизменными используются в «постоянстве последовательностей». Отказываясь от «атомов»-слов, французский язык создает «синтаксические молекулы» [Там же: 317], для того чтобы «освободиться от неопределенного понятия слова», которое становится простым знаком различения («семантемой»). Французская мысль синтаксична, она возвращается к формулам речи, заменяющим слова, тогда как русская ментальность, наоборот, традиционные словесные формулы «рассасывает» на составляющие текст слова. В поисках точности смысла французский сжимает синтагмы — в поисках истинности смысла русский раскрывает синтагмы. Французский соотносит единицу речи с понятием, русский — с символом (от целого к части). Устремленность французского языка к понятию как основной содержательной форме знака отражена во всем; даже глагол отступает «перед возрастающим засильем существительных», причем и глаголы представляют действие в отвлеченно-понятийной форме [Там же: 378].
«Иными словами, — заключает Балли, — французский язык постепенно склоняется к простому знаку, немецкий — к сложному» [Там же: 217]. Немецкое слово мотивировано исходным словесным образом, тогда как французское слово немотивировано, а ведь произвольный знак «снабжает предметы ярлыками и представляет процессы как свершившиеся факты, тогда как мотивированный знак (немецкого и русского языков. — В. К.) описывает предметы и представляет движение и действие в их развитии. Французский язык — статический, немецкий — динамический» [Там же].
Отношение к понятию различное во французском и немецком (как и в русском). В немецком и русском понятие формируется путем сочетания прилагательного с именем (добрый человек), во французском — обратный порядок слов («прогрессивная последовательность» — table ronde ‘стол круглый’, cheval blanc ‘конь белый’). В русском свобода расположения: стол — круглый с предикацией (предложение-суждение) и круглый стол с определением (понятие, выраженное как бы сложным словом). Эта особенность русского сотворения новых понятий основана на общем различии, существующем между существительным и прилагательным в каждом языке. «С философской точки зрения можно утверждать, что мы познаем вещества только через их качества» [Есперсен 1958: 81]; то же утверждал еще Потебня на примерах именно русского языка. У существительных объем меньше, а содержание больше, так что «существительные можно уподобить кристаллизации качеств, которые в прилагательных представлены в жидком состоянии» [Там же: 87].
Это, действительно, проблема философская. Что чему предшествует: wise ‘мудрый’ раньше, чем wisdom ‘мудрость’ или наоборот? kind ‘добрый’ предшествует ‘доброте’ kindness — или тоже наоборот? Английский ответ на этот вопрос рождает номинализм, русский — реализм. Русский язык дает возможность движения мысли от вещи к идее и наоборот (круглый стол и стол — круглый), английский — от идеи к слову-знаку (от wise к wisdom), французский — от идеи к слову-знаку и к вещи одновременно (суждение, оно же и понятие). Во французском «прилагательное — это виртуальное понятие, неспособное самостоятельно образовывать члены предложения; для того, чтобы стать предикатом, оно должно быть актуализировано связкой» [Балли 1955: 326]. Все это дает Балли полное право утверждать, что «французский язык, в отличие от немецкого, занимает прочную позицию перед лицом действительности: будучи далек от того, чтобы искать становления в вещах (подобно английскому. — В. К.), он представляет события как сущности» (т. е. как идеи) [Там же: 389].
Очень яркий современный мыслитель, В. В. Налимов, в сборнике «По тропам науки» (М., 1962) специально остановился на этой стороне дела.
Одни языки представляют собой сложные грамматические структуры, но при этом легко образуют и сложные слова или новые прилагательные, легко выражают мысль в виде длинных фраз с обилием вводных предложений, т. е. приспособлены для не очень точного, но глубокого выражения великих философских доктрин, для детального разбора любого раздела науки (например, немецкий язык).
Другие языки (с минимумом грамматических форм и с простым синтаксисом — как английский) созданы народами «с прагматической склонностью к действию и действенности, превосходно приспособлены для выражения научных идей в ясном и сжатом виде, выработке строгих правил предсказания явлений и воззрений на природу, не особенно заботясь при этом о проникновении во все ее тайны».
Промежуточный между ними — французский язык. «Его взыскательная грамматика, его достаточно строгий синтаксис до некоторой степени обуздывают фантазию и чрезмерное воображение. Менее гибкий, чем другие языки, он отводит словам внутри фразы почти определенное место и с трудом допускает инверсии, которые, сближая некоторые слова или выделяя их, позволяют получить неожиданные эффекты и дают в некоторых языках, например — в латинском, возможность добиться необычных по красоте контрастов», — заключает Налимов (с. 146).
А это и есть различие между реалистским, номиналистским и концептуальным восприятием.
Сопоставление всех особенностей двух языков показывает, что «французский — это ясный, а немецкий — точный язык, или, вернее: если французский язык любит ясность, то немецкий склонен к уточнениям; один прямо идет к цели, второй всюду любит ставить точки над і» [Балли 1955: 391]. Действительно, полумеры, компромиссы не для француза — он «идет прямо к своей цели» [Фуллье 1896: 124]. Что же касается ясности, она предполагает поиск отношений между словом и вещью (и между разными вещами), тогда как точность — это стремление проникнуть в глубь вещей, связывая их с идеями. Все дело в том, что «мотивированный знак уже сам по себе говорит нечто о понятии, которое он выражает» [Балли 1955: 392], так что ни немецкому, ни русскому языкам не нужно выяснять отношение слова к вещи. С самого начала ясно, что такое перестройка или гласность (мотивированные знаки), но что такое демократия или суверенитет (немотивированы русской системой) — это еще нужно уточнить. Шарль Балли специально говорит о том, что массовое внедрение в язык варваризмов приводит к разрушению языка, а следовательно, и к затемнению ментальности.
Вот что лингвист говорит о немецком предложении, но мог бы сказать и о русском: «Более того, когда ум погружается в созерцание и становление явлений, всё кончается тем, что забывают, чем был вызван данный процесс; забывают о деятеле; субъект глагола остается в тени; а отсюда изобилие безличных глаголов в немецком языке... Напротив, французский язык отвергает эти глаголы вследствие их неопределенности» [Балли 1955: 380]. Весь немецкий и русский синтаксис пронизывает движение, тогда как французский «создает впечатление покоя, неподвижности» — это язык понятий, а не образов или символов.
Логика и риторика
Французский язык логичен риторически, немецкий — стилистически.
Говоря о «психологии французского духа», Фуллье заметил, что у француза идея определяет направление чувств и чувства зависят «от прохождения умственного тока» [Фуллье 1896: 112]. Французский язык всегда «готов для мысли, слова и дела», это вообще язык, «на котором всего труднее плохо мыслить и хорошо писать». Французская мысль логична, а не страстна, даже личные мысли выражаются «с известной безличностью». Очень точное описание французской речи: «Мы не формуем нашу фразу по глыбе вещей, мы ваяем эту глыбу для того, чтобы придать ей понятную и прекрасную форму»; «вместо того, чтобы быть рабами реального, мы его идеализируем по-своему» [Там же: 122] — выделим слова, указывающие на единство логического в понятии и риторического в искусном.
Описательность русского или немецкого высказывания порождает новое знание в момент речи. Здесь возможно творчество, которое одновременно творит мысль. Если для французского ученого «почти полное исчезновение диалектов — это сила» [Балли 1955: 396], то, например, для русского — беда: в результате исчезают источники пополнения образного словаря и создания ажурной конструкции стилей, в тонких оттенках которых постоянно воссоздаются культурные символы.
Вот почему и внедрение в язык немотивированных заемных знаков, и разрушение стилей речи воспринимается русской ментальностью как покушение на нее самое.
Английское высказывание хорошо характеризует Джордж Оруэлл. В английском «обширнейший вокабуляр (словарь) и простота грамматического строя» соединяются с прекрасной возможностью слов переходить из одной части речи в другую: прилагательное — оно же существительное, а часто и глагол, в сочетании с предлогами одно и то же слово содержит до двадцати значений, и т. д.
Здесь нет длинных фраз и сложных риторических периодов, «английский — язык лирической поэзии и газетных заголовков», и «именно потому, что им легко пользоваться, им легко пользоваться плохо», что многих устраивает: «Никаких сложных правил не существует, есть лишь общий принцип, согласно которому конкретные слова лучше абстрактных (они толкуют о вещи! — В. К.), а лучший способ что-нибудь сказать — сказать кратко» [Оруэлл 1992: 223]. Голливудские боевики демонстрируют доведенные до сугубого лаконизма реплики героев, повторяющие друг друга из фильма в фильм. Это уже завершение тенденции, поскольку «в устной речи опускается все, что можно опустить, а оставшееся сокращается». Почему так случилось, писатель объясняет верно: «Культурный английский утратил жизненную силу, потому что чересчур долго был лишен подпитки снизу» — от народной речи [Там же: 224]. Сегодня те же беды грозят и немецкому, и русскому языкам. Вот судьба английской речи: со времен Шекспира англичан характеризует «глубочайший, чуть ли не рефлекторный патриотизм наряду с неспособностью логически мыслить» [Там же: 203]. И это не случайная оговорка, а способность, связанная с формами языка: «Англичане никогда не станут нацией мыслителей. Они всегда будут отдавать предпочтение инстинкту, а не логике, характеру, а не разуму»; прагматики дела и вещи, «из-за острой нехватки интеллекта» они не интересуются интеллектуальными вопросами [Там же: 233].
Как обычно бывает, в заведомо заостренной форме здесь выражена самая суть дела, с болью за родной язык высказанная мастером слова.
Можно ведь и иначе оценить свой язык — по функции, а не по силе. Вот как это делает русский писатель Владимир Набоков, говоря о собственном переводе «Лолиты» на русский язык: есть разница между «молодым русским литературным языком и более старым английским языком». В английском «тонкие недоговоренности, поэзия мысли, мгновенная перекличка между отвлеченнейшими понятиями, роение односложных эпитетов», а вот в русском этого нет.
Но тут возникает естественное желание вступиться уже за «молодой русский литературный язык», в котором, конечно, тоже всё это есть, но не усмотрено в сравнении с английским, выделенным как предмет наблюдения. Между прочим, с «более старым английским», чем тот, о котором говорит Оруэлл.
Сравнивая английскую, немецкую или французскую речь с русской, замечаем, что русское высказывание спокойно может обойтись без местоимения, указывающего на действующее лицо, а в других языках это невозможно, они всегда местоименно точны: 1-е и 2-е лицо присутствуют обязательно. Устранение указания на говорящего в русском предложении объясняется ситуацией, пропозиция «вещи» не нуждается в выражении ее идеи посредством специального слова. Ситуация у русских включена в высказывание, в других языках она дублируется словесно. Англичанин начнет: «Мау I see your ticket?» — русский скажет просто: «Ваш билет...» Переведите на английский фразы типа «есть хочется...», «хорошо бы поспать...» — получится что-то вроде I'm hungry, и обязательно с этим «я».
В немецком и русском, как сказано, стилистическая функция речи имеет важное значение. Она проявляется во всем, включая порядок слов в предложении. В русском языке он вообще свободен, в немецком более связан, но в общем не так, как в английском или французском. В русском предложении «Я завтра утром пойду гулять» возможно до 20 перестановок слов. В русском свободно используется инверсия и дистантное расположение связанных согласованием слов («черные налетели птицы»), в немецком такие возможности ограничены; там глагол вступает в рамочную конструкцию, и если уж поставлен в начале предложения — значит, это особое логическое выделение мысли.
Я и ты
Символически различие между ratio и logos'ом может быть представлено в истолковании образа Троицы [Колесов 2002: 265—274]. У православного христианства это соотношение между Сыном и Духом, одинаково восходящим к Отцу; у католиков это соотношение между Отцом и Сыном (filioque), одинаково нисходящими к Духу. В латинском христианстве «лица оставались на втором плане», потому что признавалось их единство [Шпидлик 2000: 61] — «содержание понятия νους, происходящее от слова сердце, без сомнения, устраняет опасность интеллектуализма» [Там же: 115], но совсем не исключает его, ибо νους есть Ум.
«Четвертая ипостась» Сергея Булгакова — это София, воплощенная идея синтеза всех трех ипостасей-Ликов и одновременно символ Соборности. София этимологически (с восхождением к древнегреческому образу) — «всматривание в себя» [Топоров 1980: 169]. Русские философы Серебряного века сделали попытку синтеза с возвращением в исходный концепт «София», но не как части ratio Ума, а как logos'а сердца, т. е. среды обитания, середины мира, непосредственности бытия.
На языковом уровне воплощением указанных отношений является место-имен-ная связь я—ты—он в единстве мы. В разных ментальностях истолкование связи различается. Например, два еврейских мыслителя, но работающие в разных языковых культурах, Семен Франк и Мартин Бубер, не совпадают в своих толкованиях.
У Бубера [1998: 64 и след.] соотношение я—ты возникает лишь там, где мы, но вокруг много он, она и прочих — и это не мы, а они; выделяется только круг «своих». «Только люди, способные реально сказать друг другу ты, могут между собой реально говорить мы» [Там же: 65]. Эмиль Бенвенист в отношении древнего индоевропейского языка также утверждал, что 3-е лицо — не есть лицо; исследователи истории современных языков (русского) полагают, что 3-е лицо — лицо эпическое. В известной мере это верно: из указательного местоимения формы он, она, оно стали использоваться как формы 3-го лица личных местоимений достаточно поздно, только в эпоху сложения великорусского народа и его языка (после XIV в.). Этот факт симптоматичен: для собственно русских людей он как и ты вместе со мною входит в состав мы. Троица-триада лиц соответствует идеальной Троице Ликов и тем самым включает в мы более широкий круг (ближних и дальних), чем западная языковая структура.
Именно так толкует суть дела Семен Франк ([1990: 348 и след.]; также Бердяев и другие русские философы). Мой, мне, со мной возникали раньше, чем я (форма самобытия). Я осознается лишь после встречи с ты, причем в составе конкретного я есмь — единственный. Второе я — это всегда он, т. е. возможно по степени близости ты: «он есть ты в сфере [безличного] оно» [Там же: 349]. Ты мне недостижимо, оно требует откровения, извне вторгаясь в нас. В момент противоборства я с ты есть явление встречи с ты как «место, в котором впервые в подлинном смысле возникает само я» и одновременно происходит концептуализация мы. Синтез всех в мы есть тайна — «святая глубочайшая тайна мы есть — как и тайна я—ты — тайна любви» [Там же: 385].
Я становится действительным только через ты и мы; само по себе я отсутствует как неразличимый признак индивидуума, не обретшего лица в отношении к ты и лика — в отношении к мы.
Русское следование личных местоимений (которые ни в одном языке мира не исчезают!) соответствует ликам Троицы, отличаясь от западного представления о том же:
Для западных языков 3-е лицо действительно не лицо [Штелинг 1996: 21]. Это указание на нечто неопределенное, безличное и объективно сущее; синтаксически форма 3-го лица сохраняет близость к имени (в русском языке не только по роду, но и по числу различаются его формы). В западных языках 3-е лицо представлено как объект в отношении к субъекту, это «объективное субъективное» может заменять всё, даже отсутствие субъекта (it's rains).
Артикль
В русском языке нет определенного и неопределенного артиклей, мы уже говорили об этом, — как будто нет, формально они никак не выражены. Англичанину-номиналисту важно различать вещь (the table) и понятие о ней (а table), с уяснения которого начинается всякое высказывание. Для русского реалиста это всё одно — но не то же. Апофатичность неслиянности-нераздельности присутствует и здесь. Куда от нее денешься?
Чем различаются выражения «взял хлеб» и «взял хлеба»? Это интересовало еще наших первых грамматистов, которые полагали, что данные речевые формулы передают количественную определенность (кусок хлеба) или неопределенность (хлеб вообще как продукт), а ведь это близко к понятию артикля. В некоторых случаях данное различие соотносится именно с различиями в артикле: нем. hole das Wasser — принеси воду, hole Wasser — принеси воды. Немецкий артикль der определенно обозначает известный слушающему предмет, который в момент восприятия не обязательно подвергать логическому определению. Артикль может употребляться и вместо указательного местоимения; более того, в форме единственного числа возможен «нулевой артикль», роль которого может исполнять определение solcher. А это уже точно похоже на русское такой или этот.
Артикль ориентирован на адресата и потому требует от него особого внимания к высказыванию [Штелинг 1996: 29]. С помощью артикля осуществляется уточнение логических связей в предложении. Например, отличие английского артикля от французского, немецкого, испанского и т. д. состоит в том, «что он не связан не только с падежом, но и с родом (а определенный артикль и с числом)», так что «английский артикль оказывается более независимым от имени», т. е. по смыслу шире, а функционально разнообразнее французского [Там же: 85—86]. Поскольку определенный артикль the там связан с указательным местоимением that, он сохраняет и соотносительно релятивные значения, служит в речи соединению слов. Особенности английского the в том, что этот артикль подчеркивает качественное (не количественное) своеобразие и притом отчужденно описательно, а не через переживание человека [Там же: 90]. Отсутствие определенного артикля переносит сообщение в понятийную сферу — это «мысль человека о предмете», а не сам предмет; неопределенный артикль относит имя к уровню представлений, а не наблюдений. По своему происхождению неопределенный артикль а восходит к неопределенному местоимению one и всегда показывает вычленение единичного из общего. Замечено, что неопределенный артикль выявляет в имени десигнат (признак различения), а определенный — денотат (предметное значение — объем понятия).
Во французском языке употребление артиклей «реализует различные оттенки значений в зависимости от семантики того существительного, которое он сопровождает, да и от значения высказывания в целом» — здесь совпадают меры количественной и качественной определенности [Гак 1988: 27]. В русском же языке определенным артиклям западных языков соответствуют местоимения этот, тот самый, свой, все эти, все, каждый, всякий, которые широко используются в речи, также помогая построению высказывания (в его логической проекции), но в большей степени свободы и притом в разнообразии оценочных и эмоциональных оттенков.
Отсутствие родового (артикля как формального знака) еще не указывает на исключенность категории, которая выражена серией видовых разграничителей. Русская логика свободна и исключает навязанность схемы-структуры.
Удвоенность сущего
Исследователи отмечают, например, что в иудейских обычаях существует запрет есть мясное и молочное одновременно: молоко — символ жизни, мясо — смерти. Но такое разграничение в европейских языках выражено различием в словах: в английском мясо живого зверя flesh, приготовленное для еды — meat, живая корова или бык — cow и bull, их мясо — beef, живая свинья и свинина — соответственно pig и pork. В русском языке подобное же различение, но по другому принципу. В нем плоть и мясо различаются только родово как общий признак, а видово, в отношении к отдельным мясопродуктам, используются производные: свинья — свинина, корова — говядина (от говядо ‘крупный рогатый скот’), курица — курятина и т. д. Всегда понятно, какой сорт мяса представлен в виде конкретно-единичного продукта (суффикс единичности -ин(а)). Возвращаясь к иудейским обычаям, заметим, что, например, у немецких евреев два ряда слов для обозначения всего еврейского и нееврейского, но существуют и различия по полу: мужчин приветствуют по-древнееврейски, а женщин — на идиш [Вандриес 1937: 238]. Это удвоение обслуживает вещный параллелизм явлений, как он отражен в народном сознании.
Русское народное сознание удваивает не вещный мир. Оно надстраивает над вещным идеальный мир вечного — идей, которые как бы осветляют земное и тварное. Мы уже не раз говорили об этом, приводя примеры подобного удвоения, вот хотя бы на противопоставлении полногласных и неполногласных форм, которые лучше всего показывают (значением словесного корня), что речь идет об одном и том же, но в разной проекции смысла: порох — прах, голова — глава, голос — глас и т. д. Удвоения нет в случаях, когда вещественность не возвышается в идеальное (сорока, горох и т. д.), когда идеальное представлено другим словом (дорога — путь) или слово получило неодобрительный смысл, исключающий признак идеального (корова — о неловкой, неопрятной женщине).
Современный исследователь заметил особенность всех таких случаев: «Мы не умеем описывать подобные явления из-за недостаточности адекватных средств описания: семантику не „спас“ ни язык семантических примитивов, ни какой-то другой искусственный язык, а, возможно, существующая lingua mentalis хранится за семью печатями и неизвестно, будет ли когда-нибудь обнаружен» [Голованивская 1997: 17]. «Язык семантических примитивов» — метод Анны Вежбицкой, всякие «метаязыки» сочиняли московские семасиологи. Все они работали на примитивном уровне понятий, исключая в своих исследованиях символы народных языков. Например, говоря о русских словах голова, земля, рука и др., рассуждали о метонимических переходах смысла в исконных славянских символах, не затрагивая сущности именно национальной ментальности. Сводя все различия между словесными образами разных языков к типологически общим понятиям, делали ответственный вывод о том, что это, якобы, «свидетельствует об универсальности закономерностей человеческого мышления» [Гак 1998: 709; также 694—698, 701—719].
Все языковые формы выражения ментальностей следовало бы изучать исходя из принципов национальной идентификации. То, что годится для французского языка (концептуализм В. Г. Гака), неприемлемо для русского реализма (эссенциализма).
Из всех языков Европы русскому во многом близок только немецкий, но так случилось исторически. Например, словарный состав немецкого языка более «демократичен» (неудачное слово: более народен), чем английский или французский [Штарк 1996: 20—21]. Наряду с общепринятыми научными терминами в немецком языке, как и в русском, имеются параллельные медицинские названия, основанные на всем понятном народном словесном образе, ср. Halswirbel ‘боль в области шейного позвонка’, в английском и французском только латинский термин cervical vertebra. В наличии определенной закономерности мы убедимся, если сравним такие термины:
немецкий Sauer-stoff Wasser-stoff
русский кисло-род водо-род
английский oxy-gen hydro-gen
В английском (и других европейских языках) условно-греческий термин, в немецком и русском — кальки, показывающие смысл термина в переводе на собственный язык. Михаил Ломоносов привнес в русскую номенклатуру немецкий принцип номинации: всё подавать в понятном простому человеку словесном образе. Здесь мы имеем дело не с заимствованием (из немецкого в русский), а удачное приложение собственно русского принципа к развивавшемуся научному терминотворчеству. Сравнивая это с современным засильем американизированных лейблов, ловишь себя на мысли: нет ли за этой экспансией семантически пустых знаков намеренного давления на ментальность? Как и в немецком языке, в русском посредством словообразования и словосложения потенциально возможны безграничные словарные запасы, воспроизводимые по мере надобности во всей силе их образности и эмоциональности. То есть во всей силе индивидуально-человеческого языка, а не «простого как мычание» волапюка.
В русском языке экспрессивность (эмотивность) номинации реализуется с помощью суффиксов (запаска, телик, неотложка), а образность представлена главным образом через глагольные формы, в которых образное восполнение концепта прежде всего и начинается. Сначала перестроить и только потом перестройка, сначала просто голосить и только после этого гласность («этимология» Салтыкова-Щедрина). Возникающий образ облекается в эмотивность чувства с тем, чтобы затем стать своего рода логическим понятием. Когда проходит время и становится ясной пустота случайно возникшего термина, он откладывается в сознании как символ прошлых эмоций: перестройка, гласность и прочее в том же роде. И уж символ никогда не исчезнет, напоминая об ошибках и боли.
Одно и то же представители разных ментальностей видят по-разному. Часть суток, в русском языке именуемая вечер, в английском может заходить и на ночь (at night — ночью, вечером), а русская ночь у французов может быть уже утром (час ночи — une heure du matin) [Гак 1998: 323]. Дискретность отрезков создает различные переходы, членимые сознанием в соответствии с привычками данной культуры.
Сравнение немецких и русских фразеологизмов показывает [Райхштейн 1980], что в немецком больше всего фразеологизмов на темы разрушения, уничтожения, предприимчивости и решительности, угрозы и раздора... Именно этих тем в русских фразеологизмах нет, хотя в большинстве оба языка совпадают: опьянение, счастье, усердие, помощь, удивление и возбуждение, гнев и ненависть, бедность и наказание... В немецком языке повышенная экспрессивность фразеологизма достигается путем замены слова, в русском — путем усиления образа фразеологизма в целом (гиперболы типа снять голову, содрать три шкуры), т. е. в русском языке по смыслу, а в немецком — структурно. В русском обороте образы, которые постоянно возобновляются, «освежая» смысл (так, как мы видели это на преобразованиях рядов обаятельный—очаровательный—обворожительный, чреватая—беременная—брюхатая и пр.). В русском языке отмечают более тысячи слов с ограниченной сочетаемостью, т. е. представленных как символы в очень редких идиомах (бить баклуши, андроны едут, не ахти как); в немецком их втрое меньше. В немецком языке фразеологизмы развиваются в сфере глагола (т. е. в высказывании), в русском — в сфере имени, тут важен символ, раскрываемый в высказывании (обычно это «отвлеченные» имена типа ум, душа, место, сила, дело, случай).
Сравнение русских и английских ментальных глаголов [Пименова 1999] показывает, что в русском языке активно используются приставки, в английском — послелоги. Базовых (исходных) глаголов этой группы в английском в два раза больше, чем в русском (более половины от всех глаголов ментального действия — в русском четверть). Однако при учете приставочных форм русский оказывается богаче английского по оттенкам ментального действия. В частности, в английском меньше таких глаголов со значением оценки или гибкой модальности (воображения, убеждения, предположения и т. д., особенно в переносном смысле).
Все подобные сопоставления показывают, что русский язык дает своему носителю гибкие формы для выражения личной эмоции и оценки, общей логической связи и традиционного символа, который способен сохранять культуру во времени и в пространстве. Французское «рацио» тоже насыщено эмоциональным («единство рационального и эмоционального начал»: Голованивская 1997: 264], но там они слиты «в общих словах» как заданная схема отстоявшейся эмоции, тогда как в русском эмотивность расплывается по всему высказыванию, всегда отражая личную точку зрения.
Грамматические категории
Грамматические категории явным образом выражают понятийные категории ментальности. Аристотель представил десять категорий, начиная от «сущности» (= имени существительному), так или иначе связанных с категориями древнегреческой грамматики. Впоследствии делались попытки (и совсем недавно: [Степанов 1998]) пополнить список, исходя из особенностей своего языка, но отличие от аристотелевых категорий в том, что современные индоевропейские языки далеко разошлись в истории, отражая ментальности определенных народов, и теперь их трудно представить как «общечеловеческие» понятийные. Да и прежде существовали различия между языками, даже в отношении к самым «обычным», казалось бы, категориям. Например, в древнееврейском языке очень часто одним и тем же словом обозначалось единственное и множественное число, что затрудняло уже первых переводчиков Библии на греческий язык, которые, например, не знали, в каких случаях говорить το ϑεός (Бог), а в каких ϑεόι (боги) — а ведь это покушение на еврейское «единобожие»!
Одна и та же категория в разных языках одинаково проявляется в первичных (основных) функциях, восходящих к общей их древности, но различается во вторичных, переносных, т. е. уже собственно национальных, отражающих новую ментальность. Например, в русском множественное число представлено как совокупная множественность, во французском — как раздельная: горошек — des petits pois [Гак 1998: 23]. Одушевленность во французском языке передается неграмматически (как в русском: вижу отца, вижу стол), а лексически с помощью особых слов. В русском языке субстантивируется прилагательное среднего рода, создавая переход к отвлеченному качеству (белое, полезное), а во французском в такой функции выступает прилагательное мужского рода (l'utile — полезное).
Особая роль принадлежит в языке глаголу — с ним связано много понятийных категорий. Александр Потебня видел в глаголе центр всякого высказывания, и с ним согласны все: «Глагол дает жизнь предложению» [Есперсен 1958: 95], «вся грамматика в целом заключена в глаголе» [Балли 1955: 120] и т. д.
В некоторых языках (например, семитских) больше развита система глагольного вида, в других (европейских) — времени. В русском языке тонко переплетаются вид и время как существенные категории глагола, одинаково ценные для русской ментальности — реализма. Вид обозначает реальное протекание действия, он вещен и конкретен, тогда как глагольное время, по существу, есть идея времени, поскольку эта категория отражает субъективно избранную точку «от момента речи». Благодаря этой системе в русском высказывании нет необходимости в сложной системе времен, с помощью которой можно показать последовательность описываемых действий (правила последовательности времен), их интенсивность и качество. Идеальное и реальное в русском подсознании совмещены на пространстве одного и того же глагола, так или иначе представленного в определенной форме.
Можно по-разному оценивать такие расхождения между языками и формой их воплощения в речи, но то, что они связаны с национальной формой речемысли — ментальности, — несомненно. Что же касается конкретных воплощений языковых форм ментальности, это лучше всего уяснить, погружаясь в чтение грамматик.
Вечный Жид
Повторим: «Теперь все дела русские, все отношения русские осложнились „евреем“. Нет вопроса русской жизни, где „запятой“ не стоял бы вопрос: как справиться с евреем, куда его девать, „как бы он не обиделся“?» [Розанов 1990б: 523].
Это сказано сто лет назад, а проблема все сложнее, все безысходнее из-за несводимости двух ментальностей, внешне очень похожих, а местами просто совпадающих по характеристикам. Остановимся подробнее на этой стороне дела, привлекая свидетельства обеих сторон, русской и еврейской. Как бы ни были схожи стороны, но внутренний импульс взаимного неприятии сохраняется. Почему же так?
Для начала объясним разницу между русским представлением о еврее и жиде.
Восточные славяне сохранили различные термины для обозначения народа, в соседстве с которым живут с незапамятных времен. У украинцев — жид, у русских — еврей. Первое слово осталось во многих славянских языках, прежде всего западных; из католической Польши проникали к нам идеи антисемитизма, но уже не как общественное настроение или политика (антисемитизм со времен фараонов предстает «как известное общественное настроение» [Солоневич 1991: 58], а как идея. Именно к идеям всегда были лакомы братья славяне. Высказывание Петра Бицилли на этот счет мы уже знаем, и мнение Пушкина — тоже: презренный жид — почтенный Соломон! Да и царь Петр, обзывая евреев мошенниками и запретив им являться пред очи («от врагов Господа моего не желаю прибыли интересной!»), в министрах держал Шафирова. Отдельный человек одно: он может быть и плохим и хорошим, и неважно, еврей он или же нет, а вот идея еврейства — дело совершенно другое. Тут надо подумать.
Подумаем.
Прежде всего, «не следует смешивать с антисемитизмом дурную привычку русского человека позубоскалить над е в р е е м или поругать „жидов“ [Карсавин 1928: 47] — себя он поносит и покруче. А уж его-то... Заметим, что у Карсавина одно слово выделено разрядкой, а другое — стоит в кавычках.
Тому есть причина.
Слово жид очень древнее, славяне заимствовали его у романских народов, чуть ли не у римлян (латинское слово judaeus). Обозначало оно «племя июдово»; изменение произношения показывает, что слово было известно до IX в. в народно-разговорном языке славян.
Церковнославянское еврей заимствовано из греческого εβραίος; это слово высокого стиля, книжное, новозаветное ‘пришелец, странник’; оно не могло обрастать уничижительными значениями. Оно и служит для нейтрально-литературного обозначения народа: евреи.
Третье слово — иудѣи — тоже из греческого (ιουδαιος), оно известно уже в старославянском языке, первом литературном языке православных славян. Как правило, оно означало веру и народ, этой веры придерживающийся. При нелюбви евреев к прозелитизму представители других этносов редко принимали обрезание, но если это случалось, инородец также становился иудеем. Это не этнический, а конфессиональный термин, слово высокого стиля, оно также не могло развивать нетерминологические значения.
Все три слова явились не враз, а в последовательности жид — июдѣи — евреи, — что и обусловило смысловую их судьбу, к самим евреям отношения не имеющую. Да и к славянам также.
Чем древнее слово, тем оно многозначнее исходно, поскольку поначалу служило для обозначения многих качеств сразу. Русский тоже не только этнический, но даже скорее культурный, конфессиональный, государственного значения термин. Поскольку терминологическое значение слово получает в авторитетном книжном тексте (обладает достоинством и служит образцом), греческого происхождения слова стали терминами, латинского корня слово жид — осталось в своем символическом значении.
Теперь войдем в обстоятельства жизни древних славян. Они только что избавились от хазарского ига (в Хазарии иудаизм), они недавно учинили погром в Киеве против насилия еврейских ростовщиков (1068 г.). В отличие от самих евреев, совершивших первый в истории погром (и ежегодно его празднующих в день Пурим), русские не убивали, а просто изгоняли вон — ибо, по слову князя, «нельзя о евреев пачкать меч». В «жизнерадостном» христианстве киевлян нет никакой веры Завету Ветхому, а с амвонов батюшки поносят «июдино племя», представители которого распяли Спасителя — Спаса. И символ, известный народу, вот он: слово жид. По-прежнему на устах, и «по жизни» видно: слились это смыслы в общем и указывают на одного из самых ненавистных угнетателей, на ростовщика. Как поступили бы вы в этом случае? Вот и в русском сознании дремлет мысль: не принимает христианства — значит, хочет остаться ростовщиком. Еврей не хочет быть тем, к чему призывает других, — интернационалистом, ибо это снимает идею «избранного народа» [Трубецкой 1990: 213]. Идея «паразитной нации» закрепляется за евреями и потому, что их вера «освящает воровство, мошенничество, обман и грабеж, повелевает убийство и мошенничество» [Ковалевский 1912: 7]. Последний наш летописец и первый историк Василий Татищев в начале XVIII в. подвел итог: «В России же едины жиды от Владимира II [Мономаха] доднесь не терпятся, но и та не для веры, но паче для их злой природы, обманов и коварств, чрез которых многие раззорения тайно христианам приключаются. Как и цыганов не для веры в государстве терпеть не безвредно» [Татищев 1979: 88].
Жаль, при переизданиях словаря Даля вырезали статью на это слово. В ней хорошо показано, как нравственное чувство народа сопротивлялось на Руси развитию «товарно-денежных отношений» и как оно оценивало «финансовый капитал» в эпохи его столь частого зарождения с последующим быстрым исчезновением.
Вот эта, стыдливо, но с тайным умыслом опущенная статья: «Жид, жидовин, жидок, жидюга, жидова или жидовщина, жидовье — скупой, скряга, корыстный скупец», — из которой ясно русское отношение к этому типу. Не еврей тут имелся в виду; это собирательно-общий, неэтический тип скряги, способного за грош удавиться.
Однако литературный язык в России развивался своим чередом, и в стилистических его границах естественным строем встали в ряд:
иудей — слово высокого стиля (принадлежность к конфессии),
еврей — слово среднего стиля (принадлежность к народу),
жид — слово низкого стиля (терминологически неопределенное).
Любопытно, что в древнерусской книжной традиции устойчиво — до XVII в. — употреблялся термин жидь: жидовинъ, хотя параллельно русским инославянские тексты уже использовали термин иудѣи, различая веру и профессиональное хобби. В древнерусских переводах (Книга Есфирь) также только июдѣи, июдѣянинъ. Расхождение связано с различными южнославянскими традициями письма: древнерусские книжники ориентировались на симеоновскую восточноболгарскую (жидъ), но уже в XVI в. сербские варианты с употреблением слова жидовинъ соотносятся с русскими при определении еврейскъ. Но в русских текстах XI—XVII вв. слово еврей не встречается. Может быть, потому, что слова среднего стиля в письменности использовались нечасто.
Простонародное слово и впитало в себе все семантические отходы высших стилей. Жид — не обязательно еврей и не всегда иудей: это скряга, ростовщик, алчность и жадность которого утесняет других людей, эксплуатируя их труд. С давних времен для русского человека иудей — это нехристь, еврей — человек и умный, и работящий, жид... Сами знаете... Тот тип русской жизни, о котором Ключевский сказал: «У них нет совестливости, но страшно много обидчивости: они не стыдятся пакостить, но не выносят упрека в пакости» [Ключевский IX: 398]. К тому же «евреи допустили, чтобы их национальное имя иудей или жид стало ругательным словом. Трудно себе представить, чтобы слово русь стало когда-нибудь для русских ругательным: русские, я думаю, всегда подымут перчатку. Если их будут называть русскими с желанием оскорбить, то они, я думаю, не оскорбляясь, а гордясь своим именем, заткнут глотку поносящим».
Однако как много желающих стравить еврея и русского (и любого другого), потому что жиду (в том числе русскому) это выгодно.
Вдобавок, русский человек не любит тех, кто чрезмерно выставляется, выступает. И не в национальной принадлежности дело, не в вере, а в человеке. Вспомните «образ еврея» в русской литературе — это действительно образ, а не тип, образец личности, а не схема. Человек, а не идея.
Кроме Карсавина, на тему еврейства и жидовства высказались Сергей Булгаков [1991] и Виталий Шульгин [1993], но между ними различие. Лев Карсавин изучал вопрос с точки зрения «еврея», Булгаков — с религиозной точки зрения — «иудея», Шульгин, как представитель Юга, с точки зрения «жида». Булгаков сравнивал различные мессианские идеи, заимствованные из иудаизма, и показал, что «нерастворимость» еврейского народа в диаспоре вызывает драматизм отношений с окружающей средой, в которой и возникает соперничество «светского мессианизма» — нацизма (в широком смысле всякого фашизма) с библейским мессианизмом, носителем которого евреи себя по справедливости считают, не допуская прозелитизма.
Каждый из трех по-своему прав, и вместе — не прав. Не прав потому, что смотрит только с одной стороны. Вряд ли возможны к исполнению призывы почтенных авторов: иудеям покаяться за революции, русским — простить и очиститься (Булгаков), или — евреям войти в лоно истинной веры православия (Карсавин), или — очистить себя «от жидовства», изринуть жида из русской души (Шульгин). Многое, что приписывают русской ментальности, тоже следствие подобного «жидовства». Судить за мысли — этого не мог понять и Пилат; «всечеловечество — для еврея это господство» [Шульгин 1994: 313] и т. д.
«Зараженность жидовством» у русских есть такое же следствие долгого сосуществования, как и у еврея зараженность русским языком и культурой («льнут к культуре»). Вот только что один из них написал: «Современный русский язык — это язык Пастернака, Мандельштама и Бродского» — разве не провоцируют такие высказывания людей, которые предпочитают поэзию Рубцова, Твардовского, Кузнецова и прозу писателей-«деревенщиков»? Намеренность логических сбоев, смешение литературного языка с языком литературы создает публицистическое напряжение между разными культурными потенциалами — во вред обоим.
Или вот еще утверждение современного публициста: по завету Льва Шестова и вослед творческому опыту Исаака Бабеля русская литература отходит от «искажения жизни, воспевая одни „идеалы“ — вместо того чтобы говорить суровую правду о человеческом существовании. В результате всё больше является произведений, воспроизводящих грубую правду жизни» (физиологию и патологию ее, хотелось бы добавить, читая имена авторов, перечисленные вслед за этим). Почему бы и нет? Но почему такая литературы — русская? Русская литература не концептуально вяжет слово напрямую с вещью, это не натурализм, а все-таки реализм, и без этой самой «идеи» ей не обойтись никак. Самые жестокие романы Андрея Платонова, самые мучительные страницы Варлама Шаламова — прежде всего идеи, взывающие через острое и многозначное русское слово к «вещи», к миру, к жизни, к судьбе.
Воля ваша, но нет ли правды и у русских мыслителей?
«Произошел осмос продуктов распада двух культур: европейской и еврейской. Какова тут доля вредного влияния со стороны каждого из элементов, узнать, разумеется, очень трудно и даже совсем невозможно без тщательных специальных изысканий. Но для них условия до сих пор крайне неблагоприятны, так господствуют страсти и пристрастия: у одних — стремление во всем обвинить евреев, у других — стремление их совершенно обелить. Мы ограничиваемся констатацией общего факта, напоминая, что наша задача не в лечении нервнобольных. Вполне понятно, что ассимилирующиеся евреи сыграли свою роль, хотя отнюдь не основоположную, и во вредном для русской культуры процессе чрезмерной евреизации. К тому же и европеизм XIX в. не свободен, как мы видели, от влияния евреев...» [Карсавин 1928: 42].
Нужно бы отказаться от вредной привычки путать божий дар с яичницей и не приписывать русскому реализму как ментальному опыту несвойственный ему прагматический номинализм, согласно которому всё кажется столь понятным: есть термин — есть и идея, а уж за идеи непотребные — рубить головы!
Это не русская идея — рубить головы. Но откажется ли еврей от своей идеи? Если уж христианские конфессии не могут поладить взаимными компромиссами, как тут справиться с рас-трое-нностью еврейского сознания, неспособного решить вопрос однозначно, то есть честно.
Вот и подошли мы к тому, с чего начали.
Вечная проблема. Вечный жид — the wandering Jew — скитающийся жид, то есть еврей.
Так что непонятны истерики по поводу слова жид. В некоторых языках это единственный термин, именующий еврея. Но дело даже не в этом. Исторические метки остаются на потомках. Сила, выносливость и добродушный характер средневековых славян, долго не имевших собственной государственности, способной их защитить, привела к тому, что «цивилизованные» народы торговали ими на всех невольничьих рынках Европы и Азии, закрепив это состояние даже в слове-термине: английское slave — раб, невольник, даже жертва, но также труженик (работяга); ср. также немецкое der Sklave, испанское esclavo и т. д. Западным номиналистам на этом основании очень просто «доказывать» «вечно рабское» в русской душе — стоит лишь употребить это слово в привычном для ментальности содержательном смысле.
Почему же жид любой национальности не может быть назван так за особенности своего социально опасного поведения? В средневековой Европе преимущественно евреи занимались ростовщичеством, скупкой краденого, подпольной торговлей и прочими непотребными деяниями. Слово стало нарицательным обозначением скупца, скряги, корыстолюбца. Точно так же ведь и немец для русского сознания не обязательно германец, а вообще всякий враг, пришедший из-за рубежа, не говоря уж о знаменитом «англичанка гадит» — как признании корыстной британской дипломатии. Что за исключение для «жида»? Тем более, что сам он в своих высказываниях о русском отнюдь не стесняется в выражениях. Где же равенство? Где демократия? Исповедовать двойные стандарты не к чести европейцу, который упрекает русских в «раздвоенности сознания».
Русский и еврей
Самым удобным для сравнения русского простеца с кем-то другим будет сравнение с еврейским «простецом». Его особенности весьма характеристичны; несмотря на более чем тысячелетнее проживание в славянской среде, он сохранил именно особенности своего типа.
Воспользуемся авторитетными указаниями известного еврейского ученого, который дал сжатый очерк еврейской ментальности [Штейнберг 1983], и попробуем сопоставить два типа; это возможно тем более, что, как заметил Шеллинг [Шеллинг 1989: 302], и «закон еврейского стиля — это параллелизм».
В плане идей оба типа совпадают вполне, поскольку и русский тип воссоздан исторически на иудео-христианской традиции; оба типа густо замешаны на язычестве. В плане характера, поведения и ментальности различия принципиальные, в общность сотрудничества не сводимые.
И русский, и еврей обуяны мессианской идеей, ждут «света с Востока», а не с Запада («Запад — меркнет»). Но и Восток они понимают по-разному, и мессианизм их различен: Пришествие и — Второе Пришествие.
Для тех и других авторитет один — это Бог, и никакого другого авторитета не существует в разграничении Добра и Зла, кривды и правды — авторитет абсолютный.
Для обоих «богоподобие человека» есть основная идея, и на этом основывается отношение к конкретному человеку. Идеальный человек в обеих моделях сознания совпадает по признакам: скромность, умеренность, самоограничение, удовлетворение малым, богоподобие как идеал самосовершенствования, предупредительность к слабым; это — кроткий, спокойный, открытый разум, чистое сердце, полное благодарности и прощения.
Любопытная подробность: самые рьяные критики русского «Домостроя» — еврейские публицисты и мыслители. Между тем всё, что мы знаем о законе семейной и домашней жизни у евреев эпохи Средневековья, почти полностью совпадает с рекомендациями «Домостроя». По свидетельству Аарона Штейнберга [1983: 167—168] по устному закону Mishnash семья соотносится с семьей на основе Соглашения («общественный договор» Руссо), отец выступает в двух функциях: главы семьи и руководителя домашней школы (ибо семья — подготовительная школа), что не уменьшает авторитет матери, второго лица в управлении домом (хотя признаётся, что женщина как существо слабее и телом, и духом); относительное равенство мужа и жены в домашней сфере укоренено и принципом «сексуальной морали»: ореол святости и сакрализации супружеских связей. Во внешнем мире еврей — другой [Там же: 172—173].
Он подчиняется двум взаимно противоречащим руководящим принципам. Первый обязывает еврея уважать человеческое достоинство нееврея и воздавать ему все, что достойно сына Адама (универсалистская идея); второй требует держать нееврея на расстоянии «вытянутой руки» (отчужденность, озабоченность в сохранении собственного закрытого общества). У русского наоборот: доверительная открытость — и очень частое неуважение к личному достоинству другого человека. Причина — в откровенности (открытость и есть откровенность), мешающей уважать недостойное уважения. Правда, и «у русских евреев есть проблемы с уважением к мировому еврейству и проблемы уважения к России», — замечает Штейнберг [Там же: 280]. Русские наблюдатели специально отмечают разницу: у еврея уважение к идее человека (уважение к достойному), а у русского — уважение к конкретной личности, но против идеи. Концептуалист еврей исходит из идеи, а реалист русский до идеи доходит — от вещи, от реальной жизни, от конкретного, ему знакомого еврея в данном случае: «С расовой ненавистью к евреям у нас ничего не выйдет. Каждый из нас, каким бы ни был антисемитом, в конце скажет: "Вообще говоря, жиды сволочи, но вот Соломон Соломонович — прекраснейший человек!"» [Солоневич 1997: 210].
Средневековые легенды о вечно странствующем жиде связаны с установкой на деятельность: «...всегда и везде быть в движении — вот что такое Израиль среди народов мира» [Там же: 232]. В этом отличие от русского странника: «вечного жида» притягивает его новая страна, а русского отталкивает его собственная; отсутствие ностальгии в первом случае — и неотвязность ее во втором.
У еврея внутренняя религиозная традиция получает статус обязательного закона — против диктата сердца [Солоневич 1997: 158]. У русского сердечное влечение, наоборот, воспринимает энергию благодати (теперь говорят о харизме), и потому с законом — всегда не в ладах. Хорошие законы существуют лишь для избранного народа, и потому любой представитель этого народа должен жить по чувству ответственности, вины и обязанности, ибо «всякое отклонение от закона способно разрушить мир» [Там же: 168]. Русский знает Послание к евреям апостола Павла, в нем сказано: «Ибо закон ничего не довел до совершенства», и если бы не было недостатка в законе, не было бы нужды его исправлять [Там же: 7, 19 и 8, 7]. А поэтому перед законами все должны быть равны, не должно быть избранных — и никто из людей не может создавать законы.
Абсолютная бесценность каждого человека, его индивидуальности признаётся евреем, но подвергается сомнению русским: не личность — главное в социальной цельности человека; часть оценивается по цельности целого.
Устный закон евреев предписывает: прежде грехи пред Господом — теперь грехи пред человеком, перед другим (ближним); русский различает три степени отношения человека в его греховности: к Богу, к другому, к себе самому, и в последнем отношении это совесть.
Исторически скромность Моисея — пример для подражания. Моисей никогда не говорил от собственного своего имени, постоянно выступая интерпретатором Писания. Поэтому, с иудейской точки зрения, идеальный человек не должен и пытаться приступать к совершенно новому начинанию, но, скорее, продолжать работу своих предшественников, ее истолковывая. «Мастерство интерпретации» — сильная сторона еврейского гения, но творческий потенциал приглушен. Даже философия для него — анализ текста (готовой вещи), а не слова — не языка. Интерпретация текста (в широком смысле) — характерная особенность еврейской культуры в любой сфере творчества; это культура мнений, рекламы и внешнего блеска («рыночный текст»). Это культура ремейка. Еврей — адвокат, режиссер, литературовед, публицист широкого профиля. Интерпретационная сила каждого — выше всех похвал; много острого, спорного, добротного, однако новой идеи — нет. Нет потому, что концептуалист всегда исходит из готовой уже идеи; она ему дана, ее следует развить. Потому же еврей всегда и универсалист (идеи), и одновременно горячий сторонник всяческих переустройств, в том числе и общества на интерпретированной им самим основе. Вместе с тем сами евреи не были «творцами новых идей, они только придавали европейской науке характер абстрактности, отвлеченности» [Розанов 1990в: 26]. Русский исходит из цельности известного уже слова (логоса: задан, а не дан), в рамках которого он и хотел бы со всеми сотрудничать (эволюция, а не революция — лозунг славянофилов). Творение нового важнее и ценнее интерпретации уже известного, воспроизведения и толкования чужих открытий. И у русского возможны преувеличения, но иного рода, о них говорит философ: «Готовность к абстрактному яркому концептуальному творчеству — до сих пор характерная черта российского ума. Не случайно на Западе, столь ценящем позитивное, конкретное знание и творчество, не встречает поддержки фейерверк интеллекта и фантазии, самоценные у нас: идеи прекрасны и красивы, но каков результат? И где он?» [Тульчинский 1996: 175—176].
Повышенное внимание к образованию, получению положительных знаний — высшая для еврея заслуга. К этому он готов с ранних лет; маленький еврей накапливает знания, маленький русский в со-знании воспитывает воображение (даже если в школе учат его «знанию» терминов и дат, он непроизвольно стряхивает с себя подобную шелуху: «Какой бездарный ребенок!» — говорит учитель-еврей): мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Из числа евреев выходят хорошие учителя, педагоги, психологи — очень основательные полиглоты и эрудиты. Пренебрежительное отношение русского к накопительству знаний связано с реалистской его позицией: в слове он всегда найдет ответы на конкретный вопрос, нужно лишь в слове этом — разобраться. Еврейский интеллект — по воспитанию и природе концептуалистический — идет от идеи готовой (и часто — не своей), ему-то знания и нужны, поскольку ни в одном языке нет для него глубины ментальности.
Идея толкуется евреем через букву Закона. Отсюда и сильные и слабые стороны еврейского менталитета, как понимает их русский человек: буквализм, прагматизм, рационализм, схематизация любого явления почти до скелетного уровня, слишком большое умствование на пустом месте (в пример приводят философию Льва Шестова, но годится любой литературовед и публицист), насыщение «текста»-дискурса ненужными подробностями и деталями. Русский тип ментальности прямо противоположен в своих признаках и в глазах еврея выглядит как несобранный, непредсказуемый, нерациональный в действиях тип, что также — неверно. Потому что русское сознание вещь представляет — вещью, идею — идеей и в своих изысканиях исходит не из писаной буквы, а из вещего слова.
«Универсальная гармония в этом мире», — писал Аарон Штейнберг [1983: 166], — для еврея заключается не в братстве, а в демократии, которая построена иерархически в субординации членов общества («чтобы сохранить общество как целое»). Но от разочарования в демократии возник социализм, заметил по этому поводу Семен Франк, добавив, что либеральная демократия — идея религиозного происхождения и корень ее известен [Франк 1996: 142]. Законченность лада в соборном, то есть живом целом, которое и определяет относительную ценность каждого его члена, — вот позиция русского. Лад как естественный порядок органически цельного лучше всяких иных по-ряд-ков (Ordnung'ов), ибо лад — это вещь, а не идея.
В любом толковании такое представление о гармонии есть братство; о предпочтении братства демократии постоянно писал Николай Федоров. Любопытно, что даже обращение брат, как всех примиряющее, появилось у нас, когда мы запутались в терминах социального общения: товарищ нельзя, гражданин опасно, господин непривычно, друг же... вопрос спорный.
Из различия в понимании социальной гармонии много следствий, в частности относительно идеи «системы»: система есть живое целое для русского и соотношение элементов по признакам различения — у еврея. От целого к части или от частей к целому, реконструкция или конструкция, «нисходим» или «восходим» — все в противоположном смысле.
Для еврея важна «сакрализация всех биологических состояний человека», прежде всего — сексуально-половая сфера жизнедеятельности; Аарон Штейнберг [1983: 169] полагал, что вообще еврейская мораль создала основу для человеческого отношения к животной сфере жизни. Сюда относится и развитие чувства отвращения от всего, что противно, нечисто и отталкивающе в природе. Для русского человека тоже много чего на свете противного, но в основу своего мироощущения он кладет не вещность тела, а идеальность духа; у русского отвращение к моральной грязи. «Весь смысл Израиля — искание великой, для него самого непонятной цели. Абсолютной божеской чистоты в зачатии и рождении. Преодоления первородного греха именно здесь, в самом темном и скользком срыве, в центре пола» [Гиппиус 1999, I: 237]. Женская проницательность: «...а для нас, увы, вечный Израиль — только Вечный Жид» [Там же: 239]. Все время не покидает ощущение, которое выразил Василий Розанов: «Еврей силится отмыть какую-то мировую нечистоту с себя, какой-то допотопный пот. И всё не может. И всё испуган, что сосед потихоньку отворачивается от этого пота» [Розанов 1990б: 475].
Еврей не верит в судьбу и во всех непорядках видит личную свою вину — но вину как объект греха видит в своих неурядицах также и русский, и различие в том, что русский при этом ропщет, а еврей, говорят нам, исправляет положение дел.
Словом, для русского нравственность поведения — первое дело, этика его привлекает возможностью регулировать тот самый лад общественной жизни, который и правит идеальным (реальным) миром. Для еврея важнее дело, рациональность вещи — и потому экономика.
В принципе, бедность одинаково рассматривается как естественное явление, сродни физическому нарушению, но если еврею предписано помочь соплеменнику, и это не «благотворительность», а долг, то русский понимает милосердие как возможность личного спасения, а не долг и потому, возможно, соплеменнику помогать не станет.
Исторически так случилось, что жизнь в диаспоре лишала евреев источников существования, обычных для местных народов. Экономика в самом широком смысле и стала их призванием. И когда сегодня так часто и слишком истерично вопиют об «антисемитизме», следует понимать и рационально (тут это свойство отказывает — почему?), что антисемитизм — родовое понятие, оно подразумевает несколько видовых: проблему политическую (сионизм), религиозную (иудаизм), экономическую (финансово-ростовщический капитал) и нравственную (жидовство в описанном смысле), но не этническую (семиты не только евреи). И если хоть одно из этих отношений в обществе сохраняется — проблема квазиантисемитизма сохранится. Такова эта «мистика антисемитизма» (по словам Солоневича), которая на руку разным силам, подчас противоположным по направленности действия.
Осталось понять, в какой мере «портрет еврейского типа» соответствует практике: сам Штейнберг постоянно ссылается на библейские тексты (в том числе евангельские) и часто цитирует неоплатонические тексты («Ареопагитики»). Значит ли это, что в душе иудей — христианин? Или прав русский историк Ключевский: «Им горячо жить — под их пятками горят заповеди»?
Жить... что мешает евреям спокойно жить в России? «Мешает этому, я думаю, преимущественно та исключительность, та особенная миссия, которую приписывают себе евреи. Знать свою миссию народу, как человеку свое призвание, не только не нужно, но вредно. Человек и народ должны всеми силами делать то, что составляет его призвание, а не определять его, так как определить его и нельзя до самой смерти. Призвание определяется после смерти... поэтому, пока жив, ни на минуту не надо отвлекаться рассуждениями праздными о том, в чем состоит моя миссия, — от исполнения ее; кроме того, рассуждения о миссии еврейства, обособляя еврейство, делают его отталкивающим, для меня, по крайней мере. Как противно, отвратительно англосаксонство, германство, славянство (в особенности мне славянство), так противно еврейство, как какое-то сознанное, обособленное начало, возведшее себя самозванно в какую-то должность и чин».
Так записал для себя типичный русский простец — Лев Толстой.
А великий русский юродивый всю жизнь удивлялся: «Да и странное дело: еврей без бога как-то немыслим; еврея без бога и представить нельзя. Но тема эта из обширных, мы ее пока оставим... На деле трудно найти что-нибудь раздражительнее и щепетильнее образованного еврея и обидчивее его как еврея» [Достоевский 1983: 75]. Что тема «из обширных», это понятно из разросшейся этой главы и сопутствующих обстоятельств жизни, но Достоевский приметил главное: еврею удобно смешивать все три ипостаси своего социального бытия. «Еврей без бога» немыслим, потому что это иудей; раздражительность «образованного еврея» объясняется желанием «выскочить из жида». Весь «антисемитизм» писателя в том состоит, что он (как и всякий русский) хотел «указать, что в мотивах нашего разъединения с евреем виновен, может быть, и не один русский народ и что скопились эти мотивы, конечно, с обеих сторон, и еще неизвестно, на какой стороне в большей степени». Да и нет в мире другого народа, «который бы столько жаловался на судьбу свою, поминутно, за каждым шагом и словом своим, на свое принижение, на свое страдание, на свое мученичество» — будто не они царят в Европе на своих биржах! «Но самомнение и высокомерие есть одно из очень тяжелых для нас, русских, свойств еврейского характера». Второе: «еврей может торговать чужим трудом... Еврей предлагает посредничество, торгует чужим трудом...». Это человек, «дух которого дышит именно этой безжалостностью ко всему, что не есть еврей, к этому неуважению ко всякому народу и племени и ко всякому человеческому существу, кто не есть еврей» [Достоевский 1983: 77, 87, 85, 84].
Русский еврей
Русские мыслители не один раз выразили ту мысль, что «из всех „инородцев“ евреи нам ближе, всего теснее с нами связаны», поскольку, в отличие от других народов, «не растворялись в русской нации» [Струве 1997: 208]. Но именно это нежелание принять «участие в русскости» и приводит, как кажется, к отталкиванию от евреев во всех слоях общества, в чем нет вины русских: «Левитана я люблю именно за то, что он русский художник» [Там же]. Конфронтация русского и еврея состоит в том, что ни тот ни другой не желает утратить «право на свое национальное лицо» [Там же].
Оставим в стороне крайние суждения яростных антисемитов, имевших, впрочем, основания быть таковыми (Меньшиков, Тихомиров, Розанов), хотя и в их мнение следует вдуматься, чтобы услышать сдавленный голос русского самочувствия. Мнений разного толка по нашей теме и без того достаточно, в том числе и со стороны евреев. Со всей серьезностью отнесемся к теме и постараемся изложить ее согласно общему плану книги: аналитически.
И В. В. Шульгин [1994: 176] с сочувствием говорил о евреях: не могут они добровольно «своего давления прекратить, ибо их самих толкает сила, сидящая внутри них». Шульгин упрекает евреев «с их преувеличенной претензией лезть на социальные верхи без достаточного к сему основания» — «и только твердая русская воля удержит евреев в должных границах» для их же пользы [Там же: 218].
Русский еврей имеет свои оттенки, связанные с его существованием среди русских. Обширную эту тему ограничим цитатой из Розанова [1998: 99 и след.]:
«Если перед вами еврей и еще несколько человек, немец, поляк, русский, чухонец, то вы всегда увидите еврея в озарении некоторой деловитости и вам нужности, а прочих — индифферентными себе.
Русский по обыкновению спит.
Поляк рассказывает „нечто из своих подвигов“.
Француз волочится. Немец глубокомысленно рассуждает о том, что никто не видал и о чем никто не знает.
Чухонец сосет трубку и ни о чем не рассуждает. И англичанин поглаживает мускулы.
Вы — не существуете для всех, о вас думает один еврей; и начал думать с той самой минуты, как вы вошли в дверь. Он думает, в чем вы нуждаетесь, — серьезно, участливо и практично. Он взвесил вашу душу. По лицу и по движениям он определил, что вы за человек, и какую почву представляете собою, и какое семя способны принять в себя. "Что из вас может выйти в отношении его..."
Он удобрил вас, он оплодотворил вас...
Вам нужно только сидеть и немного подождать...
Вы ждете. И действительно все хорошо сделано. Главное — успешно. У еврея всегда успешно (магическая их тайна в истории).
И вы даже не замечаете, что уже не „сам“ и „я“, а — „его“. Почва, которая засеяна евреем и которую пашет еврей...»
Вот еврей в отношении к русскому. Русский еврей. Он готовит почву, чтобы сеять. Именно евреи все разговоры о положении в России сводят к тому, что тут «все воруют, и особенно — русские: всех обокрали...» [Шульгин 1994: 69 — прочтите и дальше). И — ничего не поделаешь: правда. Но правда не вся: больше всех воруют как раз евреи. Вам будет трудно оправдаться, потому что еврей обобщает по редким фактам, но его обобщение справедливо как всеобщность, универсальность, неопровержимость. «Вы можете успеть против еврея только тогда, когда еврей не замечает, что вы с ним боретесь. Но боритесь с ним внутренно непрестанно и неустанно. Лучше же, выкиньте его из мысли, не думайте о нем. Живите, „как просто русский“» [Там же: 187].
Очарование еврейской обходительностью возможно не только оттого, что «отдельные факты имеются»; между евреем и русским за столетия совместного проживания образовалось много общих черт [Разин 1994: 21—30], из числа которых называют априорный тип ментальности, нетерпимость к инакомыслию, склонность к эквиполентному типу мышления (свое—чужое, тьма—свет и т. д. — библейская традиция), иррационализм, терпеливое трудолюбие (и это не всё). Главные недостатки у нас общие [Шульгин 1994: 320] — неоформленная, подчас дикая злоба («злобствование до бешенства»), идея избранничества, «поклонение золотому тельцу» и т. д. Однако «мой социальный слух говорит мне: евреи не могут быть поводырями русского народа... сие невозможно, ибо они правят насилием», а уж такого добра на Руси и без них бывало! [Там же: 334].
Русскому нужна благодать, а уж чего-чего, но «благости в еврействе не ощущаю» [Там же: 340].
Еврейский вопрос
«О, не думайте, что я действительно затеваю поднять „еврейский вопрос“! Я написал это заглавие в шутку» [Достоевский 1983: 74].
Развернутая цитата с той же целью: не я говорю, говорит история.
«Едва ли кто не видит, что еврейский вопрос — вопрос мировой и, более того, центральный вопрос всемирной истории...
А с другой стороны, кто посмеет отвергнуть основное положение антисемитов, что иудеи — „враги рода человеческого“, враги культуры, враги высшего достояния человечества... что нет такой скверны, которая не текла бы в конечном счете именно от этой „церкви лукавнующих“ [Пс. 25, 5]? Величайшая из антитез должна быть сказана именно о нем: через иудеев мир познал Бога, но через иудеев же он вошел в общение с Сатаною! («Идея второго бога не есть ли идея дьявола?» — мысль Шеллинга. — В. К.).
Правы юдофилы; но не менее правы и юдофобы. И те и другие даже более правы, чем это обычно высказывается... Но вместе с тем не правы одни, не правы и другие.
Если иудеи — „избранный народ“, то не выходит ли отсюда, что печатью божественною как будто скрепляются все их деяния. Все их внутреннее злое устроение, в том числе — зловонная зараза, от них плывущая, и даже присное противление Богу [Деяния VII, 51]? Но может ли это вместить христианское сознание, даже самое смиренное, и может ли, с другой стороны, с этим помириться честный еврей?» [Флоренский 1996: 705—706].
«Еврейский вопрос» постоянно разогревается заинтересованными в нем лицами. Литература обширна, мнения противоречивы, накал страстей поражает, что и доказывает: дело вовсе не в позиции русского человека, дело в претензиях еврея.
«После сталинского антисемитского террора... в стране установился социальный этикет, требовавший замалчивания еврейского вопроса» [Вайль, Генис 1996: 299]. Это вряд ли верно. «Замалчивание еврейского вопроса» в России, всегда различавшего образ иудея, понятие еврея и символ жида, началось в пореволюционные годы, после принятия советским правительством уникального «закона об антисемитизме», по которому тысячи людей попали в лагеря за острое словцо или просто усмешку в известный адрес («дурная привычка позубоскалить»... и т. д.). Случилось это до «сталинского антисемитского террора», но народ приметлив и быстро учится: замолчал. Самим же евреям двойственность их положения была наруку, и наши авторы с удовольствием о том говорят: «Искусство быть советским евреем заключалось в том, чтобы умело пользоваться двойственностью ситуации, все время играя на разных стереотипах „семитского мифа“. Само собой, такое поведение тоже не способствовало откровенности: „Не разевай ряшку — хуже будет!“»
Против такого вот неравноправия и возражали славянофилы от Хомякова до Солоневича. Например, «то упорное замалчивание роли евреев в революции, которого так тщательно придерживается наша левая печать, есть замалчивание бесчестное.
То объяснение, которое дают русской революции профессиональные антисемитские органы печати, есть объяснение неумное. Скажу сразу: моя точка зрения есть прежде всего русская точка зрения и только потом уже — антисемитская точка зрения» [Солоневич 1997: 180—181].
Стертость национальной идентичности русских во многом определяется постоянным подверстыванием «под русских» тех элементов, которые часто им враждебны. Лев Карсавин показал, как происходит размывание национальной культуры в угоду «общечеловеческой», и наши авторы подтверждают, что да, именно евреи и несут в мир «общечеловеческие ценности». «Еврейская система ценностей чрезвычайно близка к нашей общечеловеческой, или, выражаясь осторожнее, — к системе ценностей, характерной для нашей европейской гуманистической цивилизации» (цит. по: [Вайль, Генис 1996: 304]). «Гуманистической цивилизации», основанной на протестантском Ветхом Завете. В силу своего исторического и культурного положения, писал Карсавин, евреи не могут жить в сфере «частного и национально ограниченного» и потому превращаются в поборников любой абстрактной, универсалистской идеи: еврей всегда социалист, коммунист и «абстрактный космополит», «для него это формы универсалистической религии», которая поддерживает убеждение «в вечном первенстве культуры еврейской» (все это — выражения Карсавина, а Михаил Пришвин добавил о «еврейском паразитизме на социализме»). Неверно утверждение польских философов о том, что «традиционная чуждость (евреев — русским. — В. К.), пополненная картиной народа-«паразита», является прежде всего результатом столкновения двух мессианизмов» — русского и еврейского («народ-богоносец» середины XIX в.) или «их ролью в большевистском движении» [Идеи, 3: 158].
Отличие «русской идеи», например, от идеи еврейской состоит в том, что о русской идее знает только начитанная интеллигенция (да и то не вся), большинство же и не подозревает, что оно — носитель такой идеи. Наоборот, мессианизм еврейской идеи известен каждому еврею. О «русском империализме» вас будут спрашивать в любом уголке России, достаточно удаленном от Москвы и Петербурга, и недоумевать: вот мы тут прочли... а как же... говорят... разве?
Известный исторический факт.
По приказу Антанты был отстранен от руководства Белой армией генерал Деникин — за еврейские погромы, в ответ на террор евреев революции. В данном случае руководители Антанты действовали заодно с кремлевским правительством; чем не тема для «исторического разбирательства» Радзинского?
Разбирательства не будет.
Вот революция глазами простодушного «простеца»: «Евреи — паразиты культуры, они льнут к культуре, как мухи к сладкому. Шибаи — паразиты земли (родины), они льнут к мужикам. Между евреями и шибаями война» [Пришвин 1994: 284].
Между двумя мировыми войнами русская эмиграция была озабочена этим вопросом. В самом деле, перед революциями русская интеллигенция (и аристократия) «пошла встречь еврею» (Розанов), а тот оказался революционером. Надо было осмыслить опыт жизни, объяснить себе самим, как так случилось: хотели помочь, а вон что вышло. В поведении русского и еврея поражает расхождение: русский, прошедший беды, сострадает другим; еврей страдает — весь мир должен сострадать ему!
Взаимный счет, который могут представить друг другу русские и русские евреи, не исключает возможности дальнейшего сотрудничества, как и последующее со-существование не исключено тоже. Конечно, еврейский концептуализм и русский реализм не всегда со-стыкуются, и в силу расхождений в ментальности мы обречены вести диалог «из двух углов», как вели его о роли евреев в русской судьбе и революции Вячеслав Иванов и Михаил Гершензон в 1922-м, а Лев Карсавин и Аарон Штейнберг в 1929 г. В этой разнонаправленности точек зрения есть лишь одна общая линия, она соединяет идею и слово. Слова у нас русские, а идеи общие; потому и «еврейский вопрос» у нас чисто интеллигентская выдумка — в народе его нет вовсе. В русских деревнях пригретые дети-сироты еврейского племени (на захваченной фашистами территории!) вошли в жизнь крестьянской общины, «омужичились» до конца. Оставаясь евреями, они лишились иудаизма и утратили жидовство. Средний стиль — он и есть тот лад, который так дорог крестьянину.
Хорошо бы объединить позиции на пользу дела, увеличивая их разрешающую силу, но при этом не навязывая друг другу своей точки зрения как единственно верной, достойной и справедливой. Это — насилие над свободой воли и совести, над свободой человека на мнение, над свободой его прав. А согласно русской ментальности так и просто безнравственно — грех. Как и в свершении подвига, в учении «от чужих» должна быть добрая воля.
Добрая воля?
«У Ильи Эренбурга в „Хулио Хуренито“ Учитель ставит вопрос: если бы в мире существовало только да и только нет, что бы вы выбрали? Все, кроме еврея, выбирают да. Еврей выбирает нет. Вот в этом-то нет и заключается некоторая метафизическая сущность вопроса, ежели попробовать добраться до нее» [Солоневич 1997: 202].
Подождем.
Антисемитизм
В одном антиеврейском сочинении, писал Владимир Соловьев [VI: 343], говорится, что у евреев «высшею степенью знания, а следовательно, и благочестия считается уменье доказать законность незаконного действия». Соловьев возражает против самой возможности такого аморального действия, но его критики уже показали возможность данной возможности на выборе профессий, у евреев предпочтительных (пресса, адвокатура, политика, биржа и т. д.). Бытовое недовольство этим и есть «анти-семитизм». Это ответ на вызов.
В. В. Шульгин различал три вида антисемитизма: расовый, политический и мистический. Еврейскому публицисту выгодно их смешивать, подменяя один другим, и тем самым уходить от справедливой во многом критики. Но на бытовом уровне эти типы действительно могли совмещаться или видоизменять формы своего проявления у конкретного человека.
Расовый антисемитизм инстинктивен. В других определениях, уже нам знакомых, это собственно инстинкт, проявление чувственной интуиции, основанной на историческом опыте народа. Неприятие, коренящееся не только на простом отчуждении чужого. Давление иудаизма славяне испытали во времена первого — хазарского — ига, уничтоженного, но по последствиям не совсем устраненного на юге Руси походами князя Святослава (самого нелюбимого героя западных историков; но его нет и на памятнике Тысячелетия России в Новгороде). Развитие этой формы антисемитизма описано Л. А. Тихомировым [1997: 314—384]; былинный эпос также посвящен этой странице нашей истории [Кожинов 1999а: 169—252].
Политический антисемитизм рационально-рассудочен, в других определениях это интеллектуальная интуиция, или инспирация, вызываемая вызывающим поведением евреев во всех областях общественной деятельности в той стране, которую они избрали местом своего влияния. Это самый распространенный вид антисемитизма, потому что он действует на понятийно-понятном уровне — не в прошлом, а в настоящем. «В России северной и восточной, где евреев было мало или где их совершенно не знали, антисемитизма почти не было», — писал Шульгин [1994: 49], сам разделявший эту (и только эту) форму антисемитизма. Оставаясь внутренне замкнутым этико-политическим образованием, еврейская община претендовала на все те права, которыми обладали непризнававшиеся ею автохтоны, что, естественно, воспринималось как несправедливость. Со времен Византийской империи евреям предлагалось принять христианство и тем самым войти в государственную структуру — чему евреи противились, вместе с тем претендуя на первые места, «а так как евреи добровольно не уступают занятых ими мест, то разыгрывается борьба, которая питает и будет питать антисемитизм» [Там же: 55].
Антисемитизм мистический попросту трансцендентен; это проявление мистической интуиции, т. е. интуиции в чистом виде, обращенной в будущее. Она также отражает исторический опыт народа, поддержанный непрекращающейся конфронтацией иудейства с христианством. Постоянно возникающие подозрения об оскорблении христианских святынь и факты таких действий поддерживают существование этой формы антисемитизма. Людей религиозных особенно тревожит это покушение на их духовность.
Таким образом, антисемитизм возникает как реакция русского общества (не государства) на понуждение, когда затронуты все три болевые точки общественного организма: на человеческое достоинство, на чувство справедливости, на духовные основы существования. Чувство, разум и воля одинаково противятся сближению с народом, в нравственном смысле показавшим себя не с лучшей стороны. Речь тут идет о народе — об идее, а не о конкретных людях; не забудем особенности русского «реального» восприятия, что также следовало бы уважать. «Я говорю о еврействе как идее, в платоновском смысле слова — абсолютного еврея нет» [Вейнингер 1998: 451]. Здесь «еврейство» представлено как «некая возможность, заложенная в нем самом». Антисемитизм вообще не присущ «арийским арийцам», полагал Отто Вейнингер, «самые жестокие антисемиты — среди евреев», ведь «даром никто не бывает антисемитом», потому что «человек не может ненавидеть то, с чем у него совсем нет сходства» [Вейнингер 1998: 439—440].
Но чем образованнее человек (и чем меньше он религиозен), тем меньше в нем предубеждений антисемитизма, по крайней мере до момента, пока его самого не коснется одна из описанных форм духовного понуждения, не говоря уж об экономическом давлении на честь и достоинство. Соединение нескольких форм и в судьбе множества лиц в момент социальной нестабильности приводит к вспышкам непримиримой борьбы, и тогда, действительно, «будет борьба с еврейским засильем», потому что оно, как минимум, предполагает устранение национальной ментальности в пользу еврейского закона. В обществе сгущается атмосфера стойкого осуждения всякого антисемитизма; жупел антисемитизма висит над любым, кто не разделяет установки еврейской общины или хотя бы не поддерживает их явно.
И тогда «перед евреями две дороги.
Первая — признать и покаяться (ситуация невозможная. — В. К.).
Вторая — отрицать и обвинять всех, кроме себя» [Шульгин 1994: 130] — всегда выбирают второе [Кожинов 19996: 87—138, 251—287].
«Научный антисемитизм Канта» и «публицистический антисемитизм» Меньшикова или Розанова имеют один и тот же характер: это ответ на агрессивный вызов в исторически важный момент развития своей собственной нации. Опасность вытеснения, а не очередного обогащения в результате продуктивных контактов. Все, что можно было заимствовать положительного, уже заимствовано через иудео-христианство.
Евреи и иудаизм
«Собирательный дух» еврейства, основанный на «неоспаривающихся принципах» и на внутренней замкнутости («никаких чужих образцов!»), действует в режиме постоянного преображения форм. Источник этики — предание, согласие с законами и долгом, осуществляемое в единстве личности на основе свободы и общего идеала. Всечеловечество, нравственное обаяние мученичества при идеализации «лучших людей». Совесть и покаяние. Единство изложения при разнообразии источников — и метод неограниченного согласования. В каждую эпоху — свой особый авторитет. Традиционализм и рационализм при множественности нравственных идей, пусть и несовпадающих друг с другом.
Отсутствие научной систематики, сомнение всегда чуждо, ибо «при всем том — почерпание общего из единичного». «Немолчный призыв: Ты должен знать!» Запрещенность субъективизма и нравственная солидарность. Бог — законодатель, божественная сущность как норма и основание.
Влечение к добру через чувство долга. «Воля, направленная к свободе, находится в непрерывном развитии народа». Благополучие в блаженстве универсализма. Любовное отношение к «чужеземцу» — ибо и ты — «пришелец на торжище».
Священие — цель, и каждый шаг — тоже цель. Не быть, а становиться святым — вот цель. Сама по себе жизнь — призвание. Основание и причина различаются. Святость — в Законе; это — честь.
Оценки обусловлены чувством, а культура есть техника жизни и естественное условие этического. Муки страдания связывают крепче, чем радость. Аскетизм, посты, смирение, покаяние. Призвание «священного народа»: милосердие, справедливость, сострадание и любовь к ближнему. Идея мира — идеал вечен.
Всё сказанное — заголовки к главам книги Лацаруса «Этика юдаизма» [Лацарус 1903]. Что неприемлемо для христианина? мало ли отличий от русской ментальности?
Всё то же, что и в этой этике, хотя и с небольшим уклонением, которое скрыто в ауре одинаковых слов.
Разгребем словесную шелуху — и что же? В чем отличия от русских взглядов?
Не этика запрета через закон — а этика искупления в благодати. Не только «к ближнему своему», к своим и нашим, но и к дальним тоже.
Не прятать сути в изменчивых новых формах, неясных непосвященным, а откровенно открыть в открытии, соединяя и привлекая.
Всё написанное — прекрасно. Но почему оно забывается? И почему только в отношении «своих»?
В каждом конкретном этическом члене при общности термина находим различие в объеме понятия.
Например, аскетизм. «Цель христианского аскетизма — не ослабление плоти, а усиление духа для преображения плоти. Соответственно этому и христианский универсализм имеет целью не уничтожение природных особенностей каждой нации, а, напротив, усиление национального духа чрез очищение его ото всякой эгоистической закваски» — но евреи всегда больше заботились о форме, о формальном [Соловьев 1884: 30].
Есть и другие отличия. Русские верят — евреи легко впадают в атеизм; русские каются — евреи нет; русские живут в своем языке — евреи к своему языку не привязаны; русские дорожат своим именем — евреи часто его изменяют [Шульгин 1994: 155].
Один из самых рьяных юдофилов, Владимир Соловьев, русскую неприязнь к еврейству объяснял поверхностно-иронически: «Они не хотят нас любить — ясно, что нам следует их ненавидеть» [Соловьев 1884: 2]. Но он же заметил, что евреи живут-то нашей нравственной слабостью и сильны они крепким единством, властью денег («жидовский материализм» практичен) и свободой личности. В общем, полагал философ, современные евреи — это люди с искаженным национальным характером, чем и объясняется «всеобщая антипатия к еврейству», ряды которого пополняются и за счет представителей разных наций, утративших связи с собственной ментальностью своего народа. Их опыт показывает, куда заводит интерес к «общечеловеческим ценностям».
«Пренебрегать иудейством — безумно; браниться с иудеями — бесполезно; лучше понять иудейство, хотя это труднее» [Там же: 8]. Стараемся — да не дают.
Забавная логика у русского реалиста: евреи вокруг — люди с искаженным национальным характером — и вот возникает неприятие идеи еврейства, которую следовало бы поощрить и принять, «хотя это труднее». Совсем противоположное традиционному русскому отношению между вещью и идеей: там наоборот — «проклятый жид — почтенный Соломон!»
Американский исследователь иронизирует над «русской мифологией» еврейских типов: торгаш, лавочник, портной,.. умный человек, добрый семьянин [Драйзин 1990] — о ростовщике и шинкаре ни слова. Но и другие полагают также, что «эмпирическая суть еврейства — торгашество» (Карл Маркс); о политических аспектах проблемы умолчим.
И жупел антисемитизма, как давно подмечено, неспроста заварен. Хотя с русской точки зрения такое умонастроение полезно: «Антисемитизм (это открыто мне Изидой) послан нам свыше не для „истребления евреев“, а, наоборот, для того, чтобы сделать из них полезных и приятных сограждан... показав им в антисемитическом зеркале истинное (а не воображаемое ими в самообольщении) их изображение.
Эту же цель, впрочем, имеет и антируссизм — явление в наши дни здоровое и необходимое» [Шульгин 1994: 299—300].
Классики не раз утверждали, что «гонения на евреев» не есть исполнение проклятия, поразившего целый народ, а скорее благословение их [Кант 1966: 446] — не занятые тяжким трудом построения держав-государств, они обратились к присвоению «свободных богатств».
«Общечеловеческие ценности»
Мы говорили о внутреннем развитии лица до личности, способной воплотиться в человечестве. Защитник «малых народов» в империи Владимир Соловьев полагал, что настоящая нация относится к национализму как личность относится к эгоизму — отрицательно, в русском их понимании. Индивидуум может быть эгоистом, личность — нет, ибо личность рождается в любви к некоему ты. Быть собой невозможно, не любя Другого, не служа ему. Русский человек осуществляет русскость как движение к человечеству — признанием той страны, в которой он живет. В признании и в помощи ей.
Еще одна большая цитата, которую трудно изложить конспективно.
«Всечеловечный народ русский вмещает в широте души своей сочувственное понимание и любование всеми народами, каждым по-своему: он способен уважать британскую суровую серьезность вместе с трагическим чувством жизненных глубин; он способен любоваться грацией и изяществом Франции, ее языком и искусством, трогаться красотой и величием Италии с античным ее наследством... да и вообще нет такого европейского народа или даже только народности, которые не нашли бы для себя место в этом мировом или, по крайней мере, всеевропейском музее культуры, которым является наша «варварская» страна. Русские люди поочередно ко всем испытывают влеченье, род недуга: поочередно как бы влюбляются то в одного, то в другого из великих народов Европы, подпадая — временно и односторонне — влиянию каждого из них. Однако ни с одним из них... не связана наша Родина так серьезно и ответственно, как с Германией и с ее культурой... Здесь известное отношение снизу вверх соединяется, однако, с добродушной насмешкой, с одной стороны, как и надменной презрительностью, с другой. В германство русский народ не влюблялся, как в другие, но взаимное их отношение всегда было серьезнее и ответственнее, чем ко всем другим, носило какой-то роковой характер. Немцу не свойственно любить бритта, при всем различии судеб и характеров все-таки они слишком друг на друга похожи. Не может немец брать всерьез и французское искусство, чтобы им увлекаться... Только Россия с ним соразмерна, к ней он прикован, ее инстинктивно ценит, хотя и высокомерно презирает. Впрочем, в своем полигисторстве и немец есть также человек, как и русский, хотя и по преимуществу умом, а не сердцем... Германство выражает собой мужское начало духа, русская же стихия женская; между обоими существует... различие всего чувства жизни, ее данностей и заданий... В этом смысле оба исторические типа представляют собой, конечно, каждый по-своему, односторонность и неполноту, однако взаимно восполняемую» [Булгаков 1991: 110—112].
Развернутое сопоставление русской и германской ментальности С. Н. Булгаков продолжал и далее, не раз сопоставляя русскость с другими (в том числе и еврейскими) особенностями национального характера. На этом примере мы можем видеть направление тех сближений, которые желательны в последовательном развитии человечного человечества.
Приписываемая русским ксенофобия носит в России избирательный характер и распространяется преимущественно на тот народ, который слишком заиграется на российских просторах, заберет на себя всю полноту власти и возьмет себе основную часть национальных богатств. В этом случае природное чувство справедливости, не чуждое и другим народам, взрывает общество и сносит наслоение паразитов. Катализирует этот процесс «нравственного ускорения» обычно не «русский бунт, бессмысленный и беспощадный», а война, которую ведет такое «наслоение» в своих интересах. Так русский народ скинул татарскую, немецкую, еврейскую (в 1930-е гг.) силу, каждый раз заменяя ее внутренней энергией народного подвига. А уж «бунты» тут — просто следствие. Война объединяет патриотические силы высшим устремлением к справедливому равновесию в обществе. Справедливость — основание народной морали — не дает окончательно покорить народ. Это главный закон популяции, опрокинутый на социальную среду; он регулирует отношения не между индивидами (независимо от их этнической принадлежности), а между общественными стратами, сохраняя во времени единство главного народа — который не дробит, разрушая, а единит народы. А что касается отдельных лиц «малого народа», в очередной раз вцепившегося в холку России-тройки, те находят свое место в дальнейшем развитии государства и служат ему верно, достойно и с пользой. Ни для кого обидного или позорного в этом нет. Так есть, и это природная сила — гармония солидного общества, помогающая выжить всем в тяжких условиях существования. Внутреннее согласие между «большими» и «малыми» народами накладывает известные тяготы на всех их — и на «большой» народ, естественно, больше всего. Уважить и ценить этот подвиг самоотречения во имя единства умеют не все, а только столь же, — в смысле — достойные. А иные такого общества просто недостойны.
Русь в потоке времени
Глубокое исследование А. С. Шишкиной-Ярмоленко [2004] подвело итог многолетним исследованиям ментальности в стенах Ленинградского/Петербургского университета. Окончательное суждение автора таково: «Уникальность языка как раз и состоит в том, что он концентрирует в себе постоянно, в каждом акте речи, возобновляющуюся историю процесса познания, впитывает в себя через речь ситуативные открытия длящегося настоящего и прогнозирует на этой основе необходимые моменты будущего. Таким образом, язык представляет собою подвижную систему координат существования человека, в которую субъект познания не только всякий раз вписывает каждое внешнее и внутренне свое событие, но и проявляет ее потенции в силу резонанса с новыми впечатлениями и образами».
Реконструируя язык как собственно человеческий инструмент познания, мы с необходимостью учитываем принципиальную социальность процесса развития человека разумного, его бытие в обществе и в культуре, то есть историю жизни человека и жизнь человека в истории... Мы утверждаем, что филогенез сознания, проявленный в результате внутренней реконструкции языка, является стержнем филогенеза истории. Язык способен служить доминантой при генетическом рассмотрении истории, так как именно в языке концентрируются и отчуждаются все сущностные особенности процесса развития человека и общества [Шишкина-Ярмоленко 2004: 172].
Архетипическое единство (синтез?) языка и истории («слова и вещи») представлено в сознании («идея») и является, по видимости, точкой зрения концептуалиста, исходящего из уже готового и выверенного концепта (концептов).
Строгость исследования разных сторон русской ментальности достигается автором путем следования следующим принципам: определенности (на основе опыта и фактов), нелинейности развития (волновое развитие языка и общества), ассиметричного синтеза на уровне целого, количественных обобщений содержательной (неформальной) логики, «рекапитуляции» (признание общего типа развития одного вида, связывающего онтогенез с филогенезом, т. е. соединение видов с родом, личности с обществом) и представления о качественности Времени в становлении Целого (время как случайное проявление пространства). Выстроенная согласно этим строгим принципам хронология ментальной истории логична, нетривиальна и убедительна.
Познание, основанное на противопоставлении субъекта объекту, к концу XIX в. исчерпало себя. Формальная логика теперь недостаточна для описания всей глубины и широты мира, который вообще невозможно описать объективно, независимо от воли субъекта познания. В результате происходит возвращение к исходной «встроенности человека в бытие», образуется открытость логике развития «в потоке времени» — только в настоящем времени. «Ноуменальное понятие» сменяет понятие феноменальное, а отсюда возникает «сосредоточенность в себе», в рефлексии, вплоть до осознания необходимости понять сущность жизни в языке — погружение в ментальность как форму ноуменального.
И тогда получается, что «исследование языка в гумбольдтовской традиции наглядно показывает, что на уровне внутренней формы, скрытом в подсознании, языки настолько же едины, как едина и человеческая природа при богатейшем спектре индивидуальностей, этносов, рас. Глубинное единство при внешнем многообразии и может стать основой рассмотрения европейской истории для определения в ней специфического места России и русского языка. При этом история европейской христианской цивилизации предстает как целостное пространство, в котором, безусловно, действует закон преемственности» [Там же: 178].
Остается объяснить «скольжение к концептуализму» которым грешат современные исследователи темы. Перед нами не классический концептуализм, а его постмодернистское преобразование: нео-концептуализм.
Переходя на уровень символической интерпретации, мы получаем неожиданный результат смещения исследовательской перспективы. Пока исследования велись в режиме реализма, номинализма или концептуализма, единство позиции определяло движение сознания от Единого к двум; например, в реализме — от Слова к Идее и Вещи, когда исследовалось реальное соотношение между идеей и вещью и идея направляла процесс исследования. В данном случае это проекция «православного» понимания Троицы — от Отца к Сыну и Духу. Режим неореализма изменил перспективу: теперь даны Идея и Вещь, а Слово задано, и проекция исследования сменилась на «католическую»: от двух к Единому. Так современная философия слова устремлена к познанию немаркированного члена оппозиции, явленного в статусе нейтрализации как:
Таково первое отличие от старых «чистых» отношений.
Второе отличие состоит в том, что в исследовательской процедуре, в сущности, могут быть представлены все три проекции: кроме неореализма еще неономинализм с нейтрализацией в Вещи (предмет исследования) и неоконцептуализм с нейтрализацией в Идее, затронувшей внимание исследователя. В нашем случае мы имеем дело именно с таким движением мысли, направленным на Идею-концепт, который задан как тема. При таком положении дел возникает свобода выбора точки зрения, и обилие выборов может препятствовать исследовательской точности, последовательности изложения и в конечном счете доказательности. Мы все уже знаем теоретически, и «исследовательская сытость» приводит к субъективизму, а потому к неубедительности в аргументах для представителей других «точек зрения» на предмет описания.
И все три формы интуиции: чувственной у неономиналиста, интеллектуальной у неоконцептуалиста и мистической у неореалиста — безнадежно смешиваются, увеличивая несводимость результатов в конечном моменте исследования. Таково третье отличие современного философского взгляда на строго национальные точки зрения прежних времен: собирательного «русского» реализма, «британского» номинализма и «французского» концептуализма.
Всё вместе диктует прагматический поход к исследованию — «идеологическую зашоренность» идеальных предпочтений и бесконечный перебор «точек зрения» в рамках различных научных школ, представляющих современную гуманитарную науку. В лучшем случае дело ограничивается перетолкованием старых текстов с одной из указанных позиций на другую — как это и произведено в настоящей книге.
Парадокс: зрелость науки препятствует ее росту; старческое слабоумие мешает пробиться к новым вершинам.
Послесловие
Закончив описание русской ментальности в её основных особенностях, я начинаю подозревать, что не только русская ментальность как способ мировидения такова, и невольно закрадывается мысль: а не описал ли я особенности всякого нормального человека, его здравого смысла и присущего ему природного отношения к жизни?.. Человека, не зашоренного властью чужеродных идей, суровой необходимостью существования на грешной земле или даже сиюминутным расчетом, за которым невозможно спрятать чистого сердца?
Похоже, что так, и различие только в тех формах языка и быта, которые исторически влияют на человека, на простого человека, на Человека в его бытии — уже не в витальности-жизни, а в экзистенции-существовании.
Это ощущение усиливается при первом же взгляде на результаты тысячелетней истории рода—народа—нации. «Ничто не осуществилось!» — этот вопль Николая Бердяева [1969: 213] возвращает к неопределенности со-стояния между идеей и жизнью, всегда идущей наперекор ей. И самое главное, что, конечно же, мешало идее осуществиться, также замечено русскими философами, не раз описано ими. Например: «По крылатому слову Розанова, „русская душа испугана грехом“, и я бы прибавил, что она им ушиблена и придавлена» [Бердяев 1918: 42]. «Русская душа испугана грехом» потому, что целое тысячелетие народная душа росла и крепла в постоянных столкновениях с чужеродным ментальным миром в путанице посторонних, и часто сорных, идей, которые намеренно вбрасывались в цветущую плоть русской жизни — идей, замедлявших естественный рост духа в угоду фальшивой улыбке врага, завистника, всякой сволочи. «Национальный комплекс неполноценности», возникший на основе природной доверчивости русского человека, «национальный комплекс вины», настоянный на природной его порядочности, постоянно подтачивали душевные силы народа. И только в битвах, в боях, в сражениях, когда не нужна рефлексия, и она — опасна, а враг ощеривал пасть плотоядно, уже не таясь, — только тогда русский народ являл свою силу, жертвуя всем, страдая в муках, но — побеждая.
Русский хорош в открытом бою, он не умеет плести по углам паутину зла.
Что это так, мы увидели в книге, и стало ясно, что «люди и народы бывают самобытны, но сделаться самобытным никто не может. Народная самобытность, как настоящий клад, дается только тем, кто его не ищет; а кто ищет, тот вместо сокровища приносит домой одни негодные уголья» [Соловьев V: 42].
Русский тип в его самобытности посильно мы описали. Можно спорить с тем, что тип вообще существует, — номиналист сомневается в этом, отрицая существование «модели несокрушимо общего национального типа» [Померанц 1985: 93]. Даже если такого типа и нет в действительности, он создан народной идеей, а в этом смысле существует в реальности и «иллюзия» типа. Всякая идея есть иллюзия, в том числе и высказанная Померанцем, который пишет, что любой национальный тип неминуемо «сбивается либо в идеал, лежащий в основе целого культурного круга (а вовсе не одной нации), либо в перечень самых пошлых, бросающихся в глаза черт», извлеченных из расхожих анекдотов. Поверим в этом автору, он и сам отыскивает в русской ментальности множество странных (и, разумеется, отрицательных) черт. Иллюзия — она ведь для всех иллюзия, хотя всегда находишь психологическое оправдание: идеалы присваивать себе, а уж «черты» отдавать чертям, то есть недругам и соперникам.
«Тип» — не схема, неизменно всё та же, его развитие — основная черта ментальности. И для русского «типа» — также.
Франц Шубарт [2000: 11 и след.], описывая «зоны мировой истории», указал четыре архетипа человека, как они представлены в развитии человеческих типов. Накладывая эти архетипы на русскую историю, видишь, что именно собирательная их последовательность представляет собой законченность русского ментального «типа» в истории, и в этом его универсальность. Более того, сам мир в своих «зонах» изменяется по таким архетипам, в каждый исторический момент представая в своем своеобразии.
Гармоничный человек живет в природном согласии с миром, и мир предстает как космос; таков статичный мир древнего язычника, который влит в Природу и составляет с нею нечто единое.
Героический человек готов к господству над миром; он видит хаос, который хотел бы упорядочить, подчиняя собственной воле. И всё приходит в движение, как пришел в движение средневековый славянин в своем богатырстве.
Аскетический человек воспринимает мир как некое заблуждение, он ищет достойной мира сущности, которая, кажется ему, скрывается в мистической сути вещей. Это снова момент статики, некое бегство от мира — в скиты, в пустыни, в дикие дебри. Таков и русский — уже собственно русский — человек, каким он является в XIII—XV вв., или даже чуть позже: уставший от битв, не давших победы, забывший предков в обольщениях христианства. «Русский реализм» ведет свои тайны отсюда, из этой исторической точки, из этой силы.
Мессианский человек имеет иную задачу: он призван создать из хаоса мира и идеалов души некий божественный порядок, добиться освящения мира в новом единении или, как говорит немецкий автор, предстает «космической взволнованностью» в «ощущении целостности»: «мессианское жизнеощущение русских восходит к XVI столетию» (намек на Филофея, возгласившего Москву третьим Римом) «славянские народы стали мессианскими, потому что они пережили более кровавую и полную страданий историю по сравнению с другими нациями» [Шубарт 2000: 68, 70].
Силы мира, которые сплелись на порубежьях Земли, ведь «из духа земли вырастает душа народа», и эти силы «фундаментальнее и прочнее сил крови» [Там же: 15—16].
И прогноз, печальный как правда: «До тех пор пока мессианская душа надеется спасти мир, лишенный ее гармонии, она еще не достигла предела своих мучений. Но напряженность между внутренним и внешним может дойти до такой степени насилия, что это становится невыносимым...» [Там же: 71]. Спасает до времени только одно: с нигилизмом русское мессианство вступает в стадию своего вырождения.
Действительно, современное состояние русского народа непроизвольно вызывает к жизни такие особенности его ментальности, важные при оценке критической ситуации, которые поражают воображение внешних наблюдателей. Именно ментальность во многом берет на себя роль внутреннего системообразующего фактора, скрепляющего общности, помогающего сохранить их, спасти от распада. Многие особенности современной социальной жизни подтверждают, что сегодня происходит «ментальное сопротивление чуждым инновационным нововведениям» (например, «темпы роста бюрократии пропорциональны степени ментального неприятия чуждых нововведений» и т. д. [Падерин 2001: 219].
Уже два века русские мыслители указывают, какие именно традиционные русские ценности могут лечь в основу цивилизации третьего тысячелетия (ср.: [Иванов 1999]). Это и почитание родной Земли как великой святыни, которую нельзя отдать никому («из духа Земли вырастает душа народа»). Это и дух всемирной отзывчивости, и жертвенное служение обществу в идее соборного социального единения, и нравственное искание Правды, потому что Правда есть истина в справедливости. Перед смертью Иван Тургенев сказал: «В том-то и дело: Истина не может доставить блаженства. Вот Правда может. Это человеческое, наше земное дело. Правда и Справедливость! За Правду и умереть согласен. На знании истины вся жизнь построена, но как „обладать ею“? Да еще находить в этом блаженство?» Совсем не патетично звучат слова, завершающие статью русского автора: «Если мы победим в битве за Великую Россию — в мире не будет проигравших; если мы проиграем битву за Великую Россию — в мире не будет победителей» [Иванов 1999: 96]. Ни высокомерия, ни шовинизма в этом нет. О том же сказал и немец, только накануне Второй мировой войны: западный, «прометеевский человек уже отмечен печатью смерти. Да явится иоанновский человек!» [Шубарт 2003: 308]. И вот явились русские люди — «иоанновской веры» — и на время спасли мир.
Литература
Аверинцев 1988: Аверинцев С. С. Византия и Русь: два типа духовности // Новый мир, 1988, № 7. С. 210—220; № 9. С. 227—236.
Адрианова-Перетц 1972: Адрианова-Перетц В. П. Человек в учительной литературе Древней Руси // Труды Отд. др.-рус. лит-ры. Т. 27. Л., 1972.
Айрапетян 1992: Айрапетян В. Герменевтические подступы к русскому слову. М., 1992.
Акопов 1995: Акопов Г. В. Сознание и воля в исканиях счастья // Российское сознание: психология, феноменология, культура. Самара 1995. С. 77—99.
Аксаков 1875: Аксаков К. С. Сочинения. Т. II. М., 1875.
Аксаков 1898: Аксаков К. С. Сочинения. Т. I. М., 1898.
Акчурин 1994: Акчурин И. А. Топология и идентификация личности // Вопр. философии, 1994, № 5. С. 143—149.
Александров 1990: Александров А. Д. Философия как осмысление совести // Какая философия нам нужна? / сост. Ю. Н. Солонин. Л., 1990.
Алексеев 1999: Алексеев А. В. История слов со значением «подавленное состояние духа» в русском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1999.
Анализ 1991: Логический анализ языка. Культурные концепты. М., 1991.
Анализ 1993: Логический анализ языка. Ментальные действия. М., 1993.
Анализ 1994: Логический анализ языка. Язык речевых действий. М., 1994.
Анализ 1995: Логический анализ языка. Истина и истинность в культуре и языке. М., 1995.
Анализ 1999: Логический анализ языка. Образ человека в культуре и языке. М., 1999.
Андреев 1991: Андреев Д. Л. Роза Мира. М., 1991.
Андреев 1999: Андреев А. Л. На пороге этнической революции // Русский узел. М., 1999. С. 48—54.
Антонов 1991: Антонов М. Ф. Ложные маяки и вечные истины. М., 1991.
Артемьева 1996: Артемьева Т. В. История метафизики в России XVIII века. СПб., 1996.
Арутюнова 1993: Арутюнова Н. Д. Вторичные истинностные оценки: правильно, верно // Логический анализ языка. Ментальные действия. М., 1993. С. 67—77.
Арутюнова 1998: Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. М., 1998.
Аскольдов 1902: Аскольдов С. А. Философия и жизнь // Проблемы идеализма. М., 1902.
Аскольдов 1991: Аскольдов С. А. Религиозный смысл русской революции // Вехи. Из глубины. М., 1991. С. 210—249.
Астафьев 2000: Астафьев П. Е. Философия нации и единство мировоззрения. М., 2000.
Ахиезер 1998: Ахиезер А. С. Россия: критика исторического опыта. Т. II. Теория и методология — Словарь. Новосибирск, 1998.
Бабенко 1989: Бабенко Л. Г. Лексические средства обозначения эмоций в русском языке. Свердловск, 1989.
Бакунин 1989: Бакунин М. А. Философия. Социология. Политика. М., 1989.
Балли 1955: Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. М., 1955
Балли 1961: Балли Ш. Французская стилистика. М., 1961.
Бальмонт 1911: Бальмонт К. Морское свечение. СПб., 1911.
Барабанов 1992: Барабанов Е. Русская философия: невроз своеобразия // Страна и мир. München 1992, январь—февраль. С. 134—151.
Барг 1987: Барг М. А. Эпохи и идеи. М., 1987.
Барчугов 1999: Барчугов А. П. Сознание и язык самосознания // Культура: соблазны понимания. Ч. 1. Петрозаводск, 1999. С. 104—114.
Белецкий 1993: Белецкий А. А. Ошибки святого Иеронима // Collegium, 1993, № 1. С. 104—107.
Белый 1922: Белый Андрей. Поэзия слова. Пг., 1922.
Бердяев 1907: Бердяев Н. А. Sub species aeternitates. СПб., 1907.
Бердяев 1910: Бердяев Н. А. Духовный кризис интеллигенции. СПб., 1910.
Бердяев 1911: Бердяев Н. А. Философия свободы. М., 1911.
Бердяев 1912: Бердяев Н. А. А. С. Хомяков. М., 1912.
Бердяев 1918: Бердяев Н. А. Судьба России. М., 1918.
Бердяев 1926: Бердяев Н. А. Философия свободного духа. Ч. 1. Париж, 1926.
Бердяев 1939: Бердяев Н. А. О рабстве и свободе человека. Париж, 1939.
Бердяев 1951: Бердяев Н. А. Царство Духа и царство кесаря. Париж, 1951.
Бердяев 1952: Бердяев Н. А. Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого. Париж, 1952.
Бердяев 1955: Бердяев Н. А. Истоки и смысл русской революции. Париж, 1955.
Бердяев 1969: Бердяев Н. А. Смысл истории. Париж, 1969.
Бердяев 1985: Бердяев Н. А. Смысл творчества. Париж, 1985.
Бердяев 1989: Бердяев Н. А. Собрание сочинений. Т. 3. Типы религиозной мысли в России. Париж, 1989.
Бердяев 1989б: Бердяев Н. А. Дух и сила // Вестник РХД. Т. 155. М.; Париж, 1989.
Бердяев 1990: Бердяев Н. А. Русская идея // О России и русской философской культуре. М., 1990.
Бердяев 1991: Бердяев Н. А. Философия неравенства // Русское зарубежье. Л., 1991.
Бердяев 1991а: Бердяев Н. А. О русской философии. Вып. 1, 2. Свердловск, 1991.
Бердяев 1991б: Бердяев Н. А. Новое средневековье. М., 1991.
Бердяев 1991в: Бердяев Н. А. Самосознание. Л., 1991.
Бердяев 1993: Бердяев Н. А. О назначении Человека. М., 1993.
Бердяев 1996: Бердяев Н. А. Истина и откровение. СПб., 1996.
Бердяев 1996а: Бердяев Н. А. Хомяков. Томск, 1996.
Беринг 1913: Беринг М. Вехи русской литературы. М., 1913.
Бескова 1995: Бескова И. А. Проблема соотношения ментальности и культуры // Когнитивная эволюция и творчество. М., 1995. С. 76—100.
Библер 1975: Библер В. С. Мышление как творчество. М., 1975.
Биллингтон 2001: Биллингтон Дж. X. Икона и топор. М., 2001.
Бирнбаум 1981: Birnbaum H. Essays in Early Slavic Civilization. München 1981.
Бицилли 1919: Бицилли П. М. Элементы средневековой культуры. Одесса, 1919.
Бицилли 1996: Бицилли П. М. Избранные труды. М., 1996.
Бодуэн де Куртенэ 1929: Baudoin de Courtenay J. A. Einfluss der Sprache auf Weltanschauung und Stimmung. Warszawa, 1929.
Бодуэн де Куртенэ 1963: Бодуэн де Куртенэ И. А. Избранные труды по общему языкознанию: В 2 т. М., 1963. Т. II.
Бороноев, Смирнов 1992: Бороноев А. О., Смирнов П. И. Россия и русские. Характер народа и судьбы страны. СПб., 1992. (Переиздано с добавлениями: СПб., 2001).
Брентано 1921: Брентано Л. Опыт теории потребностей. Казань, 1921.
Брода 1998: Брода М. Понять Россию? М., 1998.
Бубер 1998: Бубер М. Проблема человека. Киев, 1998.
Булгаков 1908: Булгаков С. Н. От марксизма к идеализму. СПб., 1908.
Булгаков 1911: Булгаков С. Н. Два града. Исследование о природе общественных идеалов: В 2 т. М., 1911. Т. 1.
Булгаков 1918: Булгаков С. Н. Тихие думы. М., 1918.
Булгаков 1953: Булгаков С. Н. Философия имени. Париж, 1953.
Булгаков 1990: Булгаков С. Н. Философия хозяйства. М., 1990.
Булгаков 1991: Булгаков С. Н. Православие. М., 1991.
Булгаков 1991а: Булгаков С. Н. Христианский социализм. Новосибирск, 1991.
Булгаков 1991б: Булгаков С. Н. Христианство и еврейский вопрос. Париж, 1991.
Булгаков 1994: Булгаков С. Н. Свет невечерний. М., 1994.
Булыгина, Шмелев 1997: Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики) М., 1997.
БЭС: Богословский энциклопедический словарь. Т. 2. М., 1992.
Вайль, Генис 1996: Вайль П., Генис А. 60-е: мир советского человека. М., 1996.
Вальверде 2000: Вальверде К. Философская антропология. М., 2000.
Вандриес 1937: Вандриес Ж. Язык. М., 1937.
Василенко 1999: Василенко И. «Очарованный странник» против «экономического человека» // Русский узел. М., 1999. С. 76—82.
Вассоевич 1998: Вассоевич А. Л. Духовный мир народов классического Востока. СПб., 1998.
Введенский 1894: Введенский А. Западная действительность и русские идеалы. Сергиев Посад, 1894.
Вебер 1990: Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.
Вежбицка 1991: Wierzbicka А. Cross-Cultural Pragmatics: The Semantics of Human Interaction. Mouton; Berlin; New York, 1991.
Вейнингер 1998: Вейнингер О. Пол и характер. М., 1998.
Вернадский 1996: Вернадский Г. В. Киевская Русь. М., 1996.
Вилков 1997: Вилков А. А. Менталитет крестьянства и российский политический процесс. Саратов, 1997.
Возрождение 1996: Возрождение культуры России: диалог культур и национальные отношения. Вып. 4. СПб., 1996.
Володин 1996: Володин А. И. «Что вы Европой нам колете глаз?» (Штрихи к портрету русского западника) // В раздумьях о России. XIX век. М., 1996. С. 189—213.
Волощенко 1994: Волощенко Г. Г. Досуг как русско-славянский концепт. Омск, 1994.
Вундт 1902: Вундт В. Система философии. СПб., 1902.
Вылегжанин 1998: Вылегжанин А. Любите врагов ваших. М., 1998.
Вышеславцев 1990: Вышеславцев Б. П. Сердце в христианской и индийской мистике // Вопр. философии, 1990, № 4.
Вышеславцев 1994: Вышеславцев Б. П. Этика преображенного эроса. М., 1994.
Вышеславцев 1995: Вышеславцев Б. П. Русский национальный характер // Вопр. философии, 1995, № 6. С. 112—121.
Гак 1988: Гак В. Г. Русский язык в сопоставлении с французским. М., 1988.
Гак 1998: Гак В. Г. Языковые преобразования. М., 1998.
Гачев 1988: Гачев Г. Национальные образы мира. М., 1988.
Гачев 1991: Гачев Г. Русская дума: портреты русских мыслителей. М., 1991.
Гачев 1995: Гачев Г. Национальные образы мира. Космо-Психо-Логос. М., 1995.
Гегель 1976: Гегель Г. В. Ф. Философия религии. Т. I. М., 1976.
Герцен 1954: Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. Т. III. М., 1954.
Гин 1996: Гин Я. И. Проблемы поэтики грамматической категории. СПб., 1996.
Гинзбург 1989: Гинзбург Л. Человек за письменным столом. М., 1989.
Гиппиус 1999: Гиппиус 3. Дневники: В 2 т. М., 1999.
Гиренок 1998: Гиренок Ф. Пато-логия русского ума (Картография дословности). М., 1998.
Гоббс 1989: Гоббс Г. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М., 1989.
Гоголь VI: Гоголь Н. В. Сочинения. Т. VI.
Голованивская 1997: Голованивская М. К. Французский менталитет с точки зрения носителя русского языка. М., 1997.
Горер 1962: Gorer G. The Psychology of Great Russians // Gorer G., Rickman J. The People of Great Russia. A Psychological Study. New York, 1962. P. 93—236.
Горичева 1991: Горичева Т. М. Православие и постмодернизм. Л., 1991.
Горичева 1993: Горичева Т. М. Святые животные. СПб., 1993.
Горичева 1996: Горичева Т. М. Христианство и современный мир. СПб., 1996.
Горичева, Мамлеев 1989: Горичева Т., Мамлеев Ю. Новый град Китеж. Философский анализ русского бытия. Париж, 1989.
Горький 1922: Горький М. О русском народе. Берлин, 1922 (переизд.: О русском крестьянстве // СССР. Внутренние противоречия. Benson, Vermont 1987. С. 188—219).
Горький 1990: Горький М. Несвоевременные мысли. Заметки о революции и культуре. М., 1990.
Гулыга 1992: Гулыга А. Формула русской культуры // Наш современник, 1992, № 4. С. 142—149.
Гулыга 1995: Гулыга А. Русская идея и ее творцы. М., 1995.
Данилевский 1991: Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М., 1991.
Действия 1993: Логический анализ языка. Ментальные действия. М., 1993.
Дёмин 1998: Дёмин А. С. О художественности древнерусской литературы: очерки древнерусского мировидения от «Повести временных лет» до сочинений протопопа Аввакума. М., 1998.
Джидарьян 2001: Джидарьян И. А. Представления о счастье в русском менталитете. СПб., 2001.
Дингли 1995: Dingley J. Imeti in the Laurentian Redaction of the Primary Chronicle // UCLA: Slavic Studies. New series, vol. II. М., 1995. С. 80—87.
Драйзин 1990: Dreizin F. The Russian Soul and the Jew: Essays in Literary Ethnocriticism. Boston, 1990.
Достоевский 1980: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 20. Л., 1980.
Достоевский 1983: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 25. Л., 1983.
Дрэпер 1880: Дрэпер Д. История умственного развития Европы. Т. 1—2. СПб., 1880.
Дугин 1997: Дугин А. Основы геополитики. М., 1997.
Дюга 1900: Дюга Л. Застенчивость. М., 1900.
Евразийство: Евразийство: за и против, вчера и сегодня // Вопр. философии, 1995, № 6. С. 3—65.
Егошина 1998: Егошина В. Н. Менталитет русских в оценках иностранцев в XIX — начале XX в. // Россия на грани тысячелетий: историческая трансформация и социальнодуховные поиски. М., 1998. С. 49—61.
Есперсен 1958: Есперсен О. Философия грамматики. М., 1958.
Жельвис 1997: Жельвис В. И. Поле брани: сквернословие как социальная проблема. М., 1997.
Забелин 1895: Забелин И. Е. Домашний быт русских царей XVI—XVII вв. М., 1895.
Зеньковский 1955: Зеньковский В. Русские мыслители и Европа. Париж, 1955.
Зеньковский 1991: Зеньковский В. История русской философии: В 2 т. Л., 1991. Т. 1. Вып. 1—2; Т. 2. Вып. 1—2.
Зеньковский 1992: Зеньковский В. Основы христианской философии. М., 1992.
Зиновьев 1981: Зиновьев А. А. Мы и Запад. Лозанна, 1981.
Зорин 1996: Зорин А. Л. Идеология «православие — самодержавие — народность» и ее немецкие источники // В раздумьях о России. XIX век. М., 1996. С. 105—128.
Зэлдин 1989: Зэлдин Т. Все о французах. М., 1989.
Иванов 1993: Иванов В. В. Безобразие красоты: Достоевский и русское юродство. Петрозаводск, 1993.
Иванов 1999: Иванов А. В. Россия: точки роста // Русский узел. М., 1999. С. 91—96.
Идеи: Идеи в России. Leksykon pod redakcja Andrzeja de Lazari : в 3 т. Lodz, 2000.
Изард 1980: Изард К. Е. Эмоции человека. М., 1980.
Ильин 1: Ильин И. А. Собр. соч. Т. 1. М., 1993
Ильин 2: Ильин И. А. Собр. соч. Т. 2. М., 1994.
Ильин 3: Ильин И. А. Собр. соч. Т. 3. М., 1994.
Ильин 6: Ильин И. А. Собр. соч. Т. 6 (в 3 кн.). М., 1997.
Ильин 7: Ильин И. А. Собр. соч. Т. 7. М., 1998.
Ильин 1992: Ильин И. А. Наши задачи. Париж; М., 1992.
Ильин 1987: Ильин В. Н. Религия революции и гибель культуры. Париж, 1987.
Ильин 1995: Ильин Н. П. Этика и метафизика национализма в трудах Н. Г. Дебольского // Русское самосознание, II. СПб., 1995. С. 7—64.
Ильин 1997: Ильин М. В. Слова и смыслы. Опыт описания ключевых политических понятий. М., 1997.
Интеллигенция: Интеллигенция в России. М., 1991.
Истина 1995: Истина и истинность в культуре и языке М., 1995.
Кавелин 1859: Кавелин К. Д. Собр. соч. : в 4 т. СПб., 1859. Т. 3.
Кавелин 1989: Кавелин К. Д. Наш умственный строй. М., 1989.
Казин 1999: Казин А. Л. Тишина, в которой слышно слово // Русский узел. М., 1999. С. 111—120.
Камалова 1994: Камалова А. А. Формирование и функционирование лексики со значением психического состояния в русском литературном языке. Архангельск, 1994.
Камчатнов 1995: Камчатное А. М. Лингвистическая герменевтика. М., 1995.
Кант 1966: Кант И. Сочинения: В 6 т. М., 1966. Т. 6.
Кантор 1993: Кантор В. К. Западничество как проблема «русского пути» // Вопр. философии, 1993, № 4. С. 24—34.
Кантор 1994: Кантор В. К. Стихия и цивилизация: два фактора «российской судьбы» // Вопр. философии, 1994, № 5. С. 27—46.
Карасик 1996: Карасик В. И. Культурные доминанты в языке // Языковая личность. 1996. С. 3—16.
Карринг 1909: Карринг Г. Совесть при свете истории. СПб., 1909.
Карсавин 1914: Карсавин Л. П. Символизм мышления и идея миропорядка в Средние века // Научно-исторический журнал. СПб., 1914. № 2.
Карсавин 1918: Карсавин Л. П. Культура Средних веков. Пг., 1918.
Карсавин 1919: Карсавин Л. П. Saligia. Пг., 1919.
Карсавин 1922: Карсавин Л. П. Восток, Запад и русская идея. Пг., 1922.
Карсавин 1928: Карсавин Л. П. Россия и евреи // Вёрсты. Париж, 1928, № 3 (также: Еврейский журнал, 1992. С. 38—49).
Карсавин 1989: Карсавин Л. П. Жозеф де Местр // Вопр. философии, 1989, № 3. С. 93—118.
Карсавин 1995: Карсавин Л. П. Основы политики // Мир России: евразийцы. М., 1995. С. 110—154.
Карсавин 1997: Карсавин Л. П. Основы средневековой религиозности в XII—XIII веках. СПб., 1997.
Касевич 1996: Касевич В. Б. Буддизм: картина мира, язык. СПб., 1996.
Касьянова 1994: Касьянова К. О русском национальном характере. М., 1994.
Киреевский 1911: Киреевский И. В. Собр. соч. Т. I. М., 1911.
Кирилина 1999: Кирилина А. В. Гендер: лингвистические аспекты. М., 1999.
Клибанов 1996: Клибанов А. И. Духовная культура средневековой Руси. М., 1996.
Ключевский I: Ключевский В. О. Сочинения. Т. I. М., 1987.
Ключевский VIII: Ключевский В. О. Сочинения. Т. VIII. М., 1990.
Ключевский IX: Ключевский В. О. Сочинения. Т. IX. М., 1990.
Ключевский 1911: Ключевский В. О. Характеристики и воспоминания. М., 1911.
Ключевский 1913: Ключевский В. О. Очерки и речи. М., 1913.
Ключевский 1918: Ключевский В. О. Курс русской истории: В 3 т. Пг., 1918.
Ковалевский 1912: Ковалевский П. И. Основы русского национализма. СПб., 1912.
Ковалевский 1915: Ковалевский П. И. Психология русской нации. Пг., 1915.
Кожинов 1994: Кожинов В. В. Загадочные страницы истории XX века // Наш современник, 1994, № 11—12. С. 220—251.
Кожинов 1999: Кожинов В. В. Россия: век ХХ-й (1901—1939). М., 1999.
Кожинов 1999а: Кожинов В. В. История Руси и русского слова. М., 1999.
Колесов 1980: Колесов В. В. Историческая фонетика русского языка. М., 1980.
Колесов 1984: Колесов В. В. Становление идеи развития в русском языкознании первой половины XIX века // Понимание историзма и развития в языкознании первой половины XIX века. Л., 1984. С. 163—199.
Колесов 1989: Колесов В. В. Литературный язык Древней Руси. Л., 1989.
Колесов 1991: Колесов В. В. Проблемы средневекового знания в славянском переводе «Ареопагитик» // Отечественная философская мысль XI—XVII вв. и греческая культура. Киев, 1991. С. 210—219.
Колесов 1995: Колесов В. В. Нарушения стиля и разрушение смысла в современных переводах библейских текстов // Библия и возрождение духовной культуры. СПб., 1995. С. 81—105.
Колесов 1999: Колесов В. В. «Жизнь происходит от слова...». СПб., 1999.
Колесов 2000: Колесов В. В. Древняя Русь: наследие в слове. Мир человека. СПб., 2000.
Колесов 2001: Колесов В. В. Древняя Русь: наследие в слове. Добро и зло. СПб., 2001.
Колесов 2002: Колесов В. В. Философия русского слова. СПб., 2002.
Колесов 2003: Колесов В. В. Древняя Русь: наследие в слове. Бытие и быт. СПб., 2003.
Колесов 2004: Колесов В. В. Слово и дело: Из истории русских слов. СПб., 2004.
Колесов 2007: Колесов В. В. Древняя Русь: наследие в слове. Мудрость слова. СПб., 2007.
Кондаков 1997: Кондаков И. В. Введение в историю русской культуры. М., 1997.
Кондратьева 2000: Кондратьева О. П. Концепт «смерть» и его языковые репрезентанты в книжно-письменном языке конца XVII — начале XVIII в. // Mentalität. Konzept. Gender. Bd. VII. London, 2000. P. 111—116.
Коротаев 1993: Коротаев В. И. Судьба «русской идеи» в советском менталитете. Архангельск, 1993.
Коялович 1997: Коялович М. О. История русского самосознания по литературным памятникам и поздним источникам. Минск, 1997.
Кривоносов 1993: Кривоносов А. Т. Естественный язык и логика. Москва; Нью Йорк, 1993.
Круглов 1998: Круглов В. М. Имена чувств в русском языке XVIII века. СПб., 1998.
Кукушкина 1984: Кукушкина Е. И. Познание. Язык. Культура. М., 1984.
Курашов 1999: Курашов В. И. Философия и российская ментальность. Казань, 1999.
Кутырев 1999: Кутырев В. А. Прогресс или консервативная революция? // Русский узел. М., 1999. С. 98—110.
Кюстин 1990: Кюстин А., де. Николаевская Россия. М., 1990.
Лавров 1918: Лавров П. Л. Статьи историко-философские. Вып. 1. Пг., 1918.
Лавров 1941: Лавров Б. В. Условные и уступительные предложения в древнерусском языке. М.; Л., 1941.
Ладов 1978: Ладов Л. Несколько мыслей о России, спровоцированных современными «славянофилами» // Синтаксис, № 2. Париж, 1978. С. 19—35.
Лакофф 1987: Lakoff G. Women, Fire and Dangerous Things: What Categories Reveal about the Mind. Chicago, 1987.
Лапшин 1999: Лапшин И. И. Философия изобретения и изобретение в философии. М., 1999.
Лацарус 1903: Лацарус М. Этика юдаизма. Одесса, 1903.
Левонтина 1996: Левонтина И. Б. Целесообразность без идеи // Вопр. языкознания. 1996, № 1. С. 42—57.
Левонтина 1999: Левонтина И. Б. Homo piger // Логический анализ языка: образ человека в культуре и языке. М., 1999. С. 105—113.
Лейбниц 1984: Лейбниц Г. Сочинения: В 4 т. М., 1984. Т. 3.
Лексикография: История русской лексикографии // под ред. Ф. П. Сороколетова. СПб., 1998 (переизд. 2001).
Леонтьев 1912: Леонтьев К. Н. Собр. соч. Т. 8. М., 1912.
Лесков 1988: Лесков Н. С. Честное слово. М., 1988.
Лесков 1990: Лесков Н. С. Еврей в России. М., 1990.
Лилич 1996: Лилич Г. А. Лексико-семантическое поле любви в славянских языках // Разные грани единой науки. СПб., 1996. С. 179—188.
Лисицын 1996: Лисицын А. Г. Концепт «свобода — воля — вольность» в русском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1996.
Литвиненко 2000: Литвиненко В. Опасные догмы // Сов. Россия. 2000, № 88.
Лихачев 1958: Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси. М; Л., 1958.
Лихачев 1990: Лихачев Д. С. О национальном характере русских // Вопр. философии, 1990, № 4. С. 3—6.
Лихачев, Панченко 1976: Лихачев Д. С., Панченко А. М. «Смеховой мир» Древней Руси. Л., 1976.
Лосев 1982: Лосев А. Ф. Знак. Символ. Миф. М., 1982.
Лосев 1991: Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. М., 1991.
Лосский 1903: Лосский Н. О. Основные учения психологии с точки зрения волюнтаризма. СПб., 1903.
Лосский 1908: Лосский Н. О. Обоснование интуитивизма. СПб., 1908.
Лосский 1917: Лосский Н. О. Мир как органическое целое. М., 1917.
Лосский 1991: Лосский Н. О. Условия абсолютного добра. М., 1991.
Лосский 1994: Лосский Н. О. Бог и мировое зло. М., 1994.
Лосский 1995: Лосский Н. О. Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция. М., 1995.
Лотман 1992: Лотман Ю. М. Взрыв и культура. М., 1992.
Лурье 1994: Лурье С. В. Метаморфозы традиционного сознания. СПб., 1994.
Лурье 1997: Лурье С. В. Историческая этнология. М., 1997.
Лысый 1995: Лысый И. Менталитет и духовная культура французов // Философская и социологическая мысль, № 11—12. Киев, 1995. С. 37—59.
Малиа 1996: Малиа М. Россия и Запад: прошлое и настоящее // Раздумья, 1996. С. 417—430.
Маркелов 1912: Маркелов Г. И. Личность как культурно-историческое явление (этюды по истории индивидуализма). Т. 1. СПб., 1912.
Марков 1981: Марков В. М. О семантическом способе словообразования в русском языке. Ижевск, 1981.
Марков 1999: Марков Б. В. Храм и рынок. Человек в пространстве культуры. СПб., 1999.
Марр 1935: Марр Н. Я. Проблема письма трех славянских языков СССР — белорусского, украинского и русского // Язык и мышление, № 3—4. М.; Л., 1935. С. 7—11.
Мартенсен 1890: Мартенсен Г. Христианское учение о нравственности. Т. 1—2. СПб., 1890.
Марцинковская 1994: Марцинковская Т. Д. Русская ментальность и ее отражение в науках о человеке. М., 1994.
Маслиева 1980: Маслиева О. В. Становление категории причинности. Л., 1980.
Матхаузерсва 1976: Матхаузерова С. Две теории текста в русской литературе XVII века // Труды Отд. др-рус. лит-ры. ИРЛИ РАН. Л., 1976. С. 271—284.
Межуев 1997: Межуев В. М. О национальной идее // Вопр. философии, 1997, № 12. С. 3—14.
Менделеев 1904: Менделеев Д. И. Заветные мысли. СПб., 1904.
Менталитет 1994: Менталитет: широкий и узкий план рассмотрения. Ижевск, 1994.
Менталитет 1996: Менталитет и аграрное развитие России (XIX—XX вв.). М., 1996.
Менталитет 1996а: Менталитет и политическое развитие России. М., 1996.
Ментальность 1989: 50/50: Опыт словаря нового мышления. Мы и другие: 50/50. М., 1989.
Меньшиков 2000: Меньшиков М. О. Письма к русской нации. М., 2000.
Мильков 2000: Мильков В. В. Комментарии к «Ареопагитикам» // Философские и богословские идеи в памятниках древнерусской мысли. М., 2000.
Милюков 1994: Милюков П. Н. Русская культурная традиция // Русская идея. Т. II. М., 1994. С. 46 и след.
Мир 1995: Мир России: евразийство. М., 1995.
Миронов: Миронов Б. Кому в России мешают русские. М. [Б. г.].
Митрофанова 1997: Митрофанова О. А. Структурный анализ сигнификативных значений (на материале глаголов процесса мышления английского и русского языков). СПб., 1997.
Михайловский 1900: Михайловский Н. К. Литературные воспоминания и современная смута. СПб., 1900.
Моисеев 1998: Моисеев Н. Н. Расставание с простотой. М., 1998.
Моисеев 2000: Моисеев Н. Н. Судьба цивилизации: путь разума. М., 2000.
Морозова 1999: Морозова Е. Н. Фразеологическое поле интеллекта в восточнославянских языках : автореф. дис. ... канд. филол. наук. СПб., 1999.
Мухамеджанов 1998: Мухамеджанов М. М. История ментальностей: вопросы трактовки и изучения // Россия на грани тысячелетий: историческая трансформация и социальнодуховные поиски. М., 1998. С. 38—48.
Мыльников 1987: Мыльников А. С. Легенда о русском принце: русско-славянские связи в мире народной культуры. Л., 1987.
Мюллер 1995: Мюллер Л. Значение Библии для христианства на Руси (от Крещения до 1240 года) // Славяноведение, 1995, 2. С. 3—11. (Перепеч. в кн.: Мюллер Л. Понять Россию. М., 2000. С. 216—230.)
Мяло 1987: Мяло К. Г. Космогонические образы мира: между Западом и Востоком // Культура, человек и образ мира. М., 1987. С. 227—262.
Налимов 1994: Налимов В. В. На грани третьего тысячелетия. М., 1994.
Налимов 1995: Налимов В. В., Дрогалина Ж. А. Реальность нереального. М., 1995.
Нива 1984: Нива Ж. Солженицын. Лондон, 1984.
Никадзава 1988: Никадзава А. Юродство в «Житии протопопа Аввакума». Аввакум в народной культуре XVII века // Japanese Slavic and East European Studies. Vol. IX. 1988. P. 39—54.
Никольский 1913: Никольский Н. К. Древнерусское христианство // Русская мысль, 1913, кн. VI. С. 1—23.
Новгородцев 1995: Новгородцев П. И. Существо русского православного сознания // Новгородцев П. И. Сочинения. М., 1995. С. 407—423.
Общественная мысль 1988: Отечественная общественная мысль эпохи Средневековья. Киев 1988.
Овсянико-Куликовский 1922: Овсянико-Куликовский Д. Н. Психология национальности. Пг., 1922.
Овчинников 1987: Овчинников В. Сакура и дуб. М., 1987.
Одоевский 1981: Одоевский В. Ф. Сочинения: В 2 т. М., 1981. Т. 1.
Оруэлл 1992: Оруэлл Дж. Эссе-статьи. Т. 2. М., 1992.
Пайпс 2000: Пайпс Р. Собственность и свобода. М., 2000.
Парамонов 1997: Парамонов Б. Конец стиля. М., 1997.
Пелипенко, Яковенко 1997: Пелипенко А. А., Яковенко И. Г. Пьянство // Человек, 1997, № 2.
Пелипенко, Яковенко 1998: Пелипенко А. А., Яковенко И. Г. Культура как система. М., 1998.
Петражицкий 1908: Петражицкий Л. И. Введение в изучение права и нравственности. Основы эмоциональной психологии. СПб., 1908.
Петраков, Разин 1994: Петраков А. А., Разин А. А. Менталитет: благо или наказание? // Менталитет: широкий и узкий план рассмотрения. Ижевск, 1994. С. 5—20.
Петренко 1996: Петренко О. А. Этнический менталитет и язык фольклора. Курск, 1996.
Пешехонов 1904: Пешехонов В. В. Из истории чести и совести // Пешехонов В. В. На очередные темы. СПб., 1904. С. 370—392.
Пименова 1999: Пименова М. В. Этногерменевтика языковой наивной картины внутреннего мира человека. Кемерово, 1999.
Пинкер 1994: Pinker S. The Language Instinct. New York, 1994.
Писарев 1949: Писарев Д. И. Избранные философские и общественно-политические статьи. М., 1949.
Платонов 1994: Платонов О. А. Экономика русской цивилизации // Наш современник, 1994, № 4. С. 135—150.
Померанц 1985: Померанц Г. Жажда добра // Страна и мир, 1985, № 9. С. 83—96.
Померанц 1994: Померанц Г. Европейская свобода и русская воля // Дружба народов, 1994, № 4. С. 137—147.
Понятие судьбы: Понятие судьбы в контексте разных культур. М., 1994.
Попова, Стернин 1999: Попова 3. Д., Стернин И. А. Понятие «концепт» в лингвистических исследованиях. Воронеж, 1999.
Попович 1979: Попович М. В. Очерк развития логических идей в культурно-историческом контексте. Киев, 1979.
Потебня 1894: Потебня А. А. Басня. Пословица. Поговорка. Харьков, 1894.
Потебня 1922: Потебня А. А. Мысль и язык. Одесса, 1922.
Потебня 1968: Потебня А. А. Из записок по русской грамматике. III. М., 1968.
Потебня 1976: Потебня А. А. Эстетика и поэтика. М., 1976.
Потебня 1989: Потебня А. А. Сочинения. М., 1989.
Пришвин 1986: Собр. соч. Т. 8. Дневники. М., 1986.
Пришвин 1994: Пришвин М. М. Дневники. 1917—1919. М., 1994.
Пришвин 1995: Пришвин М. М. Дневники. 1920—1922. М., 1995.
Прокофьев 1995: Прокофьев С. О. Духовные судьбы России и грядущие мистерии Святого Грааля. М., 1995.
Пропп 1976: Пропп В. Я. Проблемы комизма и смеха. М., 1976.
Пукшанский 1987: Пукшанский Б. Я. Обыденное знание. Л., 1987.
Пушкарева 1997: Пушкарева Н. Л. Частная жизнь русской женщины: невеста — жена — любовница. М., 1997.
Раздумья 1996: В раздумьях о России. XIX век / под ред. Е. Л. Рудницкой. М., 1996.
Разин 1994: Разин Р. А. Иррациональная и рациональная ментальность // Менталитет: широкий и узкий план рассмотрения. Ижевск, 1994. С. 21—30.
Райхштейн 1980: Райхштейн А. Д. Сопоставительный анализ немецкой и русской фразеологии. М., 1980.
Ракитов 1992: Ракитов А. И. Цивилизация, культура, технология и рынок // Вопр. философии, 1992, № 5. С. 3—15.
Ракитов 1996: Ракитов А. И. О русском национальном генотипе // Вопр. философии, 1996, № 6. С. 151.
Распутин 1991: Распутин В. Интеллигенция и патриотизм // Москва, 1991, № 2. С. 6—19.
Ремизов 1990: Ремизов А. М. Взвихренная Русь. М., 1990.
Рибо 1899: Рибо Т. Гнев. СПб., 1899.
Риккерт 1997: Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий. СПб., 1997.
Рикман 1962: Rickman J. Russian Camera Obscura // Gorer G., Rickman J. The People of Great Russia. A Psychological Study. New York, 1962. P. 21—89.
Розанов 1990: Розанов В. В. Сочинения. М., 1990.
Розанов 1990а: Розанов В. В. Несовместимые контрасты жития. М., 1990.
Розанов 1990б: Розанов В. В. Сумерки просвещения. М., 1990.
Розанов 1990в: Розанов В. В. Религия и культура. М., 1990.
Розанов 1998: Розанов В. В. Сахарна. М., 1998.
Розанов 2000: Розанов В. В. Последние листья. М., 2000.
Роль 1988: Роль человеческого фактора в языке / ред. Б. А. Серебренников. М., 1988.
Романов 1947: Романов Б. А. Люди и нравы Древней Руси. Л., 1947.
Рюше 1930: Rüsche Fr. Blut, Leben und Seele. Paderborn, 1930.
Рябов 2001: Рябов О. В. «Матушка-Русь». Опыт гендерного анализа поисков национальной идентичности России. М., 2001.
Рязановский 1952: Riasanovsky N. V. Russia and the West in the Teaching of the Slavophiles. Harvard, 1952.
Савельева 2000: Савельева 77. В. Русское слово: Конец XX века. СПб., 2000.
Савицкий 1997: Савицкий П. Н. Континент Евразия. М., 1997.
Сагатовский 1994: Сагатовский В. Н. Русская идея: продолжим ли прерванный путь? СПб., 1994.
Самарин 1996: Самарин Ю. Ф. Избранные произведения. М., 1996.
Самосознание 1995: Русское самосознание, II. СПб., 1995.
Седова 2000: Седова Н. А. Соотношение образов частичного (частей) и целостного человека в языковой картине мира. АКД. Барнаул, 2000.
Семенова 1982: Семенова 77. Н. Очерки истории быта и культурной жизни России. Л., 1982.
Сергеев 1999: Сергеев А. М. «Поход» за онтологичностью: соблазн понять русскую душу // Культура: соблазны понимания. Ч. 1. Петрозаводск, 1999. С. 68—77.
Сержантов 1994: Сержантов В. Ф. Природа человека и его судьба. СПб., 1994.
Сикевич 1996: Сикевич 3. В. Русские: «Образ народа». СПб., 1996.
Синявский 1982: Синявский А. Очерки русской культуры. I. «Опавшие листья» В. В. Розанова. Париж, 1982.
Синявский 1991: Синявский А. Очерки русской культуры. II. Иван-Дурак. Очерк русской народной веры. Париж, 1991.
Смирнов 1991: Смирнов И. П. О древнерусской культуре, русской национальной специфике и логике истории. Вена, 1991.
Смирнов 1996: Смирнов И. П. Бытие и творчество. СПб., 1996.
Смирнов 2000: Смирнов И. П. Мегаистория. М., 2000.
Солженицын 1981: Солженицын А. И. Собр. соч. Т. IX. Публицистика. Вермонт; Париж, 1981.
Солженицын 1983: Солженицын А. И. Собр. соч. Т. X. Публицистика. Вермонт; Париж, 1983.
Солженицын 1994: Солженицын А. И. «Русский вопрос» к концу XX века // Новый мир, 1994, № 7. С. 135—176.
Соловьев [том]: Соловьев В. С. Собр. соч.: В 9 т. М., 1900.
Соловьев 1884: Соловьев В. С. Еврейство и христианский вопрос. М., 1884.
Соловьев 1988: Соловьев В. С. Сочинения: В 2 т. М., 1988.
Солоневич 1991: Солоневич И. Л. Народная монархия. М., 1991.
Солоневич 1997: Солоневич И. Л. Белая империя. М., 1997.
Сопронов 1997: Сопронов П. А. Феномен героизма. СПб., 1997.
Сорокин 1990: Сорокин П. А. Основные черты русской нации в двадцатом столетии // О России и русской философской культуре. М., 1990. С. 463—489.
Сорокин 2000: Сорокин П. Социальная и культурная динамика. СПб., 2000.
Спиридонова 1992: Спиридонова В. А. Государство и национальная ментальность : очерк русской мысли конца XIX — начала XX в.) // Власть и культурология. СПб., 1992. С. 36—48.
Стариков 1996: Стариков Е. Н. Общество — казарма от фараонов до наших дней. Новосибирск, 1996.
Стеблин-Каменский 1976: Стеблин-Каменский М. И. Миф. Л., 1976.
Степанов 1991: Степанов Ю. С. Концепт «причина»... // Логический анализ языка. Культурные концепты. М., 1991.
Степанов 1997: Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской культуры. М., 1997.
Степанов 1998: Степанов Ю. С. Язык и метод: к современной философии языка. М., 1998.
Степун 1990: Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. Лондон, 1990.
Страда 1996: Страда В. В свете конца — в предвестии начала // В раздумьях о России. XIX век. М., 1996. С. 23—41.
Струве 1997: Струве П. Б. Patriotica: политика, культура, религия, социализм. М., 1997.
Тарланов 1984: Тарланов 3. К. Язык и культура. Петрозаводск, 1984.
Тарланов 1999: Тарланов 3. К. Становление типологии русского предложения в ее отношении к этнофилософии. Петрозаводск, 1999.
Татищев 1979: Татищев В. Н. Избранные произведения. Л., 1979.
Тахо-Годи 1978: Тахо-Годи А. А. Античная традиция об имени и предмете именования в Ареопагитике // Античная балканистика. Ч. 3. М., 1978. С. 44—46.
Телия 1996: Телия В. Н. Русская фразеология: семантический, прагматический и лингвокультурологические аспекты. М., 1996.
Тернавский-Воробьев 1997: Тернавский-Воробьев В. В. Ценностные ориентации и различные типы социокультурного менталитета французов, отраженные в языке // Язык и культура. Ч. 2. Киев, 1997. С. 148—152.
Тихомиров 1992: Тихомиров Л. А. Монархическая государственность. СПб., 1992.
Тихомиров 1997: Тихомиров Л. А. Религиозно-философские основы истории. М., 1997.
Тихонова 1996: Тихонова Н. Жизненные ценности россиян: меняется ли на менталитет? // Власть. М., 1996, № 5. С. 46—53.
Ткачев 1976: Ткачев П. Н. Сочинения : в 2 т. Т. II. М., 1976.
Ткачев 1990: Ткачев П. Н. Кладези мудрости российских философов. М., 1990.
Тойнби 1991: Тойнби А. Постижение истории. М., 1991.
Толстой 1995: Толстой Н. И. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М., 1995.
Топоров 1980: Топоров В. Н. Еще раз о древнегреческой Σοφία: происхождение слова и его внутренний смысл // Структура текста. М., 1980. С. 148—173.
Топоров 1987: Топоров В. Н. Об одном архаическом индоевропейском элементе в древнерусской духовной культуре — svet // Языки культуры и проблемы переводи мости. М., 1987. С. 184—252.
Топоров 1995: Топоров В. Н. Святость и святые в русской духовной культуре. Т. 1. М., 1995.
Трубачев 1994: Трубачев О. Н. Мысли о дохристианской религии славян в свете славянского языкознания // Вопр. языкознания, 1994, № 6. С. 3—15.
Трубецкой С. 1908: Трубецкой С. Н. Собрание сочинений. Т. 2. М., 1908.
Трубецкой С. 1910: Трубецкой С. Н. Собрание сочинений. Т. 3. М., 1910.
Трубецкой Е. 1913: Трубецкой Е. Н. Миросозерцание Вл. С. Соловьева: В 2 т. М., 1913.
Трубецкой Е. 1922: Трубецкой Е. Н. Смысл жизни. Берлин, 1922.
Трубецкой 1990: Трубецкой Е. Н. О христианском отношении к современным событиям // Новый мир, 1990, № 7. С. 198—229.
Трубецкой 1995: Трубецкой Н. С. История. Культура. Язык. М., 1995.
Трубецкой 1995а: Трубецкой Н. С. Об истинном и ложном национализме // Мир России: Евразия. М., 1995. С. 43—54.
Тульчинский 1996: Тульчинский Г. 77. Самозванство. СПб., 1996
Тэневик 1996: Тэневик Д. Возрождение будущности // Вопр. философии, 1995, № 6. С. 149—153.
Уайт 2000: Уайт X. Метаистория. Историческое воображение в Европе XIX века. Екатеринбург, 2002.
Убийко 1998: Убийко В. И. Концептосфера внутреннего мира человека в русском языке. Уфа, 1998.
Ульянов 1994: Ульянов Я. Русское и великорусское // Русская идея, ч. II. М., 1994. С. 340— 354.
Успенский 1994: Успенский Б. А. Избранные труды. Т. I, II. М., 1994.
Фархутдинова 2000: Фархутдинова Ф. Ф. «Взглянуть на мир сквозь призму слова...» Опыт лингвокультурологического анализа русскости. Иваново, 2000.
Федоров 1961: Федоров А. В., Кузнецова Н. Я, Морозова Е. И., Цыганова И. А. Немецко-русские языковые параллели. М., 1961.
Федоров 1982: Федоров Н. Ф. Сочинения. М., 1982.
Федоров 1995: Федоров Я. Ф. Сочинения: В 4 т. Т. 2. М., 1995.
Федотов 1981: Федотов Г. П. Россия и свобода. Париж, 1981.
Федотов 1982: Федотов Г. Я. Россия, Европа и мы. Париж, 1982.
Федотов 1985: Федотов Г. Я. Святые Древней Руси. Париж, 1985.
Федотов 1988: Федотов Г. Я. Полн. собр. статей : в 6 т. Т. 1. Лицо России : статьи. 1918—1930 гг.; Т. 4. Защита России : статьи. 1936—1940 гг. из «Новой России». Париж, 1988.
Федотов 1989: Федотов Г. Я. Рождение свободы // Новый мир, 1989, № 4.
Федотов 1991: Федотов Г. Я Стихи духовные: русская народная вера по духовным стихам. М., 1991.
Фейербах 1974: Фейербах Л. История философии : в 3 т. М., 1974. Т. 2.
Феоктистова 1984: Феоктистова Я. В. Формирование семантической структуры отвлеченного имени. Л., 1984.
Финк 1899: Finck F. N. Der deutsche Sprachbau als Ausdruck deutscher Weltanschauung. Marburg, 1899.
Флоренский 1914: Флоренский П. A. Столп и утверждение истины. М., 1914.
Флоренский 1985: Флоренский П. А. Собр. соч. Т. 1. Париж, 1985.
Флоренский 1996: Флоренский П. А. Сочинения. Т. 2. М., 1996.
Флоровский 1937: Флоровский Г. Пути русского богословия. Париж, 1937.
Фразеология 1999: Фразеология в контексте культуры. М., 1999.
Франк 1910: Франк С. 77. Философия и жизнь: Этюды и наброски по философии культуры. СПб., 1910.
Франк 1926: Frank S. Die russische Weltanschauung. Scharlottenburg, 1926.
Франк 1939: Франк С. Л. Свет во тьме. Париж, 1939.
Франк 1956: Франк С. Л. Реальность и человек. Париж, 1956.
Франк 1976: Франк С. Л. Смысл жизни. Париж, 1976.
Франк 1990: Франк С. Л. Сочинения. М., 1990.
Франк 1991: Франк С. Л. Духовные основы общества // Русское зарубежье. Л., 1991.
Франк 1996: Франк С. Л. Русское мировоззрение. СПб., 1996.
Фрейденберг 1978: Фрейденберг О. М. Миф и литература древности. М., 1978.
Фроянов 2001: Фроянов И. Я. Начала русской истории. М., 2001.
Фрумкина 1995: Фрумкина Р. М. Есть ли у современной лингвистики своя эпистемология? // Язык и наука конца XX века. М., 1995. С. 74—117.
Фуллье 1896: Фуллье А. Темперамент и характер. М., 1896
ФЭС: Философский энциклопедический словарь. М., 1982.
Хайдеггер 1999: Хайдеггер М. Положение об основании. СПб., 1999.
Хёйзинга 1988: Хёйзинга Й. Осень Средневековья. М., 1988.
Хомяков 1900: Сочинения А. С. Хомякова. Т. IV. М., 1900.
Хомяков 1912: Xoмяков А. С. Сочинения. М., 1912. Т. 1, 2, 8.
Хомяков: Хомяков А. С. О старом и новом. М., 1988.
Хоружий 1994: Хоружий С. С. После перерыва: пути русской философии. СПб., 1994.
Хюбнер 1994: Хюбнер К. Критика научного разума. М., 1984.
Цимбаев 1986: Цимбаев Н. И. Славянофильство. М., 1986.
Чаадаев 1914: Чаадаев П. Я. Сочинения. М., 1914.
Чернейко, Долинский 1996: Чернейко Л. О., Долинский В. А. Имя судьба как объект концептуального и ассоциативного анализа // Вестник МГУ. Серия 9. Филология. 1996, № 6. С. 20—41.
Чернейко 1997: Чернейко Л. О. Лингво-философский анализ абстрактного имени. М., 1997.
Чернышевский 1986: Чернышевский Н. Г. Сочинения. Т. I. М., 1986.
Чичерин 1998: Чичерин Б. Н. Философия права. М., 1998.
Чичерин 1999: Чичерин Б. Н. Наука и религия. М., 1999.
Шапошников 1996: Шапошников Л. Е. Философия соборности : очерки русского самосознания. СПб., 1996.
Шелгунов 1895: Шелгунов Н. В. Очерки русской жизни. СПб., 1895.
Шелгунов 1967: Шелгунов Н. В. Воспоминания. М., 1967.
Шеллинг 1989: Шеллинг Ф. Сочинения: В 2 т. М., 1989. Т. 2.
Шестов 1911: Шестов Л. Собр. соч. Т. IV. СПб., 1911.
Шестов 1912: Шестов Л. Собрание сочинений. Т. V. Начала и концы. СПб., 1912.
Шестов 1966: Шестов Л. Sola fide — только верую. Париж, 1966.
Шестов 1984: Шестов Л. На весах Иова. Париж, 1984.
Шестов 1991: Шестов Л. Апофеоз беспочвенности. Л., 1991.
Шестов: Шестов Л. Скованный Парменид. Об источниках метафизических истин. Париж [Б. г.].
Шишкина 1973: Шишкина Л. С. Опыт функционально-семантического анализа предлогов русского языка // Вопросы металингвистики. Л., 1973. С. 65—72.
Шишкина 1998: Шишкина Л. С. Язык как естественная модель становления целого // Синергетика и методы науки. СПб., 1998. С. 260—277.
Шишкина-Ярмоленко 2004: Шишкина-Ярмоленко Л. С. Язык и познание. Опыт лингвистической антропологии. СПб., 2004.
Шпет 1989: Шпет Г. Г. Сочинения. М., 1989.
Шпидлик 2000: Шпидлик Ф. Духовная традиция восточного христианства. Систематическое изложение. М., 2000.
Штарк 1996: Штарк Ф. Волшебный мир немецкого языка. М., 1996.
Штейнберг 1923: Штейнберг А. 3. Система свободы Достоевского. Берлин 1923 (переизд. Париж, 1980).
Штейнберг А. 1983: Steinberg А. History as experience. New York, 1983.
Штелинг 1996: Штелинг Д. А. Грамматическая семантика английского языка. Фактор человека в языке. М., 1996.
Штрик-Штрикфельдт 1995: Штрик-Штрикфельдт В. К. Русский человек // Немцы о России. М., 1995. С. 178—190.
Шульгин 1994: Шульгин В. В. «Что нам в них не нравится». М., 1994.
Щапов 1908: Щапов А. П. Сочинения. Т. III. СПб., 1908.
Шубарт 2003: Шубарт Ф. В. Европа и душа Востока. М., 2003.
Щукин 1992: Щукин В. Г. Культурный мир русского западника // Вопр. философии, 1992, № 5. С. 74—86.
Эйкен 1907: Эйкен Г. История и система средневекового миросозерцания. СПб., 1907.
Эренбург 1963: Эренбург И. Г. Люди, годы, жизнь. Кн. 3—4. М., 1963.
Эрн 1912: Эрн В. Ф. Г. С. Сковорода. М., 1912.
Эрн 1991: Эрн В. Ф. Сочинения. М., 1991.
ЭССЯ 14: Этимологический словарь славянских языков. М., 1987. Вып. 14.
ЭССЯ 15: Этимологический словарь славянских языков. М., 1988. Вып. 15.
Юзов 1882: Юзов И. Политические воззрения староверов // Русская мысль, 1882, № 5.
Юнг 1995: Юнг К. Психологические типы. СПб.; М., 1995.
Юркевич 1990: Юркевич П. Д. Философские произведения. М., 1990.
Юрченко 1992: Юрченко В. С. Космический синтаксис. Саратов, 1992.
Языковая личность 1996: Языковая личность: культурные концепты. Волгоград; Архангельск, 1996.
Яковенко 1999: Яковенко Е. Б. Сердце, душа, дух в английской и немецкой языковых картинах мира (опыт реконструкции концептов) // Логический анализ языка: образ человека в культуре и языке. М., 1999. С. 39—51.
Яковлев 1994: Яковлев Е. Г. Заглянуть в самую бездну! (О некоторых онтологических чертах русского духа) // Вестник МГУ. Серия 7. Философия. 1994, № 2. С. 45—47.
Яковлева 1994: Яковлева Е. С. Фрагменты русской языковой картины мира (модели пространства, времени и восприятия). М., 1994.



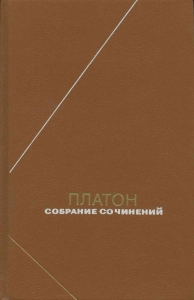
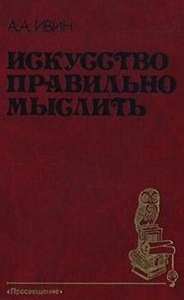
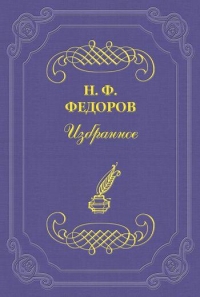
Комментарии к книге «Русская ментальность в языке и тексте», Владимир Викторович Колесов
Всего 0 комментариев